История не терпит оптимизма и не должна в происшествиях искать доказательств, что все делается к лучшему…
Н. М. КарамзинМихаил Тверской 1271−1318
Михаил Ярославич — великий князь тверской. Родился в 1271 г., стол занял около 1285 г.; в 1286 г. успешно преследовал литовцев, напавших на тверскую землю.
В 1288 г. за то, что Михаил «не восхот поклонитися великому князю Дмитрию», последний с большим войском явился в тверскую землю, опустошил окрестности Кашина и дошел до самой Твери, но тут был заключен мир и Михаил жил в согласии с Дмитрием до смерти последнего (1294).
Зато с первых же лет княжения его брата Андрея открывается борьба, несколько раз прекращаемая духовенством.
В 1301 г. Михаил пошел на помощь новгородцам против шведов, построивших на Неве, против Охты, крепость Ландскрону, но с полпути вернулся, узнав, что эта крепость уже сожжена новгородцами и их союзниками. В том же году он участвовал на съезде князей в Дмитрове, где переговаривали, вероятно, о Переяславле.
С 1304 г., когда, по смерти великого князя Андрея, множество его бояр отъехало в Тверь, начинается продолжительная борьба Москвы с Тверью из-за великого княжения. Получив в 1304 г. от хана ярлык, Михаил пошел с большою ратью на Москву, но, не будучи в силах взять ее, вернулся, заключив мир с Юрием.
В 1308 г. снова пошел на Москву, бился под городом и «много зла сотвори». Вслед за тем Михаил Ярославич был приглашен в Новгород для разбора возникших там споров по поводу тверских владений в новгородской области и уладил дело, не возвращая земель. Но в 1314 г. новгородцы, воспользовавшись пребыванием Михаила в Орде, куда он отправился за получением ярлыка от нового хана Узбека, прогнали его наместников и пригласили к себе Юрия Даниловича.
Вернувшийся Михаил разбил новгородцев под Торжком, взял с них окуп в 5000 гривенок серебром, равно с жителей Торжка и казнил главных виновников возмущения, продолжая в то же время не пропускать в Новгород хлебных обозов.
В 1316 г. Михаил Ярославич снова поднялся на новгородцев со всею низовскою землею, но до сражения дело не дошло. В следующем году против него поднялся получивший ярлык на великое княжение и женившийся на сестре Узбека, Кончаке, Юрий, пользуясь содействием новгородцев, но потерпел страшное поражение при селе Бортеневе (1318), после которого был заключен мир; Михаил Ярославич, боясь татар, согласился на уступки.
В 1319 г. Михаил казнен по приказанию хана, обвиняемый в утайке дани и отравлении пленной Кончаки. От брака с Анной Дмитриевной Ростовской Михаил имел сыновей Димитрия Грозные Очи, Александра, Константина, Василия и дочь Федору.
Из Энциклопедического словаря.
Изд. Брокгауза и Ефрона
Т. XIX, СПб., 1896
Часть первая
1
С самого Покрова ждала Ксения Юрьевна досады от племянника Дмитрия. Всю зиму в глухих борах под Торжком и на Селигерском пути держала дозорных. Однако молчал Дмитрий Александрович[1], будто не было промеж них никакого раздору. Одни обозы купеческие санный путь укатывали. Укатали — поверила Ксения Юрьевна в кротость князеву, понадеялась, что забыл он обиду ради мира соседского, ан нет, не забыл, у змеенышей Александровых память долгая.
Весть про то, что великий князь Дмитрий Александрович с новгородцами и ростовским князем Дмитрием Борисовичем идет на Тверь, пришла в ночь накануне дня святых первоверховных апостолов Петра и Павла[2]. Было время до света принять решение — вот и сидели бояре в княжеской гриднице, рядили каждый по-своему. Одни, в голове с воеводой Помогой, стояли за то, чтоб встретить Дмитрия на Тверце, а коли что, укрыться в городе и, покуда сил хватит, обороняться со стен. Другие же держались тысяцкого[3] Кондрата Тимохина, предлагавшего повиниться перед великим князем и дать ему откуп, какой ни возьмет, а мир — не позор…
— А я говорю: не надоть нам этого, — в который уж раз твердил Кондрат.
— Да что ж ты одно заладил? Что нам, пригородом новгородским быть?! — Воевода Помога чуть не сплюнул под ноги.
— Да не о Новгороде речь, Помога Андреич! — Кондрат сокрушенно помотал головой. — Я говорю, пошто нам теперь против великого князя лезть!
— Али ты, Кондрат, супротив него не ходил? — напрягшись шеей, зло выкрикнул Ратибор[4]. Когда-то и сам новгородский тысяцкий, земляков своих Ратибор не любил, да и они его не жаловали с тех пор, как переметнулся он к тверичам. Страшен был Ратибор наружно: с одним живым глазом, с вывернутыми губами, с серой, пергаментной кожей, искусно посеченной пыткой в Орде — резали-то татары, а доносили новгородские. Тогда покойный князь Ярослав насилу откупил его у поганых. — Не надоть… — протяжно передразнил он тысяцкого и шапкой вытер лицо от пота.
— А я говорю, не надоть, — с угрозой повторил тысяцкий. — Замирились они ныне с Андреем-то, а и тот раз супротив Дмитрия Александрыча я не по своей воле ходил.
— По чьей же? — ехидно спросил Ратибор, хоть знал про то не хуже малого отрока.
Семь лет тому позади городецкий князь Андрей Александрович[5] встал на брата, великого князя Дмитрия. Встал неправедно. Да ведь кто силен, тот и прав. А Андрей, оболгавши брата в Орде, привел с собой татар от Менгу-Тимура[6], тогдашнего хана, отдал им Русь от Рязани и Мурома до Торжка. Много зла они в тот год сотворили по всей земле. До сих пор кости белеют по некоторым пустошам, где и мертвых прибрать никого живых не осталось. И у Твери пожгли посады дотла. А Тверь устояла молитвами княгини-заступницы да тем, что князь Святослав Ярославич[7] крест целовал Андрею в том, чтобы стоять вместе с ним против Дмитрия…
— Так по чьей же, боярин? Али ты не по своей воле со Святославом ходил? — зловеще повторил Ратибор.
— Да что ж это, матушка Ксения Юрьевна! — вскинулся руками Кондрат к княгине. — Али он нарочно меня срамит! — Он встал со скамьи, стиснул ладонью червленную золотом рукоять поясного ножа. — Ты меня, Ратибор, не лай! Я из города своего не ходил и отчине своей измены не искал никогда.
Слышно было, как хрустнули суставы в коленях Ратибора, когда, жилистый и прямой, он поднялся навстречу тысяцкому, — так стало тихо.
Михаил, будто в дреме сидевший на княжьем месте — старой резьбы стольце[8] с высокой зубчатой спинкой — чуть приоткрыл глаза: ужели посмеют сцепиться, как псы над костью?..
Ксения Юрьевна, властная сорокалетняя женщина в простом черном волоснике, низко, будто у инокини, повязанном над бровями, покуда молчала. Только недобро глядела на супротивников. Высохши тонким и строгим лицом, она была еще красива той красотой, что дается молитвой и воздержанием.
Пятнадцать лет прошло, как овдовела княгиня, пятнадцать лет держала она в исправе княжество, возвысила его до того, что богатство тверское великому князю глаза колет, пятнадцать лет, забыв про себя, как скаредная ключница, пошлины берегла, в страхе и добронравии чернь блюла, так нет, среди больших бояр баловство пошло, своеволие, мало им послаблений, каждый перед княгинею другого обойти норовит, а там, поди, не сразу и разберешь, кому какая корысть. Вот и теперь — оба ведь и умом не слабы, и ей преданы, а тянут врозь, как псы на тороках[9], до того уж, что готовы вцепиться друг другу в бороды, а то и ножами посунуться. Господи! Кто поможет? Кому поверить? Дмитрий Тверь воевать идет, а они вон какую потеху затеяли!
Кондрат с Ратибором и правда готовы были сойтись на ножах. Мига недостало, чтобы схватились.
— Сядьте, бешеные, — тихо сказала княгиня. — Не в поле, а в доме княжеском…
В звонкой, напряженной тишине слышно было, как оба тяжело, натужно дышали. Потом Ратибор послушно опал плечами и первым отвернул голову от тысяцкого.
— Прости, матушка, — сказал он и поклонился княгине в пояс.
— Старый ты, Ратибор, умней должен быть, — попеняла ему княгиня.
— Так ведь дозволь оправдаться…
— Молчи, — перебила его Ксения Юрьевна и, не повернув головы, скосила глаза на Кондрата: — Ну?..
— Прости… — поклонился и он, но руку от пояса не убрал.
— Ну… — еще тише произнесла Ксения Юрьевна.
— И ты, Ратибор, прости, — тяжко, так, что заколебалось свечное пламя, выдохнул тысяцкий. Было заметно, как кровь от сраму прилила к голове Кондрата, когда он опустился на лавку.
Михаил снова прикрыл глаза, спрятав лицо в ладонях.
— Решать пора, бояре, где стоять будем, — устало вздохнула княгиня и взглянула на сына — видел ли он свару боярскую?
Нет, не проснулся. Сморило его в душной от огня, многих тел и дыханий гриднице. Пусть спит. Не будить же его теперь при боярах: скажи свое слово, князь… Да и бояре не его слова ждут, а ее. Хоть и вокняжился Михаил прошлой зимой, наследовав преставившемуся от скорой грудной болезни Святославу, а решать пока ей. Пусть спит…
Однако, прикрыв глаза, не спал Михаил. Всей силой юной души молил он Господа направить его на путь, дать силы и разума для спасения: «Господи, помоги!..»
«И от престола исходили молнии и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом…»[10]
Свет белый слепил во тьме, перед закрытым взором ангелы на небесных конях метали огненные грозные молнии, предупреждая о муках. Но что муки земные, когда в молитве в ту ночь увидел он золотой небесный венец.
Яко Твое есть царство и сила, и слава вовеки. Аминь.
— Молвите, на чем стоите, бояре?..
Знала, что скажут: решай, мол, сама. А как ни решай — все лихо. И воевать с великим князем опасно, и кланяться ему боязно. Не тот человек Андрей Городецкий, чтобы примириться с братом навеки — до первых татар этот мир. А там никто не ведает, какой кровью отольется тверичам сей поклон. Как ни крепка была Ксения Юрьевна, а и она устала, тяжко ей, когда-то простой новгородской боярской дочке, от власти великокняжеской. Да и дела ратные разве ее ума вотчина? Была бы одна, завыла б теперь по-волчьи.
— Ну…
Переглянувшись с иными и взяв старшинство на себя, поднялся старый лис Никифор Шубин, умевший хитрыми обольщениями и гнев отвести, и выгоду поиметь, коли надо.
— Не гневайся, государыня, но сама, поди, видишь: нету на сей раз в твоих боярах единомыслия. Воевать идти скажешь, сам в дружину пойду, на поклон пошлешь — в землю поклонюсь Дмитрию Александровичу. Хоть и стар я поклоны-то бить. А нет другого-иного у нас, кроме тебя с князем да отчины. Как скажешь, княгиня, так и будет по-твоему…
Ничего нового не услышала Ксения Юрьевна. И у самой пусто стало на сердце — один бабий страх. Но разве скажешь кому про слабость?..
Как лед на реке в большие морозы, позеленели уже от первого света толстые стекла в оконцах, гоня последний ночной испуг, далеко на концах и на княжьем дворе сторожа перекликались насмешливо, и наконец в церкви Успения Богородицы, что в Отроче, радостно вскинулись звоном колокола, сзывая православных к заутрене[11].
Закрестились бояре на образа, на чудную, греческого письма, икону Божией Матери, сиявшую в центре иконостаса. И тут, будто проснувшись, поднялся вдруг Михаил и, не отводя взгляда от матери, ломким от волнения голосом произнес:
— Дозволь и мне сказать, матушка…
И до слов его, по одним глазам, горевшим как в лихорадке, с радостным испугом и удивлением Ксения Юрьевна поняла: по его ныне будет.
Еще не набравший дородной стати, тонкий, высокий, с длинными пальцами сильных рук, в зеленом кафтане поверх фламандской сорочки и в княжеской шапке, из-под которой выбивались непослушные темно-русые волосы, он будто смущался и своего роста, и отроческой нескладности, и звонкого голоса. Хотя его белое от природы, безусое, мальчишеское лицо пламенело, выдавая душевную маету, однако говорил он веско, не торопя слова, словно о давно порешенном, как и надобно князю.
По чести сидел на отчем столе Михаил, считаясь этим большим боярам, многие из которых служили еще Ярославу[12], отцом и князем, но так говорил он с ними впервые.
— Ежели мы, бояре, впустим Дмитрия Александровича в нашу землю — заране повиноватимся. А в том, что брат мой Святослав нарушил волю великого князя владимирского, вины его нет — не имущество тверское спасал от его же брата Андрея, но жизнь. — Он замолчал, остановившись глазами на не видимой никому точке за спинами бояр — так, что некоторые непроизвольно вывернули шеи, следя за княжеским взглядом. И добавил: — А ежели кто иначе думает — тот мне враг…
Кажется, дыхание затворили бояре, так неожиданно было для всех, что князь, да нет — все еще княжич, промолчавший за мамкиным подолом всю ночь, — заговорил вдруг, и как! В тишине стало слышно, как в оплывшем воске умирал, потрескивая, огонь.
— Ни в крепости затворяться, ни на Тверце его ждать, ни, паче того, откуп давать Дмитрию мы не будем. Он к нам не обиды предбывшие мстить идет, а на колени ставить перед собой. Охота нам ему кланяться? — Михаил замолчал, ожидая ответа, но не дождался. — Так что, бояре, я Дмитрию Александровичу, хоть он и великий князь, Твери на щит не отдам…
Стиснув зубы, рукой прижав грудь под кафтаном (так заколотилось вдруг сердце, подкатившись под горло), Михаил замолчал.
— Так ведь и мы за то, княже! — воспользовавшись заминкой, успел пропеть старый Шубин. — Скажи только, куда итить, милостивец!
Михаил еще помолчал, пересиливая трепыхавшее птахой сердце, потом просто ответил:
— Идти надо к Кашину.
— К Кашину? — переспросило сразу несколько голосов.
— К Кашину, — подтвердил Михаил. — Брать его наперед, а там уж ждать Дмитрия.
В чудном изумлении качали головами бояре в высоких шапках: вроде бы прост был ход, да никто не додумался. Да и немудрено — не столь умно загадано, сколь дерзко от молодечества. Кабы худого не вышло. Во многих душах засела заноза сомнения, однако против никто не сказал. Странен был княжич ныне… Лучше уж к княгине потом подступиться — глядишь, перетакает.
Один тысяцкий Тимохин спросил:
— А ежели Дмитрий Селигерьем идти решится али через Торжок?
Михаил тяжело поглядел на Кондрата:
— Авось не решится.
Но и тысяцкий глаз не отвел:
— У великого князя путей много, у нас, выходит, дорога одна. А как обманешься, княже?
Михаил молчал, не знал, что ответить. Да разве допрежь случившегося кто ведает, кроме Господа, о том, что станется?.. Но если не наврал чего гонец давешний, так и будет: у Кашина встретятся оба князя, а там уж одним кулаком на Тверь повернут.
— Не должно князю обманываться, коли от Бога он, — сказала вдруг Ксения Юрьевна с той крепостью в голосе, что всяк понял — будет по-князеву.
— Дозволь сказать, князь. — Воевода Помога Андреич поднялся с таким низким поклоном, что долго видна была ранняя плешь в слипшихся прядках светлых волос. Михаилу даже с горечью показалось, что Помога нарочно таким низким и долгим поклоном насмехается над его княжьей волей.
— Говори, — резко поторопил он. Михаил любил Помогу еще с той поры, когда тот с одной ладони подсаживал князя в седло да на голубятне учил пускать голубей и поить их изо рта в клюв слюной. Одним словом, был не просто его пестуном, а как бы старшим товарищем. Это теперь Помога стал воеводой, отпустил брюхо и начал быстро плешиветь. — Ну, говори же!
А Помога все не мог справиться с охватившим его волнением: так он любил князя и так боялся, что тот ошибся, больно уж он порывист, коли решил что, так не удержишь, а тут ведь не деревянным мечом рубить.
— Верю тебе, князь. А и тысяцкий прав: надо бы дружину послать купецкие пути засеками зарубить, абы что, загнать новгородцев в болотину…
Лукавит Помога, не верит. А без чужой веры и самого сомнения сломают. Нет, надо, чтобы поверили: взялся за ряд, так судись…
Михаил усмехнулся:
— Нет, Помога Андреич, мне дружина у Кашина надобна. А на засеки не то что гридня[13], обозного ни одного не отдам.
— К заутрене звонили уже, али не слышали? — Опершись на подлокотники, Ксения Юрьевна решительно поднялась. — Другое потом решите.
От нее не укрылось, как, проходя мимо князя, бояре с иным почтением отдавали сыну поклон. Свершилось, Господи, дождалась — занял отцовский стол Михаил!
Выходя последним, Ратибор коснулся уродливо вывернутыми губами золотого оплечья князя:
— Царствуй, княже. Избавь нас от тяготы непослушания.
И еще раз поклонился княгине:
— Прости, матушка.
— Прощай, Ратибор…
Уже у дверей Ратибор обернулся и, уставив на Михаила единственный водянистый глаз, сказал:
— Коли встретишь Дмитрия, попомни ему отца-то…
— Молчи, дурак! — гневно выдохнула Ксения Юрьевна. — Пошел вон!
Ратибор медленно перевел уже не злой, а печальный глаз на княгиню. Дряблая, с синюшным оттенком кожа под глазом мелко дрожала, слезы готовы были закапать на серые щеки, и весь его вид будто бы говорил: что ж, давай, пинай, матушка, слугу старого, видать, заслужил…
— Иди уж, — смягчилась княгиня.
То, на что намекнул Ратибор, не составляло тайны, и Михаил удивился, что мать так вспылила. Много было слухов и всяких домыслов про смерть отца Михаила. Матушка про них и сама не раз ему сказывала.
Дело в том, что дед Михаила Ярослав Всеволодович и отец его Ярослав же умерли на удивление похоже[14]. Только первый — возвращаясь из Каракорума, далекой столицы Монгольской империи, где, как говорят, он принял яд из рук матери хана Гаюка — всевластной Туракины, а второй — на пути из Сарая, ставки золотоордынского хана Менгу-Тимура. И оба, что примечательно, умерли в седьмой день путешествия и, как говорят, в одинаковых муках. Многие яды есть у татарских лам и волшебников… Но вот что еще примечательно: Ярослав Ярославич возвращался вместе с братом Василием и племянником Дмитрием, ныне великим князем, после ханского суда, разрешенного, кстати, к общему удовольствию. Шли они по Волге большим караваном. И умер Ярослав не на своей лодье, а на лодье племянника, у него на руках, и покрылся смертным холодным потом. На это и намекал Ратибор… Он тоже был тогда с князем. Князь, говорят, и откупил своего любимца у хана. Правда, после татарских пыток, которыми Ратибор был наказан за неверный донос, оказался он тогда нездоров и сам лишь в седьмой день поднялся, и, по несчастным обстоятельствам, именно на том пиру, уступив общей просьбе, снял повязки и явил всем свое ужасное, с вытекшим глазом и в лохмотьях кровавой кожи лицо. Мирясь, пили много, и никто, разумеется, не заметил, после какой чаши Ярослав вдруг занемог, закашлялся, поднялся с лавки, схватившись за горло, сильно покраснел от натуги лицом и повалился на руки сидевшему рядом Дмитрию. Никто не помнил, кто поднес ему эту последнюю чашу, а то, что умер он на руках Дмитрия, все видели. И многим явилась тогда мысль — отравили. А слух о том, кто отравил, отчего-то в Тверь добежал быстрее лодий.
Но это все домыслы. А истины тогда не дознались.
Правда, матушка всегда говорила, что не Дмитрия рук это дело и не Василия. Василий — не Александр, на злодейство был не способен, из всех сынов Ярослава Всеволодовича он был самый смирный и добронравный и уж не поднял бы руку на брата. Дмитрий же тогда был еще юн, чист душою и помыслами, а и сейчас, как его жизнь ни обкладывает, все же не стал злодеем, да и не было у него повода убивать Ярослава. И вообще, не в заводе у русских князей ядом травить друг друга. Да ведь и ядов-то не знали! Если уж осерчают, так в чистом поле мечами обиду мстят… Один оставался на подозрении у Ксении Юрьевны: Менгу-Тимур, тогдашний ордынский царь. Ему-то была корысть убрать Ярослава, а еще лучше чужими руками, чтобы на Руси опять пошла смута. Только и это ведь не доказано. Да и докажешь — никому не пожалуешься…
— Не думай про то, пустое! — Ксения Юрьевна досадливо махнула рукой. — Им бы только языками про нас болтать! А Дмитрий к смерти отца твоего непричастен, знаешь ведь?
— Знаю.
— Из ума выжил старый, озлобился. Видал, как нынче на Кондрата-то чуть не кинулся?
— Видал.
— Да где ж видал-то? Проспал, чай, — улыбнулась княгиня.
— А я не спал, матушка, — улыбнулся и Михаил.
— Ты пошто про Кашин прежде-то не сказал? — вновь посерьезнев, спросила Ксения Юрьевна.
— Не ведал еще…
Михаил смутился. Даже той, кого почитал пуще всех, не мог он теперь открыться. Но и княгине лишних слов не понадобилось, сама догадалась: откровение сыну сошло, — и истово перекрестилась на образа.
— Веришь ли?
— Верю.
— И то — люди за тобой.
— Знаю…
Трудно обоим давались слова. В один миг менялось, что стало давно привычно. Оба знали прежде и ждали — так будет, а вот случилось, и слов не найти.
— А все же, Михаил, в бору-то на купецких путях вели засеки срубить, абы что…
— Велю. Ратибора пошлю с посадскими…
Невольно опять замолчали, вместе привыкая к новому ладу их отношений.
— Ты теперь князь мой, Мишата, — вдруг назвала она его давним именем, каким уж давно не кликала. — А я слуга твоя кровная.
Михаил едва не кинулся ей в подол, как в детстве, когда искал защиты, но лишь задохнулся нежным ребяцким порывом, сдержал его силой и, зардевшись лицом, сказал:
— Благослови, матушка.
Он опустился перед матерью на колени, и княгиня, перекрестив его склоненную голову, быстро вышла из гридницы, чтобы сын не увидел ее смятения и глупых, ненужных слез.
2
Всего было довольно у Михаила для исполнения решенного, одного не хватало — времени. Но ведь его и никогда много-то не бывает… А коли гонец вчерашний от Константина — младшего брата ростовского князя Дмитрия — не врет, успеют они к Кашину во всяком случае наперед ростовцев… Только неверным, сомнительным казался Михаилу этот гонец, особенно теперь, после того, как принял решение.
Да и вчера еще что-то насторожило в нем князя, да что — не успел ухватить. Сама весть оказалась такой внезапной и грозной, что заслонила все остальное.
Не то было странно, что Константин другом вдруг сделался — старшему брату он всегда рад напакостить, да и не то, что Дмитрий Ростовский великому князю складником стал, объединившись с ним против Твери, хоть и не было у него причин для размирья, Дмитрий Борисыч многохитер и жаден, а у жадных свои резоны. Здесь-то все как раз вяжется. Но в самом гонце что-то оставалось князю неясным, оттого и не шел он из головы…
Князь вспомнил, что его вчера удивило: слишком уж горячо, аж до дрожи, доказывал он против Дмитрия. Будто не Константин велел донести на брата, а сам гонец мстил ростовскому князю. То-то и оно: не дело гонца убеждать, его дело лишь передать, что велели. Да и сам-то он мало походил на гонца — оборван, грязен, как из поруба[15] сбежал, без всякой грамотки, пешим в город вошел. Трех коней, говорит, загнал, как летел. Хорошо, коли так, а коли одного-то коня где пропьянствовал?.. Ишь, морда-То у него какая опухлая, точно били. Или правда так пить горазд, хоть и молод?.. Как обсказал он все давеча, меду ковш ему поднесли. Он выпил и еще попросил. Еще выпил. И еще б попросил, когда бы на ногах не уснул — такая скважина! Все у них, что ли, в Ростове такие?!
«Надо с собой его прихватить, коли соврал — повешу… Да провались ты! Думаю не про дело», — в мыслях оборвал себя князь.
Рванув тяжелую, кованную железом дверь, он вышел из полутьмы нижней клети в белый свет летнего утра и, зажмурившись, остановился на высоком крыльце. Разом смолк шум во дворе, где уже собрались Князевы пасынки[16], готовые для потехи, охоты или войны. Увидев князя, дружинники посерьезнели, спешили снять шапки, оправить одежду и пояса.
Михаил не успел и слова сказать, как из ближних рядов протолкнулся к крыльцу Константинов гонец и бухнулся лбом в нижнюю, выщербленную ногами ступень.
— Дозволь сказать, батюшка! — истошно заголосил он.
«Верно, не досказал что вчера, забыл спьяну… тать. Засеку!» Теперь Михаил испугался более, чем вчера, — всякое новое слово гонца сулило и новые обстоятельства.
— Говори, коли забыл что, — ласково предложил Михаил.
— Князь-милостивец! Забыл, истинно забыл!
— Ну! — поторопил князь смолкшего вдруг гонца.
— Я что так бежал, князь, коней не жалел… — Парень тряхнул головой, сверкнув зелеными насмешливыми глазами из-под упавших на лоб буйных рыжих волос. — Я ведь николи плотников новгородских не бил! — Теперь он поднял на князя глаза, чуть не плача.
— Так что?!
— Возьми в дружину меня, не губи! — провыл ростовец и снова ударил лбом, да так, что звонкая сухая ступень запела в ответ.
— Все? — удивился Михаил и вдруг радостно ощутил, как отпустила внутри натянутая сильней тетивы тревожная жила.
— Все, как есть на духу, — подтвердил гонец и добавил: — А остальное, князь, коли заслужу, дашь.
Стоявшие рядом дружинники засмеялись ловкому ответу. И Михаил улыбнулся.
— А как же зовут тебя?
— Ефремом, батюшка.
— А кличут как?
— Ране Ростовом кликали, а коли не откажешь — Тверитин стану.
— Как, говоришь, Тверитин? — Михаил засмеялся. Больно смешной показалась вдруг кличка. Бывает так: вроде и обычное слово, а рассмеешься ни с того ни с сего — то ли бесы плачут, то ли ангелы радуются.
И по всему княжескому двору покатился громкий, грубый мужицкий регот:
— Тверитин — ха!
— Как он сказал-то?
— Тверитин, сказал!
— Тверитин!
— Го! Ха! Гы!..
Смеялись дружинники, глядя, как князь улыбается.
— Взял бы я тебя, Ефрем, хмм… Тверитин, — сказал Михаил, как все отсмеялись. — Ан морда у тебя сильно опухлая. Вино, поди, любишь?
— Дак кто ж, князь, вина-то не любит? — смело глянул ростовец. — А морда у меня опухлая от иного.
— Что так?
— Да батюшка еще давеча, в Ростове-то, за волосья таскал, да и стукнул нечаянно мордой-то об стол.
— Так за что ж он тебя? — спросил Михаил.
— За вино, дак… — притворно понурился Ефрем.
И снова дружный регот пошел по рядам, едино взмывая в небо. Легко стало на душе Михаила, и любо было ему, опершись руками на гладкие, согретые уже солнцем липовые перильца, стоять на крыльце среди преданной, верной дружины да подсмеиваться над этим шибко крученым ростовцем.
— Ну, Ефрем, вставай с колен-то. Беру я тебя на прокорм. Но гляди, — Михаил усмехнулся, — волосьев-то на таску еще много оставил тебе отец. А я ведь не батюшка, за волосья таскать не буду — заодно с головой сниму, коли что…
— А и я не холоп, князь, — усмехнулся в ответ и Ефрем. — Не в закуп иду.
Он стоял перед Михаилом рослый, плечистый, лет на пять старше князя, и в расхристанный ворот холстинной рубахи с бугристой груди лезли жесткие курчавые волосы, золотые от солнца.
— А и ни Константину, ни Дмитрию креста я не целовал, князь. По воле к тебе ушел. Мне теперь назад пути нет, — сказал он твердо, прямо глядя Михаилу в глаза. — Ежели присягнул, князь, до гроба будем вместях.
— Служи — не загадывай, — отозвался Михаил.
Он дал знать конюшему и со ступеней, без стремени, вспрыгнул в седло подведенного под крыльцо коня.
Кратко, но истово Михаил помолился в маленькой деревянной церковке, поставленной для него в приделе Спасо-Преображенского храма, заложенного матушкой три года назад. Над возведенными стенами уже и своды были, однако закончить работу во всей красе денег недоставало…
Хоть и наполнилась Тверь людьми, а все же их число оказалось не так велико, как хотелось бы князю. Да и сколько бы ни было жителей, больше с каждого, чем он может дать, все равно не возьмешь. Нельзя обижать свободных людей поборами, иначе они в иные земли уйдут, к иным князьям, а то и в вольные бродники, которых и татары в днепровских плавнях не могут достать. А с холопами ни города не построишь, ни пашню не обживешь, ни землю свою не оборонишь… Слава Богу, идут в Тверь люди, знать, не хуже в Твери у них с матушкой, чем у других князей. Правда, и тяготы велики, но куда ж от них денешься? В одну Орду не «с дыма», не со двора, а с каждой Божьей души собери и отдай десятую часть от любого дохода, да дружину надо кормить, да боярам давать кормиться, а здесь еще великий князь своей доли требует. Где уж тут серебра напастись?.. Епископ же Симон, ревнуя ли к новому храму, сквалыжничая ли ради братии, не многим и без охоты с городом делится. Нравоучителен епископ, а жаден.
Вот и стоит пустоглавым задуманный во славу Господню главный тверской собор.
Пока на площадь перед собором сзывали народ, Михаил в сопровождении Ивана Царьгородца, своего духовника и настоятеля нового храма, поднялся по лесам к самым деревянным решеткам не крытых еще куполов. Храм этот строился у него на глазах, и князь не хуже десятников знал каждый ряд клейменых кирпичей, замешенных и обожженных своими же гончарами.
Крепок и ладен храм Спаса. Века простоит — не подвинется. Оборонил Господь от татар Андреевых, сколько жизней людских сохранил, упас от мук, от огня и железа — малая благодарность Господу этот храм. Надо бы в каждом сердце неувядаемую благость нести, да, выходит, не помнят люди. Давно ли было, а вон уж винят Святослава, что своей чести не пожалел тогда ради них…
Михаил вздохнул, пытаясь забыть недавние несправедливые слова тысяцкого: «Господа нашего не помним благодарить за каждый день прожитый, чего уж нам, грешным, ждать…» Но все равно, обида за брата не проходила.
Он-то помнил, хоть и малой совсем был, как далось Святославу уговорить Андрея не жечь тогда Тверь. Главное, чистый бес — в самое Рождество нагрянул, когда и не ждал никто. В Отроче колокола еще славу звонили, а посад уж огнем занялся. Не многие поселенцы за стенами укрыться успели, так внезапно наехал, словно дьявол ему помог. Много голов да костей обгорелых в Волгу по весне унесло. Кто знает, может, осталась бы и Михайлова голова на том пепелище, не сумей его сводный брат Святослав убедить Андрея в своей приязни. Ведь они с матушкой рядом с ним были живым залогом…
Еще не все откричали, кто мучился, умирая от ран, еще не всех ребятишек, которые были ниже тележного колеса, покидали в огонь на глазах у обезумевших от горя матерей и отцов, которых, топча конями, сгоняли в стадо, чтобы увести за собой. Вой стоял над пожарищем. И в этот вой, в этот огонь и ад вышел Святослав, ведя за собой самых близких. Дьявол не успокаивается, пока не получит все…
Матушка смотрела вокруг черными, вмиг запавшими, сухими глазами, будто не видя, только беззвучно одними губами шептала молитвы. Святослав впереди, как холоп, пешим стоял перед конными Андреем и татарским царьком, только что шапку не снял, потому как из города вышел простоволос. Сначала Андрей что-то кричал ему, бешено дергая шеей, а потом весело скалил зубы, тыча в них плетью, видно хвастаясь татарину русской покорностью. Тогда Михаил и заплакал, не выдержал. До сих пор не прощал себе этих слез, хотя ни мать, ни брат никогда не упрекали его. Не смерти он испугался — безгрешному легко умирать, — стыда не вынес. А каково Святославу было? Через то унижение и умер брат в ненависти. А город спас. Но стоит ли чужая жизнь своей чести?
Иван Царьгородец, стоя за спиной князя, не смел тревожить его, будто зная, про что тот думает…
А внизу раскинулся город. Росла Тверь пришлыми слободами, как река в половодье. Дома с неровными клиньями огородов рядами спускались до самой Волги. С правой руки вливалась в Волгу Тверца, давая большой воде бег. Невелика речка, а начало дает великому, чему ни слов равных нет, ни пределов во всей русской земле.
И уж с торговища, от Отроча, с Заманихи, с лесной стороны, по тесным улицам и прогонам, опрокидывая возки и роняя заборы, бежали к площади люди, как вода в ручьях от талого снега в весенний день. Площадь, казалось, была полна, а народ все прибывал, шел, шел, и уж не было вроде места ему на площади, ан и еще находилось.
Шум поднимался в небо невнятной, но мощной разноголосицей. Верно говорят: плохая весть соколом налетает. Город шумел как улей, не в свой черед потревоженный бортником. Еще не ведая дела, дурные бабы выли, как воют перед скудельницей[17] по покойнику.
— Ордынцев видали, сказывают!
— Иде?
— За рекой.
— Иди ты…
— Да нет — купцов спымали, которые соль-то с мокрым пеплом мешали…
— А-а-а-а!..
— Да не ори ты, дура скаженная, не слыхать ничего!
— Кто идет-то?
— Али Ондрей с татаре, али Дмитрий с литвинами.
— Поди?..
— Ммм-мы… — билась в припадке какая-то баба, пуская желтую бешеную слюну.
Как ни было тесно, а люди жались, упирались, однако хранили пустое пространство вкруг бесноватой — а ну как заразная? А сзади толкались, забирались на плечи:
— Что там? Кого бьют? За что?..
Разиня рот и закатывая глаза, баба колотилась о жесткую землю затылком, и какой-то мужик, видно муж, суетился подле нее. Но вместо помощи только хлопал себя руками по ляжкам и болезненно вскрикивал:
— И-иых!..
«Ммм-мы» — «И-иых!» — «М-мм-мы» — «И-иых!..» — жутко неслось над площадью, обещая беду, покуда какой-то чернец не затиснул припадочней в рот прикушенный, посиневший язык и зажал его там железным концом большого креста с груди. Баба смолкла. Видно, выходя, остатние сатанинские силы еще трясли ее тело страшной дрожью, бежавшей от ног к голове, но реже, и пальцы со сбитыми в кровь ногтями все медленней скребли по земле. Истинно говорят: бесы креста боятся.
В толпе крестились и плакали: «Господи, на все Твоя воля…»
Опонники[18], гвоздошники, кузнецы, древоделы, стеклянники, кожевенники, седельники, шведы, прочие рукодельники, купцы, монастырские чернецы, холопы боярские, пришлые смерды с ближних и дальних погостов и деревень, базарные мытари, церковные сироты — все его люди были перед князем теперь. Михаилу казалось, что нету силы, которая угомонит это безумное вавилонское толковище, это людское стадо, в страхе потерявшее ряд.
— Смотри, князь, — сказал за спиной Царьгородец.
С княжеского двора в окружении дружинников конными выехали тысяцкий, воевода и другие бояре, которым Михаил поручил объявить свою волю.
— Иду-у-ут… — пронесся над площадью тяжелый, протяжный стон.
Сверху хорошо было видно, как толпа качнулась навстречу посланникам, словно в едином стремлении не впустить их в себя. Да ведь и некуда было, так все стеснились. Однако верховые спокойно и даже как бы гуляя и не спеша направили коней в самую гущу народа, который вдруг разом смолк. При полном молчании и тишине сближались верховые и пешие. И, когда морды коней нависли над полем людских голов, с обеих рук плетями засвистали дружинники по спинам тех, кто стоял на пути.
— Дорогу! Дорогу боярам Князевым!..
— Куда ж вы лупите, черти! Ироды!..
Под быстрыми молниями плетей в один невидимый миг, который Михаил будто бы проморгнул, неуправляемая, не подвластная никому толпа чудесно преобразилась. И ясен стал от веку определенный ее закон, по которому дальние равны ближним и каждый единый — многим, а многие собрались здесь ради единого, не важно, кто он: купец, боярин, ремесленник или нищий… И все они теперь смолкли ради его, Михайлова, слова.
Поднявшись на стременах и набравши воздуха в грудь, Кондрат Тимохин прокричал:
— Божьей милостью князь наш Михаил Ярославич, печалясь о вас и жизни вашей, и Твери, и всего его княжества, велит идти защищать нашу отчину… — Кондрат опустился в седло, еще набрал воздуха и снова вытянулся на стременах. Его зычный голос доставал, поди, и за Волгу, так тихо было окрест. — Защищать нашу отчину от великого князя владимирского Дмитрия Александровича и ростовского его складника Дмитрия же! За князя нашего! За Тверь! — не крикнул, а уже хрипло выдохнул тысяцкий.
Толпа не ответила радостным кличем, как ждал того Михаил, но глухо, без слов промычала что-то, чего нельзя было принять ни за одобрение, ни за протест.
Воевода Помога огрел плетью коня, вскинул его на дыбы и отчего-то тонким высоким голосом закричал:
— Князь вам поруку дает, отныне без силы ворота не отворять никому! Али вам Твери не жаль, тверичи?!
Но и его слова не достигли умов. Толпа безучастно и даже зло, как казалось Михаилу, молчала.
Наконец в томительной тишине кто-то растяжно, лениво крикнул:
— А кто поведет-то?
— Князь поведет, Михаил Ярославич! — зычно ответил тысяцкий.
Сверху видно было, как по толпе до самых ее пределов покатилась волна: «Князь ведет, Михаил!..»
— За Тверь! — снова проорал тысяцкий.
— За Тверь! — вторил ему, вопя ребячьим дишкантом, Помога Андреич.
И тут, будто только сейчас до нее дошло то, о чем кричали бояре, едино прорычала толпа в сотни глоток:
— За Тверь!
— Не выдадим Михалку, князя нашего, как он нас не выдал! — раздался над площадью чей-то пронзительный голос, и тут же ответно выдохнула толпа:
— За князя! За Михаила!..
«Помнят они, все помнят, хоть и не моя это слава…»
Михаил с трудом разжал пальцы, вцепившиеся в леса, резко повернулся на качнувшейся под ногами лесине и начал спускаться. Заткнув полы рясы за пояс, отец Иван едва поспевал за князем.
Внизу, у схода, Михаила дожидались каменорезцы, что стояли на храме.
— Дозволь с тобой идти, князь!
— Нет. Храм за вами, — оборвал Михаил их сотского.
Вбежал под темные, небеленые своды, перекрестился на крест обыденки[19], сиявший золотом в каменном полумраке, упал на колени:
— Помоги, Господи…
Потом услышал за спиной тихие шаги Царьгородца, попросил:
— Благослови, отец…
Уже на ступенях храма, выложенных из гранитных плит, прощаясь, Царьгородец спросил:
— Видел, Михаил Ярославич, чад своих?
— Видел, отче.
— Попомни, княже: ты только ими силен. А они сильны, когда вместе, под именем да под дланью единой.
— Попомню…
Дальше день закрутился горячим гончарным кругом. И везде — у лодей на Волге, на торгу, куда свозили прокорм, у складниц, где снаряжали копьями, мечами, луками да кольчужками не имевших своего оружия ополченцев, — бодря горожан, горело золотом княжеское оплечье.
В лето тысяча двести восемьдесят восьмого года Михаилу было пятнадцать лет.
3
В два дня срядили полки, а в утро на третий под колокольные звоны тронулось тверское войско на Кашин. Епископ Симон, сказавшийся поначалу больным, все же поднялся с постелей, благословил их в путь. Не зря вчера княгиня в Отрочском монастыре день провела, уговорила Симона. Стар он стал — и телом и духом некрепок: боится, митрополит Максим осудит за противление великому князю. А невинно пролитую православную кровь али простит митрополит князю владимирскому? Неужели обиды великого князя выше Божьего милосердия?
Но не обиду он мстить идет. Обиду мог отомстить и раньше, пока Святослав был жив, Царство ему Небесное. Что ему стоило тогда ногайцев наслать? Так не наслал же. Нет, только теперь зажгло Дмитрию Александровичу от давнишней обиды, только теперь, когда Тверь стала сил набирать…
После первого, давнего уже набега Баты[20] от Твери ничего не осталось. Не то что дома непогорелого — валы земляные и те разметали татары, чтобы и памяти о городе не осталось. Ан батюшка Ярослав Ярославич уже на другом берегу новую Тверь сотворил. Прежде Тверь стояла лицом на запад, с опаской против литвинов, теперь повернулась крепостными бойницами на восток. После татар от прежних жителей почти никого не осталось, а откуда-то люди пришли. И идут, по сю пору идут: и бояре, и купцы, и ремесленники, и землепашцы, и иноки. В два дня такое войско срядили! Михаил обернулся к полкам, что, разбившись в десятки и сотни, тысячью ног подняли к небу пыльную тучу, укрывшую окоем.
И дружина растет. Полтысячи гридней шли впереди пешего войска верхами, да двести верховых сторожей еще вчера он услал на Кашин.
Скользнув взглядом по конным, бежавшим обочь, Михаил невольно залюбовался тем, как крепко и в то же время легко, не по-татарски пригнувшись, а прямо держится в седле намедни прибившийся к дружине ростовский Ефремка. Будто спиной почуяв княжеский взгляд, тот извернулся, оскалился белыми зубами в рыжий пух бороды, потянул узду и заиграл кобылой. Правда, каурой масти кобылка под ним была неважнецкой. Кони после недавнего лошадиного мора держались в цене, а накануне похода и вовсе воздорожали.
«На стоящую-то денег, видать, не хватило, — усмехнулся Михаил. Решил: — Если не соврал — отплачу…»
А Ефрем натянул поводья, разбойно гикнул и бросил кобылку к ближнему лесу влет над травой. Навроде ледащая лошаденка, однако под умелым всадником и она, чем ближе к лесу и дальше от глаз, становилась похожей на знатного аргамака. Тверитин, нарочно забавя князя, то скатывался поперёк седла на разные стороны, то прямою спиной откидывался на конский круп, мешая с кобыльим хвостом свои длинные волосы. И островерхая ухарская шапчонка, загнутая крюком, не слетала с его головы, как должно бы.
Видя выкрутасы ростовца, в рядах оживились, закричали, заулюлюкали, свистом подгоняя наездника. Любо было глядеть, как он управляется с лошадью. Некоторые и тверские кинулись Ефрему вдогон отличиться перед князем и перед миром. Но куда там! Приметив погоню, рыжий бес нырнул в дерева и пропал там, за деревами. Знает, что кобылка его только когда одна ладной лошадью кажется. И то издали.
Большой охотник лошадиного бега, Михаил чуть ли не позавидовал чужой удали. Ему и самому захотелось сорваться следом за рыжим, побороться и с ним, и с иными на ход в чистом поле. Скакун под ним славный был, да и сам он в седле с первого пострига. Однако сдержал себя князь. Негоже ему ныне перед другими удалью хвастать — не на охоту людей ведет. Михаил приструнил коня, рвавшего повод, и отвернулся от поля, сразу забыв о скачке. И снова мысли, от которых не было спасения ни за хлопотами, ни за молитвой, тяжело зашевелились под теменем…
«Третьего дня еще сомневались бояре, встречать ли великого князя с оружием, а ныне вон как народ поднялся! Всякому стало ясно, что великому князю надобно, чего и где у него зажглось! Тверь-от между Владимиром и Новгородом как раз поперек стоит, свет ему застит! А ну как разбогатеет! Мало мы в Орду выход даем, так нет же, и Дмитрию дань плати. И то, была бы какая польза от этого, знать бы. Ради чего под его волей ходим: ни защиты, ни помощи, ни единства державного. Да и не то зазорно, что Князевы пошлины велики, а то, что русское серебро другим путем опять к татарам уходит. Давно уж всем ведомо, зачем великому князю деньги: Ногаю платить[21], чтобы тот Андрея, братца его, держал на привязи…»
Глаза зудели от недосыпа, будто кто кинул в лицо горсть песка. Однако среди белого дня у всех на виду заваливаться в возок не хотелось. Михаил тряхнул головой, гоня дрему, и зло усмехнулся: «Велик был многою хитростью брат отцов Александр Ярославич Невский, да не ведал, какое семя посеял! Сыны его хуже сучьих детей грызутся между собой, делят, чего не надобно… Всегда, что ли, было так: брат на брата, сын на отца, отец на сына? Распря за распрей! Господи, неужто прав Царьгородец и от века, с тех пор как Авеля убил Каин, нам суждено враждовать?..»
Радостно, но и одновременно уныло было кругом. Радостно от простора, от травяных лугов, равных синевой небу глазищ озер и величавого, богатого зверьем леса, подступавшего порой с обеих сторон. Уныло оттого, что вся эта большая земля пустовала. Чем далее от Твери, тем реже встречались хлебные обжи[22] жилых деревень, чаще погорелье да забытые пустоши. Впрочем, некоторые из них заново обживались угрюмыми, молчаливыми мужиками, пришедшими на Князеву землю со всех концов обезлюдевшей после прихода татар Руси. Они встречали войско со страхом, готовно падали на колени. Никто не спросил у князя, куда и на кого он идет, а только просили защитить их и крестили воздух перед собой. Пустовала земля и была так огромна, что, казалось, могла дать довольство всем, кто бы на нее ни пришел…
«Но ведь было же время, когда иные князья перед великим князем не из одного страха смирялись, а по совести, и он правил не из-за единой корысти, а ради того, чтобы Русь неприступной стояла. Взять хоть Мономаха, хоть Ярослава Мудрого. Или это только сказки неверные? Да нет, было, поди! Не у всех же князей одна забота в уме: как друг дружку свалить, а иначе откуда б и взяться Руси-то?..»
Летний высокий день встал в полный цвет над землей. Жаворонки падали с поднебесья поглядеть на диковинную тысяченогую людскую змею, зайцы в страхе резали траву вдалеке, куропатки, боясь за деток, вспархивали над луговиной, уводя от гнезда, а из леса, из-за дерев, смотрели желтые волчьи глаза: столько людей давно уж не являлось в эти места, знать, скоро придет и досюда горький запах дымного человечьего пепелища…
А лето Господне, любя людей, обещало обилье!
Мерный ход коня баюкает, усыпляет. Михаил все чаше трясет головой, трет кулаками опухшие от бессонницы, в красных прожилках глаза. И снова неотвязные мысли жалят, как оводы, горячую от зноя и усталости голову.
«А тут еще Новгород с его вольницей! — Князь поморщился, как от кислого. — Вечно они волю-то торгуют себе на чужой беде. Верно сказывают: где на Руси раздор, там без сквалыги новгородского не обходится. Вот и теперь с охотой, видно, на Тверь пошли, ради легкого грабежа. А сами-то, поди, Андрею в Городец гонцов засылают, только и ждут Дмитрия повязать. Он-то что думает? Разве змею болотному верят?.. Забыл, что ли, как отец его кровью с Низовской Русью Новгород вязал? Хоть и зол был Невский до крови, а не довязал — мало им корыстных путей у немцев, все на них зарятся… — Медленней, медленней тянутся, путаются мысли. — Два брата есть: Каин и Авель… Нет, и еще есть — Андрей и Дмитрий, кто из них Каин-то? Али оба?.. — Меркнет свет, лишь вдалеке в серебряной плошке все не гаснет, трепещет крохотный язычок огня. — Господи, помоги…»
— Княже, княже…
Михаил с трудом поднял от груди оловом налитую голову.
— Княже!
— Чего тебе?
Воевода Помога Андреич, соскочив с коня, подхватил выпавшие из рук князя поводья.
— Богом прошу, князь, сойди с коня!
— Что так? — Михаил непонимающе посмотрел на воеводу: «Что ему надо? Чего он хочет?»
— Князь, Богом прошу, вздремни в возке!
Наконец Михаил очнулся от короткого тяжелого сна, тряхнул головой, в которой словно комом переплелись недавние мысли, и попросил:
— Воды…
Пот бежал по его лицу.
— Пить князю! — истошно завопил воевода.
Окольничий чашник слетел с коня и стрижом кинулся к возу с княжескими припасами. Но не успел.
— Испей моей, князь, — уже протягивал Михаилу мокрую, запотевшую корчагу рыжий Ефремка. — Только набрал в лесу, на крупце.
Михаил взял протянутую ростовцем корчагу.
— Студеная, княже, — заботливо предупредил Ефрем, — зубья ажно ломит…
Князь торопливо припал к корчаге, расплескивая ледяные родниковые капли на кафтан, седло и потную горячую спину коня, отчего холеный скакун недовольно зафыркал, дергая кожей и кося на хозяина обиженным черным, с лиловым отливом глазом. Тыльной стороной ладони Михаил вытер с шеи потеки воды, оставившие грязный след от размытой дорожной пыли.
— Студеная, — подтвердил он, отдавая ростовцу корчагу.
Тот принял ее с поклоном.
— Поспи, князь! Вестимо ли, третий ден, почитай, без сна. Богом тебя прошу! — чуть не зарыдал Помога Андреич.
— Чай, доедем, никуда не свернем, — серьезно сказал и Ефрем. — Отдохнул бы…
— Как тебя кличут-то? — спросил у него Михаил, высвобождая ногу из стремени.
— Ефремом, — радостно вскинулся тот.
— Да нет, — князь недовольно поморщился. — Кличут как, спрашиваю?
— А-а, Тверитиным! — догадался Ефрем.
— Тверитин, Тверитин… — будто запоминая, повторил Михаил, рванул серебряную запону шелкового легкого корзна, тяжело соскочил с коня, сделал несколько неверных шагов; поддерживаемый воеводой, успел подумать, что, мол, надо бы поучиться ловкачеству у этого… как бишь его… И заснул еще на ногах, тяжким снопом повалившись на постеленные в возке медведна.
Прыгая боком рядом с бегущим возком, запряженным белою четвернею, и еще сильней спотыкаясь от страха, что вдруг потревожит князя, окольничий стаскивал с него сапоги.
— Ну и ладно, помогай тебе Бог… — довольно сказал воевода и подмигнул Ефрему.
Михаил не слышал, как шумно влился в его войско отряд копейщиков из попутного города Кснятина, заранее приведенный по его же приказу кснятинским воеводой Порфирием Кряжевым. Сивый от седины Порфирий и правда был кряжист, как старое дикое дерево. Порфирий все делал шумно: говорил, сморкался, дышал. Теперь он шумно досадовал, что князь почивает. Во-первых, ему хотелось полюбоваться на князя, которого он лет пять уж не видел, а во-вторых, представить ему сына впрок будущей службы. Или наоборот: во-первых, представить, а во-вторых уж, полюбоваться.
— Вот сын, боярин, Тимоха, — за отсутствием князя кричал он в самое лицо воеводе и тыкал корявым, со сбитым черным ногтем пальцем в такого ж, как он, дикого вида, кудлатого парня саженного роста. — Дуги руками гнет, ей-богу…
— Да верю, — соглашался со всем Помога Андреич, лишь бы Порфирий утихомирился. — Присылай его опосля ко двору, нам таких страховитых надо…
Город Кашин лежал на то время в землях Ростовского княжества. До прихода Баты достатным слыл городишком, но после пожога оскудел и прежней силы уж не набрал никогда. Ростовским владетелям, братьям-князьям, не до окраин — промеж собой за стол отцовский тягаются. В иной год посадник не знает, какому брату пошлины бережет — младшему ли Константину, старшему ли Дмитрию. Оттого и в башнях на городнице бойцовые скважины травой проросли, на торгу и в пятничный день людей мало, да и откуда им взяться? Хоть и стронулась с места Русь, с юга народ на север, подалее от татар пробивается, но Кашин минует. Кто во Владимире оседает, кто в Ростове, а кому и здесь воли мало, еще дальше идет — в Тверь, в Московию… Слышно, и там, за лесами, город поднялся. Однако Москва далеко — невидима, а Тверь близко, рукой подать.
Вон она встала полками вдоль речки Кашинки. Куда ее бороть топорами? Да и не татаре — свои, тверские. Кашин отворил ворота без боя, и тверичи без озорства и похабства чином заняли городок. Которые жители были пьяны, не враз и узнали о происшествии.
В город Михаил без надобности входить не велел, разбив войско лицом на север вдоль Кашинки. После Волги, хоть и невелика она у Твери, Кашинка тверичам только названием речка — всех коней напоить, и нет ее.
— Надбавить бы, князь, воды-то в Кашинку, больно сухо, — созорничал кто-то.
И ну пошло!
— Ну, не балуй, охальники, куды на воду-то ссытя!.. — кричали горожане со стен, впрочем, без злобы и огорчения.
Словом, с кашинцами миром поладили.
Ночью, таясь от чужих сторожей, костров не жгли. Своих же дозорных Помога Андреич давно услал встречь противникам в новгородскую и ростовскую стороны. Кто знает, что они принесут?
Если великий князь все же пойдет купецким путем — быть беде. Ратибор с засекой его не стреножит. Но этого отсюда уже не поправишь — нечего и кумекать. А если еще кто, кроме ростовского Дмитрия, великому князю войско свое прислал?
Тянет по низкому лугу от речки прохладой, однако за день земля прокалилась, и спят на ней тверичи, положив в головах кто котому, кто щит плетеный, а кто сена клок. Кто похитрее — под телеги забрались, кто побогаче — овчиной разжился укрыться, кто победнее — какой лопотиной[23] поплоше, а самая отчаянная в бою посадская голь будто нарочно еще распоясалась, одними нательными рубахами под луной светится — мол, не мороз, что в шубы кутаться! Одному Михаилу знобко. Дышит он в соболью опушку пространного суконного азяма[24], а все не может согреться.
«Пожалуй, и звал Дмитрий на Тверь других князей, однако навряд ли кто откликнулся. Жадный московский Данила хоть и брат Дмитрию, а без видимой выгоды кметей своих не даст, кроме того, он всю жизнь старшего брата сторонится, к Андрею льнет — одного поля ягода; Михайло Андреич Суздальский что железка у кузнеца в клещах: то бьют, то греют, то в воду сунут. Он бы и рад великому князю услугу сделать, да Андрей не велит. Дмитрий-то в Новгороде, а Андрей рядом, на Городце; рязанскому Федору Романовичу не до усобий — ханство рядом, того и гляди, пожгут, опять же, грамотка от него есть о приязни и с жалобой на Данилу: мол, тот на его земли зарится, Коломной прирастать хочет; вот Федор Черный из Ярославля пошел бы на Тверь с охотой, да только не встанет он рядом с первым врагом дружка своего Андрея. Еще кто?.. Все вроде мерилом обмерил, а как оно будет — Бог весть…»
Ночь вошла в силу, а все же не прогнала тепла. Редко на Руси такое бывает, только после Петрова дня, да и то не во всякий год. Ночные светила изузорили небо диковинной, чудной резьбой, в знаках которой, сказывают, дал Господь много смысла для каждого. Знать бы, что там приуготовлено ему, Михаилу, что обозначено? Да не дано, как по книге, читать Божьи знаки…
Михаил вздохнул, опустив глаза.
— Поспал бы ты, княже, помогай тебе Бог, — присунулся сзади воевода Помога. Уже не один час ходил он за князем тенью, то и дело сокрушенно вздыхая у него за спиной, как усталая лошадь.
— Или ты мне постельничий? — строго спросил Михаил.
— Так ведь едино до света ничего не развидится, поспал бы…
— Молчи.
Но Помога уж закусил удила.
— Так жалко, — быстрым говорком церковного нищего запричитал он, — все ходишь, ходишь, а княгиня-матушка мне наказывала…
— Ты что, али оглох, Помога? — тихим и потому страшным, звенящим в ночной тиши голосом спросил Михаил.
— Так я ж…
— Ступай себе.
— Не ослушаюсь, помогай тебе Бог, — проворчал воевода и вздохнул. Однако не ушел, как было приказано, и через некоторое время осторожно сказал опять: — Хоша ты и гони меня, князь, слугу твоего, а я все одно скажу… — Он выждал еще и решительно добавил: — Не об тебе забочусь — об деле.
Михаил остановился и удивленно повернул голову.
— Тебе, Михаил Ярославич, так-то впервой воевать, а на людей — не на медведей идти: много крепости нужно.
— Али не крепок? — спросил Михаил.
— Не о тебе речь, — схитрил Помога. — Народ за тебя бережется.
— Как так? А ну поясни!
— Людей-то много, не знаешь, что у кого в голове, а все видят — не спит князь, знать, худо ему, трепещет…
Михаил так взглянул в темноте из-под низко надвинутой шапки, что Помога отшатнулся, но все же докончил опять притворной сиротской скороговоркой:
— Князю — покой, дружине — веселье.
— Ну-ну, — повторяя княгиню, проговорил Михаил и вдруг железно стиснул пальцами руку Помоги. — А сам-то как думаешь, а, Помога? — спросил он страстным, горячим шепотом, как в детстве спрашивал у боярского сына про разные страхи.
— Истинно тебе верю, княже, — тоже шепотом ответил Помога Андреич. — Я так думаю, что не о чем тебе беспокоиться, сюда придет Дмитрий, более ему некуда. — Даже во тьме было видно, как он улыбнулся. — Верно ты угадал, помогай тебе Бог!
— Ладно, ступай уж. — Князь выпустил воеводину руку и усмехнулся: — Хитрец ты, почище татарина.
— А напрямки-то тебя не обскачешь, — довольно согласился воевода и тут же опять застонал: — Приляг, князь!
— Лягу, только уйди, — махнул рукой Михаил и добавил: — В возке пусть постелют.
Воевода исчез в темноте.
Перед возком Михаил еще раз вгляделся в небо, невольно перекрестился на звезды, мерцавшие в вышине необъяснимым вечным загадом. Потом расстегнул тяжелый бронзовый пояс с серебряной пряжкой, вынул из тонких, отделанных черненным серебром ножен саблю, сверкнувшую под луной кривым жалом, положил ее в головах. И только коснулся щекой мягкой, пахшей звериным теплом медведны, тут же уснул.
Кажется, так сладко, как в ту ночь в том возке, ни до, ни после уже не спал Михаил.
4
Третий день стоял великий князь владимирский Дмитрий Александрович в виду Кашина. Но в приступ не шел.
Войска все охальные слова уже прокричали друг другу, разжигая сердечную ярость. Но ярость не приходила. Тверичи, вадя свои явные выгоды, зубоскалили весело, новгородцы, устав препираться, хмуро отмалчивались, лишь изредка бережливо пускали стрелы в особенно рьяных тверских брехачей, подъезжавших на выстрел. Хоть и открыто русское сердце для обиды и много в нем горечи, но дуром и русский умирать не охотник.
Упустив волю, с утра разбитый вином, Дмитрий Александрович сидел один в полумраке походного шатра, подаренного ему великим Ногаем. Сшитые полосы бычьей кожи клином сходились кверху, пурпурный камчатый полог у входа вздымался, дыша от ветра, но в глубине шатра было душно.
В мыслях великий князь то и дело возвращался назад, к минувшему третьему дню, когда его войско вдруг натолкнулось на вражий щит.
Может, и был бы толк, кабы с лета пустил он на тверичей ростовскую конницу, позади изрядив новгородских копейщиков, как советовал Дмитрий Ростовский, да замешкался великий князь, смутил его Михаил. Теперь же только и оставалось рвать в тоске волоски из длинной прядастой бородки, и без того не густой…
Годами Дмитрий Александрович подходил к сорока, а видом был полный старец. Если бы принял схиму, как уж думал он о том не однажды, изрядного образа получился бы черноризец. Глядишь, в молитвах бы и страсти утишились, и злоба б с души отпала, ведь не ищет душа его злобы! Видит Бог, не зла он хотел, когда по смерти младшего из Ярославичей Василия Костромского[25] занял владимирский стол. И никому в голову не пришло с ним тогда спорить, потому что по чести он его занял. Так нет же, родной брат позлобствовал! С тех пор и тянется Русь в разные стороны. Уходит власть меж пальцев, как речная вода.
Нет ему счастья в княжении — уйти бы! Да некому оставить великий стол. Младший Данила и рад бы под свою Москву всю землю прибрать, да с детства Андрея боится, в рот ему смотрит и поперек не пойдет ни за что; сын Иван молод и слабодушен — из Переяславля ни единого ратника отцу не прислал; а уж коли Андрей вокняжится, как, видно, того татары хотят, кровью зальется Русь. Так что, пока живет его братец рядом на этом свете, нельзя ему в монастырь. Не зверь он, Андрей-то, — зверь чужой муке не радуется. Верно, такой русский князь и нужен Орде, чтобы уж не поднялась больше Русь.
Дмитрий Александрович простонал в голос от тягомотной одинокой тоски, сжал виски кулаками, пытаясь утишить боль, которая в последнее время все чаще приходила к нему, наваливалась удушливой бабьей тушей, сковывая волю, сердце, всего его то страхом, то безразличием, то отчаянием от невозможности хоть что-нибудь изменить.
Да разве есть она, власть великая княжеская, если он, Дмитрий, гроза Дерпта и неприступного Раковора, в своей земле встал перед кашинской крепостью, побежденный до боя?! И кем? Кто обошел его? Мишка! Ярославов последыш, щенок Оксиньи, малец! Окаяние какое-то! Всю жизнь пуще смерти сраму боялся, а срам-то, как вонь животная, за ним по пятам идет…
Морщась и сильно ходя кадыком при каждом глотке, Дмитрий Александрович отпил из серебряной чаши и передернулся телом. Кисло вино у фрягов, даром что дорогое…
Да, опять обнесли его переметчики! И что на дальних-то сетовать, когда главный из них — брат родной. Кабы птицей перелететь теперь в Городец, удавил бы отступника, как удавил боярина Семена Тонилиевича, его первого думника…
Великий князь перекрестился на образа. От одной только памяти о смерти ненавистного боярина, случившейся пять лет назад в Костроме, ему стало лучше.
В шатер по-кошачьи, неслышно вошел ростовский князь и молча остановился.
— Чего? — поднял глаза Дмитрий Александрович.
— Мишка-то послов твоих прогнать велел…
Дмитрий Александрович пухлой белой рукой невольно опрокинул чашу, глухо упавшую на пол.
«Смеется он, что ли?»
Нет, Дмитрий Борисович стоял понуро, всем своим видом выказывая участие.
— Как это, прогнать? — переспросил Дмитрий Александрович, будто еще не понял.
— Не допустил до себя, — усмехнулся ростовский князь. — Я князь, говорит, и с княжьими холопами не след мне и дело знать.
Дмитрий Борисович замолчал, отсутствующе занявшись невидимыми пылинками на рукаве кафтана.
— Дальше, — поторопил его великий князь.
— А что ж дальше, — поднял на великого князя светлые, невинные глазки Дмитрий Борисович и вздохнул. — Коли, говорит, великий князь ко мне в гости пожаловал, так пусть сам и идет нужду сказывать.
Дмитрий Александрович задохнулся словами:
— Щенок! В приступ его! Убью…
Слегка пошатнувшись, он резко поднялся с походного резного стольца, доставшегося ему от батюшки.
— Я сказал, в приступ его!
Дмитрий Борисович развел руками в ответ:
— Да я бы, великий князь, хоть сейчас наехал на него со своей дружиной. Обижен я на Михаила за Кашин-то. — Дмитрий Борисович помедлил и тихо добавил: — Видишь ли, Дмитрий Александрыч… новгородцы воевать не хотят.
Великий князь дернул шеей, внезапно сведенной судорогой, и на мгновение стал похож одновременно и на отца, и на брата Андрея.
А Дмитрий Ростовский так же тихо продолжил:
— Ране надо было идти, говорят. А теперь уже поздно. Не пойдем, говорят, в тверские клещи зазря помирать.
— Дети блядины… — в сердцах выругал новгородцев великий князь, благо, кроме ростовца, в шатре иных не было. Кто-кто, а Дмитрий-то новгородцев-то знал, всю жизнь ими правил, не в один поход их водил.
Сильны, да больно корыстны «плотники», без пользы биться не станут. А Кашин — не Тверь, за глиняные горшки да ношеные одежки не пойдут помирать. И то: не то он сулил им, когда за собой звал.
Дмитрий Александрович тяжело опустился на отчий столец, судорожно обхватив пальцами точеные перекладины. Этот столец ценил он выше всего и не расставался с ним никогда — ни в походах, ни в бегах, когда от Андрея таился то у шведов, то у Ногая. Оглаженные отцовской рукой резные балясины подлокотников словно хранили тепло и силу Александра Ярославича Невского…
— Так что передать Михаилу, великий князь, пойдешь ли? — прервал затянувшееся молчание Дмитрий Борисович.
Дмитрий Александрович молчал. Все обиды долгой, несправедливой к нему жизни стояли перед его глазами, и не было рядом никого, и никогда не было, кто б понял его обиды и разделил с ним горечь.
— Михаил поруку дает — жив будешь, — добавил ростовец.
Не было в обычае русских князей убивать друг друга не в сражении, и потому эти слова оказались особенно унизительны.
Великий князь медленно поднял узкие, опухлые, как у ордынца, глаза, и Дмитрию Борисовичу почудилось, что он увидел в них слезы.
— Вели сказать… — прикрыв ладонью верхнюю половину лица, великий князь невесело усмехнулся, — что ж, пусть встречает.
Дмитрий Борисович повернулся уйти, когда великий князь властно бросил ему в спину:
— И ты собирайся.
«Мне одному от тверского щенка позор принимать без надобы», — подумал он, глядя на жирные покатые плечи своего ростовского складника.
— Кашин свой торговать будешь сам.
— Мне Кашина мало, — улыбнулся ростовец.
— Еще что?
— Переметчика, — пояснил Дмитрий Борисович. — Люди признали. Как раз намедни с-под суда от меня ушел. Он, поди, и донес Михаилу.
— Торгуй, — брезгливо сжал губы великий князь. — Да повесь его перед всеми. — Он сжал в кулаке бородку и добавил, не глядя на князя: — Чтоб знали, через кого позор приняли.
Скрывая в поклоне усмешку, Дмитрий Борисович согласно кивнул и вышел.
Дмитрий Александрович выехал к Кашину спустя два часа в сопровождении десятка больших новгородских бояр, ростовского князя со своими окольничими да малой горсткой дружинников. Вынужденное посольство напрасно тщилось выглядеть бодро и сколько-нибудь торжественно.
Даже свои, провожая великого князя, отвечали на клич воевод нестройно и вяло. В рядах молились о том, чтоб Господь смирил гордыню Дмитрия Александровича, дал ему разум и отвратил от войны.
— Домой надоть, — говорили одни.
— Добра-то в этом Кашине и на телегу не наберется, — утешались другие.
Тверичи же встретили вовсе с явной насмешкой. Правда, охальства не дозволяли. Лишь иногда доносился чей-нибудь радостный возглас:
— Слава Михаилу!
— Слава! Бог с нашим князем!.. — тут же подхватывали остальные здравицу, как на победном пиру.
Да, они уже знали, что победили, и были жестоки, как победители. Каково было слышать их крики старому воину, бившему в страшных сечах и немцев, и датчан, и литвинов, и шведов — никто не ведает. Если б мог, наверное, уши б заткнул. Однако Дмитрий Александрович, твердо сидя на тонконогом ногайском коне, будто не слышал позора. Лицо оставалось надменно и строго, и ни один мускул не выдавал его чувств. При этом он внимательно оглядывал порядки чужого войска, удивляясь воинской сметке тверского князя. При таком разумном расположении можно было не только спокойно ждать приступа неприятеля, но и наступать самому, пожелай того Михаил.
Чело войска составляла тысяча изрядно вооруженных всадников, позади них располагались копейщики. Тускло и дико двойным литовским гребнем блестели их вороненые копья. Не менее чем в десять людских рядов стоял перед воротами широченный, без просвета за щитами и бронью, колкий грозный брусок. На кашинских стенах у каждой бойцовой скважины в очередь стояли отборные лучники с кожаными и коваными тульями, полными стрел. Невидимые, но слышимые за стенами Духова монастыря, ходили кони еще какой-то засадной ватаги. А вдоль реки тянулся пеший полк из посадских людей; что из посадских, было видно по их разномастным лопотинам-одежонкам да по мужицкому простому оружию. Обогатела Тверь, раньше надо было голову-то ей отсекать…
Видя устройство кашинской обороны, Дмитрий Александрович усмехнулся: «А все же Бог и меня бережет: упас от приступа…»
Уже въехав в город, великий князь, однако, забеспокоился, беспомощно оглянулся на свиту: «Где ж Михаил-то?..»
А Михаил новую обиду ему нанес: встретить, как должно было, не вышел.
И другую обиду нанес ему Михаил, когда спутников великого князя отсекли Михайловы пасынки, удержав в нижней клети боярского дома. Впрочем, не принеся им урона.
— Так-то ты, Михаил Ярославич, великого князя встречаешь! — упрекнул Дмитрий Александрович Михаила, войдя в скромные боярские сени.
— Здравствуй, Дмитрий Александрович! — поднявшись с лавки навстречу и коснувшись рукой груди, поздоровался Михаил.
— Пошто позоришь? Пошто к воротам не вышел? — не ответил великий князь на приветствие.
— В гости не ждали тебя. Незваным пришел, — не повинился и Михаил.
Дмитрий Александрович, остановившись посредине сеней, дал себе время вглядеться в своюродного брата.
«Отрок и отрок. А глаз не отводит. Характером, видать, в Ксению уродился, не в Ярослава — тот прямо-то не глядел…»
Безус и бледен стоял Михаил. Волосы стягивала по лбу златотканая повязка, шлем, как хотел того, надеть не успел. Шелковая белая разлетайка распахнулась на груди, открывая искусно кованную кольчугу. От горла к грудным сосцам широкой костромской чашей спускалась серебряная пластина с высеченным на ней княжьим знаком — отчим столом.
«Хорош», — не удержался отметить про себя Дмитрий Александрович.
Они стояли друг против друга, старый и молодой, приноравливаясь к чужой силе, словно выжидая оплошки или того, кто первым хватится поясного ножа.
— Я тебя не бороть пришел, Михаил Ярославич, — усмехнулся великий князь. — Я свое брать пришел.
— Возьми. Если можешь, — усмехнулся и Михаил.
И тут досадная пелена нахлынула на глаза и душу великого князя, он не сдержался и закричал:
— Пошто Святослав Андрюшке крест целовал? Али вы мне не сыновцы?!
— А ты, великий князь, у брата своего спроси, пошто он татар-то навел тогда? — Михаил от напряжения скрипнул зубами.
Дмитрий Александрович прошипел:
— Не лезь промеж нами, Михаил…
Но Михаил, будто не слыша, продолжил:
— Знаешь ведь: не за себя брат крест ему целовал и не против тебя — Тверь спасал!
— А пошто он полки на меня под Дмитров водил? — взвизгнул великий князь.
— То дела давние, нечего вспоминать. Али ты за этим пришел? Говори, Дмитрий Александрович, чего надо. — Михаил не сводил с лица старшего брата жесткого, горячего взгляда.
Давно уж так никто не смотрел в глаза Дмитрию Александровичу.
— А то не знаешь? — Великий князь будто улыбнулся, оскалив зубы. Но не выдержал Михайлова взгляда, по скобленым половицам прошел к окну и, глядя сквозь мутную слюду во двор, где Князевы гридни стерегли у дверей, спросил:
— Али вы с матушкой Ксенией Юрьевной забыли, что великий князь над всеми князьями князь?
Однако Михаил готов был к ответу. Вернее сказать, сам спросил:
— А брат твой Андрей Александрыч сколь тебе пошлины на Городце собирает?
Пальцы Дмитрия Александровича невольно сошлись в кулаки, он резко обернулся, взвизгнув каблуками по половице, и, уже не помня, что не в своих сенях, топая ногами и брызжа слюной, бешено закричал:
— Молчи, щенок, молчи… — И далее непотребно.
Михаил качнулся навстречу великому князю, готовый руками разорвать слюнявый похабный рот, но как-то сдержался в последний миг. Лишь побледнел еще больше. От одного его взгляда осекся вдруг Дмитрий Александрович на полуслове.
— Лаять будешь — велю зарезать, — сквозь зубы, тихо произнес Михаил.
Великому князю стало жарко, нечем дышать. Со стыдом он почуял, как побежал быстрыми струйками обильный пот из-под мышек и по спине.
— Не посмеешь, — прошептал он.
— Посмею, — ответил Михаил так же тихо, не разжимая сведенных от ненависти зубов. — Я в своей отчине князь.
— Михаил…
— Молчи! А князь великий ныне у нас на Руси сам знаешь кто. — Михаил зло усмехнулся. — Али не так?
Дмитрий Александрович молчал и не смотрел в глаза Михаилу. А тот продолжал уже спокойно-насмешливо:
— Я Тула-Буге[26] дань исправно плачу. А тебе отныне не буду. Я в своей отчине князь! — повторил Михаил.
Дмитрий Александрович с тоской смотрел в пыльное, засиженное мухами слюдяное оконце…
«Уходит, уходит русская власть, как меж пальцев речная вода. Чем ее удержать, каким страхом, какой кровью?.. Нет, я не Андрей. Слаб я, не ту ношу взял, коли Мишка, княжонок тверской, на своей воле поставил…»
Злоба, как олово на огне, закипала в сердце великого князя и опадала бессильно.
«Все взвесили с матушкой Ксенией Юрьевной на весцах, все просчитали: и то, что князья все в раздоре, ждут Андрюшку на владимирский стол, и то, что к Ногаю жаловаться я сейчас не пойду — и там брат путь перешел, и то, что Орде я как бельмо на глазу, только руки до меня не доходят…»
— Выходит, откладываешься от Руси? — спросил он, не поднимая глаз.
— Не от Руси, Дмитрий Александрыч, — от тебя.
— А как я с другой силой приду?
— Что ж, приходи. — Михаил усмехнулся. — Сможешь — возьмешь.
— Н-да, Михаил Ярославич… Я ведь хотел в тебе друга найти, — сказал вдруг великий князь.
— Так-то друзей не ищут, — удивился Михаил.
— Всяко бывает, не знаешь еще. — Дмитрий Александрович пояснил: — Припугнул бы — глядишь, и поладили. Я ведь не для себя корысти ищу, — начал он с жаром.
— Припугнул — довольно! — оборвал его Михаил.
— Да. — Говорить было не о чем.
Михаилу стало вдруг жаль старика, и он сказал:
— Только знай, великий князь Дмитрий Александрыч, еще раз зажжется на Тверь идти — подумай. Ворота я тебе все равно не отворю, но уж опоры на Твери не ищи.
В этих словах Михаила был малый путь к примирению, почти невидная стежка, однако Дмитрию Александровичу теперь оказалось довольно и ее, и он охотно по ней пошел.
Покоренная Тверь была нужна великому князю прежде всего как союзник в возможной войне с Андреем, которой он ждал и боялся. А и непокоренная Тверь оставалась важна для него в раскладе всех русских сил, разумеется, при условии, что Михаил возьмет его сторону.
— Ладно, князь, будь по-твоему… — Дмитрий Александрович вздохнул. — Но и ты, Михаил Ярославич, дай поруку со мной быть против Андрея.
— Обещаю против тебя не идти, — глядя великому князю в глаза, твердо сказал Михаил.
— Безумен он… — начал было опять Дмитрий Александрович о том, что мучило его больше всего, но Михаил снова прервал его:
— Знаю. Потому я ему не помощник. Но и за тебя Тверь под татар не поставлю. Так что ты уж сам с ним реши.
По глазам Михаила Дмитрий Александрович понял, что боле ничего не добьется.
— Ну, прости, Михаил Ярославич.
— Ты прощай, Дмитрий Александрович. — Михаил склонил голову, отдавая должное великому князю. А когда Дмитрий Александрович повернулся уйти, спросил — Брат, кто отца погубил?
Великий князь остановился, вздрогнув спиной, медленно повернулся и глянул Михаилу в глаза. Взгляд его был насмешлив.
— Вон ты о чем… — Он помолчал, а после просто ответил: — Не знаю, Миша. — И усмехнулся, впрочем не отводя взгляда. — Много на мой счет чужих грехов кладут, но этот на себя не возьму. Я отца твоего не травил.
— Не о тебе речь… — Впервые за разговор Михаилу стало неловко, муторно — тяжело ему давалось пытать. — Знать мне надо… Он же у тебя на лодье, на руках твоих помер!
— Так, — согласно кивнул Дмитрий Александрович. — Пили из одной братины, хлеб один ели… — Он помедлил, словно сомневался, говорить или не говорить. — Думал я про то, Михаил. Однако не знаю! Да и хмельной я был, пир-то уж к концу шел, когда Ярослав вдруг вскочил, схватился за горло, ну и пена у него ртом пошла, вроде как отравили.
— Кто?!
— Сам знаешь — на меня указали! — Дмитрий Александрович дернул шеей, похоже, как брат Андрей, и выдохнул: — Богом клянусь, я своим родичам кровь не лил! Не травил я его!..
Обеими руками великий князь сильно потер виски, будто сгоняя боль. Потом спросил:
— Неужто Ксения Юрьевна мне не поверила?
— Матушка тебе верит. И я знаю, что не ты это. Иначе б не говорил с тобой. — Михаил отвернулся к окну. — Только если ты понял, что отравили, как же ты не дознался? Неужели и догадки не было никакой?
— Догадка потом пришла…
— Ну?!
Дмитрий Александрович словно взвешивал, стоит ли открываться. А затем, видно взвесив, спросил:
— Жив Ратибор-то, новгородский пес?
— Жив, и что?
— А ты у него спроси.
— Что?
— То-то и оно — что? — Дмитрий Александрович подошел к Михаилу вплотную, так, что стало слышно его дыхание.
— Сдается мне, не просто так его тогда татары на лодью в кровавых тряпках закинули.
— Так его же отец откупил, — возразил Михаил.
— Не знаю, — великий князь с сомнением покачал головой, — пойди-ка неверного доносчика откупи у татар. Мне Ярослав-то про откуп не говорил. А помню, он нарочно сам удивлялся, что Тимурка его холопу жизнь сохранил. Зачем?
Михаил молчал.
— То-то… Да больно скоро он зажил-то после пыток. Слышал, поди, как в Орде-то пытают? — Он знающе, уважительно хмыкнул. — И на кой они ему другой глаз не выкололи, а? Шибко милостивы, вот что скажу! — Дмитрий Александрович еще приблизился и прошипел Михаилу в самое ухо: — Видать, нужен им был его глаз, раз оставили.
— Что ж ты раньше-то не сказал?!
— В горячке не подумал тогда. Да глаз еще этот смутил, разве сразу подумаешь?! — Дмитрий Александрович махнул белой, вялой рукой. — Потом уж… А вроде и ни к чему, и забылось, и не докажешь. Да ведь врагов еще много: коли стал бы я про то поминать, против меня бы и обернули… Так что, коли жив Ратибор, ты уж сам поспрошай у него.
Михаил глядел на князя, но не видел его. Перед ним стояло жалкое лицо Ратибора, резаные, дряблые щеки, глаз, во всякое время готовый закапать слезами…
— Знай, Михаил: у князей врагов много. И не тот враг, что на виду, а тот, кто руку твою, как пес, лижет, — издалека пришли слова Дмитрия Александровича. — Ты уж поберегись, брат, тебе править долго.
— Поберегусь, — отозвался Михаил.
Прежде чем уйти, великий князь все же еще спросил:
— Что ж, не поможешь мне против Андрея?
— Против тебя не пойду, — повторил Михаил.
— Мало мне того, Михаил! — в сердцах крикнул Дмитрий Александрович и стукнул себя кулаком по ляжке.
И Михаил, не сдержав досады, снова сорвался:
— Да где ж тебе больше взять? Всю-у Русь вы с братом на ножи поставили!..
— Не тебе винить! — крикнул великий князь и, не простившись, кривя и забирая по половицам высокими сапогами из желтой скоры, пошел из сеней.
Михаил сидел на лавке, привалившись спиной к стене, вытянув ноги и уставившись взглядом в изжелта-белый древесный узор на полу.
За дверями давно уж покашливал воевода.
— Войди! — крикнул наконец Михаил.
— Там, княже, ростовский Дмитрий сильно бьется к тебе.
— Пусть ждет, — не поднимая глаз, сказал Михаил. — Отвори слюдяницу, душно.
Помога Андреич кинулся к окну исполнять. Трудно было предполагать в нем проворство — так он казался нетороплив и дороден. Однако Михаилу сызмала было любо глядеть на воеводу, все у него получалось сноровисто, чего б он ни делал: голубей ли по небу гонял, сбрую ли рядил лошадиную. Да что там! И возок застрявший из грязи помогал вынимать, а уж мечом управлялся, как древодел топором… Однажды маленький княжич на озере в прибрежной траве нечаянно поймал руками золотого карасика. И так тот карасик стал ему мил, что он ни за что не хотел с ним расстаться. Не долго думая, Помога сомкнул ладони, зачерпнул в них воды и так, как в ковше, донес карася до двора. Ни капли с рук не сронил. А шли-то от самого Отроча, верст пять, поди, будет. Все лето, покуда Михаил про него не забыл, плавал карась в замшелой кадушке.
«А ведь не мог тот карась так долго жить», — догадался вдруг Михаил, отчего-то вспомнив сейчас совершенно не к месту то давнее лето.
— Помога, ты карасей-то менял?
— А, князь? — Тот обернулся удивленно, на лице иконной эмалью синели большие, как у девицы, глаза.
— Квасу пусть принесут, говорю.
— Может, меду? — озаботился воевода.
— Квасу, Помога.
Помога, неслышно ступая, быстро двинулся к двери. Ему очень хотелось узнать, на чем князь покончил с Дмитрием, однако спросить не решался — больно был хмур Михаил.
— И вот что еще, слышь, Помога, — князь наконец оторвал от половицы глаза, — немедля верных людей пошли на засеку. Пусть скажут, князь велел в Тверь возвращаться.
— Понятно, — кивнул Помога, а про себя удивился — дело было неспешное.
— Да накажи им, чтоб с Ратибора глаз не спускали.
— Понятно, — снова кивнул Помога.
— Чего тебе понятно? — спросил Михаил.
— Ничего, — тут же согласился Помога.
И оба вдруг улыбнулись оттого, что так хорошо понимали друг друга.
Напряжение, в котором Михаил пребывал в последнее время, сделалось невыносимым душе. Да и душа его еще не окрепла и все ждала радости…
— А с Дмитрием-то, слышь, Помога, — Михаил не удержался похвастать, — вышло по всей моей воле!
— Неужто? — Масленым блином расплылось круглое лицо воеводы.
— А то! — И Михаил не удержал счастливой улыбки. — А ты говоришь — на медведя…
— Эх, князь! Какое дело-то! — Помога мял свои сильные руки, не зная, куда их деть, и все повторял: — Дело-то какое, эх, князь!
— Квасу-то дашь ли?
— Квасу! — с ревом ринулся из сеней воевода…
Лицом ростовский князь Дмитрий Борисович походил на оплывший воском свечной огарок. Узкая вверху голова книзу раздувалась широкими скулами и толстыми, красными от усердия к меду и жирной пище щеками. Да еще, разметанная аж по плечам, добавляла ему широты бородища, росшая от ушей подсолнечным полукружьем.
— Так что, Михаил Ярославич, — Дмитрий Борисович ласково улыбался, — виниться пришел.
— Винись.
Дмитрий Борисович удивленно вскинул рыжие бровки: ишь ты, суров Ярославич! То-то великий князь выскочил от него, как из мыльни…
— А и повинюсь, коли виноват! Только мы, Михаил Ярославич, соседи с тобой, распри промеж нас никогда не водилось. А то, что пошел на тебя, так ведь вестимо, великому князю служим…
Михаил досадливо передернул плечом:
— Говори, чего просишь.
— Что ж, своего прошу — не чужого. Отдай, Михаил Ярославич, Кашин, не наноси урона! — Он смотрел на Михаила детскими, будто пустыми глазками, в которых не углядеть было хитрого, расчетливого ума. — Ить кашинцы-то тебе открылись!
Михаил усмехнулся:
— Как не открыться — соседи.
— Дак и я говорю, соседи… — Дмитрий Борисович вдруг рассыпчато рассмеялся и подмигнул Михаилу: — А нам с тобой, может, еще и кашу вместе варить придется, больно ты мне по ндраву! А и дочки у меня — загляденье, что Анна, что Василиса…
— Про кашу не скажу, невесты еще не искал. — Михаил немного смутился от того, как неожиданно повернул разговор ростовский князь, но строгости не терял. — Города я твоего не трону, а ты мне за то триста гривен серебром откупа дашь.
— Триста! — Дмитрий Борисович всплеснул руками, как моль пришиб. — Я отроду столько с Кашина не имел!
— Ростов велик, найдешь! — отрубил Михаил.
Дмитрий Борисович притворно вздохнул, мол, какое уж там богачество! А в душе возгордился: велик-то Ростов его умом да усердием. Если б еще брат Константин пристяжным ровно шел, а не рвал на сторону. С деньгами-то и при татарах жить можно…
— Не убавишь ли, князь? Поход один сколько добра унес!
— А ты не ходил бы.
Дмитрий Борисович по свойству сребролюбивой души кривил ею даже перед самим собой. Одну цель он уже поразил походом: накануне его, никто про то еще и не знал, Дмитрий Борисович просватал старшую дочь Ульяшу за сына великого князя Ивана. Оттого и вынужден был поддержать свата в походе против Твери. Этот бесславный, но и бескровный поход, считай, и встал ему за дочкой в приданое. А дома-то еще две дочки на выданье!..
Дмитрий Борисович аж зажмурился от удовольствия, что так приятно повернул разговор с Михаилом. А то, что тот замялся покуда, — это все пустяки, да и что он скажет без Ксении Юрьевны? Хорошего-то жениха сыскать тяжело, а сосватать дело нехитрое. Уж он-то с Ксенией Юрьевной торговаться не станет. А союз с высокородным тверским князем многое обещал в будущем и Ростову — это Дмитрий Борисович понимал. Ему уж и денег было не жаль, будто платил сам себе…
Однако для порядку он еще несколько времени загибал на руках пальцы, хмурился, сокрушенно качал головой, а потом вдруг легко согласился:
— Ладно, князь, будь по-твоему, — и весь подался навстречу, растаял хомячьим лицом, как воск от огня. — Право слово, больно ты мне по ндраву, привязался к тебе, как к сыну родному! И матушке то скажи… А уж оплошки моей не помни…
Знал Михаил цену его словам, а не мог не порадоваться, даже лицом посветлел:
— И я зла за собой не держу.
Прощаясь, Дмитрий Борисович посерьезнел:
— Вот что, Михаил Ярославич, дело, конечно, дальнее, а я ведь тебе не на потеху про дочек сказал. — Михаил хотел было возразить, но Дмитрий Борисович не дал. — И матушке то передай от меня с поклоном: коли сватов пришлет, отказу не будет.
На том и расстались. Но в дверях ростовский князь обернулся — совсем было выскочило из головы:
— Да, Михаил Ярославич, еще тебя о малом прошу — отдай переметчика.
— Откуда прознал? — удивленно спросил Михаил, сразу вспомнив Тверитина.
— Рыжий зело — приметен!
— Не холоп он, волен себе князя искать. А коли ко мне прибился… я своих людей не сдаю, — сказал Михаил.
— Верно говоришь, не холоп, — согласился Дмитрий Борисович. — Однако он от меня с-под суда ушел.
— Как от тебя?!
«Соврал-таки рыжий. То-то мне давеча не поверилось! Зачем только? Весть-то все же донес…»
— От меня… — подтвердил Дмитрий Борисович и пояснил: — Татарчонка, сына баскакова[27], загубил без вины.
Дело было, видать, серьезно. «Ишь как весь искрутился…»
— Помога!
Помога Андреич неслышно возник у дверей.
— Ефремку этого… отдай вон князю.
— Тверитина, что ли? — недоуменно переспросил Помога.
— Ну… — выдохнул Михаил.
Помога не смел возразить Михаилу, но и не торопился выполнять приказание — нарочно мялся в дверях. И что-то остановило князя:
— Постой, Помога, ко мне его сначала веди…
— Эвона что, Тверитин!.. — ухмыльнулся Дмитрий Борисович.
Впрочем, это недоходное дело уже не волновало его. Сердце ростовского князя грело другое: как ловко он девок своих просватал! Это же надо иметь такой ум! Одно было нехорошо: кому рассказать — не поверят, что он у Кашина с обоими супротивниками свадебные каши заваривал…
Ефрем косо поглядывал на князя, не в силах долго выдерживать его взгляд.
— За что убил, спрашиваю?
— Не об милости прошу — отдай меня, князь.
— За что убил, говорю? Что, железом тебя пытать?
— За девку.
— За девку?
— Свадьба у нас должна бы… А здесь баскаков сын скараулил ее и свез… Утром, битую до смерти, кинули отцу под ворота. Другим на страх…
— А как дознал, что он это?
— Люди видели, не тайком увозил.
— Князь, выходит, не твою сторону взял?
— Девок много, а у Баталки один был сын… — Скрипя зубами, Ефрем покачал головой. — Отдай меня, князь. Не отступится Дмитрий, он с баскаком с одной чаши пьет.
— Молчи!.. — Михаил кивнул воеводе: — Поклонись от меня ростовскому князю да передай, что мой пасынок Ефремка Тверитин ищет поля на своих обидчиков, коли такие есть.
Помога, перхая горлом, пятясь и в поклоне скрывая смех, исчез за дверями.
— Князь! — Ефрем упал на колени.
— Молчи! Бог над теми, кто в поле смерть ищет, коли соврал — подохнешь…
В прежние времена с поединка зачинали, а ныне заканчиваем — смеялись по обе стороны. Радостно было и тем и этим, что воевать не пришлось; а и обиды не было никакой! А тут еще тверской князь потеху придумал: стравить молодцов на поле!
Ефрем пошел от своих рядов на той же каурой кобылке. Как был в одной рубахе, так и пошел, будто на смерть. Из оружия лишь меч в руках, да из сапога рукоятка ножа торчит. Ладно в последний миг кто-то щит ему сунул…
От ростовцев на вороном жеребце, бросавшем с губ желтую пену, в круглой мисюрке[28] вышел, видно, баскаков нукер[29]. Пригнулся до гривы, уши коню прикусывает, ярит, но ходу пока не дает жеребцу. Сабля в ножнах, в одной руке копье. Наконец над полем пронесся тонкий пронзительный визг — татарин дал коню повод. Только рваная трава и земля летят из-под копыт жеребца.
Ефремова лошаденка топчет землю на месте, млеет, оседает на задние ноги. Тверитин одновременно бьет ее ногами под брюхо, а уздой задирает морду, не дает сойти с места.
Замерли крики в рядах — сомнет сейчас нукер ростовского переметчика!
— Ох! — охнули разом тысячи.
Перед оскаленной мордой жеребца, когда татарину оставалось лишь ткнуть копьем, Ефрем вдруг отдал кобылке поводья, и та не по-лошажьи, а как-то по-заячьи прыгнула в сторону. Нукер пронесся мимо… Но тут же развернул жеребца и вновь пошел на Ефрема. Правда, теперь он шел Ефрему не в лоб, а обходил его лошадь сзади. Ефрем же, потеряв поводья, казалось, не мог управиться с лошаденкой и оставался совсем беззащитным. Не более чем с пяти сажен, коротко взвизгнув, нукер послал копье в его неприкрытую спину. Как миновало оно Ефрема, никто не понял. Ветром упал он с лошади и успел откатиться — кобылка с пробитой шеей замертво рухнула, где стояла.
— Ах! — вырвался общий ликующий вздох оттого, что малый снова остался жив и зрелище не кончалось.
А татарин уже не спеша, сдерживая коня, наезжал на Ефрема, который отступал, пятясь и прикрываясь щитом.
Взломав щит, взявший все же удар, сабля на излете упала на уключную кость.
— Эха… — скривился Тверитин, услышав, как ломится кость под ударом. Скосил глаза и увидел, как вздымилось покуда бескровное, белое на разрубе мясо.
Щит рука уже не держала, висела бессильно. Пора было и помирать.
Но когда в новом заходе ордынец пошел на Ефрема, тот, не дожидаясь смерти, что есть силы бросил меч здоровой рукой прямо в морду коня. Обезумев от боли, будто сунулся в огонь, конь взвился и скинул наземь не ожидавшего того седока… Подняться ордынцу Ефрем не дал. В кособоком, прыжке он упал на него, придавил грудь и, выхватив засапожник, ткнул им в открытую, напрягшуюся всеми жилами шею татарина…
Когда подбежали, татарин еще хрипел, закатив глаза и пуская губами розовые, как и у православных, кровавые пузыри. Прежде чем его унести, ростовцы подождали, пока он доскребет ногами последние шаги по земле. Удар оказался точным — мучился татарин недолго.
Тверитина взяли тверичи.
— Живой? — подскакал навстречу Помога Андреич.
— Дышить!
— Живой я! — сказал Ефрем.
— Что ж ты, так тебя так, князю не повинился? — рассердился Помога.
— Так боялся…
— Гля-ко, какой пугливый! — изумился воевода, и вокруг засмеялись. — Князь велел — живи! Помогай тебе Бог. — Помога Андреич огрел коня и скоро поскакал к Михаилу.
5
Игнаха очнулся от холода. Скинул с себя ломаные березовые ветки, под которыми, оказывается, спал. «Зачем это? — подумал он. — Тепла от них никакого, а царапают не хуже чертей…» По-стариковски кряхтя, выбрался из неглубокой ямы, вырытой зверем для недолгой отлежки. Сильно, так что не наступить, болела нога. Не отходя от места ночлега, Игнаха справил нужду, высморкался под ноги темными, кровавыми сгустками. В чистых ноздрях тут же остро и горько запахло лесной прелью и близкой гарью. И сразу вспомнилось, что случилось вчера…
С утра всем двором они пошли в луга у Десны на покос и до полдня ворошили сено, сгребали его в копенки, а потом метали стога. Один стог получился большой, как изба. Но вначале, когда стог только стал чуть поболе копенки, отец поставил Игнаху наверх, чтобы там, наверху, он принимал, укладывал и приминал навильники сена, которые снизу подавали ему родители. Мамка, по слабости или жалея его, на вилах сена давала клок, отец же, напротив, накручивал такие охапки, что рук обхватить не хватало.
Пока не приморился совсем, Игнахе было весело наверху. Душистая травяная пыль лезла в нос, в глаза, налипала на потную кожу, но с каждым навильником, вроде бы медленно и незаметно, стог становился выше, и вместе с ним над мамкой и отцом рос Игнаха. Сестренка Фрося, с головкой в белой косынке и в белой же посконной рубахе, малыми деревянными грабельками тоже сбивавшая сено, со стога вовсе казалась маленькой перевалистой утицей. Поначалу-то, прыгая на упружистом, колком сене, Игнаха дразнил ее, звал к себе, а она и вправду запросилась к нему, заревела — и тятька пообещал перетянуть его поперек седелки лозой, как закончат работу и он ужо спустится. Конечно, Игнаха отстал от сестры. Да и некогда стало — вил-то у матери с отцом двое, а рук еще — больше — ему только успевай поворачиваться, а чуть промедлишь, зевнешь или зачихаешь от сладкой пыли, уж тычут снизу сразу обе охапки, не знаешь, какую вперед хватать. Мамкину схватишь — значит, ленив, а тятькину схватишь — мамку жалко. Пока с тятькиной-то охапкой управишься, сколько она так с вилами-то поднятыми вверх простоит! А мать с отцом уж не смеются, не говорят ни про что — только мечут. Фроське одной хорошо: заснула себе в теньке и даже есть не просит…
И то: протянули с сеном! Иные уж сенники под стрехи забили, а тут со дня на день, того и гляди, дожди полоснут… Отец в этот год вместо поля пристрастился к охоте. Чуть свет — бежит в лес силки проверять. А что в тех силках! Одни только зайцы, и те без нагула, не набравшие жира. Косулю, правда, как-то добыл, вот сладкое мясо! Мать вечно ему говорит: охота дело удачное, от счастья зависит, а лучше, говорит, вначале поле убрать ко времени, муки на хлеб намолоть да сена на зиму напасти, чтобы корове жрать чего было, а силки-то ставить — дело нехитрое, можно и зимой заниматься, как другие-то мужики. Только ведь с отцом не поспоришь…
Игнашка совсем очумел от работы, пот глаза застит, всему телу колко от сена и щекотно, а отец молчит да вилы с сеном сует. Знает, что промешкал, теперь дождя боится — торопится…
Вот тут и увидел Игнашка верховых на деревне. Сначала подумал — причудилось, уж больно их было много, столько-то и не видал никогда! Хотел было перекреститься, да руки охапку держали. А здесь и шум услышался…
— Чего там, Игнаха? — спросил отец.
Игнашка и сам не знал, почему ответил так, как ответил:
— Татары! — закричал он и как был, с охапкой в руках, скатился со стога.
А от деревни уже скакали к реке.
— А-а-а!.. — заметалась вокруг стога мать.
— К лесу, к лесу бегите! — закричал что есть силы отец.
Мать схватила спящую Фроську, прижала ее к груди и неловко, тяжело побежала. Отец большими скачками, не выпуская из рук вил, кинулся следом. Скатываясь со стога, Игнаха подвернул ногу и теперь, подвывая от страха и боли, ковылял позади.
— Да скорей ты, черт! — обернулся отец.
— Не могу! Ногу больно!.. — непритворно захныкал Игнашка.
— Ах, кат!.. — выругался Романец, вернулся к Игнахе, кинул вилы на землю и, подобно тому, как из леса нес на плечах косулю, закинул сына животом поперек мощной шеи, нагнулся за вилами и побежал, придерживая Игнаху одной рукой.
Впереди кричала от страха проснувшаяся Фроська у матери на руках.
— Да не орет пусть, скажи!.. — задышливо прохрипел отец, догнав мать.
— Не добегу я, Роман!
— Беги!..
Они бежали к лесу от реки через покос и дальше вдоль деревенской обжи, огороженной тыном. Зеленой густой стеной спасительный лес стоял рядом, всего в ста саженях от края обжи. Даже малые дети, не говоря уж про таких, как Игнаха (а ему исполнилось десять), знали, что татары не любят густых деревьев.
От тех, что скакали к реке и которых увидел Игнаха, они бы еще ушли, однако через обжу, засеянную густой, низкорослой пшеницей, маленький, как показалось Игнахе, на маленькой же лошадке, в меховом малахае, скалясь веселой мордой, наперерез им мчался еще один…
Видно, отец все-таки обогнал татарина. Успел донести сына до первой ямины. Последнее, что помнил Игнаха, как отец, свалив его с шеи в яму, молча замахнулся вдруг кулаком…
Игнаха ощупал ногу. Ступня, конечно, опухла, но через боль, одним носком, ступать было можно. Лапоть с ноги он скинул, снял и вязаное копытце[30], поддернул порты и, ломясь сквозь густой подлесок, пошел к деревне.
Там, где еще вчера стояла деревня, дымили, догорая, кострища. Семь кострищ — по числу деревенских изб, не считая житниц, сенников да хлевов, уже отгоревших. Дым стелился белым туманом над обжей, как пар над рекой, не поднимаясь к небу, обещавшему дождь. Пока Игнаха стоял с краю леса, оглядывая пожарище и боясь к нему подойти, дождь как раз и закапал, но меленький, слабый, такой, что в летний день и пыль не прибьет.
Наконец Игнашка тронулся с места. Но, отойдя от опушки всего шагов тридцать, снова остановился. Перед ним, вытянувшись всей длиной по земле и уткнувшись лицом в траву, лежал мужик в тятькиных ноговицах. И лопотина на мужике отцова была: холщовые порты и безрукавный волчий кожух. Над головой мужика вились утренние бодрые мухи.
«Помер тятя!» — догадался Игнашка.
Он перевернул тяжелое мертвое тело на спину. За ночь тело продрогло, покрылось росой, и пальцы скользили, касаясь влажной, холодной кожи. Высунув длинный синий язык, выпученными глазами отец смотрел в небо мимо Игнашки. Руки его сплелись на горле скрюченными, уже закостеневшими пальцами, как будто он удавил себя сам. Из-под пальцев тянулся в траву обрубок крепкой волосяной веревки…
Игнашка понял, как было: отец, видать, в той яме нарочно пришиб его кулаком, чтобы он, если б стали искать, не выдал себя невзначай каким чихом, а сам, забросав яму сверху ветками и листвой, пошел выручать мамку с Фроськой. Тут его, значит, с коня татарин и захлестнул петлей. Да, видно, сильно, не по-хозяйски поволок, отец и задохся. А может, и не нужен он был ему в плен-то — старый. Татары старых-то не берут.
Его бы, Игнашку, поди, увели…
Игнашка вспомнил, что у отца были вилы. Оглянулся назад. И правда, вилы валялись неподалеку, просто сначала он их не приметил. Игнашка вернулся, подобрал вилы, положил рядом с отцом. Потом с трудом расцепил жесткие руки старого Романца. Ворочая мертвое тело отца с боку на бок, освободил из-под него кожушок и тут же надел на себя. Отцу кожушок едва прикрывал поясницу, Игнашке полы доставали до колен. Сразу теплей, конечно, не стало, только зубы застучали сильней, выпуская озноб из нутра. Однако хоть дождик рубаху теперь не мочил на плечах. Затем он стянул с отца ноговицы, но переобуваться не стал. Во-первых, болела подвернутая нога, во-вторых, ступни у него против отцовых еще не выросли; ну, а впрок, глядишь, подойдут. Подумал немного и снял через голову оловянный нательный крестик на махристой тесемке. Еще поглядел, чего взять? Да более оказалось нечего…
Попробовал было прикрыть тятьке глаза — чтоб не смотрел, но, выпученные от удушья, жесткие и склизкие под пальцами, как стекло у девок на бусах, не закрывались они. Руки хотел сложить на груди, как делали бабы покойникам, но и они, костяные, не поддавались, снова тянулись к горлу. Будто отец не хотел, чтобы его еще беспокоили.
Игнашка вздохнул, связал ноговицы тесемкой от отцова креста, перекинул их через плечо, нагнулся, подобрав вилы, и зашагал к деревне.
Сильно хотелось пить.
«Воды во мне совсем нет — плакать по тятьке нечем, — объяснил себе Игнашка отсутствие слез, таких нужных людям при смерти близких. — Зря, что ли, бабы-то воют?..»
Впрочем, жалости к отцу или же к сгоревшей избе в нем действительно не было. Может, еще и оттого, что после вчерашнего находился он точно в угаре.
Прошлой зимой, когда он чуть не до смерти угорел в натопленной сильно избе (сам и печку топил, сам и вьюшку прикрыл прежде времени, а мать с отцом как раз в Чернигов Фроську крестить носили), целую седмицу, а то и больше, мать его потом одним молоком поила, а он только кашлял да спал. После того угара Игнаха долго еще и среди белого дня засыпал. И сон ему снился всегда один: будто маленькие, в рыжей курчавой шерстке, но с лысыми рожами бесенята бились к нему из тьмы, давили на грудь, царапались острыми коготками, тянулись к горлу, дышать не давали. Боязно вроде, мерзко, а все же спать было лучше, чем жить. Вот и сейчас Игнахе хотелось лечь рядом с отцом и заснуть. Но было зябко. А оттого, что вспомнил, как мать поила его молоком, пить захотелось еще сильнее, и он скорей зашагал к деревне.
«Воды бы хотя бы…»
Среди тех, кто встретился ему на пути, живых жителей Игнаха не нашел никого. Первой, кого он увидел, была старуха Евдоха, страшная Игнахе при жизни. Ее и взрослые мужики боялись за волховство: наговором, припарками, травяными настоями всякую хворобу снимала Евдоха. А коли снимала, так могла и наслать, — так про нее говорили, а потому двор Евдохин обходили без нужды стороной. Теперь она лежала на темной от крови земле, разрубленная косым сабельным ударом напополам, вывалив из живота требуху, которую уже растаскивали собаки.
Собак-то в деревне осталось мало: рыжая сука Сухорукова Спиридона, глупая и брехливая, да волчьего окраса кобель, приблудившийся к Евдохиному двору этим летом. Он-то и вытягивал сейчас из Евдохи какую-то склизкую на вид, переливчатого темно-синего цвета кишку, ощеря на Игнаху белые зубы и капая с морды кровью.
Рыжая сучонка, видно обрадовавшись живому человеку, поджав вертлявый хвост к животу и виляя мосластым задом, с визгом кинулась ему под ноги. Ее рыжая пасть тоже была перепачкана кровью.
«Ишь, ласковая…» — подумал Игнаха и, еще не зная, что сделает в следующий миг, присел над собакой, будто хотел потеребить ее за ухом. Она сама перевернулась на спину, подставив грязное брюхо с оттянутыми, сморщенными сосцами, прикрытое лишь хвостом. Поглаживая сучонку по шее, внезапно Игнаха одной рукой сжал ее горло, другой же, перехватив вилы у самых зубьев, с силой ударил псину в мягкий живот. Вилы прошили ее насквозь. Бешено, пронзительно завизжав, она попробовала перевернуться и встать на лапы, но только глубже налезла тельцем на зубья.
— Скусная мяса-то? — спросил у нее Игнаха и с трудом освободил вилы.
Еще живая, она поползла от Игнахи прочь, визжа и оставляя кровавый след на траве. Он не стал ее добивать, а, перехватив вилы, повернулся навстречу серому кобелю. Не соступив с мертвого тела и не выпустив из пасти кишку, прижав к башке уши, тот молча, не мигая, смотрел на Игнаху. Игнаха хотел приблизиться к нему настолько, чтоб можно было достать ударом, но пес показал, что готов к отпору. Припав на передние лапы и пригнув к ним башку, с медленным, тихим рыком кобель по-волчьи поднял верхнюю розовую губу и сморщил нос, обнажив клыки и мелкие передние зубы.
— У, волчья пасть! — Игнаха издалека погрозил ему вилами и тронулся дальше…
В прогоне меж избами, закинув бороду к небу, лежал мужик Спиридон Сухорукий. Далее девчонка тетки Марьи, Анюська. Ее стало жалко — видно было, как больно она умирала. В густых лопухах у плетня будто заснул старый горбун Степан; рядом на тропке, отрубленная по плечо, лежала его рука, все еще сжимавшая горстью костлявых пальцев рогатину… Встретились и другие. Однако сестренки и мамки не было среди них.
Наконец он дошел до колодца. Колодец в деревне был неглубок, Десна текла рядом. На приступке, как обычно, стояла долбленная из дубового дуплища бадейка. Он хотел зачерпнуть воды, заглянул в колодец и отшатнулся: по самый верхний венец бревенчатого сруба колодец был забит порубленными телами…
Здесь что-то с Игнашкой, видно, случилось. Чего — он не помнил, потому как очнулся рядом с тем же колодцем лишь в новых сумерках.
Игнашка поднялся не сразу. Сначала попробовал поплотнее закутаться в кожушок, укрыться в нем с головой, чтобы согреться и, может быть, снова заснуть. Длинные волчьи шерстины щекотали щеки и нос, надышанное тепло уходило сквозь дыры, а от земли несло влагой и холодом. Спасительный черный сон больше не возвращался. Он подтянулся повыше, присел, привалившись спиной к колодезному срубу. Бревна были теплей, чем земля.
Дождик, проморосивший весь день, пригасил все огни на кострищах — нигде и дымка не курилось. Сбоку чвякнуло что-то, как чвякает под ногой болотина. Игнашка повернул голову. Шагах в семи от него сидел серый кобель — тот, что давеча жрал Евдоху. Он опять мокро и сыто чвякнул пастью, выкусив с брюха репейник или блоху, и повернул лобастую волчью башку на Игнашку. Хвост его медленно, приязненно поволокся из стороны в сторону по лысой, вытоптанной у колодца земле.
— У, пасть… — Игнашка хотел плюнуть в собаку, только слюны во рту не нашел. И тут же вспомнил, что еще утром он больше всего хотел пить. Он тяжело, опять по-стариковски кряхтя, поднялся — от долгого лежания на холодном и жестком мышцы ныли, а кости в теле казались чужими.
Удивленно справив малую нужду — откуда еще в нем вода-то? — Игнашка собрал свою худобу, оставшееся имущество: тятькины ноговицы да вилы. Подумав, присовокупил к ним колодезную бадейку и, не оглядываясь, заковылял от деревни натоптанной людьми и скотиной тропой к реке.
Кобель не спеша, бережно неся раздутое бочкой брюхо, на котором обручами выступали жесткие ребра, порысил за Игнахой.
Припав к реке как животное, пил Игнаха долго и жадно. А когда напился до того, что впалое пузо стало тугим и круглым, его охватила дрожь, какая нападает на человека в губительной лихоманке. Игнашка перепугался, что эта самая лихоманка как раз на него и напала и дрожь эта теперь не пройдет, пока не забьет его до смерти. Так вот и дед у Игнахи, когда по весне захворал лихоманкой, дрожал, прямо бился костями об лавку, на которой лежал, покуда отец не вынес его из избы вместе с лавкой на зады огорода, как велела Евдоха. Она и избу приходила потом окуривать кислой травой. А дед и на задах все дрожал, пока не помер. Игнаха нарочно бегал смотреть, как дед помирает, хотя ему и наказывали туда не ходить. Все одно любопытно…
Сидя на берегу, кутаясь в волчий мех и вспоминая о разном, Игнашка незаметно согрелся. Дрожь отпустила. И захотелось есть. Так захотелось, что вместо того, чтобы по гусиному броду перейти Десну и направиться к Чернигову-городу, Как задумал, Игнашка набрал полбадейки воды и вновь поверил к погорелью.
Серый кобель, как оказалось, бывший все время рядом, вынырнул из прибрежных кустов и, помахивая хвостом, будто зовя за собой, побежал впереди.
Он явно одобрял намерение человека вернуться — от еды не уходят…
Страшно жить одному в выморочной деревне. Особенно если ты еще не мужик и прожил-то на свете всего десять лет. Однако страх страхом, но до самой осени, покуда вовсе не пожелтело и не упало под дождями неубранное жнивье, Игнашка не трогался с места. Избив жителей, сведя скот и пожегши дома, татары, на счастье Игнахи, видно, куда-то спеша, разорили не все погребницы. Евдохин мшаник вовсе остался нетронутым, и в нем он нашел просоленную козью полть[31], которой в основном и кормился. Кроме того, в достатке обнаружилось и сбитого в круги желтого коровьего масла, солений и хлебного кваса в кадках. Да на огородах само по себе поспевало обилье лука, репы, гороха, редьки, и даже лакомой монашеской пищи — капусты — было в избытке. Хмельной браги и той хватало Игнахе вдосталь. Распробовал он ее не сразу, однако потом пристрастился. Сначала в голове от нее становилось светло и звонко, хотелось веселья, и тогда, распугивая воронье, слетевшееся на пепелище со всей округи, он орал громкие песни или просто слова, пришедшие вдруг на ум; потом в голове от браги делалось тяжело, томно и скучно, петь уже не хотелось, но зато засыпалось легко и надолго, хоть среди ясного дня.
Спал же Игнашка в земляной норе, которую вырыл среди обугленных, однако не сгоревших до пепла стен Спиридоньевой мыльни. Сперва спал один, затем с кобелем, признавшим-таки в Игнахе хозяина. Пес дышал скоро, надышливо, и в шерсти у него, особливо на брюхе, там, где оставалось голое тело, было жарко даже в самые холодные ночи…
Игнаха иногда думал, что так-то и зиму можно прожить. Хотя больше тешился, сам-то он знал, что, как кончится козье мясо да подъедятся остальные припасы, придется ему идти к людям, в Чернигов-город.
Одно было нехорошо: от колодца такой сильный дух попер, что поначалу аж в голове мутилось и хотелось блевать. Он бы его прикопал, забросал сверху землей, но в тот день, когда как раз собрался этим заняться, со стороны Чернигова подъехали верховые. Игнаха заметил их издалека, а потому успел затаиться. Он-то боялся, что они по его погребницам рыскать начнут. Но верховые только услышали дух, тут же коням дали плети и промчались мимо, морды отворотив. Так что не стал он колодец прикапывать, оставил на всякий случай для запаху.
Да и дух тот потом уж не замечал: то ли он выветрился, то ли Игнаха к нему привык.
6
Необъятен улус, назначенный Чингисханом во владение своему старшему сыну Джучи[32]: от берегов Иртыша до Волги, от «стран мрака» до Хорезмского шахства… Велик улус Джучи, но это лишь малая часть желтой Монгольской империи, простершейся от Китая до Ирана, от Японского моря до Черного. И пределов их царству нет, как нет на земле человека выше монгола.
Всякий мальчик будет умен и богатырь… всякая девушка будет без причесывания и украшения прекрасна и красавица. Никто из подданных империи не имеет права иметь монгола слугой… Так говорил Делкян езен Суту Богдо Чингисхан, Владыка Человечества.
И еще говорил: границы монгольского царства там, куда ступят копыта наших коней…
Сын Джучи, Баты, чтил Джасак[33], а потому, заняв место умершего отца, направил свое несметное войско дальше на запад. Огненным батогом, вразумляющим грешников, копыта монгольских коней промчались над Русью, испепелив цветущие, но разобщенные города. Удушливым дымом горящей человеческой плоти наполнилась Русь от Киева до самого Новгорода. Вступившим в неравную схватку гордым и смелым, однако недружным русичам не было пощады от невиданных доселе свирепых и безжалостных, сильных единством монголов. Бессчетно убивали мужчин, стариков, женщин, младенцев, бесчестили юных и обесчещенных жгли, беременным взрезывали животы, чтобы те в последний миг успели увидеть свое нерожденное и уже неживое дитя. В плен не брали, чтобы и памяти не осталось о народе, посмевшем с оружием встать на пути потомка могучего Чингисхана, наместника Вышнего на земле. Спаслись лишь те, кого не смогли убить от усталости, да те, кто сумел укрыться в лесах… И сто лет спустя видны были минувшие разрушения, и когда-то возделанная земля оставалась пуста и не населена.
Надолго самым страшным, диким словом стало имя тех, кого монголы пускали вперед себя в приступ: татары! Для самих же монголов татарами были все, кого они победили, приобщив в свое царство…
Непросто дался русский поход Баты. Ему пришлось остановить бег коней и на зимовье вернуться в степи. Истрепанное упорным сопротивлением русских, монгольское войско нуждалось в пополнении и отдыхе.
А через год Баты снова пошел на запад. Достиг Венгрии, Силезии, Чехии и Болгарии, Иллирии и Далмации[34], навеяв мрак и ужас на остальной христианский мир. Нашествие это было величайшим бедствием, когда-либо постигавшим человеческий род. А страх перед татарами стал так велик, что Европа готова была принять татар с покорностью, как неизбежное наказание небесное.
Однако Баты по доброй воле с добычей и победой вернулся вскоре обратно в полюбившуюся ему Кипчакскую степь, где он и положил быть ставке своей Орды, названной Золотой.
Скучно в Кипчакской степи русскому глазу. Вперед ли глянешь, назад — всюду одно и то же: небо да степь, степь да небо. Небо белесо и низко от облаков, степь бела и уныла, как бесконечный саван, и не понять, где одно переходит в другое. Хоть раствори глаза во всю ширь, хоть сощурь их — ничего не различить в пасмурной пелене, всюду пусто. А для ордынцев раздолье! Как они только видят своими косыми, вытянутыми узким серпом маленькими глазами на много верст окрест, конный ли, пеший мелькнул на краю окоема, волки ли показались вдали или степные козы?.. А ведь видят! Ишь, то и дело что-то кричат друг дружке, смеются, тычут плетками в белую пустоту. Не зря у них на бунчужных знаменах серый кречет, закогтивший добычу: так высоко над степью парит, что его самого и не видно, его же взгляду доступно все. Видит, где змея проползла по земле, где суслик поднялся над норкой, где птаха прячет гнездо. И в бой идут с визгом — кречет-то тоже клычет, падая с-под небес на наседку, чтобы от одного клекота остановилось в ней сердце…
Санный поезд тверского князя, вышедший из Сарая пять дней назад, то ли в знак особой милости хана, то ли еще по какой нужной причине провожал верховой отряд под началом знатного монгольского мурзы Ак-Сабита. Сейчас его всадники, вздымая легкую снежную пыль, наперегон посылали коней в сторону от укатанного пути. Михаил Ярославич смотрел на них из возка, чуть отвернув тяжелый войлочный полог. Что там?..
— Князь, ты же не старый байбак, иди, промни кости! — смеясь, крикнул по-русски мурза. — Скоро мои нукеры коз погонят. Большой лов будет! Иди! Я тебе лук отдам — первым будешь стрелять!..
Первым стрелять на всякой охоте большая честь, но князь, глядя на красное, обветренное лицо татарина, на иней на его обвислых усах, выходить из теплого возка не хотел. Да и не было у Михаила никакого желания к этой охоте. Только ведь здесь, в Орде, сам себе не хозяин — может, и провожает-то его Ак-Сабит лишь затем, чтобы снять с коня вроде бы случайной стрелой на попутной охоте. Много и ранее слышал о нравах Орды Михаил, много и сам ныне увидел. Но и в возке остаться нельзя — нехорошо. И Ак-Сабит не отстает, скалится:
— Ну что, князь! Айда со мной сайгу бить!
— Ефрем!
Михаил на ходу соскочил с возка, запахнул дубленую легкую шубу, отороченную бобром, затянул широкий серебряный пояс, тяжелый от сабли.
— Сабля-то зачем, князь? Говорю, я тебе свой лук отдам, — засмеялся ханский мурза, развернул вороную кобылку и, указав плетью перед собой в направлении ему одному видного места, крикнул: — Туда скачи, там коза будет…
Затекшие от долгого недвижного сидения ноги кололо морозными, быстрыми иглами. Михаил несколько раз резко взмахнул руками, присел, разгоняя по жилам кровь. Этой осенью в день тезоименинника Михаила Архистратига[35] князю пошел двадцать первый год. Теперь это был не безусый отрок, что-когда-то смущался ломкого голоса, но довольно высокого роста, ладный в плечах уже не юноша, но и не вовсе зрелый мужчина с не стриженной еще бородой, лившейся с лица мягкими русыми прядями.
— А ты бы не ходил на лов, князь. Не верю я им… — Ефрем подвел в поводу задиристого, бойкого Князева жеребца, который терпел рядом только Тверитина и хозяина.
— Да кто ж им верит, Ефрем… — Михаил усмехнулся. — Я скорей вон ему поверю, — кивнул он на жеребца, которого за злой и коварный нрав звали на конном дворе Баскаком. Давая почуять жеребцу свою руку, князь с силой потянул за повод. Баскак хотел было кинуть вверх головой, но Михаил ему не позволил: — Ну, балуй! — прикрикнул он на жеребца и отослал Ефрема. — Лук принеси. Да тот лук-то возьми — дареный!
Большой двойной лук, скрепленный рогом буйвола, с серебряной насечкой, в богатом, шитом золотом налучье Михаилу подарил хан Тохта[36]. Всякий подарок, полученный в Орде, нес определенный, хотя временами и не сразу понятный смысл. В этом подарке загадки вроде бы не было: я тебе верю, как бы говорил хан, и даже даю тебе лук и стрелы на твоих и моих врагов. Впрочем, и самому простому ордынскому подарку, не говоря уж про царский, можно было дать не одно толкование…
Князь сам приторочил к седлу кожаную тулью с длинными нерусскими стрелами, уже расчехленный лук, затем поймал ногой стремя и вскочил на коня. Вместе с ним от обоза в степь ушло около двух десятков всадников: некоторые бояре, Тимохи Кряжева горсть да Тверитин, державшийся ближе всех за Князевым жеребцом.
Ак-Сабита и его спутников Михаил нагнал в пологой ложбине, где оказался внезапно глубокий, аж по конские бабки, снег и не было мучительного беспередышливого степного ветра. Еще издали, обернувшись на шум, Ак-Сабит приложил ладонь ко рту: тише! Значит, загонщики должны были выгнать стадо сюда. Теперь стала ясна хитрость татарского лова. Двумя лучами охватив стадо, загонщикам следовало повернуть его к месту засады. Михаил хотел спешиться, чтобы было сподручней стрелять, однако Ак-Сабит, обнажив в улыбке белые зубы, знаком дал понять, чтобы князь не делал этого: стрелять надо с коня, вырываясь навстречу стаду. Иначе, наверняка почуяв людей, сайга уйдет, свернет в сторону, не приблизившись для убоя — степь широкая, а загонщиков мало. Да, для такого лова загонщиков явно недоставало, нельзя было ждать, что стадо покорно пойдет куда надо. Оставалось надеяться на хитрость татар, удачу и меткость.
Стрелять из лука с городской стены, из башни или стрельницы — одно, стрелять, стоя твердо на крепкой земле в лесу или в поле — иное, стрелять же с коня на лету — совсем уж другое, не похожее ни на первое, ни на второе. Михаил знал: с коней татары метят куда лучше русских, оттого и в сражениях (если это возможно) не любят сходиться в ближний сабельный бой, а действуют наскоком, покрывая небо сотнями, тысячами стрел. Причем можно верить, что почти всякая стрела, пущенная татарином, знает, куда летит. Так, на Калке[37], не понеся урона, воины Джебе-нойона и Субедея через такие наскоки издали перебили во много раз превосходящих их числом русских… Да что говорить, татарчонка в три года привязывают к седлу и в руки дают лук и стрелы! Их женщины и те стреляют с коня, как не всякий русский мужик, — князь видел. Одной сноровки здесь мало, нужна привычка. А русский, что ж русский? Русский больше привычен к пешему строю, к рогатине да топору. Да и конным быстрей спешит в сшибку, чтоб уж в рубке показать свою удаль. Татары — иное…
Михаил решил заранее снарядить лук. Он-то как раз неплохо стрелял с коня. Однако и лук был непривычен руке, и стрелы гораздо, пальца на четыре, длиннее, чем русские. Расстегнув тулью, он вынул из нее искусно оперенную стрелу с долгим кованым жалом. Увидев это, Ак-Сабит беззвучно засмеялся: спешишь, князь!
В молчании прошло не менее часа. Только пар от дыхания коней и всадников едва заметно струился над ложбиной.
Князь спрятал зазябшие руки в мягкие беличьи рукавицы. Нет, не было у него никакой охоты к этому лову. Душой; Михаил давно уже был в Твери…
Сначала думал, что успеет вернуться еще водой — по Волге с последними купеческими насадами, потом рассчитывал уйти из Сарая сразу за Покровом, а вышли-то лишь на Спиридона-солнцеворота, и теперь князь спешил-надеялся попасть домой хотя бы к Рождеству. Так и постановил для себя и ездовым наказал не жалеть лошадей, да навязали на его голову провожатых! Сабит этот только смеется, скалит белые зубы — дружбу показывает, а вся его хитрость как на виду: если за каждым зверем эдак-то по степи бегать, в Тверь и к Крещению не попадешь!
Никак Михаил не думал, что таким долгим окажется его первое посольство в Орду. Тем более выезжал-то он спешно — сам хан его вызывал. Мчались как на пожар: к плохому, хорошему ли — неведомо, но как же, сам белый царь зовет, видеть хочет! Прибыли в начале июля. И чуть ли не два месяца Михаил в Сарае без проку и дела промаялся: ждал, когда светлый Тохта его до себя допустит.
Наконец допустил…
Посреди обширного, мощенного камнем двора, за забором, сложенным из больших плит, вырезанных из розового ноздрястого камня, на высоком древке развевалось белокошное ханское знамя с бунчуками из ячьих хвостов, укрепленных один над одним. На знамени знак Чингисова рода — серый кречет, несущий в когтях черного ворона. Предок Владыки Человечества и Государя Государей Бодунчар, говорят, был беден и жил лишь за счет соколиной охоты.
Вдоль стен двора стояло множество телег с укрепленными на них юртами, готовых тронуться в путь в любой миг. Причем откидным пологом входа всякая юрта была повернута строго на юг. Сам двор оказался столь велик, что мог вместить, наверное, не одну тысячу подданного хану народа. Может быть, из-за ощущения этого огромного, пустого, как степь, пространства сам ханский дворец показался Михаилу не слишком величественным, да и не очень большим. Лишенная праздничной кровельной чешуи русских теремов, без конька и шатровых скатов, круглая обмазанная глиной крыша дворца не тянулась вверх, а, наоборот, словно придавливала толстые стены из дорогого греческого камня, блестевшего на солнце разноцветьем прожилок. В каменном дворце хан проводил дни: принимал послов, гостей, ответчиков по разным делам и собирал диваны — советы с участием самых близких ему людей… Здесь же, неподалеку от каменного дворца, стоял ханский шатер, куда Тохта удалялся лишь с женами, когда на землю спускалась ночь. В солнечный день на золотой ханский шатер нельзя было и взглянуть, как невозможно глядеть на солнце: казалось, само золото, закипая, оплывает по его плавным скатам…
Перед входом во дворец в два ряда стояли ханские нукеры с обнаженными саблями. Так же в два ряда, укрепленные на треногах, дымились сладким дымом металлические закопченные кумирни.
Ни идолам, ни кусту, ни предкам Тохты, ни еще какой чертовщине кланяться Михаилу не предлагали, а сквозь дымы он прошел, читая про себя святые псалмы и сдерживая дыхание. Поклониться татарским идолам и пройти через такие дымы когда-то, еще при Баты, отказался князь Михаил Черниговский[38]. Терзали его за то долго, но, когда уж и голову отсекли, его губы успели еще сказать: «Христианин есмь!» Говорят, сам Баты поражен был стойкостью сего князя и его боярина Феодора, тоже принявшего мученический венец со словами благодарности Господу…
И в самом дворце, несмотря на летнее пекло, прямо на каменном полу горел в очаге огонь.
Тохта принял Михаила в большой, круглой, как юрта, комнате, стены которой покрывал войлок, а полы — дорогие узорчатые ковры из Хорезмского шахства.
В белых почетных одеждах, поджав под зад ноги, хан восседал на высоком приступе, покрытом розовой, расшитой золотыми нитями кошмой. Рядом сидела одна из жен. Другие — жены и наложницы самого хана и жены и первые наложницы братьев-царевичей, некоторые из которых и с малыми ребятами на руках — находились по левую руку от Тохты. Здесь же, как догадался Михаил, располагались и гости. По другую сторону, в богатых одеждах, с презрительными, надменными лицами, также поджав под себя ноги, сидели братья-царевичи, бывшие еще моложе Тохты, и среди них юный Дюдень, которого Михаил непонятно почему, однако, сразу же отличил для себя. Может быть, потому, что его взгляд показался князю наиболее приветливым и открытым. Сидели и другие: знатные орхоны, влиятельные темники, доверенные визири, а также в простых серых и коричневых рясах с широкими рукавами и в высоких колпаках монгольские волхвы и жрецы — бохши и ламы, — к которым Тохта имел особую склонность.
Повторяя в том великого предка, то есть Чингисхана, Тохта говорил, что он равно относится к Будде, Иисусу, Магомету и Моисею, оставляя им возможность бороться между собой за право помогать ему в его свершениях. Душой же он был язычник и шаманист, впрочем веривший в предопределение. Вечно Синего Неба[39]. Потому-то ближе всех к хану сидел могущественный ордынский бохша и волшебник Гурген Сульджидей, без совета с которым Тохта не принимал никаких решений — ни государственных, ни житейских. Именно Сульджидей знал, когда и с кем лучше начать воевать, когда отправляться на охоту, кому из жен или дев понести от праведного Тохты, а кому от небесной молнии. Молоко у верблюдиц и женщин кисло, если хотел того Сульджидей… его безбородое, желтое, как речная глина, лицо всегда было сумрачно, непроницаемо и бесстрастно, как у каменного чудского идолища.
Княжеские подарки — серебро и меха — по описи принял ханский визирь на второй день прибытия посольства. Теперь же Михаил, склонившись перед Тохтой, как требовал того введенный еще Невским обычай, преподнес лишь объемистый серебряный водолей, на откидной крышке которого была отлита голова орла с распахнутым клювом и зелеными камнями-изумрудами, вставленными на место глаз. Кроме того, из рук боярина Яловеги, стоявшего позади, Михаил принял и сложил перед ханом еще и вязку горностаев, да к ногам ближайшей царицы ссыпал золотые колты[40] и кольца, выполненные тверскими умельцами.
Гюйс ад-дин Тохта был молод, может быть, чуть старше самого Михаила. К власти в Орде он пришел два года тому назад, после того, как с помощью хитрого Ногая-ака обманом заманил в западню и убил юного Тула-Бугу и всех его многочисленных братьев. Говорят, Тохта сам, чтобы они не видели своей смерти, покрыл головы тканью сыновьям Менгу-Тимура перед тем, как им милосердно переломили спины…
Тохта, как и всякий простой татарин, носил в ухе серьгу, лицо его было желто и кругло, тонкие черные брови выщипаны, будто у женщины, а длинные жидкие волосы гладко зачесаны назад и связаны там в косицу, отчего казалось, что углы его широко расставленных глаз тянутся кверху следом за волосами. Ни бороды, ни усов Тохта не носил и выглядел оттого еще моложе, чем был. Сначала Михаилу казалось даже неловким открыто смотреть на бритое лицо хана.
Равнодушно взглянув на подарки, перемолвившись о чем-то с бохшой Сульджидеем (не на куманском наречии, которое Михаил уже понимал и без толмача, а на языке монголов), Тохта наконец посмотрел на русского князя и милостиво улыбнулся. Однако первые его слова, обращенные к князю и переведенные ему толмачом, были жестки:
— Отчего ты, князь, не спешил увидеть своего царя? Зачем ждал гонца от меня?
Скулы Михаила покрыли красные пятна.
— У царя много князей, много ему забот обо всех, — ответил он. Помолчал и добавил: — Не думал я, что тебя без дела можно тревожить.
— То не тревога — любовь изъявить… — Тохта улыбался, хотя слова его были полны яда. — Разве я должен тебя просить принять мой ярлык? Разве я у тебя слуга?..
Действительно, вот уже пятый год Михаил сидел на Твери, не имея на то ханского ярлыка. Покуда шла в Орде своя замять — а тянулась она давно, со смерти хана Менгу-Тимура, — покуда его братья и сыновья и сыновья его братьев делили власть и убивали друг друга, татарам было не до Руси. Потому и Михаил, покуда не звали, не спешил поклониться. Довольно того, что с тех пор, как отложился от Дмитрия, сам отправлял в Орду дань, сперва Тула-Буге, затем Тохте.
— Я твой данник, царь. И дань тебе исправно плачу, — сказал Михаил.
Тохта произнес что-то по-монгольски, и вокруг засмеялись. Даже женщины. Толмач перевел:
— Хан спрашивает, а кто ему не платит дани? Хан говорит, русский князь не хочет разговаривать с ханом, потому что русский князь не слышит его вопросов…
Пятна на скулах Михаила стали ярче, но уже огнем непокорства зажглись и его глаза. А позади стояли бояре, отец Иван, учивший смирению, но и достоинству.
— Я не на чужой стол пришел. Я в своей земле отца заместил. А моего отца на великий стол ханские послы Банши и Чевгу сажали, — упрямо проговорил Михаил.
Тохта опять что-то сказал по-монгольски, и все опять засмеялись. Видно, ему нравилась эта игра.
— Хан сказал, что не знает Чевгу, — тоже ухмыляясь царской шутке, перевел толмач.
Но вдруг Тохта переменился, перестал улыбаться. Глаза его смотрели на Михаила будто мимо, так смотрят не внутрь, а сквозь, пусто и безразлично.
— Так что, не нужен тебе мой ярлык? — внезапно по-русски тихо спросил Тохта.
И здесь Михаил не выдержал — опустил глаза.
— Как же, царь, править-то без твоей на то воли? — тихо ответил он.
— Без моей воли править нельзя, — милостиво согласился Тохта.
Правда, потом хан был с Михаилом ласков. Усадил его по правую сторону — не подле себя, но и не далеко. Угостил из своей руки не кумысом, но вином, и даже похвалил перед всеми:
— Хорош русский князь, горячий…
И улыбался дружески.
Даже воспоминания о той похвале, о позорном том дне, когда холопом стоял перед ханом, перебиравшим желтыми короткими пальцами яшмовые кости бус, до сих пор были так мучительны Михаилу, что он заскрипел от досады зубами.
Ак-Сабит понимающе улыбнулся, огладил морду кобылы: тихо, тихо…
Вот так же и Тохта улыбался. Будто знал про Михаила такое, чего и сам Михаил не знал про себя.
Князь отвернулся от улыбчивого татарина, глубже, всем лицом зарылся в мягкий мех высокой бобровой опушки.
«Да что они знают? Будто русские их крови не видели…»
Но то оказалось не последнее унижение. Дальше пошло еще хуже. Каждый день Михаил был обязан являться к цареву двору, высиживать неизвестно чего среди менявших друг друга гостей, не имея права покинуть Сарая, хотя ярлык на тверское княжение с алой тамгой — печатью правосудного хана, он получил неожиданно быстро, чуть ли не на следующий день, как был представлен Тохте.
Тохта то забывал о нем и едва удостаивал сонным взглядом из-под полуприкрытых век, то вдруг души в нем не чаял. Усаживал рядом, поил вином и говорил с ним почти как с равным. Причем в беседах с ним всегда приходилось оставаться настороже — Тохта мог задать самый внезапный вопрос.
То он спросил как-то, отчего Михаил от великого князя Дмитрия отложился? И зачем его не побил у Кашина, коли был сильнее его? Что тут скажешь?
А то спросил, какой из сыновей Невского более других достоин великого княжения.
Михаил и здесь ничего не нашелся сказать, кроме того, что действительно думал:
— Дмитрий Александрович — слаб. Андрей — безумен и зол. Даниил — слишком жаден.
— А сам, князь, не хочешь Русь взять? — спросил Тохта, как всегда улыбаясь и пряча узкие умные глазки в прищуре. — Или не по руке?
— На все воля Божия, — сказал тогда Михаил, чем, наверное, обидел хана, потому что Тохта недовольно отвернулся от него и больше в тот день о Михаиле не вспоминал. Да и к этому разговору больше не возвращался.
Вообще же, судя по вопросам хана о том, что происходит в Руси, было видно, что Тохта очень даже осведомлен о том, что там действительно происходит. И это оказалось удивительно и поучительно для Михаила.
Тохта с дотошностью расспрашивал его о Руси, о взаимоотношениях и родственных связях князей, о русской охоте, о вере, об обычаях и законах…
Причем внимательно слушал и то, о чем наверняка знал достаточно. Потом уже Михаил догадался: не о Руси он пытал его, а самому князю в душу заглядывал. И досадовал потом на себя, на то, что бывал простодушен в ответах, а не умудрялся хитрить…
Случалось же, что Тохта забывал о нем не на день, не на два, а на целые недели. Просто не замечал. И всегда вроде бы ни с того ни с сего — когда не было и малейших причин для опалы. И это особенно мучило и раздражало князя. Тохта вел себя с ним как капризная женщина, которая, взяв над любовником волю, всякий миг всем напоминает ему о своей власти: и тем, что дает, и тем, что не дает, и даже тем, как смотрит. Впрочем, капризы женщины — это одно, а царская милость — совсем другое, хотя и схожи…
Михаил устал от заунывных татарских песен, звуки которых всякий час лились из-за тяжелой парчовой опоны, устал от вина, которое подносила ему, неслышно ступая босыми ногами, всегда одна и та же рабыня в легкой, прозрачной одежде, не скрывавшей тайн и прелестей гибкого тела. Однако, когда в одну из таких недель необъяснимой размолвки Михаил попробовал не прийти во дворец, за ним тотчас прислали:
— Великий хан спрашивает, заболел ли или, может быть, на что обиделся русский князь?
— Тьфу ты…
Михаил и правда сплюнул через голову жеребца. Плевок подхватил порыв ветра и унес далеко вперед.
— Сейчас, князь, скоро… — одними губами, промерзшими, но все же растянутыми в притворной улыбке, произнес Ак-Сабит.
Как же они похожи! Будто все на одно лицо. И визири на его вопрос, когда можно будет покинуть великого хана, и сам Тохта, у которого Михаил как-то прямо об этом спросил, так же улыбчиво отвечали:
— Скоро, князь, скоро…
Волок один — их «скоро»!
И правда, время, что ли, у них иной мерой меряется: тянется по бескрайней степи пастушьей юртой от кочевья к кочевью, от зимовья к летовью, а не летит от зари до зари, как у русских, когда всегда чего-то не успеваешь.
Впрочем, с месяц тому позади изменилась Орда, заколготился Сарай: хан велел готовить большую охоту. Обычно, если не случалось войны, охота начиналась и раньше: Чингис завещал охотиться с осени до весны. А нынче Тохта припозднился — то ли знака какого от Вечного Синего Неба ждал, то ли просто какого известия, то ли Гурген Сульджидей не велел… Но уж и разворошилась Орда, чисто как на войну собралась. И без того людный Сарай окружили со всех сторон многие тысячи степняков. Со всей Кипчакской степи, с дальних окраин и ордынских городов: Укека, Бельджамена, Джукатау, Маджар, Дербента, Дедякова, Сувара и многих прочих, темники вели свои курени, старые знатные воины в богатых юртах везли сыновей — отличиться на ханской охоте, жен помоложе — похвастать перед другими, тащили за собой скот и невольников, а уж коней-то, будто со всей земли привели, — не перечесть, сколько богатства у одного народа!
Казалось бы, в таком вавилонском столпотворении должно случаться много бесчинств и неразберихи, ан нет, все у них чинно, всякий свое место среди других отличает, никто никому дорогу не перейдет, и новые бесчисленные становища вкруг стольного города растут, согласно заведенному когда-то порядку, без лишних обид и криков, не говоря уж о крови.
Вот народ: другого обмануть или голову снести православному — это для них одинаково и доблесть и удовольствие, а промеж собой и пьяные редко когда поссорятся. Хотя и татарин татарину рознь. Это только для нас, для русских, все они на одно лицо, сами же они меж собой явственные различия делают, и вовсе не по богачеству. Однако поди разбери, кто перед тобой: белый татарин или лесной, кереит, мергет, ойрат, уйгур, чаан-татар, алчи-татар, алухай или просто куманец… Но они-то ох как кичатся друг перед другом знатностью рода! Князь видел однажды на торговище, как один вроде бы обычный татарин бил другого по лицу плетью — и не раба, не холопа — и тот, которого били, даже не смел укрываться от злых ударов, потому что тот, который бил, оказался монголом…
«Да что мне до них, — оборвал сам себя в мыслях Михаил, — рабы они перед своим Джасаком и друг перед другом. Больше рабы, чем передо мной мой последний холоп, рабы…» Но не утешали слова, и с новой силой в князе закипала обида, не оставлявшая его теперь никогда.
Самое страшное и отвратительное, что открыл в себе Михаил за то время, которое провел у Тохты, оказалось унизительное чувство зависимости, необходимость холопской хитрости, какой не было у него раньше в душе, как не было этой рабской необходимости хитрить и обманывать вообще в душе русских до прихода татар. До них не знали искренние, гордые своей силой, а потому великодушные русичи таких беспощадных, лживых, не знающих ни Божиих, ни человечьих законов врагов. Они принесли с собой не только кровь, огонь и уничтожение, главное, они заставили русских бояться, а страх научил их обману и рабскому криводушию.
Во все время пребывания в Орде Михаил был болен от постоянного унижения, которое ему приходилось испытывать. Первые дни он даже не мог смотреть своим людям в глаза — настолько то, что происходило, казалось несовместимым с княжескими, да и обычными добродетелями, в которых он был выпестован. Горько было еще и потому, что в самом себе он не находил сил сопротивляться этому унижению. Но с каждым Днем, проведенным в Орде, в нем росла страшная затаенная ярость, тем сильней сжигавшая его изнутри, чем глубже ее приходилось прятать. Князь уже готов был к тому, что когда-то она все же прорвется, а там что будет, то будет… Не помогали и умные, утешительные слова отца Ивана про необходимость терпеть, которыми он каждый день потчевал Михаила. И без него ясно: тяжело голове без плеч, а плечам скучно без головы.
И вот, когда уже вовсе стало невмоготу, от Тохты принесли пайцзу — золотую пластину с изображением кречета, открывавшую путь домой.
Что-то случилось — что именно, Михаил еще не знал, — что заставило хана вдруг отпустить русского князя. Ведь не далее как две седмицы тому назад Тохта звал его с собой на охоту. Или же, как наивно предполагал Михаил, Тохта наконец почувствовал, что дальше играть с ним, как кошка играет с пойманной, полузадушенной мышью, больше нельзя. Но что делает кошка с мышью, когда ей надоедает забавиться? Нет, выходит, игра продолжалась…
Накануне их отбытия на подворье Сарского православного храма, где остановился Михаил, пришли волхвы от Гургена Сульджидея. Они говорили про то, что хан велик, а Сульджидей — ханский глаз, все видит и знает; что дареные ханские стрелы, если он когда-нибудь обратит их против Орды, пронзят его сердце, но если Михаил будет верным и послушным ханским слугой, то в своей земле станет великим князем; про то еще, что он слишком долго пользовался милостью правосудного хана, оставаясь у него в гостях (будто не хан держал его у себя чуть не пленником!), и теперь ему надо спешить и в пути не делать длительных остановок, как будто Михаил сам не торопился домой… После их ухода Иван Царьгородец святил тверской водой углы Михаиловой повалушки[41], крестил воздух и самого князя и долго молился.
Нет, не понять их русскому человеку! Во всех словах ложь. Спеши, говорят, а наутро, как выезжать, от хана новая милость: полсотни провожатых во главе с Ак-Сабитом, которому, видать, спешить не наказано — то-то он за каждой лисицей готов по степи гоняться. Или и у них одна рука не ведает, что другая творит?..
Ак-Сабит, поднявшись на стременах, вытянулся вперед. Его лицо, то сонное, то улыбчивое, стало жестким, крылья широких ноздрей раздувались, жадно глотая воздух. Один из его нукеров снял с головы меховой малахай, подставив ухо под ветер, послушал, поднял руку и быстро закивал головой Ак-Сабиту. Тот молча кивнул в ответ, провел ладонью перед грудью, и его спутники, сбившиеся конями в теплый и тесный круг, мгновенно разомкнувшись, вытянулись цепью, один от другого на расстоянии двух-трех саженей. Так поступили и тверские дружинники.
Тут уж и Михаил услышал ровный и мягкий покуда стук копыт по мерзлой земле: будто далеко-далеко бабы стучат на реке вальками, да все вразнобой.
Князь достал стрелу, снарядил-изготовил лук. Ак-Сабит, пригнувшись, неслышно ткнул плетью в шею свою кобылку, и вся засадная цепь, тронувшись с места, стала подниматься на взгорок, навстречу стремительно приближавшемуся, летящему шуму.
Лучники оказались на взгорке, когда стадцу оставалось до них добежать не более ста саженей. Топот рос, дробно катился, опережая стадо. За топотом криков загонщиков не было слышно, но этот крик угадывался в воздухе и словно висел над стадом и степью. Козы могли еще, остановив бег по прямой, уйти в сторону, и наверняка им удалось бы спастись, будь в стаде вожак, но это оказалось не стадо, а лишь малая его часть. Стадо ушло от загонщиков, им же удалось повернуть в нужную сторону одних старых маток да подлетков, всего голов в двадцать — тридцать. Гонимые страхом, козы мчались вперед. А тут Ак-Сабит, охлестав кобылу, бросил ее встречь стаду, зло и радостно крикнув высоким голосом:
— Сайга!!!
— Сайга!!! — завизжали остальные татары тем диким визгом, от которого в русских жилах по недавней, еще не зажившей памяти стынет кровь.
Князев жеребец, уставший стоять, не требуя поводьев, бежал мягким наметом, не давая уйти резвой кобыле мурзы. Русские и татары мчались навстречу стаду, охватывая его двумя рукавами полукольцом. Русские тоже что-то кричали, на скаку снаряжая луки.
Обезумевшие от ужаса козы, уже не держась друг друга, пытались уйти кто куда: одни, не видя спасения, все так же летели вперед, другие в прыжке, на лету, вдруг, изменив направление, кидались в сторону от неизбежных коней и людей, но и сзади настигали нежные уши коз дикие вопли загонщиков, от которых, как им казалось, они уже убежали…
Прямо на Михаила, выбрасывая тонкие ноги, саженными летящими скачками мчался подлеток. Ноздри его рывками выдыхали горячий пар, при каждом прыжке он откидывал назад, закатывая глаза, вытянутую толстую морду и открывал беззащитную шею. Одной рукой Михаил рванул на себя поводья, вздернув жеребцу морду и сбив его бег, поднял лук, поймал на стрелу козленка и отпустил звенящую тетиву.
Стрела угодила сайге, видно, в самую становую жилу, потому что кровь забрызгала снег еще до того, как козленок коснулся передними ногами земли. Уже бессильные ноги его подломились, разъехались, и он, все еще продолжая движение, сбивал перед собой розовой кучей снег, потом, выворачивая и ломая шею, ткнулся мордой об землю.
Ак-Сабит победно, пронзительно закричал. Пересекаясь в воздухе, русские и татарские стрелы полетели в сайгу. Случалось, одну козу сшибало сразу двумя, а то и тремя стрелами — и русскими и татарскими. Загонщики не успели доскакать до тех, кто забивал, как все было кончено.
Правда, три сайги, как их называли татары, все же ушли. Две через русский рукав, одна же через татарскую цепь. Тот татарин, что упустил сайгу, пытался что-то сказать Ак-Сабиту, но мурза, подъехав вплотную, неловко размахнувшись, правой рукой от левого плеча ударил его в лицо внешней стороной кулака, в котором была зажата рукоять плети. Удар пришелся в самые губы, тут же расплывшиеся кровавым пятном.
Другие татары уже вспарывали сайгу, по своему обычаю спеша вырвать сердце, пока оно еще билось. И пили горячую, еще не остывшую козью кровь, смеясь над русскими и тыча в них пальцами. Русские же, прежде чем свежевать туши, надрезав ножом становую жилу, отворяли кровь прямо на землю. Скоро у всех татар лица стали красны, как у того провинившегося, которого ударил мурза.
— Хороший выстрел, князь! Как монгол бьешь! — издали, скалясь, прокричал Ак-Сабит.
Михаил скривился от похвалы и ничего не ответил. Он смотрел, как Ефрем свежевал убитого им козленка. Ему хотелось сойти с коня, поднять тяжелую морду сайги, заглянуть в большие, уже подернутые смертной пленкой глаза, руками ощутить шелковый ворс желто-коричневой, словно подпаленной шкуры. Прежде он не видал этих крупных животных, бесчисленные стада которых, как говорили, достигавшие многих сотен голов, паслись здесь, в Дешт-Кипчаке, нагуливая шейные ожерелья к ханской охоте, Ефрем проворно работал ножом, легко ворочая тяжелую тушу. В воздухе пахло парным мясом и кровью. На истоптанном людьми и конями снегу лиловыми кострами горела уже освежеванная сайга.
Косолапя по земле кривыми ногами, Ак-Сабит подходил к Михаилу, держа на открытой ладони красный комок. Сквозь пальцы капала кровь.
— Говорю, бьешь как монгол, князь, — еще раз весело крикнул он.
— Лук татарский, стрелы татарские, а бью как русский, — ответил князь.
— Какой хороший лук у тебя!
— Хороший, — согласился Михаил. — Ханский подарок.
— О! — только и воскликнул мурза и еще шире заулыбался, пряча глаза в толстых, будто надутых щеках. — Вот! — сказал он, подойдя, и протянул Михаилу открытую ладонь, на которой лежал кусок сайгачьего сердца. — У русского одна жена, у татарина много жен. Кушай, князь! Большая сила придет!
Михаил побелел, сравнявшись лицом со снежной пеленой далекого окоема. Ему захотелось вбить в губы мурзы этот кровавый кусок плоти с его ладони, чтобы тот уже никогда не смог предложить русскому князю чего не надобно. Он невольно потянулся рукой за саблей.
— Ты… ты… Тохта вином меня поил, а не вонючим кумысом… ты понял, собака?!
Неслышно поднявшись с колен и безразлично глядя по сторонам, за спиной мурзы остановился Тверитин с длинным ножом в руке, с жала которого еще капала кровь.
Улыбка еще дрожала на губах Ак-Сабита, но и губы его дрожали вместе с этой улыбкой.
— Зачем обижаться, князь?.. Я же не для обиды! Не хочешь — не кушай! Зачем обижаться?.. Ты — гость хана, я — слуга хана… Тебе как лучше хотел…
Михаил с силой вогнал саблю в ножны, зло повернул коня, погнал его прочь.
— Эй, князь, стой! Нельзя в степь! Степь большая — заблудишься! Буран идет, эй! Князь, вернись! — кричал Ак-Сабит, покуда князь мог его слышать.
Тверитин зачерпнул рукой снежную горсть, обтер тусклое жало ножа, вздохнул, будто сожалея о чем, и бегом пустился к коням, которых стерег татарин с разбитой рожей.
7
Наверное, изо всего посольства один Ефрем не спешил домой. За те пять лет, что служил у Михаила, он и домом не обзавелся. Так и жил пустым бобылем при княжеском дворе. Впрочем, постепенно, со временем, Ефрем сделался князю близким окольничим. Своего путного дохода — ни ловчего, ни бортного, ни рыбного, ни какого иного — князь ему не давал, землею не наделил, одними деньгами жаловал. Но жалованного Ефрему вполне хватало, чтобы довольствоваться. Да и не за деньги он служил князю.
Михаил Ярославич не только жизнь даровал ему на том кашинском поле, но и честь вернул, а честь серебром не меряется. Если что и мучило Ефрема Тверитина на княжеской службе, так то лишь, что не мог он Михаиловой тенью стать, чтобы заслонить его от беды, коли понадобится. А такому, как Михаил, до беды всегда близко, больно уж он горяч.
Вон как вцепился в саблю, и плевать ему, что мурзаевых-то татар навалилось бы по трое на одного тверского. Хотя пешими биться — глаза в глаза да нож в нож — они не большие охотники, еще поглядели бы, чья взяла…
Длинными крюками Ефрем посылал коня из одной стороны в другую, пытаясь найти оборвавшийся где-то след Михайлова жеребца. Снег лежал неровно: где на палец, где на ладонь, где на локоть, а где и вовсе желтели проплешины с прошлогодней травой. Вроде гладка степь, как в бане полок, однако обманна — там балка ветрами вырыта, там взгорок надут, там ложбинка, а для глаза сплошь ровная пустота. Видно, скатился князь в такую ложбинку и пропал, ищи-свищи его, и не знаешь, где он теперь вынырнет.
— Эй, князь!.. — Собственный голос показался Ефрему слабым и жалким в равнодушном безмолвии.
Кабы татарин какой был рядом, он бы живо определился. Им-то все степные приметы известны, оттого, знать, и полюбили они эту голую Кипчакскую степь. Однако, чтобы верно служить, вовсе не обязательно быть татарином, как утверждают то в Сарае.
«Врут…» — усмехнулся Ефрем, развернул коня мордой на ветер и поскакал обратно, туда, где потерял следы князя. Ветер, кстати, переменился. Ровный, уныло привычный, с утра едва поднимавший поземку, сейчас он будто лениво бил вдруг порывом в лицо и снова стихал.
«Что это мурза буран-то давеча кликал? Ишь, какой ворожун…»
А из Сарая раньше весны, была б его воля, Ефрем не тронулся. Веселый город этот Сарай. Да и поболе будет, чем Тверь и Ростов, вместе взятые. Версты на три в степь уполз, а вдоль речки Ахтубы и не меньше чем на полдня пути тянется. Дома у житных татар из розового и белого камня, с изразцами по стенам и стеклянными окнами, да и у прочих из кирпича, который месят и обжигают русские плинфоделы. Много, однако, и саманных домишек. Правда, в деревянной-то избе и летом дышится легче, и зимой теплей, только где же им здесь леса-то напастись? Дерево татарину взгляд застит, вот и дорог в Сарае лес. Редко у какого мурзы и пол деревянный, больше камень да плитка. Да и крыши у них потешные: совсем без конька, либо плоские, либо круглые, как яйцо. Но почти у каждого дома сад с ягодными деревьями. Таких ягод Ефрем сроду не пробовал. Одни с желтой мясистой плотью под гладкой кожицей, другие еще крупнее первых, с кожицей, покрытой нежным пушком, как шейка под волосами у девушки, и со стыдливым румянцем, внутри же с шершавым крупным ядром, крепким, как камушек. Укусишь такую ягоду и только поспевай сок с бороды подтирать. А сок в одно время и сладкий, как мед, и с малой горчинкой, как квас на горелом хлебе.
— Эй, князь! Михаил Ярославич!..
Тихо в степи, никого не видать.
…А к домам от реки вдоль улиц прямыми стрелами канавы вырыты. Бабе ли на хозяйстве вода понадобилась, кузнецу ли, кожевеннику — иди да черпай. А в некоторые кузни, а то и дома, вода из канав течет по долбленым каменным желобам. И через каждую канаву, один от другого не далее полувзгляда, Мостки перекинуты. Да что! Каких диковин здесь не увидишь!
На одних вельблюдов сколь дней Ефрем пялился, покуда обвыкся. Экая образина! Хотя со всех сторон выгодное животное: не пьет, не жрет, а тело у него такое горячее, что татары-то в зимних походах под мышкой у него лепешки пекут. Да они и вообще к еде мало брезгливые, всяку дрянь в рот несут, особенно незажитные. Что бегает по степи, что летает над ней, то и естся.
А Сарай-то город богатый! И чего ему бедным быть, когда соль, меха, серебро, воск, мед, пенька, хлеб и холст — все; чем богата Русь, своим путем приходит в Орду, а уж отсюда с татарскими и иными купцами по всему миру расходится. Купцы-то здесь со всего мира гостят, только звездами небесными не торгуют! И дешевизна такая, что упаси Господи! Пойдешь нарочно с утра без денег — с одним серебряным отрубом, а к вечеру все равно котуль подарками полон. Только дарить их некому. Михаил Ярославич и то уж смеяться начал: то ли ты, Ефрем, в купцы уйти от меня решил, то ли жениться надумал…
А ведь и правда, хотел тут Ефрем девку себе в жены купить. Запала она ему вдруг в душу ни с того ни с сего. Взгляд у нее, что ли, говорящий такой? Вроде и невидная, да и какой вид у невольницы? Грязная, худая, черные волосы жиром лоснятся, жалкая, как дите, а вот взглянула она на него, может, и вовсе случайно, но так, что не прошел мимо — остановился. А уж купец и так и эдак ее нахваливает: груди тискает, лодыжку тонкую, точеную поднимать заставляет, зубы ее белые Ефрему показывает. А она молчит, битая, видно, пуганая, и больше уже на Ефрема не смотрит. А что ему в ее лодыжке? Чай, не лошадь он себе покупает! И вот еще что смутило Ефрема: ценой-то девка была дешевле самой невидной лошади. А уж дешевле, чем лошадьми, мало чем в Сарае торгуют — столько их здесь у каждого. Порченая, видать… Да ведь и не то чтобы забоялся, что порченая, да и не то беда, что молчит и ни бельмеса по-русски не понимает, а именно что посовестился: не для забавы же пожелал, а для жизни! А выкупишь ли за деньги счастье для жизни-то?..
— Ну, балуй, идол! — отчего-то озлившись, прикрикнул Ефрем на коня.
Он вернулся на большую проплешину, которую проскочил в первый раз. Обошел ее по краям, и верно, увидел все-таки след легкого на ходу Князева жеребца. Радостно гикнул, пятками ударил коня в бока, и умный конь, догадавшись, чего от него хочет хозяин, понес Тверитина по степи следом за Михаилом.
…А на забаву-то девки в Сарае еще дешевле — и каких только нет! Уж он, Ефрем, знает! Да и его, Ефрема, поминают, поди, в тех особых домах, где тех девок для проезжих содержат. Эх, разве вспомнят?! Забава, она забава и есть, чтобы наутро забыть и боле не вспоминать… А та — греческой ли, иной какой земли дева, которую торговал ему за бесценок каффский барышник[42], тыкая грязными пальцами ей под ребра, по сю пору стоит у Ефрема перед глазами.
А уж глаза-то у нее — чисто как на иконах пишут у Божией Матери, когда она с младенчиком Христом на руках! Прости меня, Господи, но вот такие глаза. Эх, хоть бы еще раз увидеть! Да что там…
— Михаил Ярославич! Князь!.. — Эвона куда ускакал! В белой пелене далеко впереди Ефрем наконец увидел всадника.
Однако служба у Ефрема в Сарае была леготная! Михаил Ярославич с полдня до ночи у хана сидит. Видно, уж так Тохте полюбился князь, что он без него дня не мог пережить. Хотя сначала-то долго мурыжил, не допускал до себя. Михайл-то тогда аж лицом осунулся. Ну, а у него, у Ефрема, одна забота: ходи да смотри, ходи да слушай. Смотреть — глаза не болят, да и куманская речь, как начал ее понимать, ухо уже не режет.
За то время со многими Тверитин знакомство свел. И с ордынцами, и с купцами из дальних стран, многие из которых, опять же, не столь торговали, сколь для своих государей разведку в Сарае делали. Таких-то Тверитин быстро научился распознавать по глазам, глядевшим не жадно, а пытливо и осторожно. Ну и, конечно, с русскими.
Русских в Сарае много. Есть целые улицы, где живут одни русские. Их сразу узнаешь по бедным саманным домам да по звукам всякого рукоделья, что доносятся со дворов. Лучших каменщиков, златарей, опонников, кузнечников, гончаров согнали татары в Орду. Сами-то они к работе мало сподручны, более к охоте или войне, ну, табуны еще да стада по земле гонять от пастбища к пастбищу, затем и люба им степь. Такой уж, видно, народ. Хан сабанчей по весне, говорят, собирает, и в степь посылает землю орать да просо сеять, но не любят они того. Хлеб, считай, не едят, репой брезгуют; кумыс да конина — и вся их пища, ну и настреляют чего. Такой народ. Бабы, правда, у них прилежны. Кожи шьют, сбрую правят, повозки чинят, кошмы стегают, шерсть валяют, не в пример мужикам. Ну, а иначе взглянуть, коли у одного самого захудалого мужичонки по десять баб, чего ему делать? Вот и воюют…
Эх! Надо было гречанку-то брать! А купил-то ее, барышник сказывал, кто-то из русских. Русский-то приметлив на красоту, и не побоялся стыда…
— Князь! — снова кричит Тверитин. Не слышит Михаил Ярославич. Ветер бьет Ефрему в лицо, срывает слова прямо с губ и относит назад.
Русские в Сарае пугливы. Да и некогда им от своих работ оторваться, они же в холопах у знатных и житных татар. С татарином же говорить только гороху поевши — непременно соврет, если не для выгоды, так из одного молодечества. Им православного обмануть большая гордость. Так что надумал Ефрем своих нужных людей завести в Сарае. Сказал про то князю. Михаил Ярославич подумал и согласился, хотя уж были в Сарае свои служилые люди, по преимуществу закупщики лошадей, но то татаре, а какая ж им вера? А здесь как раз и случай представился…
Больно хану, а может, ханшам его, колты, что привез князь в подарок, понравились. Даром что в первый день морду отворотил. Звездчатые те колты и впрямь были знатные! От кольца застежки с полукруглым, как месяц, щитком разбегались на стороны шесть серебряных лучиков, на острия которых скатились будто слезинки-капельки, да на каждой той слезке еще уже, еще меньше в округе, чем сама капелька, нанизано множество почти невидных глазу серебряных же колечек, а на тех и еще насажено по крупице-маковке серебра. Умом не понять, какой тонкой иглой чернил-зернил те колты Николка-умелец. Смотреть бы на них и дивиться такому чуду. Или слышать, как нежно, едва-едва они звенят в ушах у любавы, когда она склоняется над тобой… А делал их Князев серебряник Николка Скудин — умелец, каких и на Руси поискать!
Так вот: видно, сильно понравились эти колты-сережки хану Тохте, красоту-то привык различать. Он и спросил у Михаила Ярославича: откуда, мол, такие колты? А князь возьми да скажи: моего холопа работа. «Хорошие, — хан говорит, — у тебя холопы, мне бы таких ко двору…» Ну, Михаила Ярославича будто кто за язык и дернул: «А коли, — говорит, — пришлю тебе в подарок Николку, будешь его любить?»
Князь чуть не зубами скрипел, когда про то рассказывал. Вестимо ли, лучших людей самому в Орду спроваживать?!
Тверитину, конечно, тоже жалко было Николку, но больно уж прок заманчив!
Вон Михаил Ярославич-то сам говорит, что Тохта про Русь больше знает, чем иной русский князь. А от кого? Мы же про то, что в Орде случилось, только от ханских гонцов узнаем. А Никола-то не простым серебряником станет, ханским. Все-таки при дворе, глядишь, когда какую весть и пришлет с надежным купцом. Теперь это уж Ефремова забота найти и определить, кто и когда Николу навещать будет. Но то после, сейчас бы помочь Николке на месте обосноваться, научить тому, чего сам узнал, чему верить, а чего и мимо ушей пропускать. Затем и хотел Ефрем весны в Сарае дождаться. Да заторопился Михаил Ярославич.
И то, разные слухи по Сараю пошли. Да оно и так видно, радуются чему-то поганые, а чему — не поймешь, и не сказывают, то ли ханской охоте, то ли какой войне? Купец-то вон каффский, что девку ему торговал, когда уж последнего невольника с рук сбыл, а из Сарая не идет и в обмен товару не берет никакого. Ясно, чего дожидает: не иначе, пленных должны пригнать. А откуда им взяться, если мир и не воюет никто? Худо в чужой стороне без своего человека…
— Михаил Ярославич!
Ефрем нагнал Михаила далеко в стороне и от обоза, и от того места, где били сайгу. Князь, отпустив поводья, шел шагом, доверив коню самому выбираться на путь.
— Князь! — весело начал было Тверитин, подскакав к нему со спины.
— Молчи, — не обернувшись, оборвал его Михаил Ярославич.
8
Тревожные низкие облака, что во все время пути крыли небо, вмиг налились свинцом, упали на землю, дневной свет померк, и разразилась буря. Бесовское воинство в небе рыдало я выло, глядя, как люди, выбиваясь из сил, падая грудью на ветер, все же идут вперед, чудом ли, Божиим промыслом или усердием татар Ак-Сабита все же не сбиваясь с пути.
Сам мурза, меняя коней, то и дело скакал из конца в конец обоза, дабы не дать ни одной повозке вдруг уйти в сторону и пропасть за стеной из липкого, мокрого снега. Снег слепил глаза людям и лошадям, небесные бесы и ветер глушили крики, возницы не видели лошадиных спин, верховые сшибались друг с другом, словно в бою, хотя их скакуны не летели, а только едва плелись.
— Мурза! Эй! Айда сюда! — не видя Ак-Сабита, кричал Тверитин. — Эй!..
— Чего тебе? — Вынырнула перед Ефремом из вьюги морда коня, сплошь покрытая снегом и инеем. Самого татарина видно не было. — Чего тебе, урус? — перекрывая ветер, закричал Ак-Сабит.
— Скажи своим, — Ефрем рвал жилы на горле, — пущай отдадут веревки!
— Какие веревки?
— Которыми вы православных за шею душите!
Ефрем кричал о длинных, сплетенных из конского волоса веревках с петлями на конце, какие непременно были у каждого татарского воина. Татары владели ими отменно. Один конец такой веревки закрепляли, подвернув себе под ногу, другой, с петлей, набрасывали издали на человека и выволакивали его за собой из седла или пешего строя.
— Зачем тебе аркан, русский? — Ак-Сабит тоже кричал во все горло.
— Возки вязать надо! Уйдут! Не видать ни черта!
— Хорош! — уже издали, отнесенный в сторону ветром, донесся крик Ак-Сабита.
В поезде князя шло ни много ни мало, а пятнадцать повозок. Какие с людьми, какие с подарками и товарами, закупленными в Сарае. Да еще завод лошадей почти в двести голов. С лошадьми как раз и была морока. Взбесившись от испуга, они то и дело норовили нарушить табун, вырваться за круг, в какой его пытались стянуть Ефремовы верховые, и уйти в степь.
Мешаясь с визгом ветра, в воздухе носились и глохли истошные крики, русская брань и татарская ругань.
Михаил из возка не выходил. Лишь изредка, время от времени, ненадолго приподнимал тяжелый войлочный полог, глядел, ничего не видя, наружу и жадно глотал влажный тяжелый воздух. Крупный снег залетал внутрь возка, опадал влагой на медвежью полсть, укрывшую пол, на мягкие сидушки, обитые мехом. От каленной древесными угольями небольшой походной жаровницы, стоявшей на низкой треноге, было жарко. Хотя и угарно.
Возок еле двигался, лошади то и дело вставали, и невозможно было приноровиться ни мыслями, ни душой к такому подлому ходу. Из-за стен возка глухо неслась бешеная и одновременно невыразимо печальная степная музыка.
Михаил узнал ее: так-то, бывало, играли невидимые за парчовой опоной ханские песельники, затянут вот эдак-то и мурыжат весь день, покуда званые девки плясать не придут. Там уж иная музыка, побойчее. А девки трясут монистами и грудями, взмахивают на стороны руками, будто бросают с ладоней капли воды. И все одно тоскливо. Вот, выходит, откуда их дикие песни: волчий вой да визг ветра, свист кнутов да унылое бряканье колокольцев, подвязанных под дугой…
Еще брат Баты хан Берке[43] распорядился князю Александру Ярославичу Невскому[44] всякую нужную княжескую телегу, посланную в Орду, непременно снабжать такими татарскими колокольцами, отлитыми из олова или меди. Прежде-то с колокольцами бегали лишь упряжки ханских гонцов, с тем чтобы на заведенных нарочно для того ямских станах, расположенных по всей ордынской земле один от другого на расстоянии дневного гона, заслышав тот звон, готовили им лошадей на смену.
— Ефрем!.. — Голос князя глохнет на ветру, путается с другими неясными криками и остается безответным. — Ефрем, чертов сын!..
Снег, занесенный порывом ветра, с шипом испаряется на поверхности жаровницы. В тесном возке быстро делается парно, будто в бане.
— Ефрем!
Ефрем белым комом скатывается под ноги коня, бежит пешим, не выпуская поводьев из рук, угадывая голос, который узнает в любой круговерти.
— Здеся я, князь!
— Что ж все стоим-то?
— Ей-богу, княже, шибче нельзя!
— А-а, — князь недовольно махнул рукой. — Метели, что ли, никогда не видали?
— Дак это рази метель, князь? Мурза говорит, это у них шайтан так пирует…
— Узнай у мурзы, — крикнул князь, — скоро ли будет стан?
Мурза, которого Михаил после охоты и видеть не хочет, оказывается уже рядом. Скалится с коня красной заиндевевшей мордой:
— Скоро, князь, скоро! У Сары-Тау деревня есть…
— Ско-ро, — зло передразнивает татарина Михаил. — Знаю я ваше «скоро», — кричит он и запахивает возок.
Ветра студеного надышался, будто на опохмелье выпил добрый ковш ядреного кваса.
В угорелой, тяжелой голове то ли от свежего воздуха, то ли от ярости, вернувшейся вновь при виде татарина, немного яснеет. Однако вместе с ясностью и возможностью думать возвращается и тревога. Здесь, в Орде, тревога редко покидала Михаила.
В последнее время что-то, чего князь угадать не мог, изменилось в его отношениях с ханом. И это мучило, как мучают всякие загадки, что таят люди, а особенно те их них, во власти которых твоя судьба. Как ни противно было это осознавать, но Михаил понимал, что вся русская жизнь с тех пор, как Невский в угоду татарам загнал весь народ «в число»[45], правится из Орды. Давно уж дань брали не «со двора», не «с печной трубы», как раньше-то на Руси водилось, но с каждой живой души. И каждой такой душой он, князь, был подотчетен хану. А более всего он, князь, был отчетен ему своею душой, точнее, жизнью, потому что, слава Господу, хоть на православную душу хан прав не имел. А вот жизнью его хан мог по-своему распорядиться.
Ни в ласку, ни в равнодушие Тохты он уже не верил. Теперь он понимал, что ничего случайного или не продуманного заранее в действиях хана по отношению к нему просто не могло быть. Не принимал он его совсем не случайно, как казалось вначале, а до нужного времени выдерживал, будто масленка в засоле, и переставал вдруг замечать не из простого каприза, а нарочно, дабы дать ему сколько нужно побыть забытым, чтобы он мучился, вспоминая, в чем провинился, чтоб тем слаще оказалась для него новая милость… Впрочем, не столько в том было хитрого, сколько подлого.
Тохта еще не стал тем сильным ханом, каким был Баты или тот же Берке, смотревшие на русских князей с неподдельным презрением. Что для них были эти жалкие, полуубитые русские? Они и привычки не имели знать язык тех народов, за чей счет жили и богатели. Однако со времени кровавой повсеместной резни на Руси прошло уже более полувека, мало-помалу снова поднялись города, заново заселились пустоши, в конце концов, новый народился народ. В Орде же, напротив, смуты последних лет поколебали незыблемые доселе устои Джасака. Теперь не закон, а бывший Батыев темник, старый, хитрый ака Ногай, меняет в Сарае ханов по своему усмотрению. И прежде случались у них раздоры: тот же Баты не признавал императора Угедея[46], — но никогда еще в улусе Джучи власть потомков Чингиса не была так слаба.
Пусть Тохта покуда кладет на кого-то палец, что означает у татар высшую милость, пусть считает себя равным богам и не признает других богов, кроме идолов, пусть его ламы пророчат ему долгое и счастливое ханство… Но и на дружеском пиру из-под его золотых одежд выглядывает грубая нательная рубаха из китайской чесунчи, сохраняющая от стрел надежней кольчуги.
Тверитин говорил, пущенная и с близкого расстояния стрела якобы не пробивает плотной шелковой ткани, а вместе с ней, нанизывая на жало чесунчу, как чехол, впивается в тело. Такой удар редко бывает смертельным, и главное, стрелу легко вынуть из раны вместе с шелковым полотном.
Можно ли в чем доверяться правителю, который не верит своим близким и даже среди них никогда не снимает рубахи обычного воина? Разве может защитить самая крепкая кольчуга от страха? Не от этого ли страха с месяц назад услал он с глаз царевича Дюденя? Или сам тот ушел от Тохты на Сурожское море к Ногаю? Тогда жди в Орде новой замяти…
Сарский епископ, настоятель храма Николы Мерликийского, крещеный татарин Исмаил, хоть и принял Христову веру, однако лишен христианского простодушия.
Не много сумел у него выведать Царьгородец в ежевечерних беседах за чашей греческого вина. То лишь, что до тверского посольства приезжали в Сарай князь Андрей Городецкий с князем Федором Черным и московскими боярами жаловаться на Дмитрия; да то, что и от великого князя были послы у Тохты, которых, как сказывал отец Исмаил, хан не принял.
Во всякий месяц гостят в Сарае русские гости, каждый несет свою надобу хану, потому как и правда, вся русская жизнь из ханского дворца правится, да не одним Тохтой. Много у него думных визирей, и к каждому, как к ларцу на запоре, нужно свой ключ подобрать. Да еще волхвы Сульджидеевы и сам недоступный Гурген Сульджидей, от слов которого, может быть, все и зависит. Неведомая, темная сила.
Михаил тряхнул головой: метель-то не Ак-Сабит придумал, чай, он не облакопрогонник какой, не в его это власти… Убить он может исподтишка — это да, однако не убил же на той случайной охоте. Даже и в сторону его не смотрел — Михаил нарочно заметил.
Или срок его еще не пришел: седьмой-то день не вышел еще! Отца его, как и деда, в седьмой день пути погубили. Может, и ему так умереть уготовили? Любят поганые для пущего ужаса и казнь помучительней выдумать, и тумана поболе наслать, чтобы дольше страх помнился. Господи! Да неужто еще два дня терпеть возле себя татарина? Али самому упредить его: перебить татар да укрыться в Твери, будь что будет, не самому же горло под нож подставлять — чай, не овца…
Михаил чуть не в голос застонал в возке — так ему было худо ныне ото всех этих мыслей. Как ни пытался сбросить с себя душевную хмарь Михаил, а думал все об одном. Что-то, чего он снова не мог понять, было в ханском провожатом сомнительное…
Да откуда же эти страхи пустые? Неужели оттого лишь, что Тохта звал на охоту, да вдруг передумал? От досады на самого себя Михаил заскрипел зубами. На крыльях готов был в Тверь улететь, а теперь как баба разнюнился, что великий хан палец с его головы убрал! Князь плюнул на жаровницу.
Михаил травил себя совсем не от слабости, но потому, что тревога в душе, он знал, была верной.
Думать же о том, что в седьмой день пути его непременно убьют, отравят, как Ратибор отравил отца, было и вовсе несвойственно Михаилу. Это же равно как ждать в грозу, что новая молния непременно спалит тебя. Коли ей надо спалить, от нее — Божией длани — все равно не укроешься. Чему быть суждено, то и будет.
Прикрыв глаза, Михаил почему-то вспомнил, как пять лет назад возвращался от Кашина. Более всего ему хотелось тогда встретить старого Ратибора, взять его за чахлую бороду, заглянуть в его единственный глаз и увидеть, как этот глаз застывает в ужасе смертной тоски.
Того, что поведал ему тогда великий князь Дмитрий Александрович, оказалось Михаилу вполне довольно, чтобы понять наконец, как умер его отец великий князь владимирский Ярослав Ярославич. Загадка, мучившая его с малых лет, была столь проста, что оставалось лишь диву даваться, как прежде никто не мог ее разгадать, а змей, предатель, слезоточивый изменник рядом ходил по той же земле, посмеиваясь над женой, которую он овдовил, над детьми, которых он сделал сиротами, и над самой памятью убитого им господина.
Михаил ясно представил, как же все было в тот год, когда ему еще предстояло родиться, на той злополучной лодье.
После нарочных пыток с выколотым глазом и порезанным в лоскутья лицом (нарочных, потому что слишком уж очевидных) Ратибор, видать, согласился служить татарам. Нужно было выбирать между собственной жизнью и жизнью князя, и он выбрал, собака, свою. А на лодье, в разгар пира, ему, как преданному боярину да еще пострадавшему у татар за веру, не составляло труда зачерпнуть из общей братины кубок, бросить в него сатанинское зелье и поднести этот кубок или просто подставить под руку Ярославу.
А потом жить, жить и жить в милостях у княгини, кичиться перед другими славой преданного боярина, лить слезы при одном лишь упоминании имени отравленного им князя, а меж тем продолжать делать свое гнусное дело — вбивать клинья меж князьями. Это же он первый науськивал брата Святослава идти на великого князя, когда чуть было они не схватились под Дмитровой. Видно, на то поганые ему и оставили второй глаз. И никто — по простодушию ли, по доверчивости ли — никогда ни в чем не заподозрил его. Других, безвинных в изменах, пытали, Ратибор сам и пытал! Господи, почему предателям легче веришь?..
Тогда Михаил спешил свершить запоздалый суд. Спешил, Во уже будто знал — опоздает. Так и вышло.
Из дальних тверских лесов, куда Ратибор отправился с Посадскими на засеки, в Тверь уж пришло известие, что боярин Ратибор, когда гатили болотину, неловко оступился на топком месте. Случилось то странно, когда и рядом никого не было… и никто потом не мог доказать, почему боярин остался в тот миг один. Так уж, видно, случилось. Когда, услышав жуткий последний крик, люди вернулись, на болотине уж и пузырей не осталось, только ряска не успела сойтись на том месте, где задохся боярин.
И сколько ни тыкали в топь крюками, так и не ухватили тела — глубокое место выбрал оступиться кривой Ратибор. Или помог кто найти ему это место. Тайно-то многие его ненавидели, да и с тысяцким Кондратом Тимохиным он в самый раз намедни столкнулся. Но и этого не смогли доказать.
Как не докажешь теперь и вины Ратибора — все же ушел от дознания и тайну с собой унес. Не то жаль, что подох, а то, что в душу его Михаил заглянуть не успел! Пятнадцать лет по дому змей ползал, все знал и ведал, а скрылся от суда и от казни опять же змеем склизким на дно болотины…
Нет, от того, что суждено, — не уйдешь. И от людей спрячешься, а судьбу не обманешь.
Михаил вздохнул, подумал: «Что уж здесь на Ак-Сабита грешить да сетовать, он свое дело делает, если даже и наказано ему меня умертвить. Его дело холопское. Хуже смерть от сородича взять — все мы, русские, друг другу сородичи! — да еще от такого, кто руку твою как пес лизал, в милостях отказа не знал… И не с татарами это пришло — всегда было. Вон и Боголюбского Андрея[47] свои бояре убили за то лишь, что землю хотел сплотить. Господи, да будет ли конец этой вьюге?..»
Князь выглянул из возка.
— Ефрем! Иди сюда, рыжий бес!..
Ранние сумерки совсем омрачили свет: на воле было не светлей, чем в возке. Снег не переставал валить, и ветер злился, кажется, еще пуще, чем днем.
— Ефрем же!
Даже в темноте было видно, как лицо Ефрема, вынырнувшего из ниоткуда, горело, дышало жарким работным паром. Татарская доха (шуба с двойным, вывернутым наружу мехом) на нем распахнута, шапку где-то сронил, голос осевший, сиплый.
— Такой буран, князь… нету сил… лошади не идут… кабы не занесло… — выговорил он не враз, коротко и тяжко схватывая воздух ртом.
— Доху-то запахни, застынешь, — отворачивая лицо от ветра, произнес Михаил. Ефрем услышал. Смутился, заулыбался, обтирая мокрое лицо рукавом.
— Да нет, князь — жарко. Кони там, — махнул он рукой в сторону хвоста обоза, — спужались шибко, бесятся, того гляди, в степь уйдут.
— Кто там с ними?
— Дак все наши. Яловега-боярин, Тимоха Кряжев, Павлушка… — начал было перечислять он.
— Мурза где? — перебил его князь.
— Напереди он, со своими татарами. Дорогу торят да рыщут.
— Туда ли ведет-то?
— Да кто ж их знает, Михаил Ярославич — степь ихняя… — Ефрем уже отдышался и говорил спокойно, насколько позволял шум вьюги. — Только скажу, по мне татарин-то, слышь, княже! Без них-то уж стояли бы!
— Ну! — недовольно прервал его Михаил. — Иди уж… Да коня мне пусть подведут.
— Князь! — сипло завыл Тверитин. — Не сходи с возка, Богом тебя прошу!
— Ну! — крикнул Михаил и, подпоясав легкую шубу, спрыгнул на снег, неожиданно утонув по колено в мягком рыхлом сугробе.
«Бона как нанесло!» — удивился он.
Связанный от возка до возка арканами, поезд едва тащился, с трудом преодолевая снежную мглу.
Позади, сильно отстав, удерживая лошадей в табуне, будто рубились, страшно кричали люди.
Вскочив на коня, Михаил проскакал вдоль обоза. На душе, вопреки всему, отчего-то вдруг сделалось радостно и легко.
Проезжая мимо, он постучал плетью по крыше возка Ивана Царьгородца:
— Спишь, что ли, отче?
Отец Иван, приподняв полог, высунул неприкрытую всклокоченную голову.
— А, Михаил!.. За грехи нам посылает Господь грозу, и страх, и трепет, и недоумение прежде, чем силу дать! — крикнул он радостно и воодушевленно. — Видал, какие страсти Господни?!
— Да доедем ли? — так же весело в ответ крикнул князь, но ветер отнес его слова, отец Иван не расслышал и ответил другое:
— Молюсь за тебя…
Напереди обоза, непонятно по каким совершенно невидным приметам, Ак-Сабит со своими татарами торил дорогу.
Туда ли ведешь, мурза? — подъехав, спросил Михаил.
Ак-Сабит что-то крикнул татарам на своем языке, подбежал к коню Михаила, взял его под узду. В темноте видно не было, но Михаил точно знал, что мурза и сейчас улыбался.
— Туда, князь, туда…
— Скоро ли стан-то?
— Скоро, князь, скоро! — прокричал мурза.
И оба, перекрывая ветер, молодо расхохотались в голос, да так, что татаре, бывшие рядом, испуганно посмотрели в сторону русского князя и своего господина.
9
Лишь ночью княжеский поезд достиг стана у треклятой Желтой горы — Сары-Тау, как называли ее татары.
Каким непостижимым уму путем в сплошной снежной тьме Ак-Сабит все-таки вывел обоз на стан, Михаил не понял, хоть и находился почти все время рядом с мурзой. Обессилевшие, вымотанные бураном люди, не делая между друг другом различий, вповалку упали по клетям изб небольшой слободы, тесным рядком домов скатившейся с пологой горы, которой перед Волгой-рекой вдруг обрывалась бескрайняя Кипчакская степь. Впрочем, все это Михаил увидел ясно только наутро.
Проснувшись затемно, князь с досадой услышал тот же злой и унылый вой, под который заснул вчера. Метель, вопреки ожиданиям, не прекратилась. Готовность к чаемому дальнейшему немедленному пути уступила место вялым надеждам на перемену погоды.
За ночь изба настудилась, и выбираться из постланных прямо на пол надышанных и угретых овчин и медвежьих шкур не хотелось. Судя по тому, как рвался ветер в единственное оконце, затянутое поверх оконницы стеганой войлочной заглушкой, спешить было некуда. В дреме он дождался, покуда в соседней горнице затопят печь…
Печь затопили поздно, только когда из-под войлочной оконной затяжки уже явственно пробился серенький зимний свет ненастного утра.
— Ефрем! — позвал князь.
Явился Ефрем со смоляной лучиной, приторочил ее в светильник, отнял с оконца войлок. От света закопченные стены повалушки стали еще темней. Мрак не ушел, а только отполз в углы и там затаился.
— Чего там?
— Дак метет… — произнес Тверитин.
— Я и без тебя слышу, что метет, — проворчал Михаил недовольно. — Скоро ли кончит, спрашиваю?
— Да кто ж его знает, княже, — виновато пожал плечами Ефрем. — Мурза говорит, до завтрева будет дуть.
— А он почем ведает?
Ефрем молча пожал плечами.
— То-то, — проговорил князь, — ведун какой…
Он выпростался из-под медведны, поднялся. В повалушке у поганых и лба перекрестить было не на что. Князь осенил себя крестным знамением на свет в окне да на пламя лучины. Пока Тверитин ходил за ушатом и походным простым водолеем, Михаил, прикрыв глаза, помолился.
Вода в водолее оказалась ледяная и как ни была знобка, а приятно бодрила.
Ефрем еще до света обегал слободку, добывая князю коровьего молока. Хозяин коров не держал, одних овец да кобыл. На всю слободку нашлось всего два двора, где доились коровы. Жили в слободе в основном татары, а татары и коровьему молоку предпочитают кобылье. Хотя и коровье пьют. Однако молоко Ефрем все же достал и теперь запекал его в глиняной корчаге до хрусткой коричневой корки, как Михаил любил. Но молоко все не покрывалось заветной пенкой, хоть и томилось в жару. И про себя Тверитин ругал татар, вздувших огонь так поздно. Ведь он же, как уходил, по-татарски, как человек их просил тут же заняться печью.
«Хоп-хоп, кивают башками-то, а сами-то не про то мыслят…»
Ефрем покуда разложил на низком стольце, покрытом им белой скатеркой, ноздрястый пшеничный хлеб, соль в серебряной крупице с хитрой прикрышечкой, по пятничному дню разваристую холодную осетрину да мед, к досаде не вынутый вчера из возка и промерзший, а потому сейчас оплывавший ломаными кусками по блюду.
— Так что, говоришь, нельзя ныне ехать? — еще спросил Михаил, когда Ефрем помогал ему натянуть просушенные, но будто сжавшиеся от влаги и тепла сапоги.
— Скажешь — поедем, — Ефрем улыбнулся.
Князь давно уж приметил: хитрый Тверитин про плохое всегда говорил с улыбкой.
— Ну?..
— Лошади плохи, князь. Менять надо лошадей-то…
— Так меняй! — Князь выдернул ногу из Ефремовых рук.
Ефрем как ни в чем не бывало, с той же улыбкой, всегда лишавшей князя возможности по-настоящему осерчать на него, продолжил доклад:
— Двунадесять лошадок только на гоне пало, а сколь заморили еще — не видел покуда. Поди, поболе.
— Поди! — передразнил его Михаил. — Да что ж ты скалишься-то, Ефрем, как татарин?! Говори уж.
— Да это, князь!., прости, Бога ради… Давеча юлой извились, а малый табунок упустили — ушли кони в степь.
— Сколь?
— Поди, голов сорок, рази их поймешь в темноте?.. Ей-богу, князь, исстарались!
Морда у Ефрема даже под бородой была красна, словно до мяса облуплена. И говорил он не обычным голосом, а будто медвежьим рыком — так давеча наорался.
— Поди… — в другой раз перенял его Михаил, но без зла. Он и сам вчера видел: люди делали, что могли. Еще хорошо, что не весь завод оторвался.
Ел Михаил без охоты, и это более остального огорчало Ефрема.
Когда пришел черед меду, Тверитин бережно внес глиняную корчагу, обхватив ее с-под низу подолом простой полотняной рубахи.
— Молочка вот, князь! С жару, не обожгись-ка… Поздно, черти, печь растопили, — подосадовал он, однако было видно, что горд и доволен. Молоко взялось-таки золотистой пленкой, поверх которой вздулись и запеклись коричневые, подпалые пузыри.
— Так пост же, — усовестил его князь.
— Чай, мы не монахи, — возразил Ефрем. — Молоко-то, чай, оно не для пищи, а для тепла. Выпей, князь, — взжалобился Тверитин, даже руки к груди вскинул, как старая дворовая баба Домна Власьевна, когда просила о чем-то княгиню Ксению Юрьевну. Ефрем-то опасался, как бы князь не застудился вчера. Однако Ефрем — не Домна Власьевна, а Михаил — не княгиня: так глянул, что Тверитин даже вздохнуть не решился.
— Мурзу позови.
Ефрем недовольно, обиженно скреб в бороде плоскими, большими ногтями.
— Не слышишь?
— Дожидает уже.
— Что ж не сказал?
— Ему, чай, не к спеху.
— Ну так зови!
Ак-Сабит вошел с поклоном, улыбаясь. Завел татарскую волокиту, как перед ханом: как князь почивал, то да се и прочую обычную ерунду…
Князь оборвал его, сказал просто:
— Ладно, здравствуй.
Михаил понимал, что и лошади, и люди устали, и ветер за ночь вовсе не стих, однако ему больно тягостно было безо всякого прока сидеть неведомо сколько в закопченной избе. Потому он все же попытался склонить Ак-Сабита к дороге.
— А что, Ак-Сабит, может, и до другого стана сделаем ныне гон?
— Нельзя, князь… — покачал головой Ак-Сабит.
Михаил Ярославич хмуро посмотрел за окно. С татарами-то в такую пургу трогаться в путь было опасно, а одним и вовсе немыслимо, так заметет, что и следа не останется.
«Да сколько же здесь сидеть! Знать бы, сколько пурге еще той выть…
— Завтра, князь, стихнет… — будто угадав его мысли, ответил мурза.
— А ты почем знаешь, что завтра?
Ак-Сабит сделался вдруг серьезным. Как шапку с головы, снял улыбку с лица.
— Знаю, князь. Верно знаю.
— Али ты облакопрогонник? — усмехнулся Михаил.
— Не шути, князь. Завтра увидишь сам. — Ак-Сабит помолчал, затем склонил голову и прижал правую руку к груди. — Я тебя обидел вчера — прости, — сказал он.
Признавать за татарином обиду себе Михаил не желал, а потому ничего не ответил, только махнул рукой.
— Поверь, князь, обиды тебе наносить не хотел. Я…
— Ладно, — прервал его Михаил.
— Ладно, — согласно кивнул татарин и улыбнулся. — Я тебя проводил. Завтра один пойдешь…
Михаил взглянул удивленно.
— Верно тебе говорю. Завтра устанет шайтан, один побежишь на Русь. Я тебя проводил, — еще раз повторил он и продолжил: — А за то сегодня, князь, будь моим гостем.
Ак-Сабит увидел, как, не удержавшись, недовольно поморщился Михаил, и совсем ласково попросил:
— Не отказывай мне, князь, не обижай Ак-Сабита. Ты в сайгу первым стрелял, а по нашему обычаю, удачный лов нельзя не отпраздновать.
Михаил Ярославич усмехнулся тому, о чем не мог сказать Ак-Сабиту: вон что, знать, в шестой день пир назначили… Ладно.
— Хорошо, Ак-Сабит.
Повернувшись, Ак-Сабит пошел к двери. Михаил еще остановил его:
— Только, мурза, нам наш обычай ныне пировать не велит. Так что не обижайся, но в твоем пиру мы свою снедь вкушать будем…
Когда Ак-Сабит ушел, Михаил сказал Тверитину, стоявшему у двери:
— Слыхал, Ефрем, пировать нынче будем с погаными, прости Господи.
— Да ведь коли до завтрева будет дуть, делать все одно боле нечего, — утешил Ефрем.
— Лошадей-то сам отбери. Квелых отдай татарам, пусть кушают, черти. Да возки пусть поправят, чтоб завтра сами бежали. Коли мурза не наврал…
— Известно, князь, побегут, лишь бы погода стала. — Тверитин явно возрадовался предстоящему пиру.
— Да сам-то не пей, — тихо сказал Михаил. — Моим виночерпием будешь. Понял ли?
— Понял… — так же тихо, серьезно ответил Ефрем.
Посольские бояре воодушевились передышкой от угарной маеты в душных возках, не говоря уж о ездовых и прочих дружинниках. Даже отец Иван не попенял Михаилу, что в постный день дает чади волю выпить и закусить. Во-первых, не в своей земле и не под своими крестами, во-вторых, не из баловства, а по нужному случаю, ну а в-третьих, умаялись люди. Хоть и послушны христиане Божьему голосу, однако такой пустой день все равно проведут не в молитвах — да и не по чину им…
— Не мед вкушать оскорбительно Господу, — согласился отец Иван. — Грех невелик, отмолю.
Церковная строгость не вошла на Руси еще в крепкую силу и свято блюлась лишь в монастырях. На миру же с приходом татар и не в пост питались не жирно. Иные всю зиму сидели на пареной репе, редьке с луком, вяленой рыбе, грибах да орехах. Ну, а тем, кто был не ленив, милосердный Господь и мяса к столу давал всякого: и борового, и дикого, и домашнего. Людьми в ту пору земля оскудела, а дичью-то, напротив, полна была.
Распорядившись о необходимых приуготовлениях, Михаил с Тверитином, боярами и ямским становым — татарином, в избе которого ночевал, — отправился на конный двор отбирать лошадей. Золотая ханская пайцза давала право на пользование ямскими сменными лошадями.
Во всей слободе было не больше двадцати домов. И всего в двух дворах избы оказались срублены из бревен. Самым большим жилищем была изба станового, поставленная, как на Руси у доброго хозяина, на взмостьях, имелись в избе клеть, и сени, и подклети, большая горница и еще повалушка, да естовая и дворовая связь вприруб. Да на дворе еще отдельно стояла другая изба — поварня. Ладное жилье срубил татарину русский плотник. Что русский, видно было по всему, даже по коньку кровли, точенному топором с любовью и глядевшему на восток. Татары свои дома входом ставили лишь на юг. Вторая рубленая изба была поменьше и победнее, хотя и в ней жил татарин. А остальные дома и вовсе сложены из саманного кирпича и обмазаны глиной… Слободка тянулась единым тесным рядком от горы к Волге, которая угадывалась вдали по голым пустырям вдоль берегов да по снежным неровным наносам.
Снег по-прежнему сыпал с неба, правда, уже не обильный и мокрый, а жесткий и злой, как песок; казалось, со всех сторон ветер то и дело кидает его горстями в лицо, и не отвернуться от него, не прикрыться. Да и немудрено: над ямой, где стояла слободка, видать, столкнулись все четыре небесных шайтана, дувшие в толстые монгольские щеки.
По русским меркам, конный двор был богат, по татарским — не просто беден, а нищ. В просторном холодном загоне без стойл, сбившись в теплую кучу, топталось не более пятидесяти лошадей, на вид не шибко хороших. Для завтрашнего гона едва смогли отобрать взамен заморенных нужное число лошадей, крепких хотя бы снаружи.
Впрочем, князь знал, что татарские лошади на вид-то как раз обманчивы: хоть и низкорослы, но упрямы и жилисты. Русский высокий конь изрядно красивей и в коротком беге, конечно, резвей, однако в долгом гоне нет выносливей степных лошадок.
— Все ли это кони твои? — спросил князь станового.
— Не понимай… — завертел головой татарин. Хотя было ясно, что не мог он не разуметь языка беспрестанно проезжающих русских. Просто отчего-то не хотел говорить.
Михаил понимал уже татарскую речь и много знал нужных слов, он мог бы и по-татарски сам расспросить станового, однако ему поганить с ним язык не хотелось.
Тверитин растолковал татарину, что хотел узнать князь. Тот ответил по-своему.
— Все, говорит. Больше было, да забрали намедни.
— Спроси, кто забрал?
Становой отвечать не спешил, усмешливо поглядывал то на Тверитина, то на князя. Потом коротко ответил по-русски:
— Люди.
— Собака татарская, — сплюнул Михаил под ноги становому и пошел со двора.
Это была еще Орда, и жили в ней по своим законам, которые были сильней воли князя. И все же чем дальше от Сарая, от его лжи и загадок, чем дальше от хана с его неверными милостями, тем легче делалось Михаилу.
Вчерашняя тревога его не оставила, однако стала иной. Тревога переросла в твердую и спокойную уверенность в том, что беда неизбежна, беда рядом, она лишь чуть впереди. Но спешить к ней так же напрасно и невозможно, как пытаться гнать неподвластное человеку время. Придет срок, все откроется, и надо быть просто готовым ко всему, что бы в тот срок ни открылось.
Михаил старался не думать ни о Твери, ни о том, что могло там случиться без него — да мало ли что могло там случиться! — ни о хане с его очевидным и все же непостижимым криводушием, ни о себе. И то, что шел шестой день, как выехал он из Сарая, шестой день возвращения домой, своим чередом неизбежно переходящий в день седьмой, дважды отмеченный смертным роком для родичей Михаила, сегодня уже не так заботило его, как вчера. Надлежало лишь взять кое-какие меры.
Вчера Михаил определил для себя и принял сердцем мысль о том, что жить в постоянном ожидании удара и унизительно, и тягостно, и противно. В конце концов, как невозможно упастись от небесной молнии, так, в сущности, невозможно избегнуть и внезапного людского предательства. На то оно и предательство, что внезапно. А в китайскую ханскую чесунчу он не верил.
С малых лет матушка учила его княжескому достоинству. И, согласно ее словам, не было для князя выше достоинства, чем чадолюбие. А все Князевы люди есть чада его. Они могут быть и слабы, и корыстны, и похотливы, и неразумны, и неумелы, и пьяницы, они могут быть всякими, но он, князь, не людьми, но Богом поставлен над ними затем, чтобы властью своею не дать им одичать и погрязнуть в грехе, чтобы силой своей охранить их труды и дома от врагов, откуда бы те ни пришли, чтобы дать пример великодушия и любви, чтобы молитвами спасти их от заблуждений и ереси, чтобы справедливым судом заставить их жить в добронравии и всем тем сохранить их души для Господа. Но если исполнит все, и этого будет мало! На то он и князь над людьми, чтобы им всего себя отдать, не жалея. По исполнении сего достоинства и спросится Богом с князя, когда придется перед Всевышним держать ответ. И нет для князя иного греха, кроме греха запустения своей земли и разорения чад, что осели на эту землю под покров его, княжьего, жезла… Так учила Михаила матушка Ксения Юрьевна.
Да и другие всегда внушали ему, что он иной, отличен от всех. Отмечен. И за то с него иначе, суровей, и спросится. На что уж Помога добр, хоть волосы рви с его головы — только щурится, но и он в военных потехах лени маленькому княжичу никогда не спускал. Другие ребятишки (дети дворовых, бояр да дружинников) после непременной закалки, глядишь, уж кто где: кто на Волге, кто на Тверце, кто на голубятне, кто на конюшне. Одного Михаила Помога мучает. Либо из лука стрелять велит, либо деревянным мечом до тех пор с ним рубится, пока рука меч удерживает, пока пальцы на рукояти сами не разожмутся. Однако последний удар Помога почти всегда оставлял за княжичем. Да так исхитрялся представить, что и в хитрости его Михаил не мог заподозрить. Хотя и знал, что хитрит пестун. Если Помога видел, что княжич ленится, от закалки отлынивает, уж он его не щадил, бывало, исщекотит всего своим мечиком, до бешенства доведет, но себя и под нечаянный удар не подставит, да еще подсмеивается: как же тебе, Михаил, с врагом биться, коли ты своего холопа одолеть не можешь.
А сколько нравоучительных слов сказал ему владыка Симон! И не зря заставлял твердить псалмы, когда и слово Божие было непостижимо разумом. Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уставам Твоим… Научи отдавать себя, Господи! Научи не жалеть, как Ты себя не жалел…
Власть не столько дает, сколько забирает. И чем больше ты отдаешь, тем сильнее становишься. На то ты и князь, что иной. Ибо сказал же апостол Павел: «Каждый понесет свое бремя…»
Теперь Михаил до конца понимал: он — иной, потому что дано ему многое, и за то с него иначе и спросится. А на то, чем запросто владеют другие, он, князь, и прав не имеет. Как не имеет он права на обычный, естественный для всякого человека страх. Конечно, вовсе ничего не бояться нельзя, да и глупо, но коли уж ты, князь, чего забоялся, пусть даже и шапка твоя о том не узнает.
И все же, как ни отвлекал себя Михаил разными размышлениями, предстоящий пир заране томил его. Вовсе не страхом перед возможностью быть отравленным, а самой необходимостью пировать, когда душа его тоскливо ждет чего-то. Всякое-то ожидание было тяжким испытанием для нетерпеливой души Михаила. С детства горячность ставилась ему в укор и матушкой, и владыкой Симоном, и отцом Иваном, и даже Помогой. Что уж говорить, если даже на охоте князь предпочитал гнать зверя в цепи загонщиков, а не ждать его у тенет в засаде, что вызывало справедливые нарекания бояр, вынужденных сопровождать Михаила в неподобном и его, и их званию занятии…
Ветер не делался тише. Небо по-прежнему низко висело над степью, делая Божий день сумрачным и унылым.
Видно, от случайно пришедших на ум всякого рода воспоминаний Михаил сейчас пожалел, что нет с ним рядом воеводы Помоги. Он уже понял, что чем дальше, тем меньше рядом с ним будет людей, готовых не только слушать и слушаться, но и свое сказать, когда надо. Не то чтобы вовсе пойти поперек, но удержать в горячке, которую князь и сам сознавал за собой. Помога как раз и был именно таким человеком. С давних времен он не упустил над князем некоторого влияния, чему сам Михаил был рад. Впрочем, влияние Помоги казалось столь неназойливо, что для других не было и заметно. Конечно, случалось князю не удержаться от жестких слов, однако Помога Андреич будто не слышал их, во всяком случае не помнил обид. Зато уж ради дела воевода мог проявить такое упрямство, какого и Михаил не мог побороть. Между прочим, Тверитин-то Ефремка остался жив лишь благодаря тому, что когда-то в кашинских боярских сенях Помога Андреич нарочно замешкался у дверей, но этого оказалось для князя достаточно, чтобы изменить решение… Однако Помоги не было рядом. В начале лета с малой дружиной он ушел в западные земли княжества, куда, видать по сговору с новгородцами, повадились ходить разбойничать шайки литвинов. А сговор был очевиден: села и деревни новгородских смердов литвины не трогали, минуя их и не нанося им ущерба. Вот тоже беда — хитер Великий Новгород чужими руками жар загребать, чем-то кончит?..
— Ефрем!
— Чего, князь? — Отставший было Тверитин догнал Михаила Ярославича и пошел у него за плечом, дыша ему чуть не в шею.
— Ты, гляжу, совсем обтатарился!
— Что ты, Михаил Ярославич!..
— Девки все сарайские на уме?!
— Князь… — Ефрем не понимал, в чем он мог провиниться.
— Может, от меня к Ак-Сабиту служить пойдешь?
— Михаил Ярославич…
— А то иди!
Прибавив шагу, князь с Тверитином ушел вперед от бояр.
— Князь! — взмолился растерянный Ефрем и остановился.
— Догоняй! — прикрикнул князь, а когда смятенный Ефрем, обиженно сопя, опять пошел рядом, сказал: — Ладно… Смеюсь я… Только и ты, Ефрем, больно доверчив стал.
— Да разве я без понятия, Михаил Ярославич! — прохрипел простуженным горлом Тверитин.
— Людям скажи, чтобы мечей в обоз не кидали и чтобы много-то не пили — взыщу.
— Дак ясно, — кивнул Ефрем. — Я ить этим татарам рази когда поверю?
Он то и дело шмыгал распухшим носом и подтирал под ним мокрой от соплей рукавицей.
— Тимоха Кряжев со своей горстью вовсе тверезыми будут, — заверил он.
— Уж ли? — весело усмехнулся князь и упрекнул Ефрема: — Простыл вот… Самому молоко-то пить надоть, куда ты мне хворый? Эх ты, Тверитин.
«Вроде и шалопутен Ефремка: и бабник, и пьяница такой, что только гони со двора, а вроде и делен… Тоже вот — такой человек…»
Из степи прискакали татары, которым Ак-Сабит, оказывается, еще с вечера наказал поутру отправляться на поиски ушедшего табунка. И не с пустыми руками: голов тридцать заводных лошадей вернули. Как, где они их рыскали по степи, даже и представить было нельзя, а, однако, нашли!
Михаил погрозил кулаком Тверитину, принимавшему у татар лошадей. Ефрем только виновато развел руками.
«Не напрасно, знать, говорят, что на каффском базаре къл-татаре в большой цене[48]. За татарина или за татарку фряги втрое больше дают, чем за иных. И в неволе им Джасак неверно служить не дает. Только поди-ка попробуй татарина полонить, когда они всем миром владеют, оттого и цена…»
А на слободке уже вовсю шли приуготовления к пиру. В каждом доме жарко горели печи и напольные татарские очаги, во дворах татары рубили, резали туши забитой вчера сайги, кололи и свежевали купленных у хозяев баранов.
Вообще татары были неприхотливы в пище. В степи и походе и вовсе могли обходиться малым: нарезанным тонкими ломтями сыросушеным мясом и сушенным же особым способом кислым молоком, запасы которых хранились в седельных сумках. А при нужде отворяли кровь заводным лошадям, полоснув ножом по вене. Затем, накушавшись, перетягивали рану у-плеча лошади жильной ниткой. И так до нового случая. У каждого воина в заводе было три-четыре коня, так что крови в голодные дни хватало. В степи же и вовсе пищей служило им все, что двигалось по земле или над ней летало и чего могла достигнуть стрела: волк ли, лисица, коза или другой какой зверь или птица.
Отдельно — русские старались на то не глядеть — степняки впрок забивали заморенных, не годных для гона и жизни коней. Опять же, прежде чем убить, по своему обычаю отворяли ножами живую кровь, припадали губами к шеям коней. Скалились, смеялись над православными, воротившими от непотребства поганых взгляды.
В силу привязанности к земле, склонности к хлебопашеству, богатству лесных и речных угодий русский человек был разборчив в еде, а уж коней-то, которым издавна давал самые гордые и ласковые имена, с жизнью которых тесно, как девичья тугая коса, плелась его собственная повседневная жизнь, позволить себе есть не мог. Да и ни к чему ему было, когда другого мяса хватало. Разумеется, и монголы любили своих лошадей и отличали любимых из многих (даже у Чингисхана был любимый скакун по имени Саид-Самуджин), однако кочевая жизнь, обилие их табунов, но главное все-таки — иной, чем у русских, душевный склад позволяли им смотреть на первых своих друзей как на самую вкусную пищу. Конина всегда была для них лакомством.
Может быть, этот отличный душевный склад и дал возможность татарам завоевать полмира. Ведь они действительно верили: другие люди, иные народы созданы лишь для того, чтобы служить источником их добычи.
Сказал же Владыка Человечества Чингисхан: наслаждение и блаженство человека состоит только в том, чтобы подавить возмутившегося, победить врага, вырвать его с корнем, гнать побежденных перед собой, отнять у них то, чем они владели, видеть в слезах лица тех, которые им дороги, ездить на их приятно идущих жирных конях, сжимать в объятиях их дочерей и жен и алые губы сосать… С тем он и создал непобедимое войско новых людей — татар, названных на Руси погаными агарянами.
…Визжали собаки и татарские ребятишки, схватываясь друг с другом за требуху, которую взрослые бросали им на потеху, разносили ее по дворам, оставляя на снегу кровавые пятна.
И уже не один татарин достал из седельной сумки — далинга — вместимую кожаную баклагу — заветную бортохо с душистой, пьянящей арькой[49] или кумысом. С одного конца слободы на другой вместе со снежными вихрями ветер переносил недружные звуки песен, случайно возникавших от одной лишь сердечной радости, но тут же и умолкавших за воем бури — другие еще не готовы были их поддержать…
Ко двору станового ездовые свезли возки, чинили их, ладили сбрую. Из жарко натопленной избы выходили на двор посольские справить нужду да ненароком позадорить тех, кто находился на стуже, красными, будто в бане нагретыми рожами. В ожидании ли пира, еще ли чего иного русские тоже были немного вздернуты, как бы нарочито веселы. Все ждали, когда Михаил даст знак выбить дно у двух бочек с медами, утром еще стащенных с возков в теплую горницу. В тепле мореные дубовые доски отмокли, пустив слезу. Бочкам этим тоже, видать, не терпелось открыться — шутка ли, сколько терпели! Еще летом их привезли из самой Твери в Сарай-город, в Сарае же уберегли, за ненадобой не раскупорили, и лишь теперь, на обратной дороге у какой-то неведомой Желтой горы, выходит, пришел их черед.
Тверитинские дружинники, делать которым было решительно нечего, кружились здесь же во дворе, мешали советами ездовым да то и дело совались носами в поварню, предлагая княжьему повару Ваське Светлому бескорыстную помощь. Однако у того добровольцев хватало, и потому в нечаянно отворенную дверь естовой он кидал тем, что было в руке, впрочем предпочитая полено.
— Вот уж я князю нажалуюсь, уж нажалуюсь князю я! — на смех двору то и дело слышались из поварни Васькины угрозы и вопли.
Васька переживал. Пир нагрянул как гром в ясный день, да еще посреди пути. Это татарам леготно жрать что ни попадя, а здесь же хоть извертись, а поди-ка наготовь на все посольство пищи и постной и приятной для пира, как велел ему Михаил Ярославич.
Конечно, как всякий повар, Васька Светлый немного кривил душой — всего у него было в достатке. И муки для теста, и в особом возке уложенной звонкими полешками мороженой вострорылой стерлядки, бокастых осетров, с солью и в дыму прокопченной белой жирной севрюги, другой прочей рыбы для вкуса, да отдельно визиги для пирогов, да в малых кадках просоленной зернистой икры, да гриба сухого, чудно пахшего далеким лесом, да в заветных корцах мало-мало, но осталось разного соленого овоща…
— У, идол, отец у тебя черемис[50], куды ж ты лепишь-то… такими ломтями! — осуществляя общее руководство, метался Светлый между печью и столом, на котором отобранные им степенные, склонные к дому дружинники катали тесто, рубили ножами упружистую визигу, слезоточивый лук и рыбу в начинку.
Признавая его первенство, а главное, опасаясь опалы, никто Василию не смел перечить, и оттого он еще больше ершился и буйствовал.
Князь, проходя мимо, тоже хотел заглянуть в поварню и удивился, когда Ефрем, прыжком опередив его возле двери, боязливо чуть приоткрыл ее и хрипло крикнул:
— Васька, стерва, убью!
Светлый, белый от муки и душевного возбуждения, появился в дверях с поленом в руке. Завидев князя, он выронил полено и тут же завыл, причитая и припустив в голос искренней, внезапной слезы:
— Не гневайся, Михаил Ярославич! Не будет ныне хлебов на твоем пиру!
— Что так?
— Так оглоеды покоя мне не дают, лезут и лезут в поварню, чисто как татары на приступ.
— Знать, духовито творишь, — похвалил Михаил Василия.
— И-и, князь! — От похвалы тот будто еще посветлел. — Рази их духом-то напитаешь? Не за духом они в поварню идут! — Василий погрозил двору и дружинникам маленьким сухим кулаком и сокрушенно, под общий смех махнул рукой. — Им ить, князь, лишь бы жрать, что в пост, что в масленую…
До молебна, который отец Иван отслужил для всех посольских перед тем, как мед из бочек набрали в братины, Михаил один еще долго и усердно молился в своем возке перед малым иконостасцем, обращаясь к твердому, спокойному лику Михаила Архистратига со смиренной, но жаркой просьбой: на все, что бы ни выпало, дать ему мужества, терпения и силы…
Ветры с Желтой горы бессильно и люто разметывали в космы печные дымы. Затворившись от ветров и стужи за стенами на время, люди были друг к другу добры и будто бы веселы от сладкой праздничной пищи, меда и арьки. Впрочем, пировали не столько весело, сколько шумно.
Татары гомонили свое, русские талдычили про другое, однако, что любопытно, все обошлось совершенно мирно. Более того, чем вернее мед и арька делали свое дело, тем лучше русские и татары понимали друг друга, чем пьянее тем охотней и те и эти мешали слова русского и куманского языков. Одно лишь смущало, что татары брали еду с общего стола прямо руками, после вытирая их о войлочные чулки или волосы. Но это лишь поначалу. А уж под конец никто на то не смотрел. И над слободой, мешаясь с ветром, попеременно звучали то тягучая, унылая татарская песня, то бойкая, на разбив лаптей, русская плясовая.
А отец Иван, потом еще долго смеясь, поминал и диву давался, что посольские, даже те, которые прежде и не говели, не прельстились скоромным, хотя татары и пытались их потчевать душистым сайгачьим мясом, а обошлись лишь знатными Васьки Светлого пирогами с осетром и визигою да соленьями…
Михаил проснулся среди ночи от тишины. Ветра не было. Он поднялся. Оторвал от окна войлочную заглушку. Высоко в чистом черном небе висело мятое серебряное блюдо луны.
По первому свету посольский княжеский поезд готов был тронуться в путь. Бояре, дружинники, ездовые были свежи и радостны, будто вчера в бане помылись. В ясном, прозрачном воздухе, схваченном легким морозцем, звонко разносились голоса, скрип упряжи и полозьев, храп и крики стабуненных коней.
По слову Ефрема для скорого бега возки запрягли не парой, а по-особому — владимирской тройкой. В корень Тверитин велел поставить рослых, известных резвостью русских коней, а в пристяжные велел запрячь сноровистых степных татарских лошадок.
Татары дивились необычной запряжке, да и тверские чесали под шапками.
— Куды дак! — сильно волновался княжеский ездовой Пармен Сила. — Порвут постромки-то!
— Кудыда, кудыда! — нарочно дразнил его Тверитин. — А ты-то на что? Кнутом-то ее стереги…
Михаилу запряжка пришлась по нраву. Уж одно хорошо, что любо глядеть, а коли пристяжных не упускать из узды да кнутом по бокам охаживать вовремя, глядишь, и правда полетят по-иному!
— А то! — хвастал Ефрем. — Как еще полетят-то!
Татарские провожатые тоже рядились в путь. Это князю не нравилось. Дальше, по уговору с мурзой, тверичи должны были бежать одни. Хоть и не было от них покуда никакого вреда, а, напротив, одна лишь польза, но Михаила тяготило их присутствие: словно рука Тохты не отпускала его. Вчера Ак-Сабит (Михаил это видел) до времени, пока и его не свалила арька, хотел говорить с ним, но слишком шумно и людно было в избе.
— Али раздумал в Сарай возвращаться? — спросил Михаил Ак-Сабита, пешим подошедшего к крыльцу, на котором стоял князь.
— Русский улус хорошо! Я же в Ростове у царевича Петра при дворе мальчиком жил…
«Вон оно что», — понял наконец Михаил, откуда мурза так хорошо знает русскую речь.
Когда-то ордынский царевич, племянник хана Берке, так сильно пленился Христовым учением, что принял православную веру, крещен был под именем Петра, женился на русской и жил в Ростове Великом, как говорили, свершая одни лишь благодеяния. Впрочем, для татарина и то уж благодеяние, если он не убивает русских.
— Хороший русский улус, — повторил Ак-Сабит и добавил: — Только закона нет.
— Как нет? — Михаил удивился.
— А так — нет в вашей вере закона, одно добро. А значит, это уже и не закон, князь. Жил я у вас, знаю, все можно!
— Что — все?
— Люди твои сайгу упустили, ты их наказал? — Ак-Сабит плетью загнул на руке малый палец. — Люди твои коней потеряли, почему ты никого не убил? Разве они без вины? — Плетью он прижал другой палец к ладони. — Ефрем твой баскакова сына убил, зачем ты его из-под суда вывел? — Ак-Сабит загнул на руке третий палец. — Правосудный хан и это тебе запомнил, — взглянув по сторонам, проговорил он вскользь и продолжил: — Твоя вера не дает кушать мясо, но если кто нарушит запрет, почему ты его не убьешь? — спросил он, загнул еще один палец, сжал руку в кулак и пристально посмотрел Михаилу в глаза.
Михаил молчал.
Мурза усмехнулся:
— Молчишь, князь? То-то… Ваш закон добрый, наш Джасак злой. Потому вы всегда будете нам служить.
— Врешь! — Михаил побелел лицом, но говорил спокойно. — Врешь, мурза. Мы вам не слуги, а данники. Не дело мне с тобой, безбожным татарином, о вере святой речь вести.
— Я не татарин, я монгол, — надменно сказал Ак-Сабит.
— Один черт, мурза, — усмехнулся Михаил.
— Не ругайся со мной, Михаил, — сказал вдруг Ак-Сабит. — Ак-Сабит не хочет быть врагом князю.
Михаил сбежал с крыльца, став вровень с татарином. Не меньше чем на голову с хорошей шапкой он был выше мурзы.
— Ладно, Ак-Сабит… ехать нам пора. — Он помолчал, не зная, как ему проститься с татарином. — А коли не хочешь врагом быть, скажи, по какой примете узнал, что дуть нынче кончит?
— Нет приметы, князь, для степного бурана: шайтан сам приходит и сам уходит.
— Откуда ж верно прознал?
— Бохша Сульджидей сказал: шайтан два дня будет дуть, на третий устанет.
— Гурген Сульджидей? — не веря, переспросил Михаил.
Мурза важно кивнул.
— Так, князь. Великий бохша все знает. Он велел мне упасти тебя от шайтана.
— Упасти? Ты разве не ханский нукер? — Князь все более удивлялся. Он-то считал, что это Тохта навязал ему провожатых.
— Все мы слуги у хана, — улыбнувшись, уклончиво ответил мурза.
По его глазам князь понял: больше ему Ак-Сабит ничего не скажет. И так сказано было достаточно. Выходит, не хан послал Ак-Сабита, а его могущественный советник Гурген Сульджидей, и вовсе не с тем, чтобы задержать в пути, а напротив.
Тем более следовало спешить!
— Ну, прощай, Ак-Сабит!
— Спеши, князь, — сказал он серьезно и вдруг рассмеялся. — А татарам не верь, у нас свой Джасак! — И еще, когда уже Михаил тронул коня, крикнул весело вслед: — А татарам не верь, князь! И мне не верь!..
Наконец-то над степью открылось небо, и было оно так высоко, сине, бездонно, каким на Руси бывает в светлый апрельский день. Солнце искрило снегом, слепило глаза, розово насквозь пробивало ладонь, когда Михаил пытался от него заслониться.
Княжеский поезд летел, укатывая первопуток, звеня колокольцами и, как научили татары, не упуская из виду Волгу, которая то приближалась, то отдалялась голыми прутьями ивняка, определяя верность пути.
Запряженные тройкой возки и правда бежали прытче. То коренной тащил за собой пристяжных, то пристяжные несли вперед коренного, не давая ему лениться.
Бешеным гоном, с остановками лишь на короткий ночлег, миновали мордовские земли, Бездеж, Самара, Бельджамен, Булгар[51] и прочие ордынские города…
А дальше уж начиналась Русь.
10
Въехав в Русь, Михаил приказал снять ордынские колокольцы. Что беду даром кликать? Да и устал он от их бесконечного тоскливого звона. Уху приятней было слышать скрип бегущих полозьев да покойный стозвонный шум вековых боров.
От Булгара до Рязани и далее от Рязани путь шел сплошь лесом. Высокие, и зимой зеленые сосны с нахлобученными белыми шапками осыпали снежное убранство в мягкие сугробы с утробным стоном. Прыткие, любопытные белки темным пламенем мелькали среди золотистых стволов, сопровождая княжеские возки.
Однако и здесь, среди покойных родных лесов, тревога не оставила князя. Темные, загадочные полунамеки юрта-джи Ак-Сабита лишь утвердили его в мыслях о том, что Руси готовится новая пакость. Причем было ясно, что Ак-Сабит, бессомненно, знал больше, чем сказал Михаилу.
Юрта-джи — человек-сторож, разведчик, в чью службу входит обязанность знать если уж не все, то как можно больше из того, что происходит в самой Орде и за ее пределами. Однако какой же веской должна была быть причина, по которой сам советник Гурген Сульджидей (как предполагал о том Михаил) заставил хана внезапно отправить его на Русь и даже дал ему провожатых, чтобы провели сквозь буран.
Истина не бывает истиной наполовину, но ложь может казаться правдой. Особенно государева или татарская ложь — милостивая, улыбчивая, вероломная. Где хан — там и правда, так говорят в Сарае. А надо бы говорить иначе: где хан — там и ложь…
Впрочем, об Орде, хане Тохте, Сульджидее, обо всем том, что прошло, князь уже не поминал. Пытаясь предугадать события, он думал лишь о том, что ждет его на Руси.
По зимней поре и путников не было, только деревья летели навстречу.
Первыми, кого встретил Михаил, были рязанские князья Федор, Константин и Ярослав Романовичи. Встретили они тверского князя с искренней приязнью и ни за что не хотели отпускать без пира и гостевания. В иное время Михаил с охотой задержался бы у них. Осиротев, братья не потащили каждый на свою сторону Рязанскую землю, а, напротив, дружно сплотились, чем дали редкий по тем временам пример княжьим гнездам. Отец их, славный Роман Олегович, кровью своей завещал им жить в вере, мире и добросердечии, и сыновья держали его завет.
А страшную мученическую смерть Роман Олегович принял от сменившего хана Берке будто бы больно доброго, как о нем и по сю пору говорят в Сарае, брата его Менгу-Тимура, тайного же убийцы и Михайлова отца, что тоже сближало тверского князя с рязанскими братьями.
Вместе с Ордой Менгу-Тимур принял от брата магумеданскую веру и, наверное, первым из татар служил ей столь ревностно. Менгу-Тимур, в отличие от осторожного брата, отдался магумеданству со всей царской страстью и так был усерден в нем, что возненавидел иные учения и стал уничтожать всякого «неверного» уже не потому лишь, что нуждался в его стадах, пастбищах, ином богатстве или просто из склонности к первенству, как делали это Чингис и Баты, а из одного ревностного служения Алкорану, не терпящему божественного соперничества.
Сказывают, Роман Олегович неосмотрительно упрекнул хана в ослеплении ума. Тому о том донесли, как уж водится. Менгу-Тимур призвал к себе рязанского князя и хотел было сначала заставить его отречься от своих слов, а уж после убить, но Роман Олегович от слов своих не токмо что не отрекся, а еще и прибавил от себя, что воистину думал и о магумеданстве, и о заблудшем его последователе хане Менгу-Тимуре…
Умер он, славя Господа.
Его отрубленную голову со снятыми ножом волосами хан приказал воткнуть на копье и так, на копье, привезти в Рязань в назидание всем православным и сыновьям.
Как не были любезны рязанские братья, Михаил настоял на своем и, после краткой передышки, необходимой людям и лошадям, снова тронулся в путь.
Странно, но ни о чем, что подтверждало бы его тревоги, братья ему не сказали. На Руси было тихо и благолепно: ни глада, ни раздора, ни мора. Правда, с месяц назад старший брат Федор получил грамотку от Андрея из Городца, в которой он призывал рязанских братьев поддержать его против великого князя Дмитрия. Но такие грамотки от времени до-времени князь Андрей и прежде всем рассылал, вероятно все еще безумно надеясь, что кто-то его поддержит. Куда там! Устали люди от разора и крови, а мира ждать от князя Андрея все равно что от хищного зверя ласки. Медведь-то, тот тоже — сначала лизнет, а уж потом и откусит…
Да, вот что еще порадовало Михаила в Рязани: начинали уже князья понимать, что одной лишь своей выгодой и корыстью не прожить, одной лишь своей силой не то что от татар, а и от мордвы или чуди не оборониться, когда б они храбрости набрались… Тот же князь Константин сказал Михаилу то, о чем он и сам тайно думал, о чем прежде и помыслить было нельзя, не говоря уж про то, чтобы кому-то довериться. Сказал ему князь Константин, не прошло ли достатнее время с тех пор, когда русский глаз не смел поднять на татарина, сказал, что довольно уже князьям друг с другом собачиться и одну лишь русскую кровь проливать, сказал, что пора уже под одним знаменем Русь собирать, и дал на то Михаилу поруку в поддержке, коли он, Михаил, когда-нибудь найдет на то дух, силу и мужество…
Ах, Константин Романович! Разве соберешь ее, Русь-то? Вон она какая раскидистая! И не поймешь, кто ей нужен, Андрей ли или иной кто?..
А если Андрей все шлет свои волчьи грамотки, знать, не теряет надежды. Да и к хану Тохте он ездил, поди, не один кумыс пить! Только кто же его поддержит? Московский брат Даниил Александрович да Федька Черный? Вот уж кто всякой каверзе рад…
Внук Мстислава Давидовича Смоленского, князь можайский Федор Ростиславич, когда-то обойденный на Смоленске старшими братьями Глебом и Михаилом, видать, навсегда затаил обиду на белый свет. И оттого такой пакостливой стала вся его жизнь, что нарекли его Черным. Женился он на ярославской сироте, дочери князя Василия Всеволодовича, княжне Марии. А на Ярославле правил совместно с тещей, вдовой Василия Всеволодовича, княгиней Ксенией. Много обиды и притеснений сделал он ярославцам. Да и жену свою Федор не любил. Всему городу на позор, нарочно изводил ее так, что она недолго и прожила. Впрочем, оставив супругу сына Мишу. Всякие слухи и домыслы ходили в городе о ее смерти, в то, что смерть к ней пришла в свой срок и сама по себе, мало кто верил. Однако в гробу Мария лежала молчалива и сказать наверное, отчего умерла в полной силе и красоте, конечно же не могла. Федор же, по скорой смерти супруги, отбыл для развлечения к хану Ногаю. Ярославцы хотя бы тому были рады и, заставив принять схиму княгиню Ксению (тоже не отличавшуюся добродетелями), поставили своим князем Михаила, сына Федорова.
Чего Федор искал у Ногая — никто не знает, а уж что нашел — то нашел. Юная царевна, ногайская дочь, так пленилась красотой Федора Ростиславича (а видом он и впрямь был отличен), что уговорила отца выдать ее замуж за русского князя. По странной прихоти, верно, для вящего искушения, в прелестный сосуд может Господь поместить такое душевное непотребство, какому и имени нету. Разве что Федька Черный? И для него, дабы получить благословение на супружество константинопольского патриарха, татарская царевна даже крестилась в православную веру, приняв имя Анны.
Став Ногаевым зятем, Федор с новой женой вернулся в Ярославль, где, ужаснув зверством новокрещеную Анну, уж не дал пощады никому — ни боярам, ни безвинному сыну. Одним словом, Черный.
Татарская же царевна оказалась усерднейшей христианкой и остальную жизнь отмаливала грехи мужа и даже поставила в память о пасынке, которого не успела узнать, храм в честь его тезоименинника Архистратига Михаила.
Истинно: неисповедимы пути Господни!
— Князь! Князь!
Михаил очнулся от полудремы, выглянул из возка. Ефрем показывал плетью вперед, но с низкого возка да еще из-за широкой спины ездового Пармена Силы ничего не было видно.
— Да что там?
— Коломна!
— Ну, чего орешь-то?
— Горит, князь!..
Как был в кафтане, Михаил выскочил на снег.
Первые возки только выходили на лесную опушку, последние на версту растянулись в бору. Не дожидаясь коня, Михаил бегом кинулся к просвету среди дерев, за которыми уже начинались коломенские заливные луга.
Коломна уже отгорела.
Слабые, но широкие дымы даже издалека никак нельзя было принять за печные: весь город курился спаленной, потухающей головней. Перед крепостью чернели остовы сожженных посадских изб, сама крепость с порушенными бойцовыми вежами и осевшими городницами зияла пустой дырой сгоревших ворот. Из-за стен уродливо торчали обезглавленные, закопченные каменные своды церквей, оплыло, слизанное огнем, олово куполов. На пепелище перед крепостью копошились редкие люди…
Вот и сбылась его тревога!
Отчего-то вспомнились смех, белые зубы и слова мурзы Ак-Сабита: «Спеши не спеши, князь, — успеешь…»
Михаил хрустнул зубами, согнав со скул затвердевшие желваки.
— Ефрем!
Тверитин подвел в поводу Князева жеребца. Другой окольничий подал в рукава легкую шубу, подал шапку и пояс с саблей. Спешившись, дружинники стояли позади князя, молча крестясь, смотрели на город. Подбежали Царьгородец, Святослав Яловега, другие посольские.
— Господи Иисусе! Радость Рождества Твоего в слезах и пожарище! — тихо проговорил за спиной Михаила Ярославича отец Иван.
Оставшиеся в живых коломенцы с черными от горя и копоти лицами уже прибрали мертвых, похоронив всех в двунадесяти общих скудельницах, снесли из домов и храмов уцелевшее от огня и недограбленное татарами имущество на двор княжича Василия, сына рязанского князя Константина Романовича.
Отец для выучки недавно посадил его на Коломну, препоручив боярам. Бояре были теперь перебиты. Осталась жалкая горстка дворовых, сумевших уберечься от железа поганых.
Княжичу, наверное, было лет четырнадцать или пятнадцать. Однако на вид, да еще пришибленный, прибитый бедой, он казался совсем малолетним и малоразумным. На вопросы Михаила отвечал, с трудом разлепляя губы для слов, глядя перед собой пустыми, опрокинутыми глазами с опаленными по самое мясо ресницами.
Впрочем, и без его пояснений все было ясно.
Татары пришли не со стороны Сарая, не из Золотой Орды, а с юга, со степей Ногайской орды. Привел их брат Тохты, Михаилов знакомец, Дюдень, с тем чтобы поставить на великое княжение вместо Дмитрия Александровича брата его Андрея. Сам князь городецкий Андрей был с татарами. Из русских был еще ярославский князь Федор Ростиславич Черный.
Подступив к городу, Андрей Александрович потребовал отворить ворота. Посулил, что разору не будет, коли княжич и коломенцы присягнут его власти. Василий не хотел позором начинать свою жизнь на княжении, да и народ коломенский готов был биться со стен. Однако препирались недолго — запугав Василия, бояре уговорили его все-таки сдать Коломну. Где они теперь, эти бояре?
Нарушив слово, царевич Дюдень пустил своих татар на покорный, открытый город. А те будто соскучились, стосковались по русской крови. Никого не пощадили: ни стариков, ни детей, ни церквей…
Давно еще хан Берке дал митрополиту Кириллу яшмовую печать на то, что православные храмы и монастыри не подлежат ни дани, ни воинскому разграблению. Что стоит ханское слово? Что стоит его яшмовая печать?
Поганые еще и нарочно тащили в церковные приделы женщин и девок, брали их в алтарях, подтирались от девственной крови праздничными золотыми ризами и плащаницами. А на папертях рубили головы боярам и церковному причету. Поздно было мужьям да братьям хвататься за топоры и мечи. Но схватились — все одно умирать… Три дня резали татары коломенцев, баб и деток заживо жгли в деревянных церквах, не давая никому ускользнуть из города. В полон повели не более сотни крепких мужиков да молодых баб.
А Андрей Александрович и Федор Черный, пьяные не столько вином, сколько властью и кровью, повсюду таскали за собой княжича, показывая ему, как умирают его коломенцы…
— Что ж ты к отцу не послал?
— Не успел.
— А теперь что же?
— Они на Рязань пошли.
— Нет! — крикнул Михаил Ярославич, пытаясь разбудить княжича от бессонного забытья. — Не пошли они на Рязань! Я с Рязани пришел от отца твоего, нет их там! И на дороге не встренулись, мы же не могли разминуться! Василий!
Княжич смотрел в какую-то свою глубину, и неведомо, что он там видел.
— Куда Дюдень пошел? На Москву?
— Нет… — Василий медленно покачал головой. — Знать, на Муром… Али Владимир.
— Давно?
— Давно… — Княжич вдруг затрясся плечами, забулькал горлом и, закрыв руками лицо, привалился к плечу Михаила.
— Я это… я… я виноват!..
— Ну, будет… Будет, что ли, Василий. Ну, Василий же Константиныч, будет… Ты же князь, Вася, князь, нельзя нам, ну, будет… — Михаил гладил мальчишку по плечам, по голове, но не мог успокоить. Да и чем же здесь можно было утешиться?
От Коломны пошли укатанной, умятой дорогой в Москву. Дорога шла лесом, вдоль петлястой реки, называвшейся также Москвою.
Еще на Коломне дружина без приказов и слов разобрала из складского возка оружие. Снарядились изрядно, и луками, и копьями, и булавами, а не только одними мечами да саблями. Под короткими заячьими шубейками появились у кого татарские латы из жесткой блестящей скоры, у кого кованые нагрудники, у кого кольчужки, сплетенные из тусклых мелких колец. Седельные сумки раздулись от шишкастых высоких шлемов, глухо брякавших там о кованные кольцами назатыльники и иное железо на лошадином бегу. При каждом верховом уже под седлом и в узде шел еще один конь в заводе. Ездовым было наказано не упускать передний возок далее чем на сажень. Стабуненный лошадиный завод, который вели за собой из самого Сарая, теперь совсем стал обузой. Мало того что сторожили его одновременно пять, а то и семь дружинников, но и шум, производимый почти полутысячей конских ног, намного опережал тверской поезд.
Впрочем, Тимоха Кряжев со своею горстью шел напереди поезда, и можно было гнать во всю мочь, не опасаясь столкнуться с какими-нибудь татарами. Михаил Ярославич и гнал во всю мочь и во все лопатки, останавливаясь лишь затем, чтобы перезапрячь выбившихся из сил лошадей.
Обычно живая дорога была мертва. Разнеслась, видать, весть по Руси. Затаился бойкий торговый люд по углам, всяк там, где узнал про напасть, авось пронесет…
На полпути от Коломны до стольного Даниилова города, в том месте, где впадает в Москву-реку малая речка Мерекая, бегущая из лесов, в большом селе с полусотней домов и со светлой, нарядной церковкой, срубленной топорами так ладно, что издалека кажется, будто она не стоит на речном берегу, а сама бежит навстречу подъезжающим заждавшейся любой, Михаила Ярославича встретили тревожные жители.
Местный тиун и священник той праздничной церковки Воскресения Христова привели Михаила в избу, где на лавке лежал мужик. Его лицо и руки были обмотаны тряпицами, густо пропитанными гусиным жиром. Возле него еще хлопотали бабы — мазали жиром распухшие, сочившиеся гноем и сукровицей черные, как кожа у редьки, ступни. Мужик тихонько благодарно постанывал.
— Вот, князь, вышел ныне из леса. Видать, заколел. Ишь, ноги-то как опухли… Эй, каменщик! Как тебя там? — негромко окликнул он мужика, приблизив к его обмотанному лицу свою бороду. — Слышишь меня-то?
— Слышу… Иван я… С Владимира.
— Князю-то, слышь ты, скажи, Иван… князь тверской здеся, Михаил Ярославич.
— Дак что ж, татары… — Мужик замолчал. И все молчали. Потом снова послышалось из-под тряпок: — Ворота-то ить сами открыли, а оне-то пожгли-побили… Андрей Городецкий с ними. Слышь, князь, — попросил вдруг мужик, — ты им ворота не отворяй…
— Не отворю, — успокоил его Михаил и спросил: — Куда идут они, знаешь ли?
— Не знаю, князь. Поди, на Переяславль… Дмитрия они рыщут.
— Давно ушли?
— Давно уж… Я лесами без счета сколь дней шел… Гонют, гонют… Девок портят, волкам кидают… Золотой пол-то и тот выломали… Слышь, князь, в церкви-то Богородичной золотой пол был, так выломали они пол-то, слышь, князь… — Мужик говорил удивляясь и всхлипывая, будто сам только про то узнал. — А я-то убег… Лесами… Ноженьки-то на золотом полу горят, горят — земли хочут… — Он уж бредил, кидаясь головой по лавке.
— Ужели и церква рушат? — перекрестившись, со вздохом спросил священник.
— В Коломне пожгли, — ответил Михаил.
— Господи, сохрани!..
— Нам-то как быть? В Москву идтить али в лес? Наш-то Данила Александрович брат, чай, Андрею-то? — с надеждой спросил тиун.
— Бешеный пес родства не ведает, — сказал князь и вышел из избы, в которой уже пахло гниющим мясом еще живого владимирского Ивана.
— Что, князь, Москвой идем? — спросил Тверитин.
— Гони, Ефрем, на Москву, авось проскочим!
Тимохи Кряжева горсть тут же ушла вперед.
Михаил, сняв шапку, оборотился к церкви и, осенив себя крестным знамением, поклонился ей в пояс.
Церковка и впрямь была славной. Вроде и невысокая, вроде и скромная, истинной Божией невестой стояла она на речном взгорке, открытая небесам и дальнему взгляду. Деревянная кровля плавным кольцом падала с-под небес на рубленые точеные стены, но не давила их, а, напротив, словно звала за собой туда, ввысь, где нежным свечным застывшим огнем горел изукрашенный золотой чешуей единственный куполок.
— Кто церкву-то рубил? — входя в возок, оборотился князь к тиуну.
— Мужики, чай…
— Твои?
— Дак наши.
— Пришли мне в Тверь тех мужиков, пусть и нам такую-то срубят. Лепа — аж душе больно! — сказал он и пустил поезд в гон.
И еще долго, пока видна была, оглядывался на маленькую церкву. Теперь она не бежала навстречу, но и опять будто не стояла на месте, а все тянулась за ним, провожая, как мать или люба. А горящий ее куполок теперь казался малой слезой, упавшей на землю с неба.
Господи, сколько чудес твоих в русской земле!..
— Ах, пес! Ах, пес!.. — в голос, сквозь зубы, ругался Михаил Ярославич в своем возке.
Сейчас ему многое стало ясно из того, что происходило в Орде и что в Сарае от него ускользнуло. Ясно стало, зачем хан Тохта послал царевича Дюденя к хану Ногаю: затем лишь, чтобы руками его ногайцев поставить-таки на Руси звероватого Андрея заместо Дмитрия. Но это всего лишь повод. Ласковый, неспешный в словах и движениях Гюйс ад-дин Тохта дал, видать, волю брату так пройтись огнем по Руси, чтобы вспомнилось время Баты, чтобы снова вернулся тот рабский страх, когда татарин мог приказать русскому мужику лежать на земле до тех пор, покуда он отлучится за своей саблей, чтобы, вернувшись, этой саблей снести тому мужику голову. И ведь лежал мужик в смертной истоме, ждал татарина, настолько велик и безнадежен был страх перед ними, проклятыми агарянами. Ныне-то веселей стал мужик! То во Владимире, то в Суздале, то в Ростове единодушно вставали жители на татар, и видели уже русские кровь татарскую, и страх в узких раскосых глазах, и спины бегущих… Почуял Гюйс ад-дин Тохта — не та уже Русь!
Медленно, тяжело, с оглядкой, однако нарождалось единодушие, против которого и татары были слабы, единодушие в войне и вере, против которого нет дьявольской силы, единодушие, какого когда-то не хватило русским на Калке и Сити. Вроде бы вот оно, близко уже, ан нет! Тохта ли хитрый, прозорливый ли Гурген Сульджидей нашли зазор, чтобы опять разбить Русь, не дать ей собрать ни силы в руках, ни крепости в душах!
Впрочем, винить татар в том, что они блюдут свою выгоду, было напрасно и неразумно, иначе они и не могли поступить. Да Михаил их и не винил, как нельзя винить врага или зверя за то, что он зверь или враг. Другое имя жгло князю сердце пыточным каленым прутом. От отвращения он и про себя не мог произнести сейчас мерзкого имени Андрея-клятвопреступника. Ему казалось, произнеси он это имя вслух, он либо задохнется от ненависти, либо сблюет. И потому Михаил лишь шептал сквозь зубы:
— Ах, пес! Ах, пес!..
Еще Михаил не мог не думать о том, какую цель преследовали хан Тохта и тот же бохша Сульджидей, отправляя его на Русь. Чего хотели? Чего ждут от него? Гибели его? Так в Орде он нашел бы ее вернее, чем у себя на Руси, где даже городецкая тварь вряд ли посмеет поднять на него свою грязную лапу, потому что жизнь князя не в воле людей, даже таких богоотступных, как он. Нет, он нужен им для иного: войны они хотят, чтобы поднялся русский князь на русского князя, чтобы русские сами перебили друг друга, чтобы сильнее, чем татар, ненавидели родичей, и тогда не будет уже в веках более трусливого, жалкого, злобного к самому себе народа, пасти и доить который проще, чем стреноженных кобылиц.
— Ах, пес! Ах, тварь! Какое время угадал на Русь татар навести…
— Князь! — Ефрем Тверитин, приподняв войлочную опону, заглянул в возок. Глаза его сухо и зло блестели. Потная рыжая прядь прилипла ко лбу. — Татары! — выдохнул он.
— Где? — отчего-то так же шепотом выдохнул Михаил Ярославич.
— Напереди! От Тимохи Павлушка пришел.
— Ну, говори! — поторопил Михаил, давая Ефрему место в возке.
— Пленных гонят! Видать, с Москвы…
— Эх! — Михаил досадливо ударил себя кулаком по ноге. — Не успели! Сколь их?
— Много, князь. — Ефрем сокрушенно помотал головой. — Больше все девки.
— Тьфу ты! — Князь даже сплюнул от досады на Тверитина, у которого в любой миг на уме лишь одно. — Я тебя не о девках пытаю, татар сколько?
— А татар не более нас, князь, — горячо, будто просил хоть одного его отпустить против них, проговорил Тверитин. — Верхами полсотни будет, да и в кибитках, поди…
— Где Тимоха?
— Тимоха с горстью в лес юркнул. Он их наперед пропустил, сам хвостом плетется. Михаил Ярославич, князь! — О сече Ефрем просил как о милости.
И выход уже был найден, оставалось только решиться.
— Еще по десятку пешими пускай в лес на обе руки. Лучников отряди поискусней. Понял ли?
— Понял! — кивнул Ефрем.
— Да как покажутся, знак мой на древке выставь, князь, мол, тверской своей дорогой идет. — Ефрем уж пятился из возка. — Ну, с Богом, Ефрем!
— С Богом, Михаил Ярославич! — ответил Тверитин, радостно просияв лицом.
День был ясный, с хрустким ядреным морозцем. Всякий звук далеко разносился окрест. И скоро донесся, слабый покуда, шум встречного чужого обоза. Татары шли ходко, криками и плетьми подгоняя повязанных промеж собой полонян: девок, баб, реже мужиков и парней, числом на взгляд до двух, а то и до трех сотен.
Ордынские барышники (а это были они), прознав про поход, кинулись из Сарая на Русь, чтобы там подешевле перекупить къл-людей у ногайцев. Барышники только вышли из Москвы и спешили — пленных надо было догнать в Сарай, пока они еще оставались в теле. В Сарае их уже ждали купцы из Каффы, торговавшие по большей части людьми. Им тоже нужно было торопиться до распутицы перегнать рабов в город Каффу на Черном море, где на невольничьих рынках всегда держалась на них цена.
Именно этот отряд, обогнав князев поезд на пути из Сарая, шел впереди, получая на ямских станах лучших коней на смену. Наконец Михаил их нагнал. Вон где, у самой Москвы, считай, встретились.
Заслышав тверской поезд незадолго до того, как они его и увидели, татары разом загомонили и тут же стихли. Еще через миг оба обоза, шедших навстречу по одной умятой дороге, остановились в виду друг друга.
В том месте санный путь, повторяя изгиб реки, как раз делал петлю, и расстояние между русскими и татарами оказалось меньше, чем могло быть, когда б татары завидели русских на ровной прямой. По обе стороны от дороги стоял бор. С одной стороны — темный, дремучий, с другой — редкий и светлый, приречный, лишь на пять десятков шагов.
Нарочно повременив, Тверитин приказал поднять древко с княжеским знаком.
Сам князь, будто лишь теперь узнал о татарах, вылез из возка, неторопливо пошел вперед. Остановился, дождался, когда ему подведут коня…
И посольские бояре, и ездовые — все были наготове. Даже отец Иван вооружился длинным, по его неслабой руке, мечом и теперь тоже, взобравшись верхом, стоял рядом с князем.
Сбившись в кулак, Князева дружина тронулась навстречу татарам. Было их всего не более тридцати человек. Правда, невидным оставался еще засадный запас: Кряжева горсть да Те, кто обочь дороги с изряженными луками где-то сейчас таились за стволами и кустьями.
Ударить надо было едино, потому Михаил и медлил. Он будто звал татар самих выйти навстречу…
— А что, отец Иван, разве тебе подобно мечом махать? — спросил он вдруг у Царьгородца.
— Не удержано есть святыми канонами, — трубно ответил тот и пояснил: — Разумея, конечно, ежели поп человека на рати убьет.
Ефрем позади фыркнул, не удержав смеха.
— Я тебе пофырчу, греходельник, — пообещал Тверитину Царьгородец.
Напереди у татар тоже сколотилась ватажка. Другие прытко начали распрягать лошадей, освобождая кибитки, с тем чтобы успеть поставить их кругом, если придется схватиться. Хоть и остался напозади у них Кряжев, этого нельзя было допускать: за кибитками они могли укрыться как в крепости.
— Поори им по-ихнему, — сказал Михаил Ефрему.
Ефрем заголосил по-татарски.
Оттуда тоже ответили в свой черед.
— Айда сюда! — улыбчиво, радостно крикнул еще Ефрем, и Михаил, не дожидаясь ответа, тронул коня.
Шли медленно. Молча. Наконец и от татар тронулись вперед конники. Главный татарин, отличавшийся от других богатой шапкой с собольей опушкой и барсовой пятнистой дохой, весь подобравшись в седле, настороженно улыбался. Пояс его туго стягивал нарядный атласный кушак. На этот кушак и глядел Михаил, пока лошади не остановились, с любопытством вытягивая навстречу друг другу морды. Как ни сближались, расстояние между противниками все же осталось значительным. Но и ближе съехаться, не выдав намерений, было уже нельзя.
— Что, взял царевич Дюдень Москву? — спросил Михаил, подняв глаза с кушака на лицо татарина.
Осклабясь, татарин согласно закивал:
— Взялы, кназ, взялы…
— Много ли пленных ведешь?
— Мало-мало… Спешить надо, иди свой путь, кназ. Ты слуга у хана, я слуга у хана.
— Я не слуга, пес! — крикнул Михаил, выхватывая из ножен саблю и наезжая конем на татарина.
Татарин, готовый к тому, бешено взвизгнул, схватился за рукоять кривой и короткой сабли, тоже послав вперед свою лошадь.
Однако столкнуться с Михаилом он не успел. Пущенное Ефремом из-за спины князя копье отбросило татарина назад. С хрустом кроша белые зубы, оно вошло ему прямо в глотку.
На Михаила кинулись сразу еще два ордынца. Одного он снял с седла сам, коротким косым ударом развалив его там, где кончаются ребра, саблю другого успел принять длинный меч Царьгородца, хотя Ефрем и не дал тому обагрить кровью руки. Кинув коня навстречу, он махнул саблей, но татарин ушел от удара, и тогда, сблизившись, Тверитин внезапно, как рогом, острым шишаком шлема боднул его в лицо. Шишак, скользнув по щеке и оставив кровавую полосу, вошел татарину прямо в глаз и застрял там меж лицевыми костями. Голова ордынца откинулась назад с такой силой, что услышалось, как мягко и жирно хрустнули шейные позвонки. Тверитинский шлем жуткой воронкой оставался еще у него на лице, пока татарин валился с коня.
Противники столкнулись в короткой рубке. Но ширины проезжей дороги недоставало, чтобы всем нашлось место для сечи. Русские рубились молча, с холодной расчетливой яростью. Один Царьгородец, без особого, впрочем, проку, махал мечом, задышливо хыкая и поминая при этом Господа, покуда его, раненного, не оттеснили из первого ряда.
А уж из леса да с двух сторон летели приметливые стрелы в тех татар, которые оказались напозади, и то один из них, то другой схватывались за горло, куда старались попасть невидимые русские лучники. Те, кто успел повернуть коней, мчались назад, спеша укрыться под защитой кибиток. Там их ждали сородичи с изготовленными, заряженными луками, однако наверняка пускать стрелы в русских они не могли, так как тех перекрывали свои, татары. А здесь и Тимохи Кряжева горсть дала себя знать. Конников было немного, но их нападение со спины оказалось столь неожиданным, что татары едва успевали выпустить в них по стреле, а уж саблей с земли конному много ущерба не сделаешь, будь ты хоть татарин, хоть растатарин… Да еще и пленные — эти покорные трусливые русские, повязанные друг с другом, словно обезумев, с воплем, единой кучей кинулись под татарские сабли, голыми руками хватая каленую сталь. А уж достав татарина, со звериным ненасытным остервенением рвали ногтями ноздри, глаза, плоские уши, сальные, сплетенные в косы волосы, выхватывая руками и само горло…
Сеча была короткой. Ни один татарский барышник не прорвался назад, ни один не остался цел. После горячки боя Михаил приказал добить еще дышавших татар.
О милости никто не просил. Да и не было в сердцах тверичей милости.
Чудом освобожденные из полона люди стремились достичь князя, коснуться его одежды, запечатлеть лицо спасителя, чтоб воочию запомнить того, за кого теперь станут молить у Бога. Те, кто был от Михаила далек и не мог уж к нему приблизиться, целовали руки дружинникам. Плакали слезами от счастья и молодухи, и бабы, и мужики.
Дружина и ездовые — и тот, кто бился, и тот, кому не пришлось, искали себе и князю пользу в татарских возках. Было в них многое: блюда и кубки, выломанные нарядные оклады икон, тюки с тканями, дорогое оружие, наборные пояса, пряжки, вязки мехов, серебро в гривнах и отрубах да драгоценные бабьи навески — лапчатые и кольчужные цепи, перлы, янтари, бисерные витки и снизки, браслеты наручные да колты из ушей, какие еще с подсохшей и вымерзшей человечиной… Да мало ли чего можно добыть грабежом на войне в богатых русских домах!
Благодаря Господу убитых было немного. Насмерть срубили боярина Сему Порхлого да двух Князевых отроков из дружины, да из Кряжевой горсти Данила Голубь ненароком словил горлом стрелу и теперь, успев причаститься Божией милости от отца Ивана, медленно, молодо помирал. Грудь его еще могла и хотела дышать, но уж ей было нечем — стрела перебила дых, и воздух, брызгая розовой пеной, свистел из раны, как ее ни пытались приткнуть тряпицами. Остальные же были целы, а кто и ранен, но жив…
Царьгородец сочил кровью из разрубленного плеча. Отодрав рукав от суконного, подбитого мехом широкого зипуна, он сидел, привалившись к возку, и пихал в рану снег, тут же стекавший сквозь пальцы красным. При этом нравоучительно выговаривал стоявшему возле него с белым порванным полотном в руках юному гридню, спешившему перевязать отца Ивана и кинуться к татарским возкам:
— Погоди, сын мой, дай крови примерзнуть… А за богачеством не гонись. Сказано: богатому в Царствие Небесное как вельблюду в игольное ушко проникнуть…
— Да я рази гонюсь, отче, — все еще горя от схватки румяным чистым лицом, оправдывался посольский баловень Павлушка Ермилов.
— Вот и не торопись, у-м-м… — Страдая, Царьгородец тряс головой и прихватывал верхними лопатными зубами бороду под нижней губой. — Эх, снег студен, да больно кровь горяча! А что, Павлушка, знаешь ли, что причетник про богатого-то сказал?
— Так много что про них говорят…
— Вот и не знаешь! А причетник-то так сказывал… — Неспешно, перемежая слова долгими стонами и иными причитаниями, видно тем отвлекая себя от телесной боли, Царьгородец поведал отроку притчу: — Ты, богатый, ешь тетеревов, а убогий хлеба не имеет чрево насытить, ты, богатый, облачаешься в паволоки, а убогий рубища не имеет на теле, ты живешь в доме, расписав повалушку, а убогий не имеет где главы подклонить… — Павлушка слушал складную притчу, открыв в изумлении рот и забыв про возки. — Но и ты, богатый, умрешь, и останется дом твой, всегда обличая твои деяния. И каждый от мимоходящих скажет: се дом оного хищника, кто сирот грабил — вот дом его пуст… Ну, вяжи, что ли! — взвыл внезапно отец Иван так, что Павлушка растерялся и выронил полотно. — Убивец ты мой, Павлушка! Из-за тебя кровью в снег исхожу…
Ефрем неотлучно находился при князе, оберегая его от московских и прочих жителей, что, окружив Михаила, в радостном исступлении благодарили его и славили.
— Ну и будет уже, хватит, — строго прикрикивал князь, но голос его был мягок, а сердце умильно от вида этих несчастных, спасенных им от рабской неволи людей.
— Куда ж вы прете-то, ироды! — нарочно грубо, потому как и в его сердце не было места злобе, кричал Тверитин и отпихивал особо назойливых.
И вдруг среди десятков, а то и сотен глаз, глядевших на князя, Ефрем увидел глаза, смотревшие на него. Господи, те глаза, что, как с Божией иконы, уже заглядывали в него — по самую душу. Среди толпы, почуяв, что ли, на себе ее взгляд, Тверитин увидел ту иноземку, которую торговал ему на сарайском базаре каффский купец.
Видать, с чужого плеча, в сермяжной простой коротайке[52], накинутой поверх худой одежонки, с головой, замотанной суконной тряпицей, молча, бездонно и горько она глядела на Ефрема, может быть надеясь поймать его взгляд.
Расталкивая, откидывая от себя людей, Ефрем рванулся навстречу этим глазам. И когда сжал рукой острое маленькое плечо, дрожавшее от стужи и страха, сердце его захлестнула неведомая доселе жалость.
— Ну, что ты! Все уже, все! Чего молчишь-то? Ты не молчи, нашел я тебя…
Ее и до того била крупная дрожь, а теперь Ефрему показалось, она задрожала еще сильнее. Посинелыми голыми ручками она слабо уперлась Ефрему в грудь.
— Ну, чего ты? Не бойся меня, не бойся… — Ефрем говорил что-то, не зная, что он говорит, не заботясь, слышит ли, понимает она его, ему было важно одно: чтобы она его не боялась и поверила, что с ним ей не будет плохо.
Обронив на снег пояс, он распахнул шубу, скинул ее с себя и, спеша, чтобы не выветрилось его тепло, накрыл той шубой с головой иноземку, запахнул, закутал, как смог, и, подняв на руки, понес к своему возку.
— Опять какую девку добыл?! — весело усмехнулся ему вслед Михаил Ярославич.
— Не девку — жену, князь… — севшим вдруг, чужим голосом ответил Тверитин.
Несмотря на то что Даниил Александрович с поцелуями встретил брата, участь Коломны, Мурома, Владимира, Юрьева, Суздаля и других городов не миновала Москвы.
Андрей не мог, да ему и ни к чему было то, удерживать царевича Дюденя. Дюдень же, кроме того чтобы поставить на великое княжение угодного Орде князя Андрея, имел и свою, гораздо более важную цель: напомнить русским, в чьей они власти. А понукать воинов резать, жечь, грабить и сильничать ему вовсе не требовалось. Добыча была тем приятней, что за нее не приходилось платить и каплей татарской крови. Самую сильную досаду нанесли им переяславцы: узнав о приближении татар, жители, оставив пустыми дома и церкви, укрылись в лесах…
Обо всем этом Михаил Ярославич узнал от освобожденных из полона москвитян. Ясно было, что из Москвы Дюдень пойдет на Тверь. Коли уже не тронулся. Судя по скорости их движения, в каждом захваченном городе они оставались не дольше, чем нужно было им, чтобы накормить лошадей, нажраться убойным мясом и справить похоть.
Среди освобожденных от полона оказалось немало таких, кто вызвался указать дорогу вкруг Москвы на Звенигород и далее через глухие боры вывести к Волоку Ламскому, от которого речкой Лобью шел прямой путь на Тверь.
Как ни гнали коней ездовые во весь путь от Желтой горы Сары-Тау, теперь же и вовсе княжеский поезд летел стрелой. Кроме необходимого числа лошадей, оставленных в смену на каждый возок и каждому верховому, заводной табунок князь приказал отдать отбитым у татар людям, молившим взять их с собой. На всех лошадей не хватило. И те, которые остались, пешими бежали за Князевым поездом, сколько хватало сил. В основном то оказались бабы и девки. Михаилу сейчас нужна была сила, всех он забрать не мог. И бабы то понимали.
Сначала они бежали рядом, схватываясь руками за конские хвосты и возки, потом, сбив ноги, начали отставать, падали, поднимались, снова бежали… И молчали, и ни о чем не просили. Верховые не смели оглянуться назад, где вслед им глядели, молясь за них, бабьи глаза. Ездовые ломали кнутья о лошадиные спины.
За Волоком Ламским Михаил оставил обоз и с дружиной ушел вперед.
11
Со всех концов пожженной русской земли стекался народ к Твери. Тысяцкий Кондрат Тимохин с ног сбился, принимая приходящих и распихивая по дворам, достойным их гражданского состояния. Впрочем, никто не важничал и не кичился достоинством: дмитровский боярин рад был и избе рукодельника. Не гостевать люди собирались на Твери. Неведомо, каким слухом и почему, но народ, собиравшийся сюда, верил, что Тверь Дюденю не откроется, а станет биться. Правда, здесь их ждало огорчение: тверского князя Михаила Ярославича, на которого все отчего-то и возлагали надежды, в городе не было. Но уж и дальше бежать оказалось некуда.
Воевода включал в ряды оборонщиков всякого, кто изъявлял желание — и иногородних боярских отроков, и простых землепашцев — всякого же и напутствовал обычными своими словами: «Ну, помогай тебе Бог…»
А люди все шли и шли, прибывали и прибывали с обозами, конными, пешими, в одиночку и стайками. Город готовился умирать, и всем было дело.
Мужикам к их топорам да рогатинам из Князевых складских выдавали под слово броню, кожаные и кованые латы, щиты да другое оружие… К крепостным стенам свозили котлища, смолу, дрова для костров. А напереди крепости Помога Андреич распорядился посадские дома раскатать по бревну. Дабы не зажгли их поганые. От посадских домов, коли зажгут их татары, огонь как раз коротким путем на крепость и перекинется. Одним словом, готовились…
Из Олешны — монастырского села, куда владыка отбывал на покой — спешно вернулся епископ Симон. Не ослабнув от злой вести, а, напротив, будто бы наново народясь, с прежней силой и вдохновением денно и нощно служил он молебны в переполненном от раннего утра Спасо-Преображенском храме.
Княгиня Ксения Юрьевна в эти пять лет вовсе не постарела, но и лицом, и повадками стала еще больше похожа на инокиню. Вместе с владыкой и чадью она усердно молила Господа о спасении, но в то же время не оставляла ведения городских дел и всякий миг готова была выслушать доклады бояр о последних вестях, час от часу прилетавших все чаще и становившихся все тревожнее. Уже и Москву спалили поганые, и Дмитров взяли. Следующий черед наступал Твери.
Одно радовало Ксению Юрьевну: давно уж она не видела такого мужественного и ревностного единодушия во всех своих людях — от ближних бояр до последних челядинцев и холопов. Странно, однако от сознания обреченности люди не впали в бездеятельное уныние, а будто еще набрались решимости. Все словно выпрямились, готовые скорее принять смерть на миру, чем позор. Казалось, даже малые дети понимали, что их ждет, и были к тому готовы. Ребятишки постарше искали оказать хоть какую-то помощь: с Волги на салазках везли в город воду в бадейках, стаскивали к крепости дрова для костров, правили на точильных камнях ножи да стрелы из тулий отцов и братьев. Из всякой кузни слышался перестук молотков: калили новый булат. Справных мечей и сабель всем не хватало. Но и железа запас в городе оказался невелик — жители несли в кузни косы, серпы, наральники. Всем хотелось встретить врага с оружием.
А народ все стекался. Со всего княжества — да что там! — казалось, со всей русской земли в Тверь нахлынуло столько людей, сколько и не видела она никогда. Сила собиралась большая. Хоть все вместе они и чувствовали свою силу, люди все же — каждый сам для себя — не ждали благополучного исхода. Просто пришел, видно, миг, когда умирать оказалось легче, чем жить в вечном ожидании мук, унижения, бесчестия, плена, а в итоге опять-таки смерти. Иного татары с собой не несли. Молодые дерки и те без слез рвали на ленты для перевязок постельное полотно из родительского приданого.
От Михаила не было никаких вестей с осени, когда из Сарая водным путем пришли последние купеческие лодьи. Тогда он писал, что будет на Твери сразу за Покровом, но вот уж и рождественский сочельник пришел, а его нет все и нет.
«Господи, ему-то там каково?..»
Ксения Юрьевна истово перекрестилась, отгоняя страшные мысли.
И тут, словно Господь услышал ее и дал ей ответ, глухие за утепленными зимними оконницами, с улицы послышались крики:
— Князь идет! Князь!
В последнюю седмицу это был первый человеческий возглас, лишенный тревоги, испуга, злости.
Стукнув широко распахнутой дверью, в княгинины покои вбежала сенная девушка. Если бы она и не сказала ничего, Ксения Юрьевна и без того поняла бы по ее ликующим, шалым глазам, что выпала ей напоследок нечаянная радость, о которой она и не молила.
— Матушка! Князь идет в Тверь!
— Какой князь? — затаив дыхание, одними губами спросила княгиня, боясь спугнуть счастье.
— Михаил Ярославич! Радость-то какая…
А уж в прихожей топтались мужичьи ноги, без зова не смея переступить на княгинину половину.
— Кто там? Войдут пусть.
Во всю масленую блинную морду смеялся, скаля зубы, Помога Андреич, кивал трясучей головой все еще живший боярин Шубин, Кондрат Тимохин, храня в лице строгость, улыбался глазами, другие теснились за их спинами, причастные радости.
— Князь Михаил Ярославич верхами идет, скоро будет, — мягко пророкотал Кондрат.
— Он ли? — не спросила, а охнула Ксения Юрьевна.
— Он! Он! — вперебой закричали ей. — Со стен уж видать, как летит! Дождались!..
Ксения Юрьевна хотела сказать, чтобы звонили в колокола, но и того не успела. Сначала ударили на ближней звоннице храма Спаса Преображения, затем в церкви Святого Федора Стратилата, тут же откликнулись с колокольни Параскевы Пятницы, и уж завершил радостный перезвон густой и веселый гуд многих колоколов Отрочева монастыря.
Звонари, перебивая языками колоколов друг дружку, не сговариваясь, старались и били так, словно хотели дать людям еще нарадоваться, вопреки всему, что будет с ними потом.
Со всех улиц к Владимиро-Московским воротам бежал народ. Кричали чего-то, ликовали, смеялись, а иные и счастливо плакали, будто Михаил одним уж своим присутствием дал им избавление от опасности, одним своим видом отвел беду.
С хоругвями и иконами, напереди владыка, спешил к воротам церковный причет. Епископ Симон, недавно отъезжавший в Олешну с тайной мыслью и надеждой там помереть, сейчас и впрямь будто ожил и даже помолодел, шагал широко, крестом осенял размашисто и, славя Божие благоволение, сиял лицом, впрочем в душе вполне готовый к свершению последнего земного подвига. Владыка знал: нет у человека ни мудрости, ни мужества, ни разума, чтобы противиться Господу. Как угодно Ему, так и будет. Но как угодно Ему, никто не ведает. И не лучше ли отойти к Нему, исполнив все, что в силах твоих, во славу Его, нежели чем в душевном смятении, унынии и скорби от попрания погаными агарянами святынь Его?
И виден был владыке и людям всем явленный Божий промысел в том, что князь возвращался в свой город накануне погибельного нашествия.
Ужели в силах один человек дать столько воодушевления многим?!
При виде спешившего князя собравшиеся у ворот тверичи едино клялись друг другу умереть, но не сдаться.
Увидев целыми, горящими лишь от солнца родные купола, Михаил понял, что успел, и слезы чуть было не полились по щекам. Пришлось даже на скаку рукавицей потереть переносицу, будто спасаясь от чиха.
— А, князь, Тверь! — не сдержавшись, радостно кто-то выкрикнул позади.
— Тверь! — ликующей разноголосицей ответили ему другие дружинники.
— Тверь! — выдохнул князь.
Теперь он готов был посчитаться с Дюденем и Андреем за все. И за пожженную Коломну, и за золотой пол владимирской Богородичной церкви, и за слезы рязанского княжича, и за того заколевшего мужика, гниющего заживо, и за тех девок и баб, которых он бросил средь леса, и за ту светлую церковку Воскресения Христова, которую — он это знал — непременно спалят татары за одну лишь ее нестерпимую красоту…
Видно, и правда так уж распорядился Бог: успели едва-едва. Наутро, только закрыли ворота за теми, кто пришел за ночь из ближних и дальних мест, как праздничный рождественский перезвон сменился злым набатным гудом колоколов. Верный дьявольской примете, Андрей с Дюденевыми татарами подступил к Твери опять в Рождество. Однако теперь его ждали.
Напереди невысокой, приземистой тверской крепости среди снега рыжели земляные проплешины, оставшиеся на месте раскатанных мужиками бревенчатых срубов. Лишь по межам огородов торчали колья загороди. Когда отзвучали колокола, над городом повисла особенная сосредоточенная тишина, какая возникает при общей напряженной и молчаливой работе. Лишь кони кричали издали от Торжских и Смоленских ворот, где, разбитые на два рукава, держались до времени верховые дружинники. Повсюду пылали костры под котлами со смолою и варом, дымили печи в избах и мыльнях, где бабы грели воду, на случай если и вареным кипятком придется обдавать поганых со стен. Сблизи было видно, как дышат морозным паром тверичи, затаившиеся за заборолом у узких стрельниц. Город будто укутался клубливым непрочным маревом от дымов и тысяч жарких дыханий.
Ни Дюдень, ни князь Андрей, стремительно пройдя по Руси и нигде не встретив отпора, не ждали сопротивления и здесь.
Тем более верно знали, что тверской князь находится сейчас у хана Тохты. Каково же было их удивление, когда на требование отворить ворота и принять нового великого князя ответил сам Михаил Ярославич. Он появился внезапно в окружении бояр у надвратной башни главных восточных ворот. Белые, червленые и черные боевые знамена, поднятые на древках, и вид князя, убранного в кольчугу, в высоком железном шлеме, с короткой саблей в ножнах у пояса говорили за себя сами: Тверь покоряться не собиралась.
И все же Андрей Александрович попробовал было прибегнуть к обычному своему хитрому способу.
— Здрав будь, Михаил Ярославич! Никак, войной встречать меня вышел? Напрасно! Пожалей людей своих! А коли откроешь ворота, ни в чем не будет тебе урона. Богом клянусь, брат!..
В ясной морозной тишине слова его легко достигали крепости. Слышно даже было, как конь, переступая под ним, хрустит снегом.
— Пес… — сказал Михаил сквозь зубы. — Поори ему, — кивнул он стоявшему рядом Кондрату Тимохину.
И боярин с видимым удовольствием, трубно, далеко разнося слова, повторяя князя, прокричал ответ:
— Не клянись, пес! Рыло твое в крови. Кровью и захлебнешься!
Михаил хотел сказать о луке царя Тохты, который тот подарил ему на врагов, но в последний миг, когда слова были уже готовы сойти с языка, удержался. Андрей давно заручился поддержкой и Тохты, и Ногая — теперь уж это было вполне очевидно. Иначе последний не дал бы ему своих татар, а первый не послал ему в помощь брата-царевича. А уж Дюденя, знавшего Тохту и его истинные намерения, слова о ханском луке и вовсе смутить не могли. Мало что и кому может подарить или милостиво пообещать правосудный Тохта, мыслей его никто знать не может. Да и в чем важность милостей хана, оказанных русскому князю, когда Джасак ложь и коварство по отношению к врагам полагает необходимой добродетелью как обычных татар, так и их государей.
Вместо слов Михаил плюнул в сторону городецкого князя и царевича Дюденя.
— Неподобно тебе со стены браниться, Михаил Ярославич! — укорил его Андрей Александрович, перекосившись лицом. — Открой ворота, князь! Богом клянусь…
— Нет у тебя Бога, пес! — перебил его Михаил. — Пожги Тверь, как Коломну пожег, собака, я и тогда говорить с тобой не стану, выблядок…
Лава за лавой накатывали татары.
Легкие конные лучники ход начинали стеной. Приближаясь, стена их то распадалась, то вновь смыкалась, то грозила хлынуть в обход крепостной стены двумя рукавами, но, подчиняясь невидимому знаку или команде, ударяла в одно, каждый раз новое, нежданное для оборонщиков место, стараясь нащупать брешь.
Приблизившись насколько возможно, лучники выпускали стрелы, обмотанные у жала паклей или тряпьем, пропитанными вонькой черной и масляной жижей, горевшей жарко и жадно. На лету такая стрела визжала, брызгала пламенем, не гасшим и на снегу. Те, кому удавалось подобраться под самые стены, закидывали тверичан глиняными горшками с «греческим огнем» — той же черной масляной жижей. Ш-шпок! — разбивались горшки с громким пугающим звуком и разливали пламя.
Выпустив стрелы, всадники уходили вбок и назад, давая место новой стене. И так лава за лавой, волна за волной… А за Волгой наизготове стояли тысячи конных мечников, вооруженных копьями и длинными саблями. Тяжелые мечники и их лошади были крыты бронью и латами из желтой, не пробиваемой стрелами скоры. В каждый миг они готовы были пойти на приступ, туда, где обнаружится первая слабина.
Однако пока пробить брешь татарам не удавалось. «Греческий огонь» из разбитых горшков и со стрел не успевал разгораться. Стоило такой стреле перелететь через стену, тут же с малыми и большими бадейками гуртом к ней кидались, бабы и ребятишки. Правда, и вода не сразу сбивала дьявольский поганый огонь. Растекшуюся по городнице, горящую всей поверхностью жидкость из разбитых горшков мужики затаптывали ногами, сбивали пламя скинутыми с плеч зипунами и полушубками, не давая огню схватиться. Стрелы, что язвили огнем внешние стены крепости и ворота, наловчились сверху сбивать колами, хотя при этом и погибали бессчетно. Впрочем, как ни старались, кое-где огонь все же занялся. Горела и надвратная башня. Внутри же крепости покуда всего одна изба занялась пожаром, полыхнув соломенной кровлей. По счастью, день был безветрен, а мужики и бабы, накинувшись скопом, вмиг раскатали ближайшие к пожарищу срубы.
Каждый прилив новой татарской лавы оставлял на крепостной стене раненых и убитых. Возле бойниц, сменяя друг друга, все время находились лучники, и стрела, угодив в бойницу, почти неминуемо поражала человека. Хотя большая часть татарских стрел, перелетев через частокол заборола, выхватывала случайные жертвы, пущенные наугад, их стрелы все же находили себе добычу, по странной прихоти выбирая то бабу, то старика, то дите, а то и собаку.
Одна такая собака, визжа и брызгая кровью, вертелась юлой на затоптанном красном снегу, ухватив ощеренными зубами древко стрелы, насквозь пробившей ее живот возле ляжек. Пробегавший мимо мужик приостановился, вынул из ножен короткий меч и, размахнувшись, рубанул по изогнутой шее собаки, оборвав ее мучения и визг. Оскаленная голова упала горлом на снег. Однако лапы собаки все еще переступали, продолжая движение по кругу, а обезглавленное горло, брызжа кровью, все еще тянулось к хвосту, пока изумленный мужик не остановил этот бег, пнув бедолагу в бок.
Схорониться от стрелы, коли она уж решила тебя найти, было никак нельзя. Из града стрел, пущенных разом, твоя стрела отыскивала тебя там, где, казалось, никак не могла отыскать. Тысяцкого Кондрата Тимохина стрела нашла, когда он, повернувшись спиной к бойницам, уже сходил со стены. Когда его голова уж должна была скрыться за верхним бревенчатым срубом, из не прикрытой никем бойницы, чиркнув по ее кромке пером и оттого изменив направление, вдруг вылетела его стрела и достала Кондрата, угодив аккуратно между щитком назатыльника и краем кольчуги в самую шею, перебив позвонок и выйдя из горла…
Но и татары несли потери. Не один десяток их лучников, снятых русской стрелой с седла, остался лежать под стеной. Не один десяток раненых и убитых унесли назад кони. Каждая новая волна оставляла перед крепостью черные, недвижные камни трупов. Причем раз от разу волны останавливались все дальше от крепости, там, где русские стрелы не наносили вреда, и наконец вовсе иссякли.
Никто в городе не знал, да и не мог знать, насколько и для чего взяли передышку татары. Во всяком случае, можно было спокойно осмотреться, посчитать потери, унести убитых со стен, отправить в дома к бабкам-лекаркам раненых. Все понимали: это лишь отсрочка от смерти, а потому особенной радости в глазах людей не было, однако и решимости защищаться после первых часов обороны, кажется, не убавилось. Просто устали люди от смерти, что косила рядом своей косой.
Лучники не ушли от бойниц, лишь опустились на корточки, сели на бревнища городниц, привалились спинами к заборолу. Молодухи, бабы и ребятишки полезли на стену, неся в руках лукошки и завязанные узлом полотенца со снедью. Вряд ли предполагал кто, что разговеться придется ныне не за столами со стюднем да сваренными просоленными окороками под добрый ковш духовитого сыченого меда, а на холоду, на дымной, опаленной крепости, кромсая хлеб и мясо ножами, наточенными на людей. А впрочем, всякая радость — радость, когда бы Бог ее ни послал. Как ни томилась душа, брюхо принимало с охотой все, что принесли в лукошках. А главное, отчего-то любо было глядеть на молодух и мужних жен, искавших на стене своих милых, будто последний раз видели они их не до полдня, а уж многие долгие дни назад. Но не было радостных вскриков при встрече, да и слов-то почти не произносили, лишь глядели в глаза друг другу и молчали. Горе — не счастье, его не удержишь, однако и бабьего воя покуда в городе слышно не было. Узнав вдруг, куда снесли ее мужа (а убитых сносили под стену), охнет иная, всплеснет руками, рассыпав еду из лукошка, закусит зубами ладонь и неслышно заплачет. И слезы в общей беде были молчаливы…
12
Все время боя князь провел на стене. А теперь он сидел в жарко натопленной избе, рассупонившись от брони и одежд аж до нижней, мокрой насквозь рубахи. Откинувшись головой на стену и прикрыв глаза, он будто бы улыбался. Ему и впрямь впервые за многие месяцы было покойно и чуть ли не радостно — в жаркой кровавой страде душа освобождалась от сарайского унижения, и уж за то одно не жалко стало и умирать.
Причащая его ныне поутру, усталый, осунувшийся после всенощной владыка Симон молвил:
— По грехам нашим воздает нам Господь! Не Андрей тот, но Бог снова навел поганых на Русь в великие праздники, ибо сказано: обращу праздники ваши в плач и песни ваши в рыдания…
— Ужели Господь не нам, а им покровительствует? — спросил тогда Михаил.
— Не им он покровительствует, сын мой, а нас наказывает, — усмехнулся в ответ епископ.
— За что же, владыко?
— Али не за что? — спросил Михаила Симон и сам ответил: — За дурные наши пути. За то, что и ради Господа не можем презреть суету, себялюбие, не имеем сил ни корысть победить, ни тщеславие, ни гордыню великую княжескую, дабы ради Господа нашего единым миром соединиться…
«Стократно прав владыка: по грехам нашим и наказание! Только откуда же эта радость?..»
Бояре не тревожили князя. Каждый думал о своем, отдельном и милом, да все вместе о том, сколь долго они продержатся. И странно — вопреки обреченности, ни в чьей душе не было страха, одна лишь досада, что татары сделали передышку. Лучше бы уж на стену полезли, коли уж смерти не миновать. Всем скорее хотелось сшибки.
Чуть запоздав от злых коротких ударов била, с улицы донесся крик:
— Татары!..
Но и в этом крике, несшем ужас и смерть, ныне не было страха.
Михаил поднялся с лавки, не ожидая услуги, начал одеваться, спокойно, неторопливо и тщательно застегнулся на все пуговицы, крючки и петельки, затянул серебряный пояс с короткой, кривой, как у татар, саблей, перекрестился на угол с образами, где ради праздничка, пыхая маслом, горела лампадка.
— Ну, с Богом, братья бояре, — сказал он и улыбнулся. — Нельзя нам ныне, в праздник Господень, не устоять против нехристей. — И шагнул из горницы в темную сенную клеть.
Татары шли теперь по-другому. Первыми, в три стены, опять мчались конные лучники, напозади их, повязанные друг с другом одной веревкой, цепью бежали пленные русские, спереди прикрывая пеших татар, которые шли со щитами над головой, широким бруском.
Видно, пригнали обоз с пленными клинскими, московскими, кснятинскими, вертязинскими, дмитровскими и прочими жителями, взятыми по пути. Сильных и молодых отдали барышникам или сами с малым отрядом погнали их в свою степь, здесь же, в этой цепи, оказались лишь немощные, в основном бабы да старые мужики.
Лучники, волна за волной скинув стрелы, откатились назад, и к самой стене приблизились татарские пешие, прикрытые пленными и щитами. Одна веревка вязала всех: и тех, кто не хотел, и кто уже не мог бежать, а в спины их кололи татарские копья. Вопли и плач обгоняли бегущих. Старики бежали тяжело, неловко плетя ногами, отвислые жалкие старушечьи груди выпадали из разорванных воротов рубах, и пальцы защитников, державшие внатяг тетиву, не смели пустить стрелу в эти бессильные, беззащитные материнские груди. Среди пленных приметен был шириной и дородством простоволосый, с помороженным, красным лицом над седой окладистой бородой старик. Когда цепь приблизилась настолько, что можно стало разглядеть лица, князь Михаил, да и многие тверичи признали в старике кснятинского воеводу Порфирия Кряжева.
— Тимоха! Тимоха! — перекрывая своим зычным голосом визг поганых, стоны раненых и бабий вой, беспрестанно кричал он. — Стреляй, сын! Убей меня! Упаси от поганого! Господи! Бей, сынок! Тимоха!..
Тимоха того не видел. В тот день он не был на крепости, а вместе со своей горстью и другими дружинниками ждал у Торжских ворот, когда же придет княжье слово и настанет черед пустить в поле конницу.
Наконец кто-то на стене не выдержал, смилостивился, и Порфирий Кряжев, грудью словив стрелу, обвис на веревке и повалился громадной тяжелой тушей под ноги бегущим следом татарам.
— Стреляйте, сынки, стреляйте! — кричали и бабы.
Впрочем, слова уже в общем вопле трудно было различить и понять.
Оборачиваясь к татарам, бабы и мужики пытались руками хватать клинки и вражьи копья, сами натыкались грудью на них, падали нехристям под ноги. И уж со стен враз полетели стрелы, скашивая без разбора и своих и чужих. Но было поздно. Татарский брус уже находился под самой стеной, где его и стрелы не брали.
Из рядов доставались длинные, легкие лестницы с загнутыми железными крючьями на концах. Крючьями лестница забрасывалась на стену, и тут же на ней повисали десятки татар. Татары проворно карабкались вверх, и под их тяжестью железные крючья лестниц намертво впивались в бревна городниц. И десятку мужиков не под силу было столкнуть их обратно. Тогда вязкая, медленная смола полилась на татар, обжигая голые лица и руки, оволакивая мех вывернутых наружу шуб, проникая под них и под скользкую чесунчу нижних рубах. С собачьим визгом скатывались обожженные с лестниц, но на их месте возникали другие, а смолы, которой казалось так много, что хватит на всю Орду, уже недоставало, ее не успевали приносить от котлов. В ход шел и кипяток, и копья, и просто длинные колья с острыми зазубренными концами, которыми тверичи с заборола тыкали татар в лица. Но они все лезли неостановимой могучей силой, а от реки, лишь только бы эти овладели стеной и отворили ворота, готовы были тронуться конные тяжелые мечники.
— Все, князь! Давай слово конных пускать! — подступили к Михаилу бояре.
— Погодите, ныне без конных откинем!
На удивление всем, хоть и не было времени удивляться, князь остался спокоен, излишне не горячился, но, напротив, кажется, не хуже опытного воеводы Помоги видел, куда и когда нужно послать подкрепление. Можно было теперь конной дружиной ударить в спину татарам, однако тогда наверняка тронулись бы и татарские мечники, которые покуда стояли.
А уже десятки первых татар, перепрыгнув через частокол заборола, оказались на городнице. Но здесь превосходство защитников оставалось еще велико.
Сабли, топоры, мечи, копья, сулицы, булавы и простые ножи русских были пока проворней. Сам князь тем же хитрым ударом сбоку, каким он располовинил барышника, когда у Москвы отбивали пленных, наискось подрубил ногайца, упавшего вдруг перед ним с заборола. Ефрем Тверитин, неотлучно бывший при князе, и глазом моргнуть не успел. Однако настоящих рубак на стене было мало — больше отменных лучников да простых ополченцев.
— Ефрем! Тимоху Кряжева с горстью зови да еще с сотней дружинников! — крикнул Тверитину Михаил.
Как ни летел Тимоха с дружинниками к Московским воротам, но не успел. Прежде чем дружинники спешились, татары вдруг, будто устав и отчаявшись, отхлынули, унося с собой раненых, спотыкаясь о бессчетные тела мертвых на стене и под нею.
Горели ворота. Огонь с них жадно лизал бревна надвратной башни. По оставленным татарами лестницам мужики поспешили тушить. Воду лили обильно и скоро прибили пламя, уже разъевшее до угольной черноты обитые железом дубовые плахи тверских ворот. Татары, что было удивительно, не мешали.
Божий высокий день светлого Рождества Иисуса, устав от людской резни, стремительно, как бывает зимой, падал в ночь.
— Если в другой раз пойдут — пожгут ворота, — вздохнул Помога Андреич.
— Кабы ночью не сунулись, — остерегся боярский сын Петька Шубин. По годам-то он давно был Петром, однако для всех оставался Петькой. Не в отца уродился сын: мот, гуляка и праздничник. Было уж: он уходил из Твери на Новгород, не убоявшись отцова проклятия, когда влюбился в тамошнюю красавицу. Но вернулся — скучно в чужих краях показалось.
— Ночью не пойдут, — неуверенно возразил Тверитин.
— Что так? — усомнился Шубин.
— Тебя забоятся, — отшутился Тверитин.
— Ну… — произнес Михаил недовольно.
— А что нам, Михаил Ярославич, ждать их? — предложил Помога Андреич. — Пойдем завтра в поле.
В избе повисла долгая тишина.
Михаил понимал: несмотря на то что Тверь устояла, следующего приступа она может не выдержать. И каков будет этот приступ? Дюдень еще не пускал, отчего-то удерживал другую силу. И это было не похоже на татар, всегда стремившихся первым наскоком смять противника, если не победить, то запугать, обезволить. Ныне у них так не получилось. А тверичи, выстояв день, еще приободрились.
— Жаль какая, что Кондрата убили… — сказал вдруг Михаил.
— Н-да… — неопределенно поддакнул воевода, не получив ответа на свое предложение.
Михаил еще помолчал и твердо произнес:
— Завтра, Помога Андреич, выступишь со всем ополчением. Лучников только со стен не трожь. Встретишь Дюденя в копья. Держись сколько сможешь. А там мы двумя рукавами верхами придем от Торжских и Смоленских ворот. Тогда хоть зубами их за пятки кусай…
— Так, — согласно кивнул Помога.
— А если увидишь, что их сила берет, но только не ранее, — Михаил вздохнул, — беги тогда в город и затворяйся.
— Так… — снова кивнул воевода и спросил: — А ты?
Князь ничего ему не ответил, повернулся к Ефрему:
— Что, жена-то твоя здорова?
— Так я ведь ее не видал еще… — смутился Тверитин.
— Ну так иди, повидай…
Своей избы Ефрем не имел, жил при княжьем дворе в небольшом прирубе, имевшем, впрочем, горенку, малую повалушку да еще естовую. Безо всякой на то воли Ефрема хозяйничала в прирубе Домна Власьевна — древняя дворовая бабка. Свое она отслужила, поди, еще при Ярославе Ярославиче, однако прижилась, срослась с княжьим домом, считая его равно своим, и по сю пору верховодила в людской, нагоняя страха на челядь и сенных девок.
Не приведи было Господи попасться на ее глаза какой-нибудь замарахе с немытыми волосами. Так засрамит на весь двор, что потом как ни мойся душистыми травяными отварами, а всякий скотник пальцем укажет: вон, мол, девка, которую Домна Власьевна за косу в мыльню водила…
Никакого особого дела на ней уже не было, но ни одно событие не миновало ее участия. Всему она могла дать верный толк и указание, как ладили то ли, иное ли в прежние времена. И всяко по ее выходило лучше: что лен трепать, что пряжу прясть. Кроме того, старуха имела острый глаз на мужские каверзы и женское озорство, за что почиталась в людской особо. Умела она и перед Ксенией Юрьевной похлопотать, коли надо.
Попав в людскую девочкой, всю жизнь она прожила холопкой, однако от холопства своего не страдала, а, напротив, благодарила Бога, что выпало ей такое счастье жить у князей на дворе. И законы этого двора, как сама она научилась их понимать, Домна Власьевна оберегала ревностно и с той строгостью, на какую хватало сердца. Только вот чем дольше она жила, сердце ее, как от молитвы, светлее и мягче делалось. Так что девушки-то пугались ее больше из притворства и уважения, а со всякой болью — сердечной ли, нутряной — все одно к ней бежали.
Сама Ксения Юрьевна отличала старуху и не чуралась в хозяйстве ее советов. А уж молодой князь и вовсе — в насмешку ли, нет ли — всегда по батюшке ее величал. «Здравствуй, — скажет вдруг, — Домна Власьевна…» — и мимо пройдет. А она еще долго личиком рдеет, как красна девица.
Что мать, что сын небрезгливы к людям, только уж больно доверчивы!
«Вон и Ефремку рыжего подобрали, а уж на что он может быть годен-то, окромя баловства?..» — ворчала про себя старая Домна на прибившегося к князю Ефрема.
Ворчать-то ворчала, однако совсем без злобы, а даже и с нежностью, потому что как выходила она его после сражения с татарином на кашинском поле, так с тех пор отчего-то и прикипела к нему старой одинокой душой. Оттого и не оставляла заботой и ждала его, будто сына родного, пока он с князем к нехристям в нужный поход ходил. Своих-то детей пестовать не пришлось, так хоть о чужом попечься. Да и он сирота. Хоть и во взрослых уже годах, а беспутен, ровно дите.
Вон и из похода-то только девку одну чужеземную приволок, своих ему мало! Да и девка-то неказистая, тощая, как коза по весне, да у козы хоть титьки, а у этой одни глазища на всем теле и есть…
— Ну что ты, милая деушка, немка али слов христианских не знаешь?
Молчит… Как давеча из возка ее вынули, в прируб принесли, так, будто птичка небесная, не ест, не пьет, только смотрит.
— Делов-то у меня, деушка, помимо тебя хватает. Татары вон Тверь хочут брать, а я сижу с тобой здесь… Ты что молчишь-то? Али тебе не мил Ефремка? Он ить только с виду суров, а так такая же душа одинокая. Ты его не боись, деушка. Он хоть и рыжий, а добрый… — Домна Власьевна вздохнула, догадываясь, что ее слова не касаются ума девушки. Прикрыв глаза, та лежала на тверитинской постели, слабой рукой теребя край пухового одеяльца.
Вчера, как обмывала ее Домна Власьевна, диву далась: косточки тоненькие, как у курочки, жилки синие, чуть не поверх белой кожи текут — не иначе как не простого имени девушка, а все тело, от шейки и титек до лодыжек, злыми руками истискано, поцарапано, корками кровавыми запеклось. Не по своей воле порченая, видать, девка-то Ефрему досталась…
Может быть, и молчит-то от страха она? Коли так, еще ничего. А ну, не дай Бог, и правда немая?
— Ты говори, деушка, говори. Про мамку с тятькой попомни, про дом — вот тебе легче и станет…
Старуха уходила, приходила, поила девушку клюквенной водой, молоком, то тюрю крошила и подавала ей тюрю с ложки и все говорила, говорила, агукала, как агукают с бессловесными младенцами или дворовой скотиной, чтобы и они людскую речь понимали.
А того, что придут татары, Домна Власьевна не боялась. Отбоялась уже свое. Да и на все есть Божия воля — и на жизнь, и на смерть. Но, покуда живешь, надо кому-то в помощи быть, тогда и про татар легче думается.
— Нехристи они, что же… Ты-то, деушка, из кого будешь: из православных али тоже из нехристей?
— Где она?! — Тверитин вбежал в прируб, не зная, как он страшен — с всклоченной головой, с мокрой от инея бородищей, в шубе, испачканной чужой кровью и сажей.
Видно было, как девушка под одеялом вся сжалась, руки ее, стиснутые в кулачки, притянулись к горлу, и если б могла, наверное, она закричала бы в голос. Однако она молчала. Только в распахнутых широко глазах стоял ужас.
— Черт ты, Ефрем, сакаянный, идол чудской! Куды ж ты?! — замахала на него руками Домна Власьевна.
А уж Ефрем и сам попятился к двери из повалушки, только бы не видеть этих глаз, полных тоски и страха.
Хоть и шутейно попрекал Ефрема Михаил Ярославич девками, а напрасно. После той любы в Ростове, которую баскаков сын убил, у него, считай, и не было никого, так, одно баловство. Купленные ласки сарайских девок, скользких от мускусных притираний, пахших сладко, но горько, да утешная купеческая вдова с Заманихи, поймавшая когда-то в свои тенета Князева дворского. Однако к ней не сердце, ноги вели…
А к этой худой иноземке — и ведь как только увидел ее! — столько в нем нежности, что и не рассказать никому.
Ефрем сидел на приступе, сложив кулаки на коленях.
— Ты что, Ефрем, в дом не идешь? — вышла к нему на крыльцо Домна Власьевна.
— Боится она меня. Не люб я ей, значит… — глухо сказал Ефрем.
— И, милай, я-то, старая, и то тебя испужалась, — утешила его Домна Власьевна. — Ты нехристей-то ныне рубил?
— Рубил, — согласился Ефрем.
— А морду-то не сполоснул. У тебя же и на бороде кровища пристыла.
— Разве? — обернулся Ефрем и потер рукой бороду на щеках.
— Эх, Ефрем… Ты вот что, — научила его Домна Власьевна, — ты к ней погоди подступаться, битая она шибко. Дай ей страх позабыть. Отойдет от страха-то, глядишь, и заговорит. А как заговорит, так сама тебя позовет.
— Думаешь? — обнадежился Ефрем.
— А то как иначе! — успокоила она его и спросила: — Ты когда нашел-то ее?
— Давно уж… — пожал плечами Ефрем и тут же себя поправил: — Да третьего дня.
— Ага. — Бабка прикинула-посчитала что-то в уме и решила: — Коли третьего дня — быть ей Настеной. Третьего-то дня раз Настасью Узорешительницу поминали по святкам. Ну, иди, что ли, в дом-то уже, умыться подам…
Вечером, когда масляные светильники, коптя стены, кидали черные тени по потолку, перед тем как уйти, Ефрем еще раз заглянул в повалушку. С постели, испуганно и жарко блестя, горели ее глаза.
— Ну, что ты боишься все? Ты меня не бойся, я ить тебя не трону…
Ефрем подошел к постели, опустился перед ней на колени, не удержался — взял в руку ее маленький, крепкий, как луковка, кулачок, разжал ладонь и долго, ничего уже не говоря, слушал, как бьется жилка у нее на запястье, будто хочет ему что-то ответить.
— Ну спи, спи… Не бойся… Ты теперь Настей будешь.
Утром, по первому свету, не делая нового приступа, Дюдень снял осаду и увел татар на Торжок.
Как ни злобствовал, ни дергал шеей князь городецкий Андрей, не мог он приказать юному царевичу продолжить осаду. Да и тот вряд ли сумел бы заставить своевольных ногайских нойонов делать то, чего они не хотели. Ногайцы же пошли с ним в покорную и послушную Русь вовсе не для того, чтобы проливать свою кровь у какой-то Твери, вдруг оказавшей сопротивление, а лишь затем, чтобы вволю пограбить и до распутицы с пленными, серебром, полным богатого сайгата обозом вернуться живыми в жаркие степи хана Ногая.
13
После внезапного ухода татар Тверь словно оторопела. Люди приуготовились к худшему, да что там к худшему — умереть они собрались, а вышло вовсе напротив, и надо было продолжать жить.
Радоваться бы, славить Бога, что вспомнил о них и отворотил беду, петь хвалу князю, приспевшему в нужный, решительный миг, глядеть в любые глаза жен, деток, матерей и умиляться им, но не было на то духа. Тверь стояла как неживая. Будто опомнившись, тверичи только сейчас уразумели, что они сотворили, на кого подняли руку, кому дали отпор.
Надо было пройти времени, отступиться в нем от содеянного, чтобы в каждом сердце мучивший целую жизнь страх перед татарвой запекся кровью, как покрывается коркой еще не зажившая рана, а в душах наконец-то очнулась от спячки прежняя гордость и открытая радость.
Теплы и светлы воды реки Иордань, принявшие в день Крещения тело Спасителя нашего Иисуса! Благословенны ее берега, и в лютую зиму покрытые муаровыми нездешними травами, по которым ступала Его нога. Бездонно и велико небо, как воля Его Отца, в миг Крещения Сына пославшего с-под небес Бога — Святого Духа, тихо спустившегося к Спасителю вечным голубем…
Незрима, недостижима дальняя Иордань. Но безмерна Господня милость, давшая каждому, кто поверит в силу Его креста, свою купель, свою реку, свою Иордань.
С вечера еще Домна Власьевна запасла крещенского снега. Так-то и старики всегда поступали. От крещенского снега для всего хозяйства подспорье. Колодезь и тот без него не стоит. А кинешь в колодезь хоть одну малую горсточку такого-то снега, вода в нем во весь год будет чиста и студена. Даже если во все лето ни капли дождя не выпадет. И лен белить без крещенского снега одна бесполезная маета, все одно бел не будет. Не говоря уже про хворобу — голова ли слабеет и кружится, ноги ли идти не хотят — первое дело снегом таким натереться. Хоть и простым средством кажется, а лучше мало чего придумали. Вот Домна Власьевна и Настенку крещенским снегом вчера натерла. На что уж лядащая девка, а и та разрумянилась, не только глазыньки, а и щечки у нее загорелись, пусть робким покуда, а все же румянцем тронулись.
Девка-то пообвыкла к ней — бывает, и улыбнется, а то вот руку ее возьмет в свои ручки и держит. А сама глазки прикроет, как будто молится. Нехорошо это, да уж ладно, поди, она душа некрещеная, не знает, что Бог-то есть, а тоже ведь ласки ей хочется.
Ефрема вот только дичится. Как заслышит, что он идет, вся аж стрункой вытянется, замрет и дышит-то как птаха какая, совсем невидно-неслышно…
А Ефрем, как с ней вернулся с похода, иной стал, и не узнать, вроде как в воду опущенный. Ни на дворе боле уж не потешничает с дружинниками, ни в доме с ней, старой, не шутит. Как Князевы дела сладит, ни в Тверь не идет, ни на Заманиху любезную, ни к девкам в людскую озорничать, ни на конный двор, а к себе идет в избу, к любе своей. Сидит рядом с ней, молчит. А то забубнит вдруг. Домна-то Власьевна как-то слыхала: бу-бу-бу, бу-бу-бу… А она ни гугу, ни словечка.
Этак-то он долго ли выдержит? Вон ныне праздник какой — Крещение! А он со двора за Михаилом Ярославичем в церкву, как пес прибитый, смурной поплелся — одна стыдоба. На князя-то, Михаила Ярославича, смотреть — душа радуется, а на этого идола чудского глядеть — чистое огорчение. И то, пожалеть его некому: искал-искал, а нашел незнамо чего — немку какую-то…
— Проснулась, голубка. Так вставай ужо, праздник у нас ныне — Крещение.
Сидя на постели, дева стыдливо оправила широкий, не по росту ей и не по плечам нижний ночной чехол. Ее смоляные, омытые накануне репейным настоем волосы влажно блестели.
Ничего, кроме голода, холода, страха, унижения, стыда и тоски, в последнее время Полевна не чувствовала и не знала.
Давно еще, после победы византийского императора Михаила Палеолога над болгарским царем Константином, отец ее — грек по рождению, боярин Пантелеон — остался на службе у нового тырновского правителя Тертерия Первого. Там, в Тырново, он женился, там родились и выросли его сыновья и младшая дочь Полевна. Однако как изменчивы судьбы высших правителей, так изменчиво счастье и их окольных сановников. Несмотря на то что Тертерию удалось выдать свою дочь замуж за сына Ногая царевича Чока, все же он не сумел удержать милостивого расположения могущественного, но и коварного свата. После того как в борьбе за венец хан Ногай поддержал Смилеца, следующего тырновского владетеля, оставив трон, Тертерий вынужден был бежать под защиту византийского императора Андроника. Вместе с ним пришлось бежать и семье старого Пантелеона.
Император Андроник не посмел принять у себя бывшего болгарского царя и отправил Тертерия в ссылку в окрестности Андрианополя, где, впрочем, вскоре и убил его в угоду хану Ногаю, соседу сколь грозному, столь и капризному.
Семья же боярина Пантелеона нашла прибежище на окраине империи, в маленьком городишке Добруджи. Более полугода тому назад без войны, по какой-то одним лишь им ведомой прихоти, к городу подступили татары.
Как погибли отец и братья, Полевна не видела, а мать терзали у нее на глазах. Тогда она и перестала владеть языком. Все она слышала, и многие чужие слова понимала, и сама готова была ответить, когда ее спрашивали о чем, готова была попросить о еде или о том, чтоб не били, когда ее били. А били ее всегда…
Купец, прельстившийся ее юностью и давший за нее хорошую цену тому татарину, что убил ее мать, был особенно сердит на Полевну. Он долго не мог поверить, что молчит она не притворно. Заглядывал ей в рот, пальцами тянул за язык, при этом обиженно и удивленно цокая собственным языком: надул его татарин, надул… За то он и есть ей давал меньше, чем остальным. И в Каффе, и Сарае, и на долгом пути между ними покупатели щупали ее тело, заглядывали в рот, дивились жемчужным зубам и отходили: немка, а немки не всем нужны… Чтобы хоть как-то оправдать расходы на ее содержание, хитрый купец придумал торговать ею, как девкой, пусть и за малые деньги. Но и на это пустое занятие она не годилась — царапалась и кусалась даже после побоев. Да и охотников на нее было мало — больно уж отощала.
Теперь больше всего Полевна боялась и ждала каждый день и каждую ночь, что рыжий огромный русич, что пока лишь тихо брал ее руку и иногда говорил с ней, начнет ее бить.
Не надо было ее спасать, не надо кормить, мыть, холить, нежить в этой чистой чужой постели, потому что невозможно было ее полюбить — грязная и немая, она была недостойна того. Лучше бы она осталась с теми татарами, что снова гнали ее в Сарай. Лучше, потому что до Сарая она б не дошла, а уснула где-нибудь в пути от стужи, и тогда бы никто и никогда больше не ударил ее. А смерти она не боялась. На этом свете она не боялась лишь смерти да старой ворчливой Домки, так про себя звала она бабку Домну.
…Оживши после крещенского снега и оставив дома Настенку, которая вот уже несколько дней поднималась с постели и даже пыталась делать какую-нибудь бабью работу, Домна Власьевна побежала в ближний князев храм Спаса Преображения на водосвятие.
А уж над Тверью вовсю звенели, перекликались праздничным перезвоном колокола! И день под стать празднику выпал: с солнцем, ядреным морозцем, с легким прогонистым ветерком, обещавшим грозное, но обильное лето. Из храма народ выходил распаренным, в жарко распахнутых шубах и зипунах. Сняв шапки, мужики высоко задирали головы, крестились на купола, и тогда из-под распушенных, намытых намедни бород яро краснели их голые шеи. Под шубами нарядные суконные кафтаны были схвачены в поясе яркими, червлеными да зелеными, широкими кушаками. Бояре и прочий окольный люд хвастались друг перед другом аршинными шапками. На рукамысленниках шапки были поплоше: из белого войлока или сукна, однако тоже с разной зверовой опушкой. Ну уж и купцы похвалялись, да и посадские каждый перед другим…
Радость пришла вдруг такая, что хотелось целовать всякого, будто не Крещение и Богоявление встречали тверичи, а светлое Воскресение Христово, сошедшее на землю не в свой черед. А может, и было то Воскресение, когда сам народ воскрес, очнувшись от смертного страха, как от смертного сна. Бодрость на лицах была и покой. Говорили все важно, неторопко, уважая себя, готовно умилялись чужой радости и искренно утешали в скорби тех, кто осиротел при защите. А таких было в Твери немало. Более двух сотен жителей потеряла Тверь в один день. По ним уж отпели молитвы, захоронив их в общих скудельницах, вырытых в мерзлой земле. И ныне во многих домах за праздничными столами предстояло править и скорбную тризну. Так уж, видно, повелось на Руси: великой обильности слезы горя и радости льются в один какой-то день — и одинаково солоны.
Изо всех домов, прямые, как праведный путь, в высокое синее небо струились печные дымы. И изо всех естовых бабы выносили прохожим жаром парящие полотенца с румяными, духовитыми пирогами. И уж пироги были всякие: и с монашьей капустой, и с сушеным грибом, и с горохом, и с луком, и с куриным яйцом, и с зайчатиной, и с кабаньей лопаткой, со щукой да судаком, с налимьей печенкой да с осетром… А уж медами, брагой, квасом да пивным суслом несло по улицам и из-за закрытых дверей.
Девки-молодухи вырядились-приоделись для улицы да для милых своих, как расписные игруньки глиняные, которыми малы дети играются. Шитые золотом, украшенные жемчугами и каменьями низкие ряски[53] и высокие рогатые кокошники сверху покрыты платками да шалями и у всякой повязаны на свой лад — у какой в скрутку, у какой под подбородком концы узлом стянуты, а у какой и напозади засоюзены. По лбу у каждой бисерные да жемчужные поднизи пущены — и не беда, что мороз! Только щеки пуще горят от него! А уж какой у них жар под нарядными меховыми куфайками, телогреями да из белого сукна праздничными шушпанами — и вообразить себе трудно!..
Мужние жены хоть и не так весело разнаряжены, зато кички на головах под суконными да меховыми накидами сидят гордо, чуть ли не царственно — голову-то по сторонам уже не повертишь, а и захочешь взглянуть на кого обочь, так всем телом оборотишься. А уж на ногах-то у баб не поршни простые или постолы кожаные с онучами, а сапоги либо выворотные, либо с высокими, вышитыми алыми да золотыми нитками голенищами.
Одна княгиня в то же, что и всегда, одета: на голове темный простой повойник повязан, да из-под широкой, распашистой собольей кортели[54] черного дорогого сукна понева виднеется. Зато уж на лице праздник сияет! Глаза милостивы, так лаской и светятся, обычно жестко сведенные губы ныне мягки, хоть не смеются, но улыбаются. Рядом князь Михаил Ярославич, под руку ведет княгиню-матушку. Высокий пристежной козырь кафтана, поднятый над откидным воротом бобрового опашня, так и горит, бьет на солнце в глаза золотом да нашитыми на него звездным узором каменьями. Лицом Михаил Ярославич серьезен, а глаза из-под горностаевого околыша шапки так и брызжут, как золотом, радостью.
Весело ныне так, как не бывало еще в Твери, сколько она себя помнила!
А впереди всего хода с иконами, божественными хоругвями и крестами, святя путь к своей Иордани, ведет свою паству, спасенную Господом, тверской епископский причет. Сам владыка Симон в парчовой ризе, отец Иван, игумен монастыря Святого Федора Стратилата Никон, дьяки, служки, монахи…
Покуда передние новую славу Господу петь зачинают, позади долгой вереницы, в какую сошлась ныне, сбилась вся Тверь, еще прежний стих петь не окончили. И так, смеясь и плача, скорбя и ликуя, вся Русь поет единую славу Господу, не слыша друг друга.
— Иди сюда! Не бойся…
С волосами, расчесанными с льняным маслом на стороны, с намытой пушистой и золотой бородой, в зоревой шелковой рубахе и нарядном кафтане, схваченном серебряным пояском, поверх того в распахнутом долгополом опашне, Тверитин стоял посредине горницы, протянув руки навстречу Насте:
— Ну, иди же…
Послушно и боязливо, поднявшись с лавки, на которой сидела, она шагнула вперед.
— Ефрем меня зовут, слышишь?
Она покачала головой из стороны в сторону, что, по обычаю ее страны, означало согласие.
— Ну, как же не слышишь? — удивился Ефрем. — Слышишь! Ефрем я, уразумела? А ты, — он пальцем указал на нее, — Настя, люба моя. Поняла?
Она опять покачала головой отрицательно.
— Эх ты!..
Он сам накинул ей на голову плат, не в рукава, а в взапашку завернул ее в овчинную шубу, подхватил на руки и пошел из избы.
Пашуня Ермилов принял сено в розвальнях, застелил его двойной медведной, гоголем взобрался на облучок, взял в руки вожжи, гикнул и подкатил сани, запряженные белой парой, к тверитинскому прирубу как раз тогда, когда Ефрем взошел на крыльцо, неся на руках свою немку.
— Ну, Пашуня, гони!.. — крикнул Ефрем, кулем повалившись в сани, празднично, как на свадьбу, украшенные разноцветными девичьими лентами.
Будто дитя, он бережно прижимал к груди укутанное с головой в овчину хрупкое, жалкое тельце девушки.
Как бы там ни было, а ныне Ефрем решился: коли Бог свел его с немкой, так, знать, ему суждено. И на иную он ее не станет менять. Затем и повез в открытых санях, чтобы уж на миру явить ее всем и тем и себя удержать от греха, коли когда-то вдруг опостылет бессловесная. Только разве может опостылеть она? Лишь глядеть на нее — и то сердце умилением радовать. А что молчит? Так слова-то — они обманчивы.
И без того прыткая пара, еще напуганная разбойным Пашуниным посвистом, лихо промчалась по обезлюдевшим улицам к крепости, выскочила из ворот и побежала к Волге, где уж священники окунали кресты в сколотых заранее для того полыньях. Там уж разгоралось гулянье!
Под девичий смех, бабий визг и озорные слова некоторые парни и мужики с нарочито постными, строгими лицами не спеша рассупонивались, скидывали одежу до исподних портов, дабы принять святую купель в проруби родной Иордани.
Тверитинские розвальни издали еще привлекли чужое внимание. И когда сани остановились неподалеку от главной полыньи, их окружили люди.
Не выпуская из рук драгоценную ношу, Ефрем соскочил с саней, прошел через расступившуюся толпу и упал на колени перед первосвященником Симоном.
— Крести рабу Божию, владыка!
Все вокруг замерли. Князь Михаил, бывший здесь же, усмешливо, но недовольно посмотрел на Тверитина: чуди, мол, да меру знай.
— А что там? Али прижил кого? — спросила матушка Ксения Юрьевна.
— Да девку он у татар отбил. Замуж взять хочет, — пояснил Михаил.
— А что? Богу праздник! — оживился вдруг владыка Симон и просиял чистым стариковским лицом. — Как ее кличут-то?
— Настена.
— По святкам ли имя дано? — строго спросил епископ.
— На Анастасию Узорешительницу взял ее, — подтвердил Ефрем.
— Ну, так покажи нам рабу-то!
Тверитин осторожно опустил девушку на снег, приоткрыл полу шубы там, где было ее лицо. Из-под неумело повязанного, сбившегося платка на православных и мир глядели испуганные, затравленные глаза. Но была в них надежда и тихая просьба о милости.
— О Господи! — вздохнула Ксения Юрьевна.
— Из какой же земли раба-то? — спросил владыка Симон. Ефрем пожал плечами:
— Кто ж ее знает — немка она.
— Молчит, стало быть?
— Молчит.
— А ну как она крещеная, раба-то твоя? — засомневался было владыка Симон.
Ефрем в ответ только руками развел — кто ж ее знает?
— Ну так, чай, от иконы-то она не шарахается?.. Дак кунай ея в Волгу! — весело смилостивился владыка под молящим, просительным взглядом Тверитина. — Купель Спасителева всех принимает, так, что ли? — повернулся он к церковному причету.
— Так, владыко! — охотно согласился отец Иван, да и другие согласно закивали головами в ответ. — Милостив Бог, и всеприемлюща Церковь Его на земле.
— А кто же отцом-матерью рабе сей приходится? — вновь обратился владыка к Тверитину.
Ефрем, и без того душевно смятенный, и вовсе стал красен как рак. О крестных родителях для Настены он не подумал.
— Дозволь мне, отец святой, мамкой ей стать, — крестясь и обмирая от выпавшей чести, из толпы пошла известная всей Твери старая бабка Домна.
— Ну, коли так — и меня в крестные тогда выбирай, — раздался вдруг голос князя. — Смотри только… — Хотел он еще пригрозить Ефрему, чтобы тот уж не обижал его крестницу, но Ефрем, видно от внезапной, прихлынувшей к сердцу благодарности, неожиданно ойкнул по-бабьи, так что народ вокруг не удержался позубоскалить, и как-то совсем по-ребячьи, жалобно выдохнул:
— Княже!..
Самое удивительное, что на глазах вестимого кметя, потешника и забияки блестели слезы. Эвона что бывает!
Князь и тот поперхнулся словами, внове увидев Тверитина. Вот уж истинно: каких чудес нет на свете!
Немая Полевна-Настена все, что совершали над ней, принимала со спокойной покорностью. Откуда-то пришла к ней вера, что ничего худого с ней больше не будет. Вокруг замерли в торжественной тишине все эти сильные, красивые люди. Будто всей кожей она чувствовала их близость, все смотрели сейчас на нее серьезно и строго, но в их глазах не было зла, а одно лишь тихое умиление.
А рядом с ней неколебимой опорой, силу которой она чуяла, слышала явственно, стояли самые близкие отныне ей люди: князь (то, что Михаил — князь среди всех остальных, она поняла сразу, на той дороге, где избежавшие полона московичи падали перед ним на колени), старая ворчливая и добросердная Домка и он, тот, что, радуя и пугая, глядел на нее так, будто вглядывался в себя. От взгляда его синих глаз ей делалось больно и жарко. Ей казалось, что все в ней до самых горьких и мучительных тайн открыто и доступно этому взгляду.
И чем далее длился обряд, тем радостнее делалось на душе у Полевны. В другой раз она принимала веру, которой не изменяла. То, что творили над ней, было утешительно и знакомо. Привычно капал свечной воск на пальцы, обволакивал их, застывал, не успевая согреть. И даже слова молитв, которые пел над ней первосвященник, звучали родным наречием.
И лишь когда пронзительная ледяная вода полыньи, в которую вдруг опустил Полевну-Настену рыжий огромный русич, обожгла ее тело, не сдержавшись, она вскрикнула:
— Фрем!..
Народ вокруг радостно ахнул.
— Ну вот, — умилился владыка Симон, — сказывал, что немая…
На преподобного Феодосия, в пятый день крещенской седмицы, в храме Спаса Преображения стояли под венцом раб Божий Ефрем да раба Божия Анастасия.
14
Верно когда-то заметил великий воин Чингис: сила крепостных стен не бывает ни более и ни менее мужества их защитников.
Несмотря на прочную крепость, окруженную к тому же изрядно высоким земляным валом, торжские жители предпочли обороне сдачу на милость Дюденевым татарам и признали великим князем Андрея. Однако, озлившись после неудачи под Тверью, татары и здесь не проявили великодушия. Город был разорен, а люди его бесчестием и муками сполна поплатились за доверчивость и покорность.
Далее путь татар лежал на Великий Новгород, где, как предполагал Андрей Александрович, укрылся великий князь. Однако новгородцы предупредили поход. В Торжок из Новгорода прибежало большое посольство с богатыми дарами для Дюденя и с слезной просьбой к князю Андрею Александровичу взять Новгород во владение, оградив новгородцев от злобы и притеснений его брата Дмитрия…
Послы, во главе с посадским Юрием Мишиничем, рьяно кланялись новому великому князю, клялись в давней ненависти к Дмитрию и именем святой Софии-заступницы вовек обещали быть ему верными, лишь бы теперь Андрей Александрович отвратил от них Дюденя.
Попомнили послы и Андреева отца Александра Ярославича Невского, которому всегда якобы служили верой и правдой…
Хотя и Андрей, и сами послы знали, что это ложь. Среди торжского пепелища послы умильно хвалили Андреевы добродетели. Много придумано для языка нужных, обманных слов, а все одно — лестно, приятно их было слушать городецкому князю.
Свершилось то, о чем думалось многие годы, что мнилось в мечтах и неудержимо манило. От самого Владимира и до Великого Новгорода устами этих послов славила его Русь. И то не беда, что при этом трепетала от ужаса, и то не большая досада, что уста эти были лживы.
Нет для правителя на Руси иной добродетели, кроме отсутствия в душе любых добродетелей. Андрей Александрович понял это давно, еще отроком. И научили его тому те же новгородцы. Когда отец был к ним ласков и справедлив, новгородцы смеялись над ним и гнали его, когда же он становился суров и не боялся пролить и безвинной крови, новгородцы вновь принимали его с любовью и хвалой его милостям. Тогда лишь искренне почитали они его право вольно распоряжаться их жизнью и смертью, когда у него хватало силы и духа быть выше понятий о человеческих добродетелях. На то он и князь. Что ж, пусть знают: у него, Андрея Александровича, хватит духа на то, чтобы нагнать на Русь столько страха и ужаса, сколько надобно ей для любви. Лишь бы сила татарская не изменяла и была всегда под рукой…
И пусть не думают, не надеются, что, как отец в старости, он когда-то размякнет душой и начнет виноватить себя в грехах почем зря, в угоду попам и молве. Нет, он, князь Андрей, вины за собой не знает, одна лишь на нем вина: больно поздно добыл власть для себя и для всех людишек, которым только такая власть по душе и по нраву. Он знает… Вон как склонили угодливо выи вольные новгородцы.
Жаль только, поздно пришла к нему власть, силы уже в нем не те, но за то должен ответить брат Дмитрий…
Однако новгородцы в том не утешили: как, мол, ни стремились они словить Дмитрия, чтобы выдать его с головой великому князю Андрею Александровичу, тому все же удалось; ускользнуть, и теперь он укрылся во Пскове у своего зятя Тимофея-Довмонта.
Имя псковского князя давно уже славилось на Руси. Вот уже почти тридцать лет правит он Псковом, и нет, пожалуй, города, более счастливого своим правителем.
Еще в молодые годы покинув литовского короля Миндовга, с которым он состоял в родстве, Довмонт по влечению души пришел во Псков, в церкви Святой Троицы крестился в православную веру, при крещении был наречен именем Тимофей и с тех пор столь усердно и преданно служил псковичам, что они поставили его своим князем и никогда в том не каялись. Что в воинской доблести, что в христианском рвении, что в справедливости и милосердии он почитался первым. Женатый на Марии, дочери Дмитрия Александровича, Довмонт, безусловно, был ему верен до самого сердца, и можно было не сомневаться, что по своей воле Дмитрия он Андрею не выдаст…
Андрей Александрович это вполне понимал. Понимал это и Дюдень, в планы которого вовсе не входила кровопролитная, долгая и, главное, может быть, и вовсе не успешная осада хорошо укрепленной Довмонтовой крепости. Да и основное условие и назначение нынешнего похода уже было выполнено: Русь опять дымилась пожарами, оставшиеся в живых в страхе забились в лесные норы, а великим князем сел на ней явно безумный и звероватый городецкий Андрей.
Коли уж Новгород признал его власть, то и иные не станут упрямиться. А если и станут, то Орде не досада, пусть друг с другом поспорят, а там хан Тохта ли, ака-Ногай ли новое войско пришлют. Что же делать, если эти глупые русские не могут жить промеж собой в мир? А к тому времени, глядишь, вновь поднимутся их города, вновь наполнятся людьми и богатством. Недаром говорят старые ногайцы, что столько серебра они и в Византии не видывали в тот давний поход, когда хан Ногай водил их к Царьграду.
Что Царьград? Лишь видимая пышность да прежняя слава, а серебро ныне отчего-то в русский улус будто само стекается. Сколько его ни грабь, все недостаточно. Дело татар — пасти неразумных, как в степях пасут они табуны лошадей, и в нужный срок отбирать у них, неразумных, то, что они скопили, как отбирают молоко у кобыл…
Царь Тохта видит дальше других, знает: чтобы управлять бессмысленным человеческим стадом, надо вовремя сменить вожака.
Теперь более не противник князю Андрею брат. Однако оставлять Андрея на Руси полным и всесильным владыкой тоже нельзя, потому что опасно. Мало ли что еще может взбрести в его безумную голову. Для того-то пусть будут в своей земле у него соперники, да хоть тот же Михаил на Твери. Не на то ли вернули его в Русь? Странно лишь, что заранее не предупредил Тохта о том царевича. Неужели и к нему, родному брату, не имеет он веры?.. Впрочем, на то он и правосудный великий хан, чтоб всегда поступать по-своему. Но и он, Дюдень, оказался достоин брата — вовремя догадался оставить Тверь, как ни упрашивал его князь Андрей стереть городишко с лица земли, прельщая его тверскими богатствами.
Впрочем, здесь Дюдень в мыслях немного лукавил сам перед собой. Он вряд ли сумел бы заставить ногайцев пойти в еще один приступ, больно уж отчаянно взялись защищаться тверичи…
Царевич Дюдень, по своему обыкновению, милостиво улыбался, кивал согласно князю Андрею, однако идти на Псков решительно отказался. На том они и простились.
Поворотив войско, Дюдень сначала подался на Волок, ограбил его и пожег, хоть тот и считался новгородским пригородом, далее завернул на Можайск, ограбил-пожег и его, а затем с полным обозом добычи, в блеске воинской славы вернулся в ногайскую степь.
Назвавшись великим князем, Андрей Александрович щедро наделил своего складника Федора Ростиславича Черного. Ему он отдал Переяславль. Во-первых, того пожелал сам Федор. Благодаря тому что ни жителей, ни имущества татары в нем не нашли, Переяславль и пострадал меньше, чем прочие города. Татары так заспешили, что толком и пожечь его не успели. Во-вторых — а может быть, и во-первых, — Андрей Александрович хотел хоть за псковскими стенами, но достать брата, унизить его до того, чтобы ногти сгрыз от обиды. И надо заметить, это ему удалось.
Дело в том, что еще со времен деда Ярослава Всеволодовича Переяславль считался старшим уделом в их роду, первой и главной отчиной, какой и был достоин считаться сей славный город, упрятанный среди лесов на берегу рыбного озера Клещина за крепостной стеной в двенадцать боевых башен. Владеть им было не только почетно, но и выгодно. Никто про то не догадывался, но Андрей Александрович издавна был уязвлен тем, что отец оставил Переяславль Дмитрию, а его наделил Городцом. Что ж, теперь пришла пора распоряжаться и отчиной, и прочей землей так, как ему заблагорассудится.
«Сгрызи ногти, Дмитрий, а Переяславль я Федьке отдам!..»
Ивашку, Дмитриева слабовольного сына, Андрей Александрович приказал Федору вывести в Кострому, оставив и вовсе без удела. «То-то Дмитрию будет радостно…» Но и кровью посчитаться с братом князь Андрей не оставил надежды. Сам же покуда пошел на Новгород, утверждать свою волю.
Прежде всего потребовал заменить посадского, и по единому его вздорному слову вольноохочие новгородцы вместо дельного Юрия Мишинича, только что своим посольством спасшего город от разорения, безропотно избрали посадским непутного Андрюшку Климовича, что бессовестным лизоблюдством был особенно приятен новому великому князю…
Как начинался год тревогой и одним именем, так тем же именем и тревогой он и заканчивался.
В двадцать восьмую неделю по Пятидесятнице, в день святых мучеников Парамона и Филумена со стороны Торжка в Тверь прибежали возки князя Дмитрия Александровича.
Не вынес великий князь последнего изгнания, не вынес того, что в родном Переяславле, на исконной отцовской земле, волей безумного брата поселился преступный и развратный Федька Черный, отторгнутый отовсюду. Не мог Дмитрий стерпеть и того, что родного, единственного сына оставлял без удела. Знал, что кроткий, боязливый Иван уже не добудет себе стола.
С тем и выехал из Пскова, не послушав ничьих уговоров. Хотя от дочери Марии и зятя Довмонта во все время своего пребывания он не видел ничего, кроме заботы и ласки, горек показался ему чужой хлеб. Да разве могло быть иначе?
Так выходило, что он, и самой жизни не щадивший ради отечества, теперь, на старости лет, вдруг не только сам оставался без куска хлеба и крова над головой, но даже и сына лишал того, что причиталось ему по праву. Разве мог он безропотно с тем смириться?
Дмитрий Александрович знал (имел оттуда верные сведения), что переяславцы в случае его возвращения встанут на Федьку Черного, успевшего вызвать к себе общую ненависть необузданной похотью, от которой могли пострадать жена и дочь всякого горожанина. Федор Ростиславич правил городом с торопливой старческой жадностью, не как князь, а как чужой победитель.
Знал Дмитрий Александрович и про то, что Михаил на Твери до сих пор не поклонился Андрею и даже держит у себя заложниками новгородских купцов, которых велел схватить, как только узнал о том, что Новгород сам позвал Андрея на княжение.
Однако вовсе не надежды на помощь тверского князя против брата погнали Дмитрия Александровича от хлебосольного стола зятя, но невозможность примириться с несправедливостью и обидой.
Знал Дмитрий Александрович и о том, что жить ему осталось недолго. Тем более надо было успеть вернуть для себя достоинство, а для сына отчий удел, пусть даже это и стоило бы ему жизни. Еще горше чужого хлеба была для него печаль о том, что коли умрет во Пскове, то и лежать он будет не в той земле, ради которой жил.
Как ни маял, ни изводил себя князь в покаянных молитвах, не знал он, не находил за собой того зла, за которое Бог его так сурово наказывал. Но, не сомневаясь в Его справедливости и милосердии, просил Спасителя лишь об одном: чтобы дал умереть в чести и на своей земле.
С тем из Пскова и вышел.
Однако уже на пути его ожидал удар. Настигло его вечное несчастье княжеской жизни — измена. Лишь только княжеский поезд тронулся из Пскова, кто-то донес о том брату в Новгород. Князь Андрей с новгородской дружиной бросился вдогон Дмитрию.
Нагнал он его возле Торжка. Силы были неравными. Хотя Дмитриевы переяславцы рубились отчаянно, единственное, что смогли они сделать, — дать уйти от погони князю.
Андрей, говорят, чуть не плакал от злости и смертно, похабно ругался, когда среди порубленных тел не нашел тела брата. И даже обоз со всей казной великого князя, который он захватил, его не утешил. Но преследовать Дмитрия в Тверской земле Андрей не решился. Да и переяславцы слишком много времени отняли у него.
Михаил не видал великого князя с тех самых пор, как встречались они в доме кашинского боярина, то есть более шести лет.
Перемены, произошедшие в Дмитрии Александровиче, были столь разительны, что первое мгновение Михаил-опешил и лишь молча вглядывался в измученное, сожженное то ли какой-то болезнью, то ли душевными муками лицо князя. Редкая борода еще поредела и стала совсем седой, однако цвет седины был не бел, а изжелта-грязен; цыплячья кадыкастая шея неловко, как-то по-детски, вылезала из ворота кафтана, который казался слишком широким; под суконной просторной ферязью[55] тело князя только угадывалось, будто ферязь накинули на кол, чтобы отпугивать птиц с огорода; в прорези длинных, почти до пола, рукавов выглядывали тонкие костистые руки с белыми, словно намытыми в бане, пальцами, и трудно было поверить, что когда-то эти руки так владели мечом, что меч летал в них карающей врагов Божией молнией. К тому же сейчас руки князя заметно дрожали и вряд ли могли удержать двойной римский ножичек для ногтей.
Дмитрий Александрович тоже долго вглядывался в Михаила, будто не узнавал. Потом вдруг скривился лицом, губы его задрожали, и неожиданно для всех, кто стоял рядом (а рядом стояли двое ближних его да несколько тверских бояр), он повалился Михаилу Ярославичу в ноги.
— Защиты прошу у тебя от брата!..
Многое видел уже Михаил, не все, но кое-что ведал в чужой душе, однако вид великого князя, лежащего у него в ногах, оказался столь внезапен, что он не сразу сообразил кинуться его поднимать.
Другие, ненароком став свидетелями чужого нестерпимого унижения, и вовсе окаменели.
— Пусть пес вернет отчину… пусть… не мне, так Ивану, пусть отдаст отчину… Не выдай, брат, Михаил Ярославич! Бог тебе попомнит за то…
— Встань, Дмитрий Александрович, да вставай же, негоже!
Но Дмитрий Александрович словно совсем потерял себя, он причитал как юродивый на церковной паперти. Бесслезные рыдания били его, и зубы стучали о зубы, будто в ознобе.
— Да столец пусть вернет! Столец отцов, слышишь? Столец в обозе пропал! Не его это, слышишь, мой столец! Вор он, пес! Украл мой столец!
— Что это ты, Дмитрий Александрович? — раздался вдруг властный, спокойный голос княгини Ксении Юрьевны, неслышно вошедшей в Князеву гридницу со своей половины. — Никак, обессилел? Ну, здравствуй, что ли…
Дмитрий Александрович замолчал, отстранил руку Михаила, тяжело поднялся с колен и медленно повернулся к княгине:
— Ксения?.. Ксения Юрьевна… Вот у сына твоего защиты от брата пришел просить…
На следующий день в Торжок выехало тверское посольство. Примирить братьев вызвался сам владыка епископ Симон, с ним поехал искусный в посольских хитростях боярин Святослав Яловега да другие еще бояре, более для важности и числа. Кроме того, для соблюдения душевного покоя Дмитрия Александровича Михаил отрядил с посольством Тверитина с тремя сотнями верховых. Сам же остался в Твери. Во-первых, не мог он видеть мерзкой рожи Андрея, а потому его участие в посольстве только навредило бы примирению. А во-вторых, на случай несговорчивости Андрея Александровича он начал готовить войско идти к Переяславлю на Федора Черного.
Посольство вышло трудным, долгим, однако удачным. Нравоучительная настойчивость владыки Симона, увертливость боярина Святослава, а также и угроза от тверского князя в конце концов сделали свое дело.
Как поначалу ни измывался Андрей Александрович над братом, как ни кичился перед ним, все же и он был сломлен. И как это ни покажется странным, именно самим видом раздавленного им врага. К его досаде, этот сломленный вид радости отчего-то ему не доставил. Будто всю жизнь боролся с одним, а победил другого…
Одним словом, братья примирились на том, что Дмитрий Александрович по своей воле отдает брату великокняжеский владимирский стол и, следовательно, Андрей Александрович наследует его согласно Русской Правде, а не по одной лишь прихоти степных ханов. Андрей же Александрович возвращает брату отчий удел, отпускает из Костромы Ивана, а Федору Ростиславичу немедля велит покинуть Переяславль.
С тверской стороны было взято обязательство отпустить задержанных новгородских купцов.
На том и разъехались.
Покидая город, Федор Черный поджег Переяславль с четырех сторон и превратил его в пепел. По свойствам души он не мог поступить иначе.
К счастью, весть об этом злодействе от Дмитрия Александровича утаили, сам же он сожженный Переяславль уже не увидел. На возвратном пути из Торжка он занедужил и, как ни уговаривали его остаться в Твери, не послушал, а поспешил до смерти вернуться в отчину. Но не успел. Господь смилостивился и не дал ему последнего разочарования. В дороге ему стало худо, и, приняв схиму, Дмитрий Александрович умер близ Волока Ламского.
Одно хорошо: похоронили его все же в своей земле.
Изумленный внезапной переменой судьбы, кроткий князь Иван Дмитриевич к тому времени успел возвратиться в Переяславль. Он и похоронил Дмитрия Александровича. Впрочем не сильно о нем печалуясь. Иван отца не любил по многим причинам, главной из которых была та, по какой слабые, неудачливые сыновья ненавидят своих сильных отцов, считая, что те мало сделали для их счастья.
Великий князь Андрей Александрович по смерти брата оставил Новгород, посадив в нем сына Бориса, и перешел во Владимир. Но и здесь ему показалось шумно и суетно, и спустя некоторое время, женившись вторым браком на дочери ростовского князя Дмитрия Борисовича по имени Васса, он вновь вернулся на Городец.
Часть вторая
1
Светло и покойно в осеннем лесу. Без ветра сбрасывают с ветвей дерева золотую да червленую листвяную обрядь, что ложится на землю хрустким высоким ворохом. Давно ли листы те проклюнулись из набухших почек клейкими ярко-зелеными язычками, давно ли говорливо трепетали под ветрами. Радостно плакали слезами теплых летних дождей, однако пришло время тлена и холода, и, отжив свой короткий век, сами облетают листья с дубов да вязов, орешника да берез, стелются под ноги самовытканным жухлым ковром. Вот и кончился праздник…
Густо пахнет прелью, мокрой землей, отошедшим грибом, папоротником и черничником и чем-то еще… Да всякая малая травка в лесу по осени особенно духовита, будто и впрямь, умирая, отдает миру скопленный потеплу травянистый медвяный дух. Небо над землей в эту пору тоже густо. Бирюзово и высоко. А в нем уж то тут, то там со всех бессчетных озер и болотин сбиваются в стаи улетные птицы. То сизые утицы низко, у верхушек дерев пропорхают короткими сильными крыльями, то рядом где-то вскинутся в небо тяжелые жирные гуси. Кружат, кружат над лесом с тревожными и жалобными громкими криками, будто потеряли чего и не могут найти, потом вдруг разом умолкнут, снова о сев на родные гнездовья — видно, не хочется им улетать.
Однако в ранние утра уже прихватывает самые мелкие лужицы первый, робкий и звонкий ледок. И, значит, не сегодня, так завтра туда, где, сказывают, и зимой не засыпает земля, все же потянутся вытянутым клином стаи небесных птиц.
Привалившись плечом к неохватному дубу, слившись с ним воедино в засадном схороне, князь Михаил Ярославич, прикрыв от наслаждения глаза, жадно вдыхает лесной, живительный воздух. Рядом, что тоже мило, у того самого дуба, только с другой стороны, с луком наизготове замерла княгинюшка Анна, Аничка, как зовет Михаил жену, когда их никто не слышит. Жаль лишь — не поворотиться, не взглянуть ей в глаза, хоть и близка совсем, она же первая его и осудит, что не выдержал и шуму наделал. Охотница! Ну да пусть, ей забава.
Да и ему, Михаилу, в тиши и покое стоять так вовсе не в труд. Пришла, знать, пора терпения. Кто бы ему прежде сказал и кому б он поверил, что в чутком схороне он будет радоваться тому лишь, что можно никуда не спешить, что в сердце его не окажется рвения самому рыскать по лесу в поисках зверя? Кто бы ему сказал и кому б он поверил, что можно так полюбить кого-то, что будешь счастлив единой приветливой улыбкой той, которую полюбил? Пришла, знать, пора любви и терпения. Оттого и покойно в душе, и радостно остановиться в бегучем времени, прижаться к прогретой последним солнцем пещеристой коре лесного хозяина и слушать всем сердцем и само это дерево, и весь лес, и небо над ним, и себя, и ее…
Как прихотлива и внезапна судьба! Вот уж не думал Михаил Ярославич, что давние полушутейные слова ростовского князя Дмитрия Борисовича окажутся вещими. Ан угадал хитрован! Пришлось-таки тверскому князю свадебную кашу напополам с Ростовом чинить. Как ни противился тому Михаил Ярославич, а вышло, слава Богу, не по его.
Покуда он в Сарае у Тохты гостевал, матушка обо всем и столковалась с ростовцем. Даже сама «на погляд» съездить не поленилась и осталась невестой вполне довольна. Осталось лишь Михаила подбить на свадьбу. Здесь-то и налетела коса на камень, да так, что аж заискрило. Первый раз Михаил воспротивился матушке. Он ни слышать, ни говорить не желал о ростовской княжне. И не потому, что была она ему не по нраву (он и не видел ее допрежь), а оттого лишь, что в тот самый год на старшей сестре княжны, Вассе, женился великий князь Андрей Александрович. Тогда без душевного омерзения Михаил это имя и слышать не мог, а тут выходило, что надо с проклятым ротником еще одной нитью родниться. В досадных спорах с матушкой до обид доходили… Теперь же и умом вообразить невозможно, как бы он жил без нее, лады светлой и синеокой, если бы не переупрямила его матушка!
Впрочем, коли Богу угодно сладить какое дело, то и сами препятствия тому делу лишь на пользу идут: упрямство и несговорчивость жениха заставили прижимистого Дмитрия Борисовича еще раскошелиться и присовокупить к и без того изрядному приданому все тот же городок Кашин и прилегающие к нему обширные окрестные земли. Так уж загорелось ему отдать любимую дочь именно за Михаила Ярославича. Что уж он там мыслил себе — не узнать, однако расчетливости и умения заглядывать наперед было у него не отнять. Одним словом, давний шутейный сговор у Кашина Кашином же и закончился. От возможности прирастить княжество ростовской землей Михаил Ярославич отказаться не смог.
И то еще ладно вышло, что матушка Ксения Юрьевна торопила, будто в воду глядела: свадебный ряд, по которому Кашин отходил к Твери, заключил с Дмитрием Борисовичем еще по весне, а свадьбу пришлось отложить до покровских морозов.
Уехав по спешному вызову хана Тохты в Сарай, живым ростовский князь домой не вернулся. Лишь тело его, опухшее и скоро протухшее по жаре (хоть и везли его обложенным льдом), доставили домашним бояре. Умер он вдруг, в одночасье, на возвратном пути из Орды. И схимы принять не успел. Разное про то говорили люди, но наверное никто не мог указать причины столь неожиданной смерти. Много есть ядов и тайных снадобий у монгольских волхвов. Во всяком случае, брат его Константин даже и видимо не слишком был огорчен его смертью…
Пришлось и еще подождать, покуда ростовский епископ Игнатий, справив все службы по покойному родителю, дозволил осиротевшей княжне отбыть в Тверь на венчание. Вопреки обычаю, сам забирать невесту Михаил в Ростов не пошел, отправил лишь бояр с богатыми подарками для родни.
Конечно, жив будь Дмитрий Борисович, Михаил бы не стал его обижать понапрасну, да и хлебосольный ростовец наверняка расстарался бы для младшенькой Аннушки, в которой он не чаял души, и настоял на том, чтобы править «веселье»[56] по всей чести не менее чем в три дня — сначала на Ростове Великом под колокольный стозвон, а затем еще и на Твери. Но он был мертв. Константин же вовсе не нашел обиды в том, что не пришлось тратиться на свадьбу племянницы. Ему в ту пору вообще было не до обид: наконец-то единоправно сев на давно вожделенный ростовский стол, он спешил навластвоваться, а потому с легкой охотой сбыл с рук тверским боярам княжну, мешавшую своим унынием все еще не утихшей в нем радости по поводу безвременной кончины ее отца.
И теперь еще Михаил Ярославич с душевным стыдом вспоминал, с какой холодностью и даже заведомой неприязнью ожидал княжнин поезд.
Несмотря на то что в ту осень ему исполнилось двадцать два года, возраст, в каком редко князья оставались без супруги-подружницы, опыт общения с женщинами был у Михаила невелик. Можно даже сказать, что и не было у него вовсе такого опыта.
В загородной Сокольей деревне, куда наезжал он от времени до времени, ждала его послушная дворовая девушка Палаша, гревшая князю постель, однако, ничего, кроме жалости, а то и некоторой брезгливости, Михаил к ней не испытывал. Да и удовольствия дать она ему не могла по той причине, что уж больно неровно глядела на князя, и в утехах оставаясь пугливой и будто безразлично покорной. Да вот еще в Сарае однажды Тверитин хотел было услужить князю и развлечь его плотскими радостями в веселом доме, но того и вовсе не вышло. Блудные девки вызвали у Михаила такое отвращение, что бедный Тверитин неделю глаз не смел на князя поднять и сам зарекся к тем девкам ходить. Хотя потом-то нарушил, поди, зарок…
Так что Михаил ждал невесту и с досадой, и с опаской. Хоть и уверяла матушка в ее прелестях, все ему казалось, что Анна непременно будет похожа на редькоподобного и редкозубого покойного своего батюшку. Да еще как раз тогда пришел в Тверь писаный свиток речистого женоругательного причетника[57]. Причетник тот — то ли монах, то ли боярский холоп именем Даниил — молил в том списке о милости Михайлова деда, князя Ярослава Всеволодовича. Неведомо от какой великой обиды и скорби, но главный гнев тот Данила обратил против женщин — источника и сосуда всяческого греха.
«Блуд из блуда для того, кто поимеет жену ради прибытка или же ради тестя богатого!.. Лучше уж вола видеть в дому своем. Лучше уж мне, — писал причетник, — трясцою болеть. Трясца потрясет, да отпустит, а зла жена и до смерти сушит…»
Острословием своим да злоязычием переяславский Данила мог и от любой жены отвратить, а не то что от той, какой сердце само заранее противилось: «Ни птица во птицах сыч; ни в зверях зверь еж; ни рыба в рыбах рак; ни скот в скотах коза; ни холоп в холопах, кто у холопа работает; ни муж в мужьях, кто жены слушает…»
И с перечесом свербящим он жен сравнивал, и других слов он для них гораздо много нашел. Так что, уверившись в писаных словах того причетника Даниила, несмотря на утешения матушки, Михаил ничего доброго для себя от той свадьбы не ждал.
А матушка еще и нарочно, будто игру затеяла, все сделала, чтобы Михаил до венца не увидел невесты, чтобы уж открылась она ему во всей прелести, лишь став женой. Зато и память о том, как увидел он Анну, вовеки, до самой смерти в сердце Михаила пребудет…
После того как владыка Симон соединил их руки над аналоем, Анна не упала к его ногам, как требовал того обычай и как делали то другие врачующиеся жены, но тихо, медленно опустилась перед ним на колени, склонила голову к самым его сапогам, обнажив шитый золотом подзатылень, из-под которого, заплетенные алыми лентами в две косы, вились долгие, светлые, как пшеничное поле, волосы. В том, как склонилась она перед ним, было столь же покорности, сколь и достоинства равной. Как требовал того обычай, Михаил на мгновение укрыл ее голову длинной полой кафтана, затем, склонившись, помог подняться и только тут посмотрел ей в глаза. Она их не опустила, а так же открыто глянула в лицо суженому ей князю, о котором слышала много, да знала мало. Опушенные темными густыми ресницами глаза ее в золотом полумраке храма сначала увиделись Михаилу совсем черными. Видно, от той глубины и густоты эмалевой сини, которая потом так поразила Михаила, что по утрам он бывал непокоен, покуда не погружался в синь княгининых глаз, словно в летнюю воду. В разлуке не груди и темные, жаркие, потайные воротца жены мучили в снах Михаила, а эти глаза, всегда умевшие быть такими, какими он хотел их увидеть. Равно они могли быть ликующими и печальными, но всегда оставались безмерно доверчивы, будто от жизни с князем Анна не ждала ничего, кроме счастья…
На храмовой паперти, полной празднично разодетых бояр, свадебных служек — свечников, постельничих, мовников, каравайников, трубников и накрачеев[58], — владыка Симон, приняв хлеб из рук княгини Ксении Юрьевны, разломил его на две равные части и подал Михаилу и Анне. В пронзительной тишине, когда вдруг стали слышны дальние и самые тихие звуки, под взглядами всей Твери ели они тот хлеб, сами становясь крохами того единого каравая…
А потом была ночь. В головах постели, уложенной на тридевяти снопах, горели свечи под образами. На другом поставце с караваями, глыбками сыра и перепечей[59] горели иные свечи — венчальные. На поставце же стояло двенадцать сосудов с разными медами, ковш и чарка без ручки и без носка, единая для него и для нее. Еще на одном столе, изукрашенные серебряной чернью, стояли две мисы — одна для ее ночной кики, другая для его постельного колпака, в ногах еще один стол для снятой одежды, и надо всем — последний высокий столец, с блюдами, горевшими золотом от свечного огня, куда молодые, помолясь перед встречей, бережно опустили снятые друг с друга нательные кресты и мощевики[60].
Всю ночь, не давая округе спать, призывно, бешено ржали и рвали узду привязанные во дворе у подклети трехлетние ярые жеребцы, чуя манящих кобылиц, привязанных здесь же, лишь в некотором от них отдалении…
А потом была еще одна ночь, и еще, и многие, многие ночи.
И странно, но каждая ночь с ней не походила на предыдущую, и бывало, что целый нескончаемо долгий день он ждал того ночного, тихого часа, когда в высокой светлице ее терема они останутся наконец вдвоем. Все Михаилу в ней было мило: и то, как костяным гребнем перед зеркалом она разбирала на пряди густые, тяжелые волосы, и то, как пытливо говорила с ним обо всем, пытаясь понять его душу, и то, как смеялась, и то, как грустила, и то, как сердилась, и даже то, как по-детски, всегда смущаясь после утехи, едва касалась пола маленькими точеными ножками, будто летела над ним, спеша укрыться за парчовой опоной, где стояли у нее водолеи с травяными настоями да лохань серебряная для омовения…
Думая о жене, об одном молил Михаил: чтобы Господь сподобил ее понести, дал им дите, да о том, чтобы, покуда он жив, не иссякла бы для него щедрость неутолимых прелестных милостей Анны.
Пятый уж год жили они бок о бок, а Михаилу все ее не хватало, все было мало, и сейчас он вдруг с мучительной истомой желания подумал, как было бы славно подхватить ее на руки, усадить на коня и умчаться с ней от ловчих, бояр и окольничих в Закольский Стан, Аннушкино сельцо, подаренное ей Ксенией Юрьевной на «вскрыванье». А там приказать нанести в повалушку медов, сыру и овощей, да чтоб притворили ставенки и уж до следующего утра не будили.
От жарких мыслей Михаил Ярославич по одну сторону дуба даже утробно ухнул, на другой же стороне неохватного дерева раздался чуть слышный, подавленный и закушенный зубами лукавый смешок Анны Дмитриевны.
Заливистый лай выжлей, рассеянный по всему лесу и доселе блуждавший в дальней дали, наконец определился в один слаженный гон и потихоньку стал приближаться. Чертя по лесу среди дерев крюки и зигзаги, затрещали сороки, предупреждая всех об опасности. Отгоняя вольные мысли, Михаил Ярославич заставил сосредоточиться себя на охоте. И вовремя.
Первой на поляну выскочила молода лосиха. Мягкая коричневая шерстка на боках гладко лоснилась, а темная гривка на холке стояла дыбом. Выскочив на опушку, она замерла с поднятой передней ногой, с вытянутой вперед шеей, сторожко дергая мокрым розовым носом. От края до края опушки было не более тридцати саженей.
— Ну, бей! — чуть было не крикнул Михаил Ярославич Анне.
«Бей!» — звенело в нем натянутой тетивой одно хлесткое слово.
Однако и кричать было уже поздно: следом за лосихой на поляну вышел огромный лось с жирной тяжелой «серьгой» на могучей шее. При всяком движении царственной горбоносой головы «серьга» под горлом перекатывалась и колыхалась. Не медля, но и не торопясь лось двинулся как раз к тому дубу, за которым хоронились князь и княгиня. Лось приближался. Видны уже стали налитые кровью, загнанные глаза. Однако страха в них не было, одна решимость покончить с врагом, тем более враг оказался рядом. Михаил Ярославич знал, что зверь видит его так же хорошо, как он видит лося. Где-то посреди поляны лось опустил к земле широкие, как соха, раскидистые рога, громко и низко всхлипнул влажным, горячим ртом, то ли выпуская, то ли вдыхая воздух, и пошел на князя, легко перебирая ногами по земле и вскидывая задом с куцым хвостом.
Краем глаза Михаил Ярославич видел, что, по-прежнему замерев и высоко подняв морду, лосиха все еще стоит под ударом. Однако никто ни в нее, ни в лося не стрелял, дожидаясь по уговору первой стрелы княгини. Анна медлила.
— Бей же! — не выдержав, шепотом выдохнул Михаил Ярославич.
И княгиня ударила. Но не в лосиху, а в лося. Не нанеся ему вреда, стрела застряла в складчатой жирной «серьге». Будто изумившись от боли, лось поднял от земли голову и с трубным ревом кинулся к князю, готовый затоптать врага жесткими, раздвоенными копытами.
Михаил Ярославич едва успел отбросить в сторону уже бесполезный лук, поднять копье и со всей силы метнуть его навстречу сохатому. Хоть и пущенное сильной рукой, копье, ободрав острием шкуру на твердой лобной кости, не остановило лося. В следующий миг князя должно было пропороть рогами, растоптать копытами, смять, раздавить громадной тушей, но здесь изо всех захоронов — дальних и ближних — в лося полетели стрелы и копья, пущенные окольничими. Лось рухнул, не добежав двух шагов до князя. Из нутра, хрипя, выталкивался остатний воздух, пеной вскипая на обвислых черных губах.
Впрочем, ни дивиться, ни радоваться спасению времени не было — согнанные псами и загонщиками со всех концов леса, на поляну посыпались звери. Мелких прыгучих косуль били стрелами влет, лосей кололи копьями, зайцев пропускали не трогая, напозади поляны их ожидали тенета; тявкая, скаля мелкие острые зубы, метались пожаром лисицы. Бойцы едва успевали вертеться, встречая новую и новую дичь. Выжли пригнали всех, кто встретился им на пути и не сумел уйти.
Князь хоть душу отвел, повалив матерого секача. Кабан шел на него на длинных крепких ногах, роя клыкастой мордой землю, взбрасывая вверх и в стороны павшие листья. Михаил Ярославич с такой силой ударил кабана под лопатку, что смоляное древко копья надломилось. Впрочем, уже после того, как железо проникло до сердца.
Скоро к поляне стеклись и выжли. Их впавшие враз бока бешено ходили от бега. Собаки уже не лаяли, а радостно, визгливо взбрехивали, не в силах сдержать бежавшую с языков слюну. За ними пришли и жаркие, возбужденные погоней и собственными криками загонщики. Им, оказывается, нынче тоже досталось…
Псы подняли медведицу с двумя подлетками. Медведи задрали с десяток особенно рьяных и охочих собак, а потом, как подоспели загонщики, медведица пошла на людей, а за ней поднялись и малые. Покуда их уложили! Ловчий Максим Черницын радостно лыбился, показывая всем и каждому, где подрал его медведицын коготь. Кожух на его спине разошелся от зада до шеи, словно располосованный засапожником. Белая нижняя рубаха насквозь промокла от крови. Рана была неглубокой, однако кровоточивой. И хоть Черницын и лыбился, но был уже сильно бледен.
А на поляне пошли в ход ножи: отворяли кровь из жил, снимали шкуры да кожи, освежеванные туши укладывали на расстеленную по всей поляне рогожу.
Псы, осев долгим кругом и вывалив сизые, дымные языки, жадно скулили, глядя на парную, душистую требуху.
— Ты пошто лосиху-то не стрелила? — спросил Михаил Ярославич Анну довольно строго.
Он осерчал на жену. Лов хоть и оказался вполне удачным, однако шел он как-то сам по себе — не по князевой воле, а по одной случайности, на которую в охоте полагаться никак нельзя. Ныне она к тебе милостива, а завтра, глядишь, и обманет. А потом, коли уж взялась не за свое бабье дело, так веди его по чести, не срамись перед холопами и мужу сраму не делай. Тем более что не нюня какая и лук в руках вполне привычна держать…
Еще на давней, первой охоте, в которую она упросилась с ним по начальному году, зверя княгиня била столь метко и твердо, что всех вокруг, а не одного только князя, привела в изумление. А уж потом-то и вовсе освоилась и охоту почитала наравне с князем первой забавой.
Оказывается, батюшка, покойный Дмитрий Борисович, с двенадцати лет начал брать с собой на ловы свою любимицу Аннушку и так приохотил ее к луку и верховой езде, словно она ему была не дочкой, а сыном. Так что в охоте скидок себе на девичество Анна Дмитриевна не делала и от мужа их не ждала.
— Чего не отвечаешь-то? — снова спросил Михаил Ярославич, но уже не столь строго, сколь насмешливо. — Али стрелу потеряла?
Анна Дмитриевна молчала, отвернувшись. Впрочем, ее нежное, не умевшее скрывать чувств лицо горело таким ярым, стыдливым румянцем, что и глядеть на него было жарко. И глаз она на князя не поднимала, хотя знала, что стоит взглянуть ей на мужа так, как она одна и умела глядеть на него, хмурь его враз разбежится и он вместе с ней возрадуется тому, что она пожалела лосиху. А лосиха-то эта глупая здесь совсем ни при чем, а дело все в том, что ныне, стоя в том захороне у огромного дуба, она явственно вдруг услышала то, о чем предполагала и догадывалась уже давно, но никому еще про то не сказывала: наконец-то она понесла! Тело ее принадлежало теперь не только ей или князю, но тому еще, кто нарождался в ней и уже требовал внимания и ласки. Верные приметы, о которых толковали ей сенные девушки и сама княгиня-матушка Ксения Юрьевна, конечно, были верны и давно уже, второй, чай, месяц, обнадеживали ее, но только ныне не по одним приметам, а самим сердцем она поняла, что свершилось в ней то светлое таинство, что дает начало человеческой жизни.
И как раз тогда, когда она себя слушала, ликовала безмерно и думала про то, как сообщит о том Михаилу, на поляну и выскочила лосиха. Вроде и нет ничего проще: поймать на стрелу цель и отпустить тетиву. На то и создал Бог зверя, чтобы человеку было чем насытить себя и чем прикрыть свое тело. Десятки раз Анна била стрелой и тех же лосей, и косуль, и росомах, и бобров, и лесных свиней, и не было в ней к ним жалости, как не может быть жалости у рыбаря к рыбе, что пришла в его невод. А тут дрогнула вдруг рука, и вместо того чтобы верно ударить, Анна просто залюбовалась той молодой лосихой. Лосиха еще никогда не телилась, была стройна, тонка и… нежна. Анна будто ощутила ту звериную нежность. Увидела Анна и то, как была желанна лосиха тому сильному лосю, что вышел следом за ней на поляну. Верно, люди потревожили их для смерти в самый ярый любовный миг.
Княгиня будто от холода передернула плечами под узкой, обжимной беличьей телогреей.
— Что ж молчишь, али я тебе в чем повинен? — пытливо спросил Михаил Ярославич, стараясь заглянуть ей в глаза.
Любый муж, которому она привыкла доверяться во всем, стоял рядом, ждал ее слов, но отчего-то сейчас признаться ему в великой радости она не могла.
— Что ты, Михаил Ярославич, разве можешь ты обидеть меня? — Анна Дмитриевна подняла на князя синь глаз, и мягкие ее, плавные губы, открывая полосу жемчужных влажных зубов, тронулись в виноватой, смущенной улыбке. — Сама не пойму, с чего это на меня жаль напала…
— Эх ты, нюня-Анюня! — удивленно и ласково проговорил Михаил Ярославич. — То ж зверь, чего его жалеть-то?!
— Так ить лось-то, поди, ее и покрыть не успел, — пожалела о том княгиня, сразу зардевшись и опустив глаза.
— Кого? — переспросил Михаил.
— Лосиху, — пояснила княгиня. — А она-то, я чаю, ждала…
Только теперь догадавшись, о чем говорила Анна, Михаил расхохотался и, не смущаясь чужих взглядов, прижал ее голову к своему плечу.
— Ты-то почем про то знаешь? — весело спросил он.
— Да уж знаю… — тихо отозвалась она, пытаясь освободиться из его рук. Но Михаил Ярославич не отпускал.
Круглая шапочка-самшура, поверху накрытая нарядным платком, твердым донышком смяла бороду и уперлась ему в подбородок. И опять, будто и вовсе не было меж ними многих и многих ночей, он почувствовал к ней влечение. Да такое, что не стал ему и противиться.
— А что, Аннушка, не уехать нам на Стан? — тихо, по-особенному промолвил князь.
— Без бояр? — будто удивилась, жарко дыша ему в грудь, княгиня.
— Без бояр. Поди, они без нас не заблудятся. Поедем!
— Поедем! — повторным эхом выдохнула Анна Дмитриевна и засмеялась…
Пир, начавшийся ввечеру в княжьем доме сельца Константиновского, близ Закольского Стана, длился весь следующий день и еще один. Мед не горчил, и здравицы не смолкали. Пили здоровье князя, пили здоровье княгинюшки, пили здоровье бояр и снова пили за князя. И никто не ведал, отчего это празднично во все три дня звенели колокола на церкви святой преподобной мученицы Анастасии Римлянинки, в которой тутошний поп отец Тихон служил благодарственные молебны заступнице Божией Матери, Богу Отцу, Богу Духу и Сыну за милость, данную ими плодоносному лону.
Хотя, конечно, от взглядов хитромудрых бояр не укрылась та больно уж явная ласка, с какой Михаил Ярославич глядел на жену. Так-то известно когда глядят… Да и княгиня, как смутилась перед лосихой той на охоте, обратно в сельцо уж не верхом полетела, а возок приказала себе подать.
«Вот и ладно! — рядили бояре промеж собой после. — Чем на мущинской охоте забаву маять, лучше уж деток родить. Пора уж. Да и князю на сердце покой и радость…»
2
Радость князю в том, что княгиня наконец понесла, и правда была великая. И не одному только князю, а и всей Твери. Тогда еще, во всяком случае, в Твери, народ и его правитель не шибко скрытничали и не хоронились друг от друга, а жили одними радостями и горестями. Во всяком дому с надеждой и умилением судачили бабы о скором прибытке в семействе князя, а по воскресным дням несчетные свечи горели в церквах во благо здоровья княгини…
Михаил же Ярославич с тех пор, как Анна открылась ему в тот памятный, сладкий день, смотрел на нее не иначе будто завороженный. Так смотрят на хрупкий, драгоценный сосуд, всклень наполненный желаемой влагой.
Но уж и Аннушка изменилась: не затевала обычных игрищ да хороводов с сенными девушками, не прыгала белкою по лесенкам сенных переходов, а ходила степенно, будто неся живот напоказ, более же всего затворялась в своей светлице за молитвой и рукоделием. Обжимные короткие куфайки да телогреи сменила на просторную меховую кортель; вместо тяжелой от каменьев и золота кики надела на голову шелковый легкий убрус, прикрывавший волосы каждый день причудливой скруткой; а нарядные поневы и кохты поменяла на косоклинный распашной сарафан, поверх которого, впрочем, надевала и ферязь либо желтого, либо червленого цвета. Но все то были пустые внешние мелочи, видные всем.
Изменилась Аннушка вовсе в ином — другими, далекими и незнаемыми, стали ее глаза. Михаилу иногда казалось: Анна смотрит на него, но не видит, погруженная в себя, туда, где уж билась, толкалась не явленная покуда миру новая жизнь. То была ее тайна. И эта тайна не давалась Михайлову разумению.
Да он и не пытался понять ее неведомых женских тайн, а лишь удивлялся, наблюдая за женой, как разительно она меняется день ото дня, становясь молчаливей, строже и недоступней.
В ту пору, что тоже не могло не радовать Михаила Ярославича, еще тесней и короче, чем прежде, сблизились Анна Дмитриевна и матушка Ксения Юрьевна.
Особенно изумляла близко знавших ее людей княгиня Ксения Юрьевна, которая от невесткиной тяжести будто заново и сама расцвела женским счастьем. Обычно строгое, сдержанное во всяком проявлении чувства лицо свекрови мягчело, плыло едва видной и оттого еще более весомой улыбкой, когда она говорила с невесткой. Окружающие вдруг увидели в ней не суровую владетельницу, которая во всю жизнь не могла позволить себе блажи быть обыкновенной и слабой женщиной, но заботливую, ласковую мать, умевшую, оказывается, и охать по-бабьи, и причитать, и умиляться радостными слезами в предожидании внука…
Однако все эти главные радости проходили на женской половине терема, минуя глаз Михаила Ярославича. Лишь ночью да послеобеденные часы он появлялся в покоях княгини, прячась от забот в синюю омуть ее глаз. Как ни была сосредоточена на себе Анна Дмитриевна, но и она видела, как нелегко отчего-то мужу, и всякий раз встречала его с тихой веселостью, пытаясь отвлечь от забот. С женой Михаилу Ярославичу было привычно-радостно, но и здесь тревога не оставляла его.
Княжение его давно стало ежедневной службой и радением ради земли и веры. Всем он старался быть равным отцом и заступником от обид. Но не ко всем был милостив.
Более всего не терпел запустения на земле и, если видел у какого хозяина не взошедшие урожаем обжи, гнал такого хозяина, а его угодья по своему усмотрению передавал другому. Оттого, видать, толклись с раннего утра и до вечера в княжьем дворе и сенных прихожих в поисках доходных путей, льгот и выгод всякие люди. Он же особо привечал тех, кто приходил на Тверь из иных княжеств. Кого на лес ставил — «на топор и соху» — и сошников тех освобождал от издолья[61] на десять, а то и на двадцать лет; кого на пустошь сажал, опять же освобождая от пошлины на срок до пяти, а то и десяти лет; а тех, кто послабее, пускал на село и им давал льготу на первый год.
На Руси что худая, что добрая слава одинаково быстро во все пределы летит! И ранее Тверь дальних людей к себе звала, а теперь и вовсе словно манящей звездой над всей землей встала. Из Киевской, Черниговской, Полоцкой, Смоленской и прочих земель шли к Михаилу люди разных занятий и званий, и не для того лишь, чтобы на него взглянуть, но для обустройства жизни. Вестимо: и рыба ищет где глубже…
Мало стало выгоды жить одной древней истиной про то, что князь дружиной своей силен. Так оно, да и не так… Одним прихватом чужого вечно богат не будешь, прочное же, верное богатство только земля может дать. Для того и старался князь заселить ее плугарями.
Но и строг был, однако. Порядок такой на Твери завел, какого не было допрежь в русских землях.
Раньше-то свободный человек за лживое ротничество, за убийство или какое иное насилие вполне откупался гривнами, никто не мог и по суду его ущемить до членовредительства и телесного унижения. Тверской же князь татьбы не прощал. Коли в смерти, воровстве, невозвращении долгов, в зловерии, распутном блуде или еще в каком злом грехе доказывали ему вину и та вина была велика, одной своей волей Михаил Ярославич вполне мог нарушить древний Мономахов завет не убивать виновного.
Светлой души был князь. Однако правил он на Руси в иные времена. Давно уж Русь перестала быть той Мономаховой Русью, когда и побои-то русич знал лишь в бойцовском единоборстве. Кончилась та Русь с татарами, новое время пришло. Одним только страхом денежных пеней да позором суда (какого прежде было довольно) невозможно стало удержать от преступлений лихих людей. А их от притеснений поганых и общего беззакония развелось как блох в жаркий день на собаке.
Малые отряды дружинников от времени до времени рассылались во все пределы княжества на пагубу разбойникам и лихоимцам, однако дозоры те пользы давали мало. Леса вдоль проезжих дорог надежно скрывали тех, кто хотел укрыться. Хвастают, конечно, татары, говоря, что в Орде можно, мол, носить золото на голове, совершенно не подвергаясь опасности быть ограбленным, хвастать-то хвастают, но действительно в своей стороне и у своих они не воруют. Здесь же чуть ли не в каждый месяц, а то и почаще, вести приходят к князю о разбоях и грабежах.
То починок пожгут, то купецкий обоз взлохматят, то прохожего человека обидят, то над девкой какой надругаются, а то и вовсе греха не побоятся — сельскую церковку вскроют. Много нынче среди людей озорства. Прежде коли уж сбивались в ватагу дикие, буйные мужики, которым добрая жизнь пресна, как несоленое тесто, то уж и уходили они ушкуйничать либо бродничать подалее от родной стороны, в иные языки и народы. Теперь же и русские на своей земле будто татары безверные!
И как отличить среди тех, кто приходит на Тверь, прилежного землепашца от кровавого татя? И тот и другой руки-ноги имеют, одинаково глазами на мир глядят, только видят, выходит, разное. Но в мысли к ним не заглянешь…
Предлагали бояре князю тех, кто был замечен в татьбе, клеймить по лбу позорным тавром, дабы издалека признавать разбойника, однако пока удержался от той меры Михаил Ярославич: больно уж паскудна и неподобна она человеку. Разве он скот, чтобы негодное клеймо на себе носить? Да и как он будет с ним дальше жить?
Однако как без кнута вселить в людей добронравие, когда они его не хотят? Но ведь и кнутом не многое достигается. Знать, не в кнуте здесь дело. Коли уж дошел русич до края, ему и кнут не помеха, напротив, кнут-то его уж не бьет, а только пуще задорит. Такого легче в смерть загнать, чем исправить. Хоть в лохмотья кожу исполосуй, а до души не достанешь. Оттого и не приживается татарский Джасак на Руси, что зла и крови в нем много, но правды нет. Другое нужно Руси, а что другое — никто не знает: то ли не придумали еще, то ли уже забыли. Все от века заповедано нам. Надо лишь понять, отчего сейчас грабить и убивать стало легче, чем жить по совести. И попытаться исправить то, что можно еще исправить. Ведь было же на Руси светлое время, когда на вора или какого иного отступника пальцем указывали, как на диковинку! И не страх держал людей в благонравии, а достоинство. Выходит, не о кнуте надо думать, а о том, как вернуть растоптанные татарами честь и достоинство. Бесчестный и на Бога взгляд не смеет поднять.
Вот и отец Иван поддержал Михаила Ярославича в споре с боярами, когда завели они речь о клейменых отметинах.
«Злого лишь укрепит во злобе такое тавро, — сказал Царьгородец. — Не даст уж возродиться ему для добра. А в каждую душу уголья брошены. В иной горят ярким пламенем от ангельского дыхания, в иной остыли, подернулись серым пеплом. Но не навек, ибо и к ним слетят еще ангелы и вздуют небесный огонь. Так не нам же путь тем ангелам закрывать…»
Хорошо, когда так… И ежели взглянуть теперь хоть на того же Андрея Александровича, можно ли в том усомниться?
Кажется, не было более непотребного, злонамеренного и мутноумного человека на всей земле, но, с тех пор как, отдав владимирский стол, умер брат его Дмитрий, и того словно бесы перестали водить.
Еще памятно, как пять лет назад все затаились в страхе и ждали, что уж теперь-то Андрей Александрович в таком кулаке Русь сожмет, что та не вздохнет, не выдохнет. И были к тому грозные обещания! Ан нет — то ли опешил он перед Русью, то ли сил в себе не нашел, но будто вовсе подменили его. Не то чтобы кроток стал, но вял и безделен. А может, правда, и он для веры очнулся? Хотя вряд ли…
За это время Михаил Ярославич встречался с великим князем дважды. Первый раз два года назад на большом владимирском княжьем съезде. Правда, ни смоленский, ни галичский, ни черниговский, ни иные из южных княжеств князья на зов Андрея Александровича не откликнулись, однако князья Низовской Руси съехались. Собрались: Федор Ростиславич, князь ярославский; Даниил Александрович[62], князь московский; Константин Борисович, князь ростовский; Иван Дмитриевич, князь переяславский; Михаил Ярославич, князь тверской, ну и еще некоторые из малоудельных. Был там и ханский посол, надменный от глупости бек-нойон[63] Умуд Муртаза. Впрочем, приняв княжеские дары, более он ни во что не вмешивался, а лишь важно дул в щеки, изредка кивал и иногда улыбался.
Собственно, проку в том съезде не было. Всяк остался при своем мнении. Одно лишь увидел Михаил Ярославич, еще раз утвердившись в своих же мыслях: нет среди князей великого князя. Великий же князь Андрей Александрович оказался на поверку присохшим перечесом, который уж и чесать забываешь, впрочем, перечес тот остался на месте когда-то свербящего, больного нарыва, излившегося гноем и сукровицей. Глядя на него, нахохленного постаревшего кречета, было ясно: ни ради корысти, ни ради тщеславия, ни тем паче ради чего другого Русь он крепить не будет. Видно, не власти он искал для себя, а лишь смерти для брата. И ради одной этой смерти да для безумной утехи непомерной гордыни не убоялся тысячи людей побить, целую землю предать опустошению и разору.
Добившись власти, Андрей Александрович враз постарел, потух глазами, осунулся и заострился лицом. Глядеть на него было тошно, как на чужого покойника. Хотя он и улыбался приветливо Михаилу, будто не слышал от него срамных слов. Глядя на него, Михаилу Ярославичу уже и не верилось, что именно этот человек все детские годы был пугалом в его памяти и сознании.
Но еще более поразил его во Владимире сын покойного великого князя Дмитрия Александровича, переяславский Иван. Подзуженный не кем иным, как московским князем Даниилом Александровичем, он так рьяно стоял на том, чтобы выйти из-под воли дядьки Андрея Александровича, что и Михаилу пришлось за меч хвататься.
Робкий Иван, при отце живший за стенами родного Переяславля тише, чем мышь в зимней норке, голос вдруг до того возвысил, что назвал Андрея Александровича братоубийцей и Каином, что, впрочем, было вполне уместно и справедливо, а Федора Ростиславича Черного грязным охвостьем на заду у Андрея, что было не менее справедливо также. Но дело оказалось совсем не в словах, а в том, с какой уверенностью в собственной силе он выступил. Все так и ахнули! Михаил Ярославич тогда почти сразу смекнул, что без лживых уверений в поддержке со стороны Даниила дело здесь явно не обошлось. Неизвестно, чем бы оно и кончилось, потому как сам князь Даниил только руками от удивления всплеснул при словах Ивана Дмитриевича и укоризненно покачал головой: что это, мол, племянник несет неладное…
Федор Ростиславич много чего про себя в жизни слышал, да еще, поди, попоносней, а еще больше худого сам ведал про свою жизнь и душу, однако, оскорбленный на миру, обиды, конечно, терпеть не стал, а кинулся с Иваном рубиться.
Князь Федор был уже во многих летах, но против почти безбородого, с оплывшими женоподобными плечами Ивана выглядел как ступка против квашни. Он и в старости оставался красив, как сатана воплощенный, с вьющейся кольцами посеребренной бородой, с черными, живыми глазами и сильными руками, пальцы которых были унизаны большими перстнями.
Выкрикнув поносные слова, Иван беспомощно обернулся на Даниила, словно ожидая поддержки. И Даниил вроде бы как раз поднимался с лавки, чтобы что-то сказать, однако больно уж мешкал и не успел. Выхватив меч, Черный уж подлетал к Ивану. Иван от неожиданности затрясся, как курица перед коршуном, но тоже потянул саблю. Хотя навряд ли и взмахнуть бы ей успел…
Надо было сдержаться да посмотреть, что далее выйдет, однако не утерпел Михаил Ярославич — прикрыл Ивана от Федора. Видно было, как огорчился Федор помехе, даже зубами заскрипел от досады, но на Михаила руку поднять не отважился. Ну а тут уж епископ сарский Исмаил взвился промеж ними ужом, начал крестом так осенять, что чуть не каждому в лоб попал. Ну, словами еще полаялись и разошлись без крови. А коли не вступился бы Михаил, ужели дошли б до убийства? Дошли бы, поди… А коли дошли, кому б досталось Переяславское княжество бездетного Ивана Дмитриевича? Как догадался потом Михаил Ярославич, ради того и затевалась та ссора.
Великий князь обвинения Ивана принял молча: мол, не тебе, недоносок, судить, в чем не смыслишь, однако, когда уже разъезжались, твердо и гласно пообещал достать копьем племянника и уж, во всяком случае, из переяславской отчины выбить.
Да, поди, и выбил бы, коли б опять же Михаил Ярославич у него на пути не встал. Тогда и встретился он с Андреем Александровичем вторично.
После съезда ханский посол Умуд позвал с собой Ивана Дмитриевича в Орду: мол, хан Тохта его видеть хочет. То ли великий князь подговорил его на то, то ли действительно Тохта хотел увидеть сына Дмитрия, чтобы уж самому убедиться в его некудышности, как о том ему наверняка доносили. Делать было нечего, и прямо из Владимира князь Иван отправился в Сарай. Но перед тем упросил тверского князя оказать еще одну услугу и взять на время его отсутствия Переяславль под свою защиту. Иван был по нраву Михаилу Ярославичу не намного больше, чем дядька его Андрей. Больно уж он был расплывчат, вздорен и неумен, от таких-то слизней беда и приходит, когда не ждешь. Одно ставило его напереди великого князя: вреда от него Тверь покуда не видела. Обида же на Андрея Александровича в Михаиле еще не прошла. Оттого и согласился Михаил Ярославич помочь Ивану против великого князя, коли в том будет нужда.
Впрочем, еще была причина, по которой он не мог оставаться в стороне. Во Владимире тогда прояснился с достаточной четкостью общий расклад русских сил. Федор Ростиславич Черный и Константин Борисович Ростовский твердо держались Андрея Александровича. Младший же его брат, прежде души не чаявший в Андрее, теперь вдруг обособился. И даже, напротив, явно искал приязни первого Андреева противника, тверского князя, хотя и был изрядно осторожен и скрытен в словах. Михаилу Ярославичу показалось, что Даниил выжидал чего-то. Может быть, ждал, чем закончится попытка племянника выйти из-под воли великого князя? И наверняка сам же он и готовил эту попытку. А может быть — об этом Михаил Ярославич подумал уже потом — братья заранее сговорились против племянника? Даниил должен был подзадорить и натравить Ивана на великого князя с тем, чтобы у последнего появилось весомое основание выгнать непослушного племянника из отчины. Кто их разберет, Александровичей?.. Так что, всем на потеху и удивление, открыто против великого князя выступил один лишь безвольный и безмозглый Иван.
Примкнуть к первой троице было, конечно, выгодней, но уж слишком противно для сердца, остаться совсем одному — опасно, потому Михаил Ярославич и склонялся к союзу с Иваном Дмитриевичем и Даниилом Александровичем, на тот случай, когда б великий князь решил кого-нибудь из них притеснить.
Случай ждать себя не заставил. Не успел Михаил Ярославич вернуться в Тверь, как из Владимира его нагнали вести, что Андрей Александрович готов исполнить свое обещание и вот-вот выйдет с войском на Переяславль. Послав гонцов на Москву, к Даниилу, Михаил Ярославич немедля и спешно вышел навстречу великому князю. Успел позвать с собой и переяславцев и встретил противника аж у Юрьева — так бежал! Как ни прельщал великого князя Переяславль — город отца и деда — как ни жгла его обида на братова сына, а все же честно биться с сильной тверской дружиной Андрей Александрович не рискнул. Постояли друг против друга, дождались еще и князя Даниила, который не больно ходко шел на выручку от Москвы, затем обменялись обещаниями впредь жить по совести и разошлись, слава Господу, с миром.
Трудно вообразить, что пять лет назад Андрей остановился б на том. Непременно бы побежал жаловаться к Ногаю или Тохте, навел бы татар и любой кровью все-таки утвердился. Теперь же тихо отбыл на Городец и затих там с молодой женой.
К тому же, спустя год после владимирского съезда, Андрей Александрович лишился вернейшего своего сподвижника Федора Черного. Ярославский князь, ни в чем не найдя утешения и стремясь выместить давнюю, самую больную свою обиду, попытался-таки вернуться на отчину. Собрав немалую силу, он пошел на Смоленск, где в ту пору правил уже сын его старшего брата Александр Глебович. Довольно долго держал он город в осаде, но после кровавого и неудачного приступа вынужден был вернуться восвояси с новым и, к счастью, последним позором. Вскоре он умер внезапной смертью посреди долгого, загульного пира. Как жил, так и умер — ни пострига не принял, ни в грехах не покаялся, чем в последний раз особенно огорчил свою набожную жену Анну Ногаевну. Похоронив мужа, которого неведомо за что любила преданно и безмерно, ногайская дочь постриглась в монахини, чтобы тем верней отмолить у Господа великие Федоровы прегрешения…
Так что, прикидывая в уме нынешние силы великого князя, Михаил Ярославич ясно видел его слабость и одиночество.
Не было то скрыто и от других.
Несколько месяцев тому назад пришли в Тверь послы из Новгорода. Жаловались на скупость великого князя, озорство его бояр, похабно в голос ругали недоумком и выблядком Андреева сына Бориса, посадского же Андрея Климовича, которого сами и выбрали, клялись сбросить в Волхов с моста. И на то хитрые «плотники» как бы просили Михайлова дозволения. Этим, во-первых, они думали тверскому князю польстить, а во-вторых, хотели заранее привлечь его на свою сторону на случай гнева Андрея Александровича, которого они (впрочем, как и всякого другого великого князя) не любили, а лишь терпели. Андрея новгородцы к тому же боялись и за этот страх еще пуще его ненавидели.
На их уловку Михаил Ярославич тогда не поддался.
— Я вам не князь. А вольным дозволения никто ни на что дать не может, — ответил он новгородским послам.
Не верил он им. Но все же, поддавшись уговорам своих бояр, составил с «плотниками» тайную грамоту, согласно которой Тверь и Новгород обязывались стоять друг за друга во всякой войне: с татарами, с немцами, с литвинами, с великим ли князем или каким иным общим врагом. Таким образом, заручившись его поддержкой, новгородцы отбыли, хотя никаких мер против Андрея Александровича не предприняли, вероятно рассудив, что настоящий миг для этих мер еще не пришел.
Собственно, новгородцы, да и сам великий князь сейчас Михаила Ярославича мало заботили. Другое не давало ему покоя. Новая ныне на Руси нарождалась затея, грозившая ей неведомыми покуда бедами.
В Москве входил в силу, во вкус богатства и власти, младший отпрыск Александрова рода — князь Даниил. Почувствовав слабость старшего брата, которого прежде всегда поддерживал, Даниил Александрович явно начал плести на него тенета. Оно и понятно: следующим владетелем великокняжеского владимирского стола должен был стать именно Даниил. Худо было еще и в том, что, не научившись опытом братьев, Даниил Александрович становился на путь, только что пройденный до него Андреем. Как Дмитрий был для Андрея хуже бельма на глазу, так и Андрей для Даниила из любимого брата превратился в главную помеху достижения своей цели. У Михаила Ярославича не было сомнений в том, что, как только московский князь обретет еще силы и найдет поддержку у татар, тотчас закончится тихое великокняжеское сидение на Городце и начнется очередной передел, который не обойдется без крови. Крови, возможно, куда более обильной, чем даже и та, что пролил ради первенства над братом Андрей Александрович.
Дело было не в одном лишь характере Даниила и в его вполне определенных, выстраданных за годы правления старших братьев намерениях, которые в последнее время он не слишком скрывал, дело было в труднопредставимых теперь, однако ужасных последствиях, какими в будущем грозило Руси вхождение на владимирский стол младшего из сыновей Невского. Михаил Ярославич не пророчествовал, но знал это верно.
Как и братья, главной страстью в жизни Даниил Александрович почитал власть. Правда, от прямодушного брата Дмитрия, всю жизнь утверждавшего свое право на власть храбростью и мечом, его отличали хитрость и изворотливость; от мнительного, подверженного злобным припадкам Андрея — сладкоречивость и осторожность; а от обоих — дальнозоркая расчетливость алчного ума. Скуп был Даниил более, чем оба брата, взятые вместе. Хотя и тот и другой изрядно блюли свои выгоды, в сравнении с жадностью младшего брата жадность Андрея и Дмитрия казалась щедростью…
Впрочем, благодаря именно этим свойствам за двадцать с небольшим лет правления Даниил Александрович сумел превратить бедный, захолустный московский удел, доставшийся ему от батюшки по меньшинству среди братьев, в довольно богатое княжество со своим стольным городом, росшим, подобно Твери, как на дрожжах. Разными льготами да послаблениями (так же, как и тверской) московский князь манил в свою землю дельных и охочих людей.
Однако не то мучило и не давало покоя Михаилу Ярославичу, что Даниил Александрович займет-таки великокняжеский стол (да и как могло быть иначе, если после брата его черед наступал володеть?), но то, каким путем он займет его, какие жертвы не убоится принести для того, если все же решится воевать власть у брата силой, а главное, на что московский князь затем употребит эту власть?
Достанет ли одной лишь стяжательской сути Даниилу Александровичу на то, чтобы управиться со всей Русью? Не выйдет ли так, что, сделавшись великим князем, в своем безмерном корыстолюбии все русское добро он в один дом снесет, не станет ли он тем хорьком, который ради одной несушки весь курятник на пух изводит? От одного куркуля, бывает, вся улица стонет, а тут не улица — Русь…
Понятно, что всякий князь, коли он чувствует силу, над другим хочет встать — и он, Михаил, таков. Вопрос лишь в том: для чего? Вон князь-то Андрей возвысился, а теперь и сам не поймет, пошто ему это понадобилось. К стяжательству душа не лежит, на великое подняться — нет ни ума, ни духа, даже злобу и ту всю в себе исчерпал. Как бешеный, но уже обессилевший пес, и рад бы кого укусить, да уж скулы свело…
Теперь новый грядет Навуходоносор! И будет он почище прежнего, больно уж у него руки загребистые.
Третий десяток, лет будто проклятьем висит над русской землей род Александров, и не видно конца и краю тому проклятью. Что за породу он по себе оставил? За какие грехи Бог его наказал сыновьями, для которых само родство — первый повод к взаимной ненависти? Неужели так сильны их вожделения, что они ни крови родной не слышат и ни совести в душе, ни Господа на небесах не боятся? Кто остановит их, кроме Господа? Неужели так неизмеримо велики наши грехи перед Ним, что Он, милосердный, не найдет для нас милости и не освободит Русь от несчастливой, гибельной власти Александрова рода?..
От века шел кровавый спор за власть между родами Ольговичей и Рюриковичей. Однако в самих родах соблюдался древний обычай подчиняться старейшему. Впрочем, случалось уже — нарушался обычай. Но за то Господь всегда и карал отступников, и даже потомки их долго еще несли те грехи на себе. Не за те ли грехи Бог на нас и самих поганых навел?..
По грехам платим, и не след грешить наново. И ради благого дела не след нарушать обычаев, ибо то, что кажется нам во благо, пойдет во вред. Но знал Михаил и другое: если вокняжится Даниил, то на века продлится тяжкая для Руси, корыстная и темноумная власть. Безволен, робок и бездетен Иван — Дмитриев сын; золотушен и поврежден рассудком Борис — сын Андрея; однако обилен сынами выводок Даниила. Если он станет великим князем, уже по праву и обычаю наследуя отцу, сыны его, и сыны сынов его, и сыны их сынов не отдадут, не выпустят воли из рук до тех пор, покуда последний отпрыск Александрова семени сам не возрыдает над растоптанной, растерзанной Русью и, оглянувшись назад, ужаснется неисчислимыми бедами и упрекнет, не простит его, Михаила, который мог остановить эту власть… Но разве есть у человека мудрость, разум и мужество, чтобы противиться Господу?
Взошел тверской князь в дневную пору, когда и всякому-то человеку вдруг да покажется: сил у него так много, что он любую ношу осилит.
Той осенью исполнилось Михаилу Ярославичу двадцать семь лет. Время, когда жизнь ложится надвое, и сколь прожил и сколь осталось, сколь сделал и сколь еще сделаешь, коли чего не успел — можно еще наверстать, коли чего задумал — можно и выполнить. Об эту пору человек вполне сознает себя человеком и либо принимает крест, который уж несет до конца, как бы он ни был тяжек, либо не принимает и уж волочится по жизни, подверженный всяким ветрам, без пути и дороги.
В последний год жизни (а умер он, Царствие ему Небесное, скоро после того, как словом своим сумел примирить непримиримое: Дмитрия и Андрея) владыка Симон особенно стал близок Михаилу Ярославичу. Многое из сердца своего открыл он молодому князю в святоучительных душевных беседах. Поверив в него и полюбив, многое передал в княжескую казну из того, что скопили тверские монастыри и церкви за годы его мудрого и рачительного епископства. Однако не то было главным, не то осталось в душе Михаила вечным, горящим следом. Когда епископ занедужил, он пожелал, чтобы помирать его отвезли в любимую, благословенную им Олешну. Но прежде, уже соборованный отцом Иваном, блаженно освященный елеем, он призвал к себе Михаила.
Вид старца был чист и светел, глаза добры и умильны, голос тих и прерывист до того, что Михаилу пришлось встать на колени, склониться к самым его губам, чтобы расслышать слова. Слова же умирающего тверского первосвященника были столь внезапны, высоки и одновременно ужасны, что Михаил даже подумал: владыка уже не в себе. Но взгляд его оставался ясен и тверд.
— Сила тебе дана, Михаил, — на смертном одре говорил ему старый Симон. — Стань новым Мономахом среди князей, взойди солнцем над нашей ночью. Не дай более поганым Русь сквернить, как они то полюбили. Не дай пропасть вере… Сила тебе дана, я ведаю. Но дух свой духом крепи, тогда пожнешь жизнь вечную… Здесь же, на земле, не жди блаженства — бремя одно, долготерпение и милосердие. Но сказано нам: возлюби ближнего своего как себя самого, ибо в том весь закон заключается… Тяжко тебе будет, тяжко… Но и тогда с пути верного не сворачивай — силу тебе дал Господь и на жизнь, и на смерть. На смерть-то, Михаил, бывает, силы поболе нужно…
Пока к смерти дойдешь, чашу жизни испьешь до дна. Ох, Михаил, горьким тебе покажется то питье, но и Христу губы не вином, а уксусом мазали, когда он за нас на кресте смерть принимал. Попомни: не славой просияешь, но муками… И не страшись… Ступай теперь. Дай перед Богом встать…
Михаил поднялся с колен, но оставить владыку Симона одного перед таинством, которого ждем всю жизнь, не успел. Задышливо, коротко всхлипнув, он умер, испустив дух. Кротко и благодарно умер. Хоть и не успел увидеть любезной ему Олешны. Синие помертвелые губы улыбались в белую бороду то ли еще Михаилу, то ли уже тому, Внешнему…
Тогда Михаил более напугался слов Симона, нежели чем принял их умом и сердцем. Но чем далее он жил, тем более понимал, что Симон был прав и нет у него иного пути, чем тот, что лежит перед ним, предназначенный лишь ему.
Много с той памятной светлой смерти владыки воды утекло, много чего случилось нового на земле, но однажды в сокровенный душевный миг Михаил ощутил ту силу, о которой когда-то говорил ему Симон. Ему даже показалось (да и кому так не кажется в дневную силу его зенита), что он сумеет остановить те бесконечные бедствия, что наполнили землю. Сумеет сплотить ее, хотя бы начнет собирать силы, способные противостоять этим бедствиям.
Так уж, видно, сложилось — пришло ему время не Тверью править, но Русью. И Михаил о том знал…
Да и не один он знал про то, а и другие догадывались. Слышал уже Михаил Ярославич разные подбивные, прельстительные речи и от своих бояр, и от чужих, и от князей некоторых, и от прочих людей. Редко кто из гостей впрямую ли, окольно ли о том не говорил. Новгородцы, чтоб сменить у себя посадника, на то его согласия спрашивают. Разумеется, льстят, однако не без дальнего умысла… Иван Переяславский слушает Даниила, а защиты от великого князя у Михаила просит. Да что говорить, сам хан Тохта за войском для себя гонцов к Михаилу прислал. Его позвал с собой на хана Ногая, а не иного кого…
Еще год назад Михаил Ярославич был уведомлен бывшим своим холопом и серебряных дел искусником Николкой Скудиным, осевшим при ханском дворце в Сарае, о скорых потрясениях в Орде. А несколько месяцев спустя прибежали в Тверь ханские гонцы с требованием к князю (изложенным, впрочем, в виде самоуничижительной просьбы) выставить войско, какое не жаль, дабы идти тому войску вместе с войском Тохты на Ногая.
Сам Михаил Ярославич от похода уклонился. Но войско послал изрядное. Даже коней подобрали в масть — одних гнедых, не говоря уж про то, что князь распорядился отобрать для похода лучших дружинников.
Истинно говорят: зла татарская честь. Пятый месяц о той войне не было ни слуху, ни духу. Будто канули они все: и Ногай, и Тохта, и даже Ефремка Тверитин, которого Михаил Ярославич поставил во главе войска… Вот еще что сидело в груди занозой!
От того, что происходило сейчас где-то там, на краю степи, зависело и то, куда и как дальше пойдет судьба не только тверского князя, но и всей русской земли.
То, что он оказался в союзниках самого Тохты, в будущем сулило Михаилу ханскую поддержку, без которой и при благоприятных обстоятельствах трудно было рассчитывать на великокняжеский стол. И это он понимал. Однако кто мог сказать наверное, что Тохта сумеет одолеть старого, но все еще могущественного хозяина Сурожского моря[64]? А если ака Ногай все же перехитрит Тохту? Что будет с ним, Михаилом, если к власти во всей Орде придет памятливый Ногай? Тогда уж не о владимирском столе придется думать, а о том, как тверской удержать!
Вот в чем истинное проклятие русской жизни: сами основы ее зависят от чужого благорасположения!
И все-таки верил Михаил Ярославич, что и козни Александровичей, и татарская прихоть в воле Того, в чьей руце весь мир. И, полагаясь на Его вышнюю волю, не преступая обычая, он готов был ждать, сколько бы ни потребовалось, пока Господь отметит его молитвы и стремления…
Радость князю оттого, что Аннушка понесла, и правда была великая. Только покоя на сердце не было, как не было никогда.
Тревога и неизбежные мысли, одна тяжелей другой, не оставляли его и в те минуты, когда, затворившись от дел в княгининой светлице и бережно опустив голову на женин живот, Михаил Ярославич слушал, как бьется к нему его первенец.
«Куда ты, милый?.. пошто торопишься? И ты чашу жизни испьешь до дна. А ну как и тебе горьким покажется то питье?.. Прости мне, Господи, слабость мою…»
3
Не много знал милостей в жизни Игнашка, однако зачем-то судьба хранила и его. Пусть за то долгое время, что прошло с памятного лета, как остался один, он ничего не приобрел, но мало и потерял. Может, лишь имя, данное ему при крещении, имя, каким кликали его мамка с тятькой. Теперь он и сам не помнил его, отзываясь на приставшее к нему отчего-то отцовское прозвище Романец[65].
Первый год в Чернигове был тяжек для Романца. Так тяжек, что неведомо как и выжил.
Поселился он в пустой избенке на окраине окольного города, выросшего за пределами стен детинца из посадов почти на самом берегу речки Стрижень. В тот год много домов стояли пустыми: кого татары побили, кто помер, кто убежал на север. Оставшиеся жители сильно нуждались и бедствовали. В первой половине зимы мор пришел и на людей, и на скот.
Заболевшие помирали скоро. Смертный недуг не знал различий между бедными и богатыми, хватал всякого без разбора и в домах, и на улицах, и в церквах, и не было от него спасения. Стукнет вдруг человеку под грудь или в лопатку будто рогатиной, спустя день вздует железу под скулой, под мышкой, на шее или в паху, и уж повалит его в жар и трясцу. В три дня вся сила у того человека с холодным потом да с кровавой харкотиной из тела исходит. Иные не успевали и к смерти приуготовиться…
Мертвых к церквам ежедневно и еженощно свозили десятками. Священники зараз служили одно отпевание многим. Монастырские плотники для спеху корсты[66] рубили обширные, в гробы клали не по одному покойному, а, бывало, и целыми семьями. А все равно, как ни напасались, гробов не хватало, стали уж хоронить без гробов в общих скудельницах. Сколь ни обилен Божьими храмами город Чернигов, но к весне на прежних погостах возле церквей не было уже места усопшим, пришлось новую землю отводить под могилы вдалеке от церковных колоколов. Сам епископ черниговский владыка Ефимий, освещая ее, под плач и рыдания горожан молил Господа о милосердии.
Тела же павших животных сволакивали подалее от домов, но не дальше речки Стрижень. Далее волочь сил не хватало. Так что берег был полон промерзшими тушами околевших коров, лошадей и овец со вздутыми, протухшими от болезни брюхами. Есть их было нельзя. Хоть Романец однажды попробовал пропечь на огне отрезанный им от коровьей ноги мерзлый ломоть, сам чуть было не околел. Три дня из него кровавый, пенный понос хлестал. Однако отошел и, сколько ни щупал себя потом, выступивших вдруг страшных желез не приметил. Моровая зараза Романца отчего-то не тронула, хотя и он мог вполне помереть той зимой, но не от болезни, обходившей его стороной, а от обычного голода. Выжил он тем, что в самую голодную пору прирезал на мясо Евдохина кобеля. Тот серый кобель увязался за Романцом, когда он тронулся из деревни в Чернигов, где скотский падеж отчего-то не коснулся кошек, свиней и собак. Бесхозяйных псов в ту зиму развелось особенно много. Целыми днями псы пировали на берегу Стриженя, грызли мерзлую падаль, дрались и правили свои скорые свадьбы.
С утра Романцов кобель отправлялся на промысел, но к ночи непременно возвращался в избу. Спали они — Романец и кобель — по давней привычке рядом, грея друг дружку боками. Спать с псом было тепло. Дышал он жарко, а в пазухах под передними лапами и на брюхе, возле жесткого кобелиного корня, было и вовсе жарко. Однако голод оказался столь жесток, что однажды Романец решил прирезать лосного от жира, нагулявшего тело на падали пса. Правда, сделать это оказалось непросто: от нехватки еды силы из рук ушли, а без сил и страх перед клыкастым, разъевшимся и уж отведавшим человечины кобелем вернулся к Игнахе. Впрочем, долго Романец сомнениями не терзался, и в ближайшую из ночей, дождавшись, пока пес как следует разоспится, он, будто бы по нужде, осторожно поднялся, во тьме нащупал заранее приготовленные им все те же тятькины вилы, поднял их обеими руками на уровень глаз и со всей возможной силой обрушил удар под ноги, туда, где, свернувшись жарким клубком, лежал пес. Кобель от неожиданности удара и боли сначала взвизгнул, затем перекатисто коротко рыкнул и клацнул зубами у самой ноги Романца, опалив ее влажным дыханием. С натугой выдернув из его тела вилы, Романец тут же ударил наугад еще раз и бил так долго, покуда пес совсем не затих.
Наутро он снял с кобеля дырявую, истыканную вилами, негодную шкуру, а мясо крепко просолил желтой искристой солью, давно найденной им за божницей. Избу, видать, покидали в спешке и кое-чего из потребного не забрали. Так, он нашел в темной клети припрятанную под ветошью кадь, почти полную ржаной мукой, да полотняный узелок с солью. Соли оказалось почти на два его кулака. Богатство изрядное. Да все ведь съедается. Вот как осталось муки в той кади на донышке, он и прибил кобеля. Впрочем, мяса в кобеле Романец обнаружил гораздо меньше, чем рассчитывал обнаружить, и было оно довольно жестко зубам. Тогда же, разохотившись, забил он еще и сучонку на берегу, подманив ее кобелиной требухой. На этой собачатине и дотянул до весны.
Весной же Романец наладился побираться, с утра отправляясь либо к Южным воротам каменного детинца, либо на торг возле Пятничной церкви, стоявшей на верху укатистого холма, либо на мощеную площадь перед Благовещенским собором.
К Пасхе, случившейся в тот год, впрочем, довольно поздно, мор прекратился. Но последствия его оказались ужасны. И в будни, и в пятничные торговые дни, и в воскресные улицы города оставались равно пустыми. Не было уж и в Чернигове той людности и того обилья, какое застал Романец еще по осени. И это несмотря на то, что летом через город прошли татары.
Пережившие жуткую зиму редкие люди были бледны и немощны, по улицам передвигались скорбно и одиноко, от въевшегося в души страха перед заразой все еще сторонились друг друга.
Но странное дело: потеряв близких, настрадавшись сердцем, люди не стали жестче, злее или скупее, напротив, глядя на сироту-ребятенка, в драном, видать, с отцова плеча кожушке, жалели его, умилялись ему и подавали охотно.
Правда, еды Романцу все равно не хватало. Так уж, видно, устроено в этом мире — чем меньше остается зажитных, тем больше появляется нищих. И хотя зажитные становятся милостивее, однако всех нищих уже накормить не могут. Так что порой Романцу выпадали такие несчастные дни, когда и единой хлебной коркой приходилось довольствоваться. Одно утешало — стало тепло и из земли полезла всякая зелень: и крапива, и дикий сладкий чеснок, и гусиная кашка. Хоть весь день мели ту траву в зеленую душистую жвачку. Правда, сытней в животе от этой жвачки не делалось, а только пуще бежала слюна. Но так уж налажена жизнь, что и мучения когда-никогда кончаются. Кончились они и для Романца.
По счастливому случаю однажды позвал его за собой монах. И на многие годы жизнь его благополучно определилась — он стал подпаском, а затем и скотником на хозяйском подворье черниговского Елецкого монастыря.
Брат Григорий, тот монах, что и привел Романца в монастырь, занялся было его наставлением, однако со временем, умаявшись в том занятии, плюнул в огорчении от невозможности проникнуть в темную, одичавшую душу отрока. И слабого отклика на Божии истины не нашел он в той сиротской душе. Хотя, повторяя за братом Григорием, со слуха, Романец кое-как затвердил некоторые из непременных молитв, Символ Веры и десять заповедей Закона Божия, слова их не трогали его сердца и, не касаясь, проходили мимо его ума. «Всякому по плечу то бремя, которое ему по плечу», — решил брат Григорий и отступился от Романца.
Зато в уходе за скотом с самого первого дня отрок проявил ревностное усердие. И в монастыре рогатых скотов, лошадей и овец после падежа почти не осталось, однако свиней приплодилось с избытком. К ним-то и приставили Романца. Пообвыкнув, он уже и на ночь не оставлял хлева, предпочитая общению с назойливым братом Григорием или другими докучливыми монахами общение с величественными боровами, злыми хряками, плодообильными матками и подсвинками, коим он стал единственный господин.
Так день за днем в заботах о питомцах, за которых спрашивали Романца по всей строгости, да еще в заботах о том, как сытнее и слаще набить брюхо в скучные дни постов, прошло не то девять, не то десять, а то и более лет. Давно уже из заморенного ребятенка он превратился сначала в угрюмого, нелюдимого парня, а затем в матерого, сутулого мужика с жильной, неухватистой шеей и непомерно длинными руками, спускавшимися почти до колен. Голова его всегда была грязна и кудлата, хоть он и забирал жесткие, как кабанья щетина, волосы в назатыльный пучок, связывая их сыромятным кожаным ремешком. Сутулой, угнетенной к земле походкой, отвычкой изъясняться словами и редкой для обычного человека силой Игнатий и впрямь напоминал своего батюшку Романца.
Из одной забавы на потеху монашьей братии да праздным горожанам, нарочно приходившим на то посмотреть, в дни осеннего большого забоя одним ударом жесткого, могучего кулака меж ушей он подламывал ноги любому хряку, тут же замертво тыкавшемуся рылом в землю у его ног. Монахи хвастались его силой перед черниговцами и, случалось, за стенами монастыря ради удали стравливали его с теми из горожан, кто находил в себе отвагу помериться с ним силой. Однако никто не мог устоять против Романца.
Вполне могло сложиться так, что и до сих пор бы жил себе Романец при Елецком монастыре, среди полюбившихся ему свиней, кабы не пришло ему время блудить. Известно, монастырь для блуда место вовсе не подходящее. Только если ищет тело греха, а душа не противится дьявольским искушениям, то нет стен, способных оградить человека от искушения, как нет сил, способных удержать от соблазна соблазняющихся.
Когда, возросши на монастырских харчах, вошел Романец в юношескую пору, стала томить его иная могутная сила. Теперь в ночных снах не бесенята из детских страхов тревожили его, но видимые, плотские, однако не ведомые ему на ощупь бабьи тела. Каждую ночь руки его мяли упругие, будто опарное тесто, но послушные пальцам груди, ухватывали за скользкие от жаркого пота бока. Тянулись к иным, непредставимым умом греховным губам, которые в снах представлялись ему во всем их манящем непотребстве и огненной плотской прелести.
Однажды в одну из таких ночей с мучительной болью и сладостью загустевшее, давно созревшее в нем семя самоизверглось из него, принеся короткий испуг и долгое, радостное облегчение. Потом уж по своей воле и прихоти он научился приносить себе подобное сладостное облегчение в любое время, лишь бы поблизости не было любопытных монашьих глаз. Казалось бы, он нашел путь избавления от тяготы манких и несбыточных ночных снов, однако то, что мучило его в снах, теперь вожделенно представлялось и наяву. Порой Романец готов был бежать из монастыря в Чернигов (а Елецкий монастырь находился не в городе, а на полпути меж городом и загородным Троицким монастырем), чтобы на дороге словить старую ли, молодую ли бабу, оглушить ее до бесчувствия и уж проникнуть в нее со всей необузданной звериной силой. Однако наваждение это прошло внезапно, когда Романец догадался вдруг утешиться со свиньею. Свинья визжала, била его по ногам копытцами, но это лишь прибавляло Романцу похотливого сладострастия…
Так бы, поди, и продолжалось еще неведомо сколько, если бы однажды за тем тайным блудом не подстерег его брат Григорий.
Постаревший, по всей видимости доживавший последние годы, брат Григорий, в скорбный год подобравший Романца из жалости на пустынной черниговской площади, увидя непотребное, не удержался от гневного порицания:
— Что ж ты творишь! Бог тебя накажет за то…
Он повернулся, чтобы уж с воплем бежать ко братии, но Романец, бросив матку и подтянув порты, в три прыжка догнал старика, силой вернул его в полутемный хлев и, опрокинув на землю, пальцами сдавил ему горло.
Задыхаясь, ловя беззубым ртом воздух, монах Григорий успел еще прохрипеть:
— Сатана… Проклят ты… Гореть будешь…
Романец монаха не слушал, а дождавшись, пока он затихнет у него в руках, бросил мертвого на соломенную, пропитанную испражнениями подстилку, под ноги испуганно отшатнувшимся свиньям.
Жалко было ему покидать пригретое и сытное место. Но другого не оставалось. Дознавшись причины гибели брата, а то, что они бы дознались этой причины, Романцу было ясно, монахи нашли бы, как поквитаться со свинарем, которого и без того не любили. Самое малое, охолостили бы, как сам Романец холостил хряков.
И пока на вечерней трапезе еще не хватились Григория, собрав свою нехитрую худобу, Романец воспользовался известным ему тайным лазом под монастырской стеной и в первых сумерках покинул иноческую обитель, дававшую ему хлеб и приют. Не ждали купола монастырских церквей и последнего поклона от беглеца — он и не оборотился на них. Но долго еще, до самой Десны, пока Романец не скрылся в прибрежных кустах, тревожно глядели ему вслед кресты с храма Успения Пресвятой Богородицы.
Опасаясь погони, сторонясь проезжих дорог, лесами — сначала вдоль Десны, а затем по иной речке Сейм — добрался он до города Курска. В пути Романец в основном питался сырой пресной рыбой, которую по надобности ловил прямо руками в густой прибрежной траве. Стояла весна, и многие рыбы, сбившись к берегу, терлись боками промеж травы, скидывали икру. Однако та рыба за время пути приелась ему. Денег у него не было ни полушки, но так велики оказались соблазны и голод, что в первый же день по прибытии в Курск Романца словили на воровстве, когда он пытался украдкой прихватить козью ногу. Куряне обошлись с ним не милостиво: здесь же, на торгу, не дожидаясь суда, сильно побили колами. Ну уж и он им потом отомстил…
Отвалявшись в канаве, на следующее утро он вышел из Курска, пошел наугад по дороге и к вечеру набрел на большое сельцо — Ахматову слободу, которое держали татары. Правда, самих татар в селе было немного, больше русских, таких же бродяг и выжиг, как Романец. Главным среди всех почитался ногаец Гила, то ли мурза, то ли просто алпаут[67], но и для русских, и для татар он был выше, чем какой князь. Слобода жила грабежом и разбоем, и по одному слову Гилы проезжего человека либо убивали, либо оставляли в живых. Когда Романца привели к нему напоказ, Гила, много тварей повидавший на свете, был поражен страховитым наружным видом и скрытой мощью бывшего монастырского свинаря. Поразузнав, кто он и откуда идет, впрочем, не много внятного услышав в ответ на свои вопросы, Гила спросил:
— Будешь служить у меня?
Романец коротко и твердо кивнул грязной, нечесаной головой:
— Буду. Трапезничать дай.
— Трапезничать? — удивился татарин монашьему слову, рассмеялся и распорядился, смеясь: — Дайте ему конину. Будешь ли, урус, кониной трапезничать?
— Буду, — сказал Романец.
Первым, а может быть, и единственным человеком, которого Романец без сомнений и оговорок признал над собой, стал этот Гила, владетель татарской Ахматовой слободы, известной жителям Курска с давних времен.
Гила был сыном хивинца Ахмата, который когда-то, еще в правление Тула-Буги, получил откуп на ханскую дань и держал весь народ, не исключая бояр и даже князей, в таком разоре и угнетении, что однажды князь Святослав поднялся на него и, вероятно, побил бы, если б не его брат Олег, который, убоявшись ханской мести и выполняя волю хана, умертвил Святослава[68]. Тогда Ахмат казнил многих бояр и всякому проходящему мимо приказывал давать кусок от их окровавленных одежд, чтобы те, придя в свою землю, объявляли, показывая кровавые лоскуты: так будет с каждым, кто дерзнет оскорбить баскака!
Теперь слобожане силы такой не имели, жили тише, довольствуясь лишь тем, что добывали у неосторожных купцов, да еще совершали воровские набеги на ближние и дальние поселения. Шайка их, бывало, доходила и до Рыльска, и до Вжища, и до Путивля, и до Дебрянска… Куряне же, опасаясь мести Ногая, который покровительствовал Гиле, вынуждены были мириться с таким соседством. Правда, Гила — не в пример отцу — старался не обижать курян, а город и вовсе обходил стороной.
Недолго прослужил Романец у Ахматова сына, всего от лета до лета, но сколько страха и боли испытали те, кому пришлось встретиться с ним в этот год, — ни на каких бесовских весах не измерить! Татары и те смотрели на безжалостного, свирепого русского, молчаливого, как чудской истукан, и сильного, будто шайтан, с опаской и огорчением. Пошто такой человек живет? Один лишь алпаут Гила смеялся и сверх других отличал Романца…
Как ни по нраву пришлась Романцу жизнь в Ахматовой слободе, но и хорошему наступает предел. Этой весной ака Ногай позвал к себе Гилу со всеми людьми. По всему было видно (да и татары о том говорили), предстояла большая война. Воевать Романец не хотел. Неведомо, по каким законам живут такие, как он, за что судьба им благоволит до поры, наделяя звериным чутьем на опасность, для чего на чужую беду оставляет их жить на земле… Неужто из одной лишь надежды на их раскаяние?
Романцу было безразлично, на кого поведет его Ногай, да и с хозяином Гилой расставаться ему не хотелось, но в предстоящей войне чудилась ему угроза для жизни, а жизнь Романец полюбил. Больно много в ней было сладкого, всего и не перечислишь: от истошного бабьего визга до горячей крови, отворенной из лошадиной жилы… Не думая, а подчиняясь какой-то неведомой силе, которую можно было бы назвать жаждой жизни, если бы не несла она в себе смерть, в одну из ночей Романец отбился от Гилы, торопившегося на юг, и поворотил на север. Как ни было ему хорошо среди слободских татар и бродяг, оставшись один, Романец задышал вольней и покойней. Давно уж привыкнув полагаться лишь на себя, не доверялся он людям.
Все лето, без спеха и цели продвигаясь на север, Романец промышлял разбоем на проезжей дороге. А по русской дороге (на то она и дорога) из одной земли в иную всегда идут путники в поисках лучшей доли. Однако никто не знает, где его счастье, потому немногие его и находят… Романец искал не счастья, а одной лишь сытости для утробы и рад был всякой добыче, что встречалась ему на пути: будь то монах с котомой, в которой ничего и не было, кроме хлеба да вяленой рыбы, будь то смерд, припозднившийся по торговому или пьяному делу, будь то случайная прохожая баба. Да мало ли внезапных радостей и утех дает путь! Так или иначе, а всякая дорога куда-нибудь да приводит — к первым заморозкам добрался Романец до Москвы.
В Москве ему не понравилось — слишком уж было людно. Да и соблазна для глаза много, но много же и препон для разбойного промысла. На ночь все крепостные ворота накрепко запирались, а по всему городу, раскинувшемуся грушей от одной реки Москвы до другой малой речки Неглинной, ходили сторожа с колотушками, предупреждая пожар и татьбу. Однако, несмотря на отвращение Романца к многолюдству и иные неудобства московской жизни, зиму предстояло пережить здесь, а для того нужно было найти какое-никакое занятие и место, где голову приклонить. Затем он и собрался уже идти по окрестным монастырям, просить Христа ради, чтобы взяли его монахи свинарем на хозяйство. Так бы оно, поди, и случилось, кабы в один из ближних дней, когда Романец без дела болтался по торжищу, вытянутому вдоль Москвы-реки перед высокой стеной деревянного кремника, его не повязали дружинники одного черниговского боярина, как раз в тот год перешедшего на Москву. Об убийстве старика-монаха весь Чернигов узнал. За Романцом тогда по всем дорогам разослали погоню, но тщетно. А все же встретили разбойника на Москве! Впрочем, на Москве всякие встречи случаются. Признали же Романца сразу несколько человек, да и трудно было бы его не признать: такого-то раз увидишь, уж не забудешь до смерти. Так же сутул, кудлат и грязен остался он, только одеждой покраше разжился.
Так Романец оказался в порубе. Два месяца сидел он там с крысами, задыхаясь от вони собственного кала, который не убирался, видел свет лишь в маленькие оконца, прорубленные вверху сырых, осклизлых стен дубовой темницы.
Про него будто забыли. Не поминали про убийство Григория, не ставили в вину иного чего, просто без слов раз в день кидали ему какую-нибудь еду да воду меняли. Как ни дюж и неприхотлив был Романец, но и он не долго вынес бы такую жизнь.
Но, знать, не пришел ему черед помирать. Кому-то понадобился он вдруг для черного дела. Однажды Романца подняли из порубы, свели в баню и накормили. В баню же пришел к нему человек. Сказал, чего хочет. Твердо посулил либо смерть, либо плату. Кто и от кого ему наказ давал, Романец не ведал, да и не любопытствовал. Он рад был выбраться из вонючей ямищи, где от грязи и сырости начинал гнить заживо. Ради воли и живота своего он готов был и не то совершить, чего от него хотели, но и любое иное. Лишь бы жить. Какая уж здесь плата?
Обряженный в монашью одежду, с тем он вскоре и покинул Москву…
4
Власть может быть любой: праведной, неправедной, кровавой, алчной, милостивой, лживой, вероломной… какой угодно. Но власть не должна быть слабой. Всякий грех простится правителю и даже зачтется ему в заслугу, когда правитель и власть его будут сильны, и всякое же благодеяние правителя будет оплевано и осмеяно, если он дозволит себе быть слабым. Люди не носят благодарности в сердце, люди знают лишь страх. И страх этот, даже не будучи жестоким, правителю нужно уметь поддерживать, как старая жена поддерживает огонь в очаге. Нет и не должно быть в сердце монгола иного страха, кроме страха перед законом. Тем и значительны были среди прочих языков и народов во всем подлунном мире монголы прежних, недавних лет, что свято блюли Джасак, оставленный им в назидание Чингисханом. Но предупреждал Богло Чингисхан: если у государей, которые явятся после меня, их багатуры, нойоны и беки не будут крепко соблюдать Джасак, то дело государства потрясется и прервется. Опять станете охотно искать Чингисхана и не найдете…
Гюйс ад-дин Тохта (впрочем, отдавая должное великому предку) считал себя равным Чингису. Не случайно еще в раннем возрасте на голове Тохты, как и на голове Чингиса, явилась белая прядь волос, которая явно указывала на право старейшинства обоих владык среди остальных людей. Тохта лелеял ту прядь, в важные дни принятия решений заплетал ее в особенную косицу, чтобы всем напоминала она о воле Вечно Синего Неба, исполнить которую на земле может лишь он — Тохта. Окружавшие его во множестве царевичи, визири, огланы, бохши и ламы, а также женщины неизменно находили все новые подтверждения как внутренней, так и внешней схожести нынешнего правителя с отцом всех монголов Чингисом. Разумеется, в чем-то они преувеличивали данную схожесть, однако хан (как сам он о себе разумел) вполне мог отличить правду от лести. Хотя лести в словах приближенных он видел не много. Да и действительно, трудно было найти слова для лести тому, кто был велик.
Гюйс ад-дин Тохта вполне довольствовался славой правосудного и миролюбивого государя ровно до тех пор, пока не обрел достаточных сил, дабы войной утвердить свою власть. И в том была его мудрость.
Давно уже (да с того самого мига, как Ногай помог ему получить ханат) не было на земле у хана более ненавистного ему человека, чем князь Ногай. Разумеется, Тохта помнил, как просил Ногая о помощи в его борьбе с Тула-Бугой, разумеется, помнил и о своих клятвах оставаться верным и подвластным ака, но что значит помощь какого-то человека (даже если она и была велика) в сравнении с желанием Вечно Синего Неба видеть его, Тохту, властителем всех татар? Разве допустило бы Небо, если бы того не хотело, смерть сыновей Тарбу и Менгу-Тимура, братьев Тохты, которым он сам переламывал спины? Но он и сейчас помнил, как послушно хрустели под его руками шейные позвонки самого Тула-Буги, Алгуя, Тагрула, Малагана, Кадана и малолетнего Куту-Гака… Справедливость, мудрость его правления и благоденствие подданных доказали верность выбора Вечно Синего Неба и необходимость тех давних смертей родичей, посмевших встать у него на пути. А то, что, обманув мать Тула-Буги, в ловушку для Тохты братьев тогда заманил не кто иной, как Ногай, сейчас уже мало кто помнит. Так что напрасно старик надеялся, что Тохта, будучи ему обязанным, не поднимет на него руку. Гюйс ад-дин Тохта никому и ничем не обязан, кроме благорасположенных к нему небесных светил…
Хан мог быть горд и доволен собой. Долгая, не всем явная, однако упорная война, которую вели Беркевичи с могущественным темником Ногаем, закончилась полным разгромом последнего. Род Ногая происходил от седьмого сына Джучи Мувала Бувала. Ни сам Бувалай, ни сын его, отец Ногая, Тутар никогда даже приблизиться не могли к ханскому трону. По их меньшинству Джасак не позволял им того. А их последыш Ногай, презрев закон, не довольствуясь тем, что имел, захотел сначала тайно управлять ханами, а затем и открыто провозгласил себя единым мелеком[69] над всей Ордой. Вот тогда Тохта, дождавшись сладкого мига, и двинул на него бесчисленные туманы своих войск.
Перейдя реки Узу и Тарку[70], шестидесятитысячное войско Тохты в лето одна тысяча двести девяносто девятого года встретилось с составленным в основном из половцев и аланцев войском Ногая при Куканлыке, невдалеке от Черного моря, и разгромило его. Об одном жалел хан Тохта: что не он взрезал гнилое, старое брюхо своего бывшего покровителя…
Загадкою показалось хану то, что Небо выбрало не монгольскую руку для того, чтобы пресечь жизнь потомка великого Чингиса, ведь как бы там ни было, но и Ногай был его потомком. Во всяком случае, в тот миг, когда в разгар боя ему принесли весть о смерти старого лиса, вместе с радостью он испытал и странное чувство горечи именно оттого, что Ногая зарубил какой-то неведомый русский воин. Зарубил, совершенно не смутившись тем, что перед ним был действительный ака всех татар, и рука у него не дрогнула.
Впрочем, много загадок у Вечно Синего Неба…
Ефрем Тверитин, возвращаясь из ногайского похода от Куканлыка, был покоен и счастлив, как может быть покоен и счастлив человек, выполнивший большое и хорошее дело.
О том, что хан Тохта осердился за что-то на князя Ногая, Ефрем знал давно. Как ни жаль было когда-то расставаться Михаилу Ярославичу с серебряником и выдумщиком Николкой Скудиным, но с Божией помощью и по его, Ефремову, наущению осевший в Сарае Николка и впрямь оказался там безмерно полезным для Твери человеком. Смекалистый в одном и в ином смекалку проявит. Как не было Николке равных в причудливом рукомесле, так ныне нельзя и представить, что кто-то другой был бы умней и внимательней Николки в тайном подгляде, ради которого его и послали в Орду. Не многое мог знать ханский серебряник, с утра до ночи чернивший по металлу бабье узорочье, но кое-что мог все же видеть и по тому немногому, что увидел, догадаться о многом. То тот купец, то этот приносил от Николки разные вести, и вести эти оказывались всегда любознательны. Николка сообщал обо всем: о погоде, о здоровье хана, его жен и детей, о послах и русских князьях, гостивших в Орде, о подарках, какие они поднесли, о милостях, оказанных ханом гостям, о разговорах, слышанных на базаре, и о многом, многом другом, из чего и состоит, будто сотканная, жизнь всякого государства.
Задолго до ханских гонцов с надежным купцом Николка прислал весть о том, что хан послал Ногаю в подарок мотыгу, а посему быть в Орде потрясениям. Сначала-то ни Ефрем, ни Святослав Яловега, ни сам Михаил Ярославич никак не могли уразуметь, как связана простая железная мотыга, какими татарские сабанчи рыхлят землю под просо, с возможными потрясениями. Одно стало сразу ясно: подарок Тохты означал ханское презрение и ханский гнев. А потом и до корня дошли: Тохта той мотыгой предупреждал аку о войне. Даже, мол, если Ногай уйдет от хана в земную глубь, он его и оттуда достанет, чтоб уж потом закопать навеки… Так и вышло.
Сражение произошло в канун дня Воздвижения Животворящего Креста Господня[71]. Силы Тохты почти вдвое превосходили силы Ногая. К тому же некоторые из ногайских эмиров, до того верно служивших своему господину, обманно и внезапно перекинулись на сторону ордынского хана; эмиры эти — Сангуй, Сужан, Маджи, Утраджи, Акбуга и Тайна — увели за собой чуть ли не половину всех войск Ногая. В большой мере именно это предательство предопределило судьбу Ногая и достаточно легкую победу Тохты над противником. Всего лишь день смогли выстоять наемные аланы и половцы против отборных ратников хана. Да и то бились они крепко лишь потому, что бежать им было некуда: позади них Ногай поставил верных ему монголов с тем, чтобы они убивали тех, кто повернется спиной к противнику. Однако силы оказались слишком неравны. Вздымая пыль иссохшей за долгое лето степи в самое поднебесье, конные лавы Тохты, сменяя друг друга, беспрестанно обрушивались на ставку Ногая…
И все же Ногай, несмотря на старость (а ему уже исполнилось семьдесят), оставался тем же Ногаем, перед именем которого трепетали и Польша, и Сербия, и Валахия, и сам Царьград. В утро второго дня, собрав все силы для последнего прыжка, загнанный барс первым кинулся на охотника. И был миг, когда войско Тохты, вопреки своему огромному численному преимуществу, чуть было не дрогнуло, пораженное не столько внезапностью натиска, сколько безысходной отчаянностью Ногаевых воинов. Выручили Тохту русские полки, среди которых был полк Тверитина, доселе не принимавшие участия в битве и стоявшие в стороне. Ряды наступавших были опрокинуты, а обоюдная рубка обратилась в побоище, длившееся до самого вечера. В тот день принял смерть и Ногай.
Тверичи могли бы еще до распутицы вернуться домой. Но хан войско не распускал, то ли просто на всякий случай, то ли опасаясь еще какой посмертной каверзы от Ногая. С юга мог подойти с войсками давний враг Джучиева дома правитель магумеданского Ирана Хулаг, к которому, как донесли Тохте, Ногай обратился за помощью. Хулаг так и не появился, а тверичи вместе с татарами до самой зимы ловили разметанных по степи людей Ногая. Не многие уцелели.
Старший сын Ногая Чока (или иначе — Джеке), не поделив чего-то со средним братом по имени Тека и убив его, сказывали, убежал в Тырновское царство, откуда родом была тверитинская жена Настена. Турая, младшего сына, словили и казнили. Бывших Ногаевых эмиров, беков, алпаутов, да и простых татар резали без жалости и без счета, а имущество их отдавали иным. Даже женам Ногаевым и женам его сыновей не делал Тохта поблажки: старых зарезал, молодых же — которых отдал простым воинам, а которых продал в дальние страны. Правда, среди Ногаевых жен одной не сыскали: дочери царьградского императора Михаила Палеолога Евфросиньи. Но вряд ли она спаслась, поди, и ее зарезали в кровавой неразберихе. Так что в живых из наследников когда-то могущественного и грозного ногайского князя остался лишь сын Чока, но и за его жизнь вряд ли кто рискнул бы поручиться. Тохта чтил Джасак, а одна из главных Чингисовых заповедей гласила: достоинство каждого дела заключается в том, чтобы оно было доведено до конца. Никто не сомневался, что Тохте хоть из Рима, хоть из Царьграда, а принесут отрезанную голову сбежавшего Чоки. Так оно и случилось. Посланный Тохтой в Тырново искусный палач из жидов вскоре воротился с кожаным заплечным мешком, в котором покоилась Чокина голова.
«Верно, однако… — прикрыв глаза и мерно покачиваясь в седле, одобрительно рассуждал про себя, перебирая в памяти разные разности, Ефрем Тверитин. — Так и надо, потому как иначе нельзя. Коли уж решил Тохта всю Орду единовластно в одни руки взять, прежде надо врагов истребить, а уж Ногаев-то род — перво-наперво и до самого корня, чтобы и памяти о нем не осталось. Строго у них, у татар-то, — если для своего в сердце пощады нет, то чужому и вовсе надеяться не на что. Оттого и страх перед ними. И сами они оттого страх перед своим законом имеют. Казалось бы, на что уж силен да грозен был Ногай, а только захотел встать над законом — тут же и сгинул…»
Открыв глаза, Ефрем оглянулся на всадников, растянувшихся прерывистой гнедой змейкой вдоль узкой лесной дороги. Будто татарский начальник, не голосом, а одним лишь взмахом короткой плети-ногайки он отдал приказ тем, кто отстал, нагнать передних. Снова прикрыл глаза, словно в дреме, и невесело усмехнулся про себя: «Да, насчет закона-то у них совсем не так, как у нас на Руси, где всяк удалой и сам себе князь. А оттого и в войске порядку больше», — с неожиданным раздражением и досадой подумал он.
Впрочем, на свое-то войско досадовать Тверитину было нечего: и изряжена, да и отлажена отборная тверская дружина вовсе не хуже, чем какая татарская, однако он-то знал, что на бранном поле сражаются не лучшие с лучшими, а все со всеми. Мысленно он попробовал было представить всю тьму войск, которую можно собрать в русских землях, но даже и в мыслях ему показалось неисполнимым трудом соединить разрозненное, составить воедино несоставимое. Владимирцы ненавидели новгородцев, рязанцы — московичей, смоляне — ярославичей, черниговцы — киевлян, киевляне — владимирцев, новгородцы — тверичей и всю низовскую Залесскую землю. И всякий — всякого, и каждый — каждого, и вместе, и по отдельности.
«…Да, совсем иное — татары! В каждом улусе — свое племя и свой язык, но все друг друга слышат и понимают, и для всех лишь один правитель — тот, кто старший в роду Чингиса. Не захотел подчиниться единому, общему для всех закону Ногай — и более не живет. И в каждом войске у них: куманском ли, бесерменском ли, аланском, монгольском — один порядок, татарский! Десятники, сотники, тысячники не по достатку ставятся над другими, а по одному лишь их разумению и воинской доблести. Оттого их и слушают. А ослушных плетями бьют. А трусов перед тем, как казнить, нарумянят, в бабье платье оденут, к кобыльему хвосту привяжут и водят напоказ по людным местам. Разве здесь струсишь? И каждый старшего слушает, а над каждым старшим другой старший есть, а над ним — еще старший, и так до самого хана, которого и не увидать никогда, как Бога на небесах, прости меня Господи…» Нечаянно оскоромившись в мыслях, Ефрем быстро перекрестился.
С тех пор как Настена заговорила (да сразу бойко и лишь слегка перевирая слова, и самые нежные-то произнося будто еще мягче и ласковее, чем они есть), Тверитин стал неожиданно набожным, как старая церковная сирота, всю жизнь просидевшая на храмовой паперти. Да и немудрено — он-то в тот давний крещенский день, когда она впервые произнесла его имя, вовсе не сомневался, что немую в жены берет.
«Господи! Будь благословенно имя Твое в веках…» — коротко и привычно, еще раз перекрестясь, поблагодарил он Всевышнего за данную ему милость.
Нет, и впрямь не было более легкого и радостного похода в жизни Ефрема. Во-первых, князь наконец отличил его и поставил во главе войска, во-вторых, войско-то было такое славное да изрядное, что и сами татарские огланы[72] диву давались, ну а еще была радость в том, что не своих пришлось бить, а с теми же погаными смертью квитаться. Хоть и по чужой воле бились, однако вовсе без уклончивой хитрости, а со всем душевным старанием.
Одно оказалось Ефрему неожиданно тяжело — разлука с Настеной.
Вот уж воистину никогда он не думал, что женщина над ним такую силу возьмет! Да и что за женщина — птаха малая, голубица безобидная, жаль одна, а не женщина! Но без нее дни Ефрема были темны, как ночи. А уж как безрадостны были ночи — словами не передать. Часто ночами без дела бродил он от костра к костру по становищу, вглядывался, ища утешения, в чужие низкие и яркие звезды и в тех звездах видел ее черты.
А ведь и после венчания не сразу она склонилась к нему — дичилась. Ефрем уж и думать устал, отчего он страшен ей и не люб. Было так до того внезапного мига, когда она вдруг пала перед ним на колени, обняла его ноги, залепетала что-то по-своему, будто молилась или просила прощения, и плакала, и целовала его пыльные сапоги, пока Ефрем, не в силах оторвать ее, легкую, как пушинку, от пола, и сам не опустился рядом с ней на колени. В ту ночь глаза ее не просыхали от слез. И были то слезы горькие — от памяти страха и боли; и сладостные — от счастья и любви…
За те четыре года, что прожили они вместе, Настена родила Ефрему сына и дочь. И что примечательно — совершенно не раздалась квашней, как иные родившие бабы, а будто той же птахой-девочкой и осталась. Хотя в этом Ефрем сам перед собой немного лукавил — он-то знал перемены, и перемены те были приятны. Теперь уж груди Настенины были не столь высоки и востры, но будто прежде, упруги и зато уж гораздо более ухватисты, как раз по огромной Ефремовой длани…
«Н-да… — Тверитин досадливо покрутил головой, будто воротясь от занудной осы. — Как бы ладно-то было нынче ночью-то в Тверь угодить!»
Вроде уж давно они Русью спешили-шли, а все не было ей пределов, огромны ее пространства. Уже и Москву, и Дмитров, и Клин миновали, а все Твери нет! Когда ж она будет?..
Зимнее бедное солнце спешило укрыться за высокими соснами дремучего раменья[73]. Как ни хотелось Тверитину поскорее увидеть жену, да и на деток взглянуть, а еще перед князем победой и славою отчитаться, однако морить коней в последний гон и ради радости было не по-хозяйски.
Почти по темному времени достигши Князева сельца Старицы, Тверитин распорядился остановиться в нем на ночлег, чтобы уж завтра чуть ли не с первым светом объявиться в Твери.
Впрочем, в ту ночь мало кто спал из тверичей. По темным избам вздыхали да по-бабьи охали мужики, дожидая, пока крикнут побудку.
Ефрем же и вовсе глаз не сомкнул, уже коря себя за то, что пожалел лошадей. «Конь-то тело еще нагуляет, а такое нетерпение разве мыслимо выдержать!..»
Да здесь еще Тимоха Кряжев, спавший с Ефремом в одной избе, храпом своим до самой души достал. «Как днем — так тихий, слова из него кузнечными клещами не вытащишь, а ночью гляди ты что — ровно как пророк Илья в небесах гремит!..»
Не отдохнув, а только пуще измаявшись, не дождавшись ни петухов, ни света, в самый темный заутренний час Ефрем растолкал Тимоху:
— Вставай, Тимоня, будет тебе клопов-то пугать.
Храп Кряжев оборвал, но не поднялся.
— Так темно еще, Ефрем.
— Не светло, — согласился Тверитин. — А ты пока помолись, подумай, как Михаил Ярославичу рассказывать станешь про то, как ты, идол храповитый, самого Ногая в православную веру крестил.
— Да будет уже… — недовольно проворчал Кряжев. Он не любил, когда ему напоминали о том, как он зарубил старика. Ярый больно бабай оказался — сам на Тимоху кинулся, ну он его и срубил. Откуда ж он знал, что это ихний Ногай?.. Хотя и успел догадаться. Но в этом Кряжев отчего-то не признавался.
— Вот и подумай. А я, может быть, пока ты думаешь, вздремнуть успею… — раздраженно сказал Ефрем.
Но спать он, конечно, не стал, а велел кликать побудку, которой все уж и так дождаться не чаяли.
Из Старицы вышли затемно. Отстоявшись за ночь и будто чуя близость родных конюшен, лошади без понуканий шли ходко и сами во тьме угадывали дорогу. Да дорога-то от того сельца до Твери и дружинникам была так знакома, мила и привычна, как накоротко проторенная стежка от избы до колодца. Даже и во тьме угадывались знакомые березовые рощицы, клинья чернолесья, заснеженные деревенские обжи и пустоши.
Снег по утреннему ядреному морозцу щипал дубленые щеки воинов, зыбко, звонко и переливисто скрипел под полозьями саней и возков. Иных звуков и слышно не было. Криком ли, словом, чихом нарушать лесную темную тишину никому не хотелось. Да многие из тех, что без сна промаялись ночь, бросив поводья и опустив на грудь головы, придремывали, мерно раскачиваясь в седлах.
Когда первый свет серо подкрасил давно уж беззвездное, но еще темное небо, дружинники успели покрыть четверть последнего отрезка пути.
А где-то на половине времени всего гона, когда за низкой беспросветной пеленой облаков уже угадывалось стеснительное, будто девица, зимнее солнце, шедший напереди востроглазый Павлушка Ермилов, завидя вдали какого-то человека, не удержался от озорства, с которым жил как с шапкой на голове, разбойно свистнул и поскакал что есть мочи ему навстречу.
Издали тем, кто был впереди, стало видно, как человек напугался. Он находился как раз посередине обширной пустоши; до края дальнего леса, который он уже миновал, было ему такое же расстояние, что и до поляны, которой заканчивался другой лесок, из какого теперь выходила дружина. Гикая и свистя, будто гнал перед собой зайца, конечно, без злобы, а лишь из дурной удали и себе на потеху, Павлушка стремительно близился к путнику.
Человек, а издали он казался мелкой букашкой на белой скатерти поля или, точнее, черной галкой в пустоте неба, галкой же заметался туда-сюда, понял, что в лесок уйти не успеет, и двинулся навстречу Павлушке.
Встретились. Видно, поговорили. Однако Павлушка недолго крутился возле него и повернул обратно. По одному тому, как, заваливая круп, неуверенно бежал обратно его скакун, было ясно, что Павлушка смущен.
— Кто там? — еще издали крикнул Тимоха Кряжев.
Однако Павлушка, идол, умышленно задоря Тимоху другим на потеху, не торопился доложиться ему. Напротив, не доехав саженей двадцать, вовсе остановился, дожидаясь, когда Кряжев достигнет его.
«Ишь, воевода!..» — скалился про себя Павлушка.
После бессонной, муторной ночи или от иного чего Ефрему нынче было знобко на холоду. Да и в самом нутре будто жила какая дрожала: то ли от радости, то ли от странной нетерпеливой тревоги. Чтобы нарочно удержать сердце и не дать ему над собой лишней власти, как выехали из сельца, поручил он вести войско Кряжеву, а сам забрался в возок, что позволял себе редко. Да и скучно ему было в возке на походе. А тут вдруг угрелся и так неожиданно разоспался, что и разбойный Павлушкин свист не услышал…
Когда лошади их сравнялись, Тимоха сдвинул брови, посторожел лицом и, невольно передразнив князя, недовольно произнес:
— Ну?..
От такой строгости Павлушка только фыркнул в ответ. Заулыбались и те, кто был рядом. Но Кряжева рассердить — все равно что мертвого рассмешить.
— Говори уж, — попросил он Павлушку, — идол ты мерский!
— Да че говорить? Монах это, пустой человек, — оскалясь, пояснил Павлушка.
— Болтаешь! — прикрикнул кто-то на Павлушку. — Он за нас Бога молит!
Павлушка тут же согнал блажную улыбку с разрумяненного морозом, в мягких припухлых ямках, как у щекастой девки, лица.
— Дак я ему не мешаю — пусть молит.
— Монах ли? Али Ефрема Проныча разбудить, — с сомнением покачал головой Тимоха.
— Да верно говорю, Тимофей Порфирич, монах то.
— А куда ж он в такую рань путь держит?
Павлушка пожал плечами:
— Сказывает, из Желтикова монастыря по Божьему делу идет.
— А пошто он один-то? Али не пугливый?
— Хе, — ухмыльнулся Павлушка. — Издали-то я его заприметил, вроде как человек. А ближе-то как наехал, аж испужался — чистый медведь. Только что на задних лапах стоит и голосом разговаривает. Уж такой леший и сам кого хочешь в трясцу загонит! — Для убедительности Павлушка тряхнул головой так, что шапка наехала на глаза.
— Али он и тебя загнал в трясцу-то? — спросил кто-то насмешливо, и дружинники охотно засмеялись над бахвальным Павлушкой.
— Что говорит-то?
— Тверь-то стоит ли?
— А ну вас… — Павлушка обиженно махнул рукой. — Вон он уж близится, сами у него и спрошайте, коли охота есть. А по мне, чем с монахом говорить, лучше весь век промолчать. А уж с таким-то и наипаче, смурной он.
Монах и правда оказался смурен.
Тык-мык — толком-то ничего не сказал.
И морда у него была отвратная, будто заветренная и присохшая сверху коровья лепеха. Наступишь летом на такую заразу постолом, а еще того хуже — лаптем, потом полдня мухи к тебе со всей округи слетаются. По морде-то чистый лихоимец, а не монах. Решил было Кряжев монаха того Ефрему представить, у Ефрема-то глаз на лихих людей шибко наметанный, однако воздержался: чего беспокоить попусту, монах — он и есть монах.
«Ишь, как поклоны-то бьет…»
Пропуская войско, монах упал коленами в снег, усердно осеняя крестным знамением мимо идущих дружинников.
«А то, что морда говенная, так это ничто — мало ли каких людей нет на свете…» — раздумчиво заключил про себя Тимоха, в последний раз оборотясь на монаха, склонившегося в долгом поклоне.
Князь Михаил Ярославич не проснулся, а очнулся оттого, что нечем стало дышать. Голова была тяжелой, неподъемной, и лучше всего было бы снова заснуть, вернее, упасть, провалиться в черную, удушливую ямищу сна. Перед закрытыми глазами вспыхивали и гасли синие звездные искры. Грудь сдавливало, будто могильной землей. Он попробовал покрепче вздохнуть, поглубже ухватить живительного воздуха и вдруг натужно, харкотно закашлял. Так закашлял, что легкие, оторвавшись в груди, полезли из горла наружу.
«Да что же это со мной?..»
Он едва разлепил непослушные веки. Глаза во тьме ничего не видели. Огонышек лампадки у образов, казалось, горел не в переднем углу, а в недостижимой вышней глубине, как малая, еле различимая искра. Снизу доносился какой-то неясный гул, точно черти из жуткого сна, задышливо хрипя, плели бесовской хоровод. Действительно, легче было согласиться, что это сон, чем осознать, что же это такое на самом деле. Мысли убегали, как кони в вольном луговом табуне, не оставляя в сознании следа. Уже и дышать не хотелось — не то что шевелиться. И все же Михаил Ярославич преодолел желание вновь хоть на миг окунуться в губительное забытье. Попытался заставить себя подняться, однако не смог — тело не подчинялось ему.
«Да что же это со мной, Господи?! — в отчаянии и недоумении подумал он. — Угару, что ли, они напустили?..»
И тут догадался: пожар!
Пожары в деревянной Руси были так же часты, как грозы в хорошее лето. Случалось, что и целые города выгорали, да не по одному только разу. Да в том самом году Новгород так люто огнем занялся, что сгорел весь Неревский конец, Немецкий двор, Варяжская улица и Большой мост — пламя ходило аж по воде через Волхов. Сказывали, одних церквей сгорело более двух десятков… Однако покуда Господь сим бедствием Тверь не наказывал. Во всяком случае, за то время, что княжил Михаил Ярославич, крупных пожаров не случалось. Самое-то большое — три года тому назад выгорела Кузнечная улица на Тверце, но перекинуться огню на остальную часть города тверичи тогда не позволили…
Пожар, видать, вспыхнул в самую глухую ночную пору, когда все спали. Судя по гулу, что доносился снизу, бушевал он давно, согнав весь дым под теремную кровлю. Прежде чем князю с княгиней сгореть, им суждено было задохнуться, просто не очнуться от удушливого мертвого сна. Так бы оно и было, коли б не Божья милость…
«Вон оно что!..» — ужаснулся Михаил Ярославич.
— Анна! Анна! — закричал он, как показалось ему, изо всех сил, но даже сам себя не услышал. Голос тонул в дыму, как тонут собственные ноги в низком густом тумане возле реки: вроде ты их чуешь, стоишь на них — на ногах-то, а глазами не видишь…
— Анна! — Глох голос, задушенный слабостью.
Высокой глыбкой подняв над собою чрево, в котором уж билась новая жизнь, Анна разметалась по постели. Судя по всему, она была без сознания.
— Анна! — Михаил Ярославич припал к ней лицом, попробовал растревожить ее. Тщетно — Анна не откликалась.
Но эти усилия не прошли даром — они дали волю самому князю. Собрав силы, спотыкаясь и припадая к полу, где было вроде немного легче дышать, он преодолел пространство от постели до стены опочивальни, ударил кулаком в переплет рамы. Беззвучно посыпалось разбившееся стекло, неощутимо брызнула кровь из рассеченной ладони.
Как вдруг отворенная вода из бобровой запруды, морозный воздух хлынул в терем. Михаил Ярославич пил этот живительный воздух, как пьют родниковую воду — захлебываясь и не напиваясь. Правда, от чистого воздуха возвратился и кашель. Теперь он стал еще злей и еще утробней. Из глаз князя катились неостановимые слезы.
«Господи! Дай сил на спасение!.. — оборотился он к Богу, и слова сами пришли на ум: — Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония наши; Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради».
От воздуха ли, от молитвы ли силы возвращались к нему. Двумя кулаками, сведенными вместе, он выбил раму наружу. Затем разбил стекло в другом оконце. И в третьем. Скопившийся дым клубами вырывался из терема. Дышать стало легче, хотя по-прежнему кашель не оставлял его и дым выедал глаза.
— Анна!
Михаил Ярославич вернулся к постели. Анна все еще не пришла в себя. Он приподнял жену за плечи и сильно, грубо потряс. Ему показалось, он услышал, как она застонала. Нашарив на стольце рядом с постелью большой ковш то ли с водой, то ли с квасом, он опрокинул его содержимое на лицо Анны.
— Проснись! Проснись! Проснись! — кричал, молил Михаил, давил, мял ее грудь ладонями, заставлял дышать.
Наконец и она закашляла.
Михаил Ярославич подхватил ее на руки и, не подняв, а лишь сжав под лопатки так, что ноги ее безжизненно волочились по полу, подтянул к оконнице.
— Что ты, князь, что ты?.. — простонала она сквозь кашель, видно уж не желая просыпаться для жизни.
— Горим, Анна! Пожар!
— Где? Что?..
Но разум вернулся к княгине быстрее, чем силы.
— Пропали! — отчаялась она, всем телом клонясь опуститься наземь. Михаил Ярославич с трудом удержал в руках тяжелое, обезволенное бабье тело.
— Ну, нюня!.. — попробовал он было шуткой подбодрить жену, но она только кашляла и сквозь кашель всхлипывала и вскрикивала все жальчее и безнадежней.
— Прыгай! — подтолкнул он Анну к окну.
— Нет! — закричала она.
— Прыгай, говорю!
— Дите, Миша!
— Бог спасет!
— Ай, не могу!
— Прыгай!
— Убьюсь!
— Прыгай! — бешено закричал Михаил и наотмашь ударил жену по щеке.
Иного спасения не было.
Княгинины покои располагались в третьем теремном поясе дворца — на самом верху. Ниже по одну сторону шли комната княгини Ксении Юрьевны (по счастью, в эту ночь она во дворце отсутствовала, ранее отъехав на моления во Владимир), по другую — гридница да Князева опочивальня. Еще ниже, разбежавшись вширь, опять же на высоких взмостьях с подклетями стояло как бы само основание дома с девичьими, людскими сенями, со многими иными клетями для разных хозяйских нужд и челяди. Но и это было еще не все, потому как со всех сторон к княжескому дворцу прилепились, срубленные в разное время и для разных целей, прирубы. В иных жили дворские, в иных хранились запасы… Одним словом, прыгать было смертельно опасно. Даже, предположим, благополучно скатившись с крыши на крышу, неведомо было, какой кол или бревно ждали во тьме на земле… Однако иного выхода не было.
— Ну, прыгай же, Аня. Милостив Бог.
— Прости мне за все, Михаил, — сдержав кашель, тихо сказала она и на миг припала к груди мужа.
Тяжело (шел уже пятый месяц, как она понесла) Анна протиснулась, сквозь узкую оконную прорубь. Оперлась ногами на долбленый дождевой слив, обернулась лицом к улице и, осенив себя крестным знамением, просто шагнула вниз.
Сзади раздался треск, и спину Михаила Ярославича опалило несносным жаром: дверь занялась огнем.
Помедлив еще немного и собравшись с духом, Михаил Ярославич выкинулся через окно следом за Анной.
Кого потом ни пытали, никто не знал, как случился пожар. Да и спросить было некого — кто мог бы ответить, сгорели. А сторожа, каких немало ходило во всякую ночь вокруг Князева дома, твердили одно: пыхнуло разом. Так в летний день сгорает сухое дерево, подожженное внезапной, единой молнией.
В било-то ударили лишь тогда, когда сам князь Михаил Ярославич — босый, в обгоревшем ночном чехле — появился вдруг перед ополоумевшими от ужаса сторожами. И тут же обрушилась крытая липовой чешуей кровля княгинина терема. Двор озарился слепящим светом. Выбросив клубы дыма, вольный огонь потянулся в черное небо высокими горящими языками. Дворец сгорел изнутри. И, главное, из многочисленной княжеской челяди никто не спасся, точно двери подперли снаружи-Когда собрался народ, спасать уже было нечего. Горели прирубы, одрины, медуши… да все, что было округ. Последней занялась стоявшая вдалеке голубятня. Благо еще, обособленность княжеского двора и безветрие не позволили пожару перекинуться на остальной город.
Голосили, ахали бабы, мужики бесполезно топтались на месте, не смея подступиться к огню. Михаил Ярославич в нагольной шубе, наброшенной ему на плечи чужой рукой, безмолвно и одиноко глядел на пожарище, в огне которого сгорало достояние всей Твери, скопленное долгими годами усилий и бережливости.
Выслушав Тимохин доклад, Ефрем слегка попенял ему за то, что тот не разбудил его раньше. Про монаха прослушал вполуха: больно уж на душе было радостно и светло. Вскочил на празднично убранного коня, велел поднять древки и распустить тверские знамена. К Твери шли бойкой, веселой рысью, будто и у коней не было никакой усталости от длительного пути.
Сердце Ефрема пело. Он бы и сам запел, кабы пришли на ум складные для пения слова. Каждый миг приближал его встречу с князем, по которому, оказывается, он соскучился не менее, чем по Насте, а желание по Насте было так велико, что он уже сомневался, дождется ли ночи. А еще малые детки Домка и Глебка, которых, по совести, он и вовсе не помнил, настолько они были малы и несмышлены, когда Ефрем их видел в последний раз…
И вот уж последний взгорок, последняя рощица, а за нею Волга и матушка-Тверь, купола ее церквей, Отроча да великого Спаса. Мало что есть в жизни мужчины более радостного, нежели чем возвращение домой из похода.
Напозади еще веселились, задоря себя и друг друга перед встречей с любимыми, что-то кричали, а напереди уже смолкли. Морды коней тех, кто шел позади, налезали на крупы передних, тыкались в спины всадников, неотрывно глядевших на город. Над городом вместе с последним дымом зависли скорбь и печаль. С высокого берега издали было видно черное горелое пепелище на том месте, где стоял Князев терем.
«Настена?.. Князь?.. Дети?..»
Не у одного Ефрема перехватило горло. Но у него перехватило так, что он не сразу смог выговорить слова.
— Слышь, Тимоха… ты мне монаха того достань. Хоть до Москвы дойди, слышишь?
Кряжев ничего не сказал в ответ. Только зубами скрипнул и повернул свою горсть обратно.
Однако как ни искали, заглядывая во все обители, что встречались им на пути, монаха они не нашли.
Есть, к сожалению, видимая тщетность и в том, что, по счастью, все же не тщетно: всякого в его Судный день настигнет кара его. Но как ни унырливо в мире зло, а все же не след, полагаясь только на Божий Суд, оставлять его без борьбы безнаказанным. Иначе стоит ли ему и противиться?..
Ибо сказал Исайя: «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким…»
5
Всему, чего достиг в своей жизни (а достиг он немалого), Даниил Александрович был обязан терпению. Казалось бы, не было более горького пасынка у судьбы, чем он, однако же ныне, в зрелые лета, без зависти глядел он на бывших ее любимцев. Да и где они теперь? В живых-то остался один Андрей, да и тот стал хлипче собственной тени…
Главным несчастьем жизни Даниила должно было стать само его рождение на этот свет. Он был поскребышем последнего старого семени Александра Ярославича Невского. Матушка Александра Брячиславна, благополучно принесшая до него четверых детей, рожая последнего, заболела горячкой и померла. Батюшку он тоже узнать не успел — тот захворал по дороге из Сарая и, много потрудившись за землю русскую, как сказывали про него, умер в волжском Городце, не дождавшись и первого пострига своего младшего сына. В ту осень одна тысяча двести шестьдесят третьего года Даниилу не исполнилось и трех лет. Впрочем, умирая, Александр Ярославич был милостив равно ко всем сыновьям: простил строптивость старшему Василию и вернул его из Суздальской земли, где он сидел в нахлебниках без удела у дяди Андрея Ярославича, вновь на Новгород; любимцу Дмитрию, разумеется, отписал дедову отчину — славный Переяславль с богатой землею; Андрея, что был не намного старше Даниила, оставил на Городце; но и о нем, поскребыше, вспомнил — наделил-таки неважным московским уделишком. Хотя еще долгие, самые горькие годы пришлось ему пребывать у брата в приживалах на Городце, прежде чем тот согласился отпустить его на Москву. Впрочем, теперь Даниил Александрович не роптал, признавая, что именно эти тринадцать лет, прожитые у брата, научили его долготерпению. Хотя вспоминать о них не любил.
С тех еще лет вовсе не приязнь и любовь жили в его сердце по отношению к Андрею, но страх и скрытая ненависть. Даже своей хромотой и той Даниил был обязан брату.
Однажды, смеясь над его робостью и нерасторопностью, Андрей приказал оседлать для него нравного трехлетнего жеребца. Взрослые-то гридни и то глядели на него с опаской. Даниил помнил, какого мужества стоило ему подойти к коню, взять повод из рук конюшего и все же вспрыгнуть в седло. Легкий еще, он был невесом для конской спины. Однако узду держал крепко. Даниил помнил тайное, сладостное ощущение победы, которую вдруг одержал над братом через то, что просто не забоялся сноровистого жеребца. Но это и было мучительно невыносимо Андрею, он уже тогда болезненно не терпел всякого превосходства над собой. Тем более нельзя ему было стерпеть превосходства от брата, которым он помыкал как хотел.
— Ишь, ловок! — похвалил он Даниила. — Али ты обаянник[74]? — спросил он тогда, усмехнувшись, и вдруг со всей силы огрел коня плетью.
Жеребец понес не разбирая пути, взбрыкивая задом, всю ярость от боли удара перенеся на седока. Как Даниил ни рвал узду, как ни цеплялся в гриву, а все же не удержался — вылетел из седла. Да упал еще нехорошо, неудачно, поломав кость в ноге возле лодыжки. Кость-то в деревянном лубке срослась быстро, но с тех пор левую ногу он слегка приволакивал — жилка какая-то, как сказала лекарка, оборвалась…
Пожалуй, то был единственный случай, когда Даниил не сдержался, не уклонился, как он это делал обычно, а проявил характер. И, разумеется, поплатился. Впрочем, давно уж не того было жаль, что нога приволакивалась, а того, что тот подлый удар оставался еще не отплаченным. Правда, теперь совсем уж недолго ждать счастливого мига…
Так что, с младенческих лет попав под каверзную и злую власть старшего брата, Даниил вынужден был смириться с унизительной зависимостью от его вздорной воли. Но всякая зависимость рождает явное или тайное противодействие. Открыто выступить против Андрея Даниил никогда не решался. Терпение стало его оружием. Но уж и овладел он им в совершенстве.
Кстати, напрасно считают, что терпение — удел слабых и нерешительных. Напротив, умение терпеть и одной лишь выдержкой побеждать обстоятельства требует вовсе не менее мужества, чем какой-либо отчаянной храбрости шаг, примеров коим во всяком времени предостаточно. Хорошо еще, если потом вспомнят о том шаге с уважением, а в скольких таких безрассудных шагах было более глупости, чем хоть какого-то толку? Лестно, конечно, прослыть смельчаком, однако для отваги ума не нужно. Поди, не сразу и разберешь, кто смел, а кто только глуп. Вон сын устюжанского князя Федора направо-налево саблей махал и велел себя кликать Иван Великий, а все — начиная от отца — величали его не иначе, как Иван Большой Бородатый Дурак… Терпение же редко когда остается в проигрыше, а коли и проигрывает, ни для кого то поражение не заметно со стороны. Однако терпение, помноженное на умный расчет, и вовсе никогда не проигрывает, как убедился в том Даниил Александрович.
Трудно представить, какой же действительно нужно было иметь характер, чтобы, вынеся все издевки и постоянные насмешки брата, все же сохранить достоинство для будущей независимой жизни, к которой молодой Даниил стремился всей силой души. Освободился он от городецкой опеки старшего брата благодаря нарочной тупоумной покорности, с какой встречал любой братнин вздор и обиды. И плевать в одно место надоедает. В конце концов, устав от Даниилова послушания и занудства, Андрей выгнал его из Городца и отправил княжить в Москву. Для самого Андрея, да и для всех окружавших выглядело это так, что Даниил в слезах и печали ушел от брата, в котором будто бы не чаял души и без которого будто бы и шагу ступить не мог. И никто не знал, как ликовал Даниил, вырвавшись из унылого, ненавистного ему Городца.
В Москве Даниил Александрович с первых же дней правления начал заводить тот лад и порядок, о котором тайно, никому в том не открываясь, давно мечтал. Правда, и то он делал так осторожно и незаметно, что бояре поначалу, он это знал, посмеивались у него за спиной над его простодушием и безволием. Не ведали они еще, что уже через пару лет за честь будут почитать на ночь привести в княжий терем «на погляд» князю своих дочерей. Перед тем как жениться, таким путем изо множества Даниил Александрович искал для себя единственную избранницу. Правда, говорили, что никакого охальства или порчи в те ночи не было, но говорили и иное. На всяк роток не накинешь платок. А какой боярской дочке не хочется стать княжной?
Так что, покуда бояре над ним посмеивались, Даниил Александрович просто примеривался и к ним самим, и к их дочерям.
Есть ли что-нибудь для умного человека более любопытного в жизни, чем управлять другими людьми? Даниил вполне насмотрелся на безмозглое и беспутное правление Андрея, чтобы не повторять его глупостей. И их цели в жизни, да и сами они были столь разными, что повторение это просто не допускалось. Если Андрей собирал казну на дружину (какой все равно не славился) да по молодости лет на пиры, то Даниил с самого начала усердно копил серебро для будущего. Если Андрей в пылу охоты ради одной лисицы мог вытоптать лошадьми засеянную хлебом обжу своего же городецкого смерда, то Даниил всякий год объезжал подмосковные села, своими руками щупал колосья, чтобы самому, а не понаслышке знать, с кого какую меру по осени требовать. Ну и все остальное-прочее было также противоположно и разно… Единственное, что он пользовал из опыта жизни на Городце, так это опыт сводить промеж собой или ссорить нужных людей. А есть ли иное, более надежное средство для управления людьми и достижения необходимых тебе итогов? Только пользоваться им надо умело и осторожно. Еще на Городце, считаясь меж бояр пустым братниным забавником, многих из них лишил он ненароком кого каких льгот, кого милостей. Благо Андрей сам думать не любил, но верил тому, что ему в тот миг было больше по нраву. Так потихонечку-полегонечку и наладилась на Москве жизнь согласно единой воле Даниила Александровича. Бояре и сами не заметили, как, возненавидев друг друга, накрепко сплотились вокруг него. И каждый был ему обязан — кто чем, а некоторые даже, как они полагали, и жизнью. Одним словом, Даниилово долготерпение, которому научился он сызмала, со временем оказалось посильней всякой удали.
Что удаль? Вон брат Дмитрий, каким доблестным воином слыл, а что по себе оставил? Никудышного сына, пустую казну да пожженный Переяславль… Кто ныне помнит его победы? Выходит, не на то он жизнь положил, весь век обороняя мечом Новгород да Псков от датчан и литвинов, если от родного брата дедову отчину не защитил. Сколь лет великокняжеской казной обладал, а умер нищим погорельцем на зимнем пути…
— Грехи наши тяжкие… — Даниил Александрович оборотился к малому сенному иконостасу, горевшему жарким золотом, и истово осенил себя крестным знамением. — Умереть-то по-людски, это тоже надо еще суметь удосужиться… А взять того же Андрея? Поди, уж не помнит, как передо мной-то кичился: мол, погоди, вся земля моя будет! А на кой она ему ляд, такому худому, земля-то? Не то чтобы что, а и на Городце-то своем любезном за жизнь храма не сотворил…»
Опять он отчего-то обернулся к иконам, с умилением подумал, что новая церковь Николы Льняного, поставленная на взгорке так, что ее одинаково хорошо видать и из Князева терема, и с замоскворецкой стороны, и с Остожья, больно кругла и лепа, хоть и невелика. На восьмериковом основании, с шатровой кровлей, с единым куполом-капелькой, церковь и впрямь радовала взгляд.
С тем же умилением Даниил Александрович перебрал в уме Божии храмы, возведенные при нем и бывшие на Москве до него, и остался доволен: всякий храм казался пригож и уместен. А было их столько, что, пожалуй, ни одна улица не пустовала без церкви.
«Однако затейный получается городок…» — с гордостью подумал князь о Москве, которую любил не просто как землю и счастливое место для жизни, но как то единственное и главное в его судьбе, к чему и слов подходящих не подобрать.
Вроде бы жил — как жил, едиными летящими и насущными днями, с их радостями, заботами, удовольствиями, болезнями и печалями, но все эти дни словно не прожились безвозвратно, не рассыпались прахом, а малыми ручейками стеклись в невидимую, беспредельную реку, имя которой — Москва.
Даниил Александрович вздохнул и снова, теперь уже благодарно, перекрестился.
Нет, нет, Даниил Александрович не чета своим братьям, — осторожно вернулся он к утешным мыслям, а мысли эти в последнее время не оставляли его. Может быть, он и дан был батюшке впослед братьям, чтобы своею жизнью и тем, что еще предстоит ему совершить, искупить их грехи перед миром и Господом. Может быть, ради того одного и наделил его Всевышний мудростью и силой долготерпения? Но скоро, Господи, скоро придет уж и его черед!
Точно в ответ его мыслям, мелко да переливчато, как жемчуга по серебряной чаше, зазвонили к обедне на Николе Льняном.
«Слышишь Ты меня, Господи!» — чуть не вслух воскликнул Даниил Алесандрович, и радостные, умильные слезы вспыхнули у него на глазах.
Пришел его срок. На корявом, изогнутом, неказистом дереве его жизни, которое он берег пуще глаза, растил терпеливо и мужественно, поливая его собственными слезами и кровью, наконец-то созрели плоды, да такие, что дух захватывает от одного лишь лакомого их вида. Осталось лишь руку поднять и сорвать. Но с этим-то, коли уж так долго ждал, можно было и еще немного повременить…
Судя по всему, Андрей-то на Городце долго не заживется — больно он худ да зелен. А коли и протянет еще, не беда: силы в нем более нет, а главное, в самом Данииле нет больше страха перед Андреем. В Дмитрове Андрей это понял и стерпел. Да и остальные притихли. Кажется, всем стало ясно, что нет на Руси иного богатого и сильного княжества, чем Московское, а значит, пришла пора его князю занять владимирский стол. И насчет этого более Даниил Александрович уже не таился.
В Дмитрове, где года три тому назад прошел последний княжеский съезд, случилось вот что. Иван Дмитриевич Переяславский, с которым Даниил Александрович был в большой дружбе и тайном сговоре, по глупости ли, по какой ли иной причине не удержался и открыл всем, что по смерти, к коей он уже приготовился, не имея прямых наследников, всю землю со стольным городом отдает в пользование московскому дяде Даниилу Александровичу. Для того чтобы Иван принял такое решение, Даниил Александрович проявил столько усердия, что и вообразить невозможно. Зная о болезни Ивана (тот болел грудью и харкал кровью), Даниил Александрович по два-три месяца гостевал у него, слушая его стоны да жалобы и глядя, как он заходится в кашле. О чем говорили — о том говорили…
Пожалуй, один Даниил Александрович с его терпением, упорством и сладкоречием и мог отвлечь Ивана от его слабоумной затеи отдать отцову землю Михаилу Тверскому.
Он, мол, и батюшке последний приют дал, и супротив Андрея его защищал, и от меча Федора Черного упас его, Ивана, во Владимире, и, опять же, Михаил не седьмая вода на киселе, а внук Ярославов…
Слабый-то Иван слабый — как квелая баба — однако порода та же: коли уж блажь какую втемяшил себе в башку, поди ее выбей попробуй…
А в Дмитрове, когда уж все дела промеж собой поладили, Иван Дмитриевич взял да объявил:
— А Переяславль по смерти своей, как Бог мне детей не дал, завещаю дяде Даниилу Александровичу…
Эх, что там тогда поднялось!
Брат Андрей, и без того зеленый, вовсе с лица сошел. Он-то уж как великий князь давно на Переяславль нацелился и ждал лишь смерти Ивановой, а тут до смерти еще Иван ему под вздох угодил.
— Прокляну! — кричит Андрей.
— Сам проклят! — Иван отвечает.
— Бесправие творишь! Великий князь за землю ответчик! С Тохтой приду, выгоню!
— Беги, пес, за татарами — не впервой тебе!..
А тут и Михаил Ярославич вздыбился, как дошло до него.
— Иуда! — кричит. — Порода блядова! Ты же мне отчину посулил! Забыл, сколь я отцу твоему и тебе услуг оказывал? Али помнишь?
И чуть ли не меч из поножней потащил.
Иван трепещет, выбелился весь как полотно, но слабый-слабый, а перед смертью не взял греха на душу, не отступился от последнего слова, данного Даниилу. Порода, однако…
Лаялись до того, что у Ивана кровь горлом хлынула.
Михаил плюнул и в Тверь убежал. А что ему еще остается? Не войной же идти на Даниила. Даниил Александрович-то разве при чем, что племянник перераспорядился?
Андрей как позеленел, так более и не разрумянился.
А тут, совсем немного спустя, Иван и помер.
Пока Андрей со своими боярами кинулся к Переяславлю, Даниил Александрович уж войско туда из Москвы привел.
«На-ко, брат, выкуси…»
Делать нечего, не его ныне сила! Вернулся на Городец ни с чем, забрал жену и вместе с ней уехал в Сарай у хана правды искать да на него, Даниила, жаловаться. Пусть…
Хан-то ныне к Андрею неласков, хан-то ныне расположен к нему, Даниилу, — и об этом у московского князя от самого Тохты есть верные сведения.
Более того, послы, что отвозили хану дань и подарки, передали Даниилу Александровичу на словах, что хан больно сильно огорчен и озабочен тем, что рязанский князь Константин стал непамятлив и, видно, забыл, как батюшка его, князь Роман Олегович, в Орде за охальные слова смерть принял. Мол, Тохта, конечно, мог бы и сам урезонить рязанского князя, однако милостивость его покуда удерживает…
Тут уж Даниил Александрович схватился! Коли пошла удача, лови не зевай!
Давно уж земля московская тесна стала — с востока ее; Рязанское княжество Коломной подпирает, с запада Смоленское Можайском ограничивает, на севере Дмитров стоит, а уж за ним и вовсе вольготно Тверь раскинулась. Не в один день Даниил Александрович решил Москву чужой землей приращивать, ночами-то он много какой земли к московской примысливал, однако на деле все не решался — ждал, осторожничал. А здесь, видать, время пришло, раз сам Тохта знак ему подал…
Подготовился к своему первому лихому походу Даниил Александрович тщательно. Мало того что войско срядил изрядное, но не поскупился и еще коломенских бояр подкупил.
Он и раньше-то их нарочно жаловал, тем самым склоняя добровольно перейти под Москву, а тут уж прямо сказал через тайных послов:
— Либо вы мне пособляете, и за то вам честь и многие милости от московской казны, либо уж пощады от меня не ждите. А Коломне более под Рязанью не быть. Коломенцы, чуя новую силу, недолго ломались. В декабре московские полки выступили в поход. Рязанцы вышли навстречу. Столкнулись на Оке возле Переяславля-Рязанского.
И те и эти бились от сердца, будто с татарами. И на второй день было еще не ясно, чья сила возьмет. А в ночь на третий коломенские бояре сдержали слово. В глухую пору подступились они к Князеву шатру, внезапно перебили окольных и многих иных рязанских бояр, самого же Константина схватили и умыкнули на московскую сторону.
Как ни молили рязанцы вернуть им князя, Даниил Александрович остался непреклонен и взял Константина Романовича с собой живым залогом в знак того, что отныне и до века Коломна будет московской. Вот уже скоро четвертый год пойдет, как рязанский князь мается на Москве. Впрочем, Даниил Александрович держал его хоть и в плену, но в почете. Более того, сдружился с ним, вместе стоял заутрени и обедни, ел с ним одну пищу и пил из одной братины. Хоть и жалко Даниилу Александровичу было с ним расставаться, однако намедни они сговорились, что на постного Ивана[75] станут целовать крест на миру в том, что давно уладилось: рязанский князь по своей воле признает Коломну московской, а московский князь за то отпускает его с добром на Рязань.
Вот так — для всех вдруг — земля Московская значительно возросла и Переяславлем, и Коломной, затем еще, что и сама по себе обогатилась новыми церквами, улицами, посадами, хлебными обжами, сельцами да деревеньками, что любовно обжали ее со всех сторон, как жадный до ласок мужик жмет пухлую, сильную молодуху…
Один Даниил Александрович ведал, каким мучительно долгим было то вдруг. Он к этому вдруг всю жизнь шел, годами тянулся, вылезая из сил и души, ну, а коли уж дотянулся, стиснул в горсть — никто его не заставит пальцы разжать. Благо есть и оставить кому.
Пятью сыновьями одарил его Бог. Двух первых принесла ему Варвара, незабвенная и любимая им супружница, любимая, несмотря и на то, что вот уже десять лет, как она умерла. До сих пор Даниил Александрович поминал ее, будто живую, и жалел, что не видит она нынешнего его торжества. В ней первой, да, пожалуй что, и единственной, князь нашел истинную отраду не для одного лишь тела, но и для души. Что плотская радость? Утеха, какую одинаково равно не стоит трудов получить что у первой красавицы, что у последней гулящей девки. Но и юная боярская дочь оказалась столь мудра и проницательна, что сумела дать князю именно то, чего он всегда был лишен и чего неосознанно и безнадежно искал — жалости. И великие мира сего в ней нуждаются. Однако как она сумела проникнуть в заулки его скрытного сердца, неведомо. Но проникла. Первой ласковым, тихим движением (не бабьим, но материнским) она приклонила голову Даниила к себе на грудь и там замерла, будто мать, снисходительная ко всем порокам и слабостям сына.
Ни до, ни после нее ни с какой иной (а князь знал женщин) не был Даниил Александрович счастлив так полно, как с Варварой.
Может быть, еще и оттого сыновей от нее, Юрия и Ивана[76], он отличал особой отцовской любовью. Но и действительно: и по складу, и по духу, и по внутренней крепости они были более его, нежели чем младшие сыновья. Хотя меж собой во внешних проявлениях одинаковой сути Юрий и Иван были столь различны, что не знавший о их родстве не скоро признал бы в них единоутробных братьев.
Юрий, оставаясь при этом совершеннейшим сыном отца, как бы сосредоточил в себе те свойства, коих лишен был сам Даниил Александрович и от недостатка которых, покуда не осознал преимущества их отсутствия, некогда он даже тайно страдал. Насколько был тихомудр и до времени робок отец, настолько безогляден и решителен сын. К тому же Юрий оказался высок, ладен собой, поджар, пригож лицом, крепок телом и быстр в движениях, что тоже отличало его от отца. Даниил Александрович был низок, вял в плечах, обилен чревом и хром. По двору ли, по терему ли ходил он всегда неслышно, подволакивая поврежденную ногу и как бы скользя с той же медлительной осторожностью, с какой он, взвешивая по сто раз, обдумывал всякое свое предприятие.
Несмотря на некоторую видимую несхожесть, Даниил Александрович души не чаял именно в старшем сыне.
Разумеется, вполне определившаяся к тому времени явная волчеватость повадок сына не могла не настораживать предусмотрительного Даниила Александровича. Иногда он даже ловил себя на том, что находит некоторую схожесть в нем с молодым Андреем, но тут же осуждал себя за такое сравнение и схожесть ту относил на счет великого батюшки Александра Ярославича Невского, которого сам не знал, но на которого, по утверждению многих свидетелей, из всех его сыновей более всего походил брат Андрей.
«Что ж, — рассуждал он относительно Юрия, — али правитель должен быть смирным? Пошто ж он тогда правитель и с чем управится?»
Другое в сыне заботило больше: внезапная гневливость, коей он был подвержен, стремление получить сразу и все, чего бы он ни захотел — хоть девку, хоть чужого коня, — и вытекавшее из того безрассудство.
Однако сын и в пороках своих так люб оставался отцу, что и здесь Даниил Александрович умел найти утешение. Главное же, он отчего-то не сомневался в том, что, когда придет его срок, Юрий, при его сметливости, сумеет обуздать свой нрав ради дела отца и Москвы. Безрассудным-то быть хорошо, когда терять нечего. Но когда на плечах Москва, так призадумаешься… Кроме того, безрассудство не есть свойство характера, полагал Даниил Александрович, а скорее итог обстоятельств. Так что надо лишь подчинить, упорядочить, научиться предвидеть те обстоятельства — и тогда не будет повода к безрассудству.
«Али Юрий не мой сын, чтобы этого не понять?..»
Второй сын Даниила Александровича, Иван, родившийся через два года после Юрия, годам к десяти казался уж умудренным старцем. Во всяком случае, в рассуждениях, а более по глазам, глядевшим на жизнь с подозрением в каверзе, выглядел тот старше брата.
В Иване Даниил Александрович, как в зеркале, узнавал себя. И было странно ему, что это узнавание не радовало, а даже как бы и раздражало. Больно уж степенным, рассудочным, да что уж говорить, неискренним, скрытным рос Иван. Будто не у родных отца с матерью, а, как некогда сам Даниил Александрович, в приживалах, где всегда нужно опасаться подвоха. А уж после смерти матушки, княгини Варвары, Иван и вовсе замкнулся. Года два ничто его не могло вывести из какого-то внутреннего оцепенения, в котором он пребывал. Впрочем, с отцом даже и в те годы Иван неизменно оставался предельно, даже до чрезмерности ласковым. Будто он, отец, имел намерения обойти Ивана наследством.
Даже внешне Иван повторял отца с той поразительной достоверностью, на какую способна природа. Тот же хрящеватый, несколько загнутый крючком вниз, точно на самом его конце застыла влажная капля, нос, те же тонкие губы неулыбчивого постного рта, короткий, скошенный подбородок, прямые темные волосы над невысоким, однако шишкастым лбом и мелкие, пронзительные глаза, взгляд которых и Иван, и Даниил Александрович одинаково прятали от собеседников. Оставшись наедине, не часто отец и сын встречались глазами, оттого что оба не глядели, а лишь взглядывали остро и коротко в лица друг другу, словно обменивались уколами.
Даниил Александрович привечал и Ивана, причем в глубине своей тайной души, может быть, еще и сильнее, чем Юрия. Однако на виду, перед миром, открыто предпочтение отдавал старшему сыну, с которым ему во всем было легче.
В любви Даниила Александровича к Ивану чудилось что-то болезненное, ревнивое, будто ревновал к самому себе. С него и спросить хотелось не как с Юрия, на которого по злобе да зависти, бывало, жалобились князю чуть ли не каждый день, но строже, пристрастнее, что ли. Однако Иван, в отличие от Юрия, был тих и вовсе не делал оплошек, за какие с него стоило бы взыскать. То ли в пору еще не вошел, то ли в тайных мыслях к тому себя приохотил, что было сильней и слаще всякого шалопутства. Впрочем, худого в том Даниил Александрович не усматривал. Заедало его лишь то, что и он, отец, до конца не мог понять сына, а было то ему любопытно до чрезмерности, а сын, хоть и ластился котом по ногам, совершенно оставался закрыт, будто тайный ларец.
А за будущность Ивана Даниил Александрович вовсе не беспокоился. Отчего-то он знал, что тот будет и рассудителен, и ухватист не менее, чем он сам. Ежели только не более…
Остальных сыновей — Бориса, Афанасия и Александра — князь нажил с другой женой, на которой и женился лишь затем, чтобы вернее забыть Варвару. Но вышло наоборот: появление в той же опочивальне второй только острей подтвердило незаменимость первой.
Несмотря на то что Аграфена до сих пор все еще была сравнительно молода (а взял он ее за себя пятнадцати лет), несмотря на то, что она принесла ему троих сыновей, но осталась упружиста телом, и ночи с ней пресными ему не казались, вторую жену Даниил Александрович не любил.
Может быть, потому и к сыновьям, нажитым с ней, он оставался холоден и думал о них не часто. Знал лишь, что есть они, видел их чуть ли не каждый день, однако сердца они не задевали. Да и малы еще были.
Впрочем, и их он держал в уме на ближний загад. Когда он станет великим князем, младшие сыновья пригодятся ему, как пальцы в единой горсти, которой он намеревался стянуть к Москве Русь…
В конце концов, все устраивалось наилучшим образом, а главное, так, как было когда-то задумано. Знать, не зря наделил его Господь разумом и терпением. А то, что злобников против него хватало и на самой Москве, князя не больно заботило: кто знает, куда и зачем идет, собак не боится. Одно скверно — тявкают исподтишка, не ухватишь. Хотя по правде сказать, так ныне все славно, что и их не слыхать с тех самых пор, как приказал утопить в Москве-реке неверных волхвов, что зломысленно толковали об огненной хвостатой звезде.
Тот год и так был тяжек Москве неурожаем, бездождьем да страхом перед пожаром. А тут еще явилась в небе внезапно звездища. Поди, не менее долгой седмицы всякую ночь непременно висела она над Москвой, окутанная, как плащаницей, дьявольскими дымами. Как раз в ту пору и пришли из чудской земли на Москву волхвы, которые мутили и без того смущенный народ, пророчили всей русской земле и глад, и мор, и неисчислимые беды, что якобы придут на нее из Москвы…
Надо же какую клевету удумали возвести!
Бабы вопили, мужики хмурились и молчали, детей днями не выпускали на улицы, в луга не выгоняли скотину, церкви были полны людей, и во всякий день священники служили обедни во спасение Москвы, ее жителей и князя Даниила Александровича, словно поистину звездища та явилась небесным предостережением ему.
От сухоты горели леса под Москвой, Неглинная речка обмелела до дна, и посадские гуси уж не плавали по воде, а топли лапами в жидкой грязище. Церковные ризницы ломились от имущества, что из домов снесли жители под защиту крестов.
А кроме того, разнесся слух, взявшийся невесть откуда и почему, что дворец тверского князя, сгоревший незадолго до того, спалили по московской указке и за то ей теперь наказание.
Даниил Александрович и перед людьми, да и перед Михаилом в том, что к тому пожару он никак не причастен, крест был готов целовать. Да он ведь и в самом деле не был к тому причастен. Зачем ему было желать смерти тверского брата, коли они с ним состояли в союзе? А потом, хоть и внуком приходился Ярославу Всеволодовичу Михаил, однако же после Андрея, минуя Даниила Александровича, великокняжеский стол никак не мог перейти к тверскому князю. Да Михаил Ярославич и сам то прекрасно ведал. Иное б было понятно, если бы, к примеру, Михаил решился умертвить его, Даниила. А тут окончательный несураз…
Однако слух рос. И все вместе: огненная, хвостатая звездища, окутанная дымным маревом, злокозненная молва, проникавшая в умы тем верней, что в ней и смысла-то было не отыскать, страх перед пожаром и предсказания волхвов — невиданно ополоумело московичей, кои стали требовать какой-то неведомой правды или покаяния князя в том, в чем он не был виновен.
Волхвов схватили.
Даниил Александрович самолично дознавал у них истину. Но немного смог добиться.
— Пошто клевету несете?
— По небесному знамению…
— Пошто тверской поджог приплели?
— Про то не ведаем, а потому не судим…
Трех чудских старцев и одного мужика князь приказал утопить на реке при стечении народа.
Но и тем дело не кончилось. Ни дождь не грянул, ни звездища оттого не угасла.
Тут на княжьем дворе какой-то злокозник грамотку обронил. В грамотке той доказывалось, что тверской пожар и впрямь случился по московской вине. Но учинил его не князь, а сын его Юрий, дабы избавиться от Михаила Ярославича на тот, мол, случай, если Даниил Александрович, спаси его Бог и помилуй, вдруг прежде времени умрет, не успев на владимирском столе заместить брата Андрея…
Хитрая грамотка пришлась под руку тем, кто имел зуб на Юрия. К удивлению Даниила Александровича, местников и злопыхателей как среди бояр, так и среди прочих людей у старшего сына оказалось достаточно. Будто обрадовались, требовали расправы.
Даниил Александрович грамотке не поверил: больно уж дальним и чересчур предусмотрительным был тот расчет для Юрия. Но, главное, Даниил Александрович даже и мысли не допускал, что сын без его воли мог на такое решиться. Скорее такого можно было ожидать от Ивана, хотя Иван на тот год был вовсе отрок годами — всего-то шестнадцати лет.
Так или иначе, однако делать было нечего, и, скрепя сердце, Даниил Александрович велел сыну держать ответ перед людьми.
Юрий божился, что он и в мыслях не замышлял подобного, да так рьяно и истово, что даже и обиженные им когда-либо бояре согласились с князем в том, что на Юрия зломысленно возвели напраслину. Да и никаких доказательств обратного не было.
А спустя день или два звездища та страшная сгинула, и пролились благостные дожди. Тут же вся злоба съехала, и многие потом сами винились и перед Юрием, и перед князем, что поддались на навет.
Правда, та грамотка долго еще не давала покоя Даниилу Александровичу. Много бы он заплатил, чтобы взглянуть на того, кто ее начирикал. Однако зело хитромудр оказался писака и следов не оставил. В конце концов, не в силах понять загадку, Даниил Александрович остановился на простом, решив, что и слух пустил, и грамотку обронил, воспользовавшись общим брожением, один человек, по-видимому, кто-то из тех, кому княжич досадил ненароком, а было таких, как выяснилось, немало. Зачем? Да чтобы лишить сына отцовской милости. Ан не вышло…
Однако все на пользу идет: Юрий с тех пор поумерился, стал пооглядистей. А может, уж и наскучил он пустым баловством и тем усерднее взялся за дело. Вот уж два года, как посадил Даниил Александрович Юрия на Переяславль, и, как доносили ему о том надежные бояре, переяславцы души не чаяли в молодом князе.
То-то: есть на кого опереться, есть и Москву кому передать, а там и всю-то Русь на долгие веки. Однако и то не скоро, благо руки покуда не слабы.
Чувствуя в груди великое умиление перед благодатью Господней, которую вымолил и трудами упрочил ради любезной ему Москвы, Даниил Александрович опустился на колени перед золоченым иконостасом, поднял ко лбу осеняющую длань и вдруг, задыхаясь и хрипя, повалился на левый бок. Будто сзади стальным прутом проткнули его под лопаткой…
«Иного хочу!..» — хотел крикнуть он и не смог. Рот его, ловя воздух, стукал зубами, грудь распирало под ребра огромной разбухшей жабой, подкатившейся склизким, холодным боком под самое горло. Сердце колотилось так, что должно было бы разорваться. Потом вдруг сладко опало в затишье, и стало страшно, что более оно не забьется. А жаба в груди росла, отнимая место у сердца. И все же, борясь с той жабой, оседлавшей его, сердце сначала слабо и медленно, потом все быстрее и громче опять застучало. Сильнее, сильнее! И опять до разрыва, и вновь опало и затихло до смерти.
«Иного хочу!..» Одной своей волей Даниил Александрович заставлял его биться снова и снова…
«Верую, Господи! Молюсь Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешения мои вольные и невольные… Сподоби мне неосужденно причаститься пречистых Твоих Таинств во оставление грехов и жизнь вечную… Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем…»
Ласковое августовское солнце склонялось в зените, благостно проникая теплом и светом и в ближние боры, и в синий блеск речных вод, на переправе у торгового посада сновали от берега к берегу мелкие баркасы и плоскодонные лодки, развозя от кремника после базарного дня многочисленный люд, по Остожью — верховым москворецким лугам — лениво перемещались стада городских коров, нарядные купола церквей хвастали друг перед другом кровлей, но не видел того Даниил Александрович. На княжьем дворе, деля подсолнечную лузгу и переругиваясь, чирикали воробьи; видно, под самой оконницей, дуя горло, голубь ярился перед голубкой; злая муха, чуя осень, билась под потолком; кони стучали копытами в деревянный настил перед церковью Святого Михаила; какая-то баба звала Пашутку… И еще безмерные тысячи разных звуков доносились с уличной стороны сквозь растворенные настежь оконницы в княжеские покои. Князь их слышал, умилялся им и радовался последнему. Одни лишь слезы беззвучно скатывались по щекам Даниила.
«Вот плоды Твои… И не хочу иного…»
Бессильный, но благостный, будто в последней молитве оборотясь к иконостасу, лежал на вощеном полу князь всей этой пышной, звучной, чудной и обильной земли.
На дальней звоннице Данилова монастыря звонарь неуверенно, робко тронул билом колокола. Тут же ему откликнулись с церкви Спаса на Бору, с Николы Льняного… И стозвон сорока сороков Божиих московских храмов будто с неба сошел к Даниилу и наполнил сердце прощением и миром.
Бог был милостив.
Прежде чем окончательно помереть, Даниил Александрович как христианин принял схиму, причастился Святых Таинств, хоть одними глазами, молчаливо, но покаялся, в чем был грешен, и преставился на постного Ивана, в день Усекновения главы Господня Крестителя.
То ли боясь без присмотра оставить Переяславль, то ли по какой иной причине Юрий хоронить отца не приехал.
Еще недавно сам сподобившись загадать отцу загадку, которую тот так и не отгадал, Иван, наверное впервые, у гроба неотрывно глядел на упокоившееся лицо родителя, словно пытаясь проникнуть в великую тайну его преждевременной смерти. Тайну, которую ему предстояло разгадывать целую жизнь.
Шел одна тысяча триста третий год. Открывшись небесным знамением, новый век сулил неведомые и ужасные потрясения. Скорбь на Москве стояла великая. И грядущее было дико.
6
— «Батюшка, а батюшка, дозволь княжат ловчих взять на охоту!» — просит Иван у Даниила Лександрыча. «Каких княжат?» — Даниил-то Лександрыч любопытствует. «Моих, чай, батюшка», — Иван ему отвечает… — Покрывая застолье густым, как волосы в его бороде, голосом, боярин Акинф Ботря[77] с серьезным видом рассказывает московскую байку. — «А коли ловчие-то твои, пошто ж ты у меня дозволения просишь?» — спрашивает у Ивана князь. «А ну как, батюшка, они и тебе понадобятся?..»
Смех скрадывает последние слова боярина.
Довольный весельем, шевеля бровями и быстро взглядывая на князя, Акинф замечает:
— Во как приязнь-то родительскую заслуживают!..
Обеими руками он оглаживает окладистую иссиня-черную, вольно и пышно упавшую на грудь бородищу.
— А Юрий-то, говорят, не таков? — то ли спрашивает, то ли доказывает Святослав Яловег.
— Зело сильно разнятся! — важно подтверждает Акинф, со значением подняв большой корявый палец с черным перстнем, но тут же и опровергает себя, решительно свидетельствуя: — Хотя оба вороны.
— А как думаешь, Акинф Ботрич, промеж собой-то скоро они размирятся? — не отстает Яловег от боярина, а тому, видать, только того и надобно: любит Акинф почтение.
— Нет, — помедлив, с сомнением качает он большой головой. — Хоть и псы они, а покуда, поди, не полаются. Я так думаю, а там кто их ведает… — Акинф беспокойно подвинулся и обратился к князю, глядевшему молча то ли на него, то ли мимо: — Юрий хоть и кичится своим старшинством, а без Ивана шагу не делает. Тот всему закавыка, слышь, Михаил Ярославич?
— Не глухой, слышу… — отвечает Михаил Ярославич, но глаз с точки не переводит, и по глазам его видно, что думает он о другом. — Да псами-то их, Акинф Ботрич, боле при мне не кличь. Они мне племянники… — И умолкает отсутствующе, будто его и нет на этом пиру.
Акинф обиженно умолкает. Лишь пуще шевелит бровями, что грозными пиками раскинулись над глазами в разные стороны.
Большой боярин Акинф Ботря по прозвищу Великий, по смерти Даниила Александровича вдрызг рассорившись с молодым Иваном, пришел на Тверь почти год назад. Иван отчего-то, видно, за громогласность и своевольный норов, невзлюбил Ботрю, ведавшего при отце многими доходными путями. Как водится, он всячески начал его задвигать, отставляя от дел и советов. А вместо него приветил нового милостника — боярина Родиона Несторовича.
Этот Родион Несторович и без того был богат. Пришел он в Москву то ли из Чернигова, то ли из Киева лет пять тому назад с изрядной дружиной, более чем в полторы тысячи всадников. Но, видно, и как-то иначе сумел отличиться перед Иваном новый боярин — больно уж резко, вопреки московским обычаям, возвысился он над другими.
Будучи человеком гордым и даже заносчивым, Акинф обиды и унижения терпеть не стал. Он открыто, как это водится, полаялся с Родионом Несторовичем, затем — опять же как водится — поклонился князю, хотя не сдержался, и его попрекнул презрением к отцовскому благочестию, и собрался уж было со всем двором, дружиной и челядью покинуть Москву, но не успел. В нарушение всех честных договоров Иван решил удержать его силой да еще и наказать, якобы за измену.
Где это видано, чтобы князь свободного человека силой удерживал? В каких это грамотах писано, что боярин не волен сам выбирать себе князя, ежели прежний перестал держать его, как положено? Смерд и тот волен, если он не обельный холоп[78], искать себе хозяина по душе…
Благо нашлись добрые люди, предупредили Акинфа о злоумышлении. Пришлось ему с кровью из Москвы выбиваться. Вывел лишь старших сыновей — Бориса и Федора — и малую часть дружины, всего человек полтораста. Да не то жаль, что в Тверь прибежал гол как сокол, а то, что в отбитом москвичами обозе осталась молодая жена Акинфа и последний, грудной еще сын.
Жену, сказывали, насильно постригли в монахини, а сына Мишаню отдали в челядинскую на княжьем дворе. Такого Акинф простить не мог. Со всей злобой, на какую способна душа, он жадно надеялся когда-нибудь отомстить обидчикам с помощью тверского князя. Затем к нему и пришел, оттого и не упускал случая поклепать на московских князей, все уши Михаилу пропел про ненависть, какую с тех пор, как умер их батюшка, оставив без права наследования великого княжения, лелеют к нему братья Даниловичи.
«Да, батюшка-то их сильно обезнадежил. Только при чем же здесь я?..» Все понимает Михаил Ярославич, знает, как клянут его теперь на Москве, однако, покуда он с московскими племянниками держит мир, не пристало ему за общим столом хаять их за глаза. Или слушать, как другие их хают при нем, что в общем-то одно и то же. Да и устал он от боярских наветов, а особенно от Акинфовых. У злобы известно какая мера: чего ни скажи — все мало кажется…
— А так ли у нас говорили, Акинф Ботрич, что Князев терем, мол, по московской указке пожгли? — полюбопытствовал кто-то неосмотрительно.
Во-первых, спросить о таком у Ботри все равно что сухих веток в костер подбросить, во-вторых, о том пожаре уж думать забыли, а в-третьих, князь не любил, когда о нем поминали.
Акинф оживился, потянулся одной рукой за чашей, другой начал вытирать сальные, влажные губы, при этом важно закивал головой, обещая поведать чрезвычайное и спеша протолкнуть через горло обильный мясной кусок.
— Ум… эм… — Густо-утробно пробурчал он и начал было глаголить при полном внимании: — Вестимо, оне! Однако то не Юрий пожегщика посылал, а Ванька, ну, Иван то бишь, — поправился Акинф, быстро взглянув на князя, — Он, змей ядомудрый, удумал то…
— Доказано? — усмехнулся Михаил Ярославич.
— Не доказано, а чую я! — будто озлившись, выкрикнул Акинф. — Более некому!..
— Не уму ты ныне подвержен, Акинф Ботрич, а злобе. Молчи! — махнув рукой, оборвал его Михаил Ярославич и обратился к боярам: — Что это, бояре, вы все про Москву любопытствуете? Чай, мы на Твери живем. И нынче у нас не Тризна, а пир во крещение младенца Василия, — пошутил он и, весело взглянув на жену, сидевшую от него по левую руку, будто бы закручинился: — Чтой-то нам с княгиней давно славы не пели родителевой? Ох, скучно мне…
За лавками возле столов, выставленных в больших горных сенях буквицей «паки», зашумели, задвигались, потянулись к братинам с медами и разными винами, девки да виночерпии засуетились, забегали, оживляя стол новыми сосудами и блюдами с яствами.
Наконец полные чаши заплескались в руках, теряя изрядные капли, и ближние бояре да окольные, собравшиеся в этот праздничный день у князя, закричали славу и здравицы Михаилу Ярославичу, княгине. Анне и новокрещеному их сыну младенцу Василию. Правда, Василий того не ведал, а спал покуда праведным сном в плетенной из лыка зыбке, оберегаемый от залетных мух заботливой молодой и грудастой мамкой. Однако славу кричали так долго и громко, что ближним ответили дальние, а дальних оказалось гораздо больше: почитай, вся Тверь стеклась на княжий двор поздравить князя с крестинами. Кто не поленился — всяк пришел. Известное дело, чего людям надо: выпить в веселый день да поорать от душевной полноты и любви к своему государю, коли она есть — та любовь. Так что славу пели хоть нестройно, но громко, не жалея глоток и сил.
От медуш и бретьяниц[79] катили новые бочки, от поварен взамен опустелым тащили дымные, парные котлы с разваристым мясом и кашами.
А там грянули накрачеи в бубны, на разные лады задудели в рожки да свирельки трубники, заиграли девки песни, завел игру высокий и чистый, будто белая голубица на синем небе, бабий голос:
Окол города, окол города Ходит княжев сын, ходит княжев сын… Кичи, гуси, домой, Кичи, лебеди, домой, Со ржавенки, Со болотники, Со свежие воды, Со Тверды со реки, Этот наш, этот наш, Этот наш гусенок. Гусь серенькой, Гусь беленькой…Грустно, надрывно летят голоса молодух. Но здесь вперебив наступают на девок парни:
Наваримте, братцы, пива На целую нидилю, Лели, лели, лели, лели, лели…«Лели, лели, лели…» — хотел бы петь и князь пустые, привязчивые слова, но он лишь едва заметно улыбается, пощипывает губами мягкий темно-ржаной ус, да вдруг ненароком накроет своей рукой послушную руку Анны. Анна на него и не взглянет, а, напротив, смущенно опустит глаза и зардеется скулами, как румянцем спелое яблоко. Кожа у нее на запястье суха, шелковиста, а ладонь потайна, горяча, когда в ответ на его тихую ласку внезапно Анна ловит его пальцы в сомкнутый кулачок.
Тесаное дерево, из которого срублен наново Князев дворец, все еще хранит в себе крепкий смоляной дух, хоть искусные древоделы и морили его, и сушили, и выдерживали, как положено. Да ради одного того духа и срубил себе князь взамен сгоревшего опять деревянный дворец, а не каменный, как советовали ему бояре. Что проку в камне — только что не горит. Однако не станет на то Его воли, и в камне не упасешься… Много есть Божьих чудес на свете: бывает, что и на одной улице во время пожара каменная церковь дотла выгорает, а деревянная жива остается. На людской век и дерева хватит, и деревянным смолистым духом дышать и не надышаться. И каждая плаха, попробуй тронь, поет по-своему.
«Эх, лели, лели, лели…»
Всякий в жизни бывает счастлив. Только не всякому Господь дает счастье свое сейчас узнать, как раз в тот миг, когда оно и приходит. Иной проморгнет его, иной не заметит, а как спохватится — уж нет его, будто и вовсе не было. Чаще-то человек счастья не видит, но вспоминает о нем спустя годы, в лихую минуту или уж вовсе на смертном одре. Оказывается, вот оно — было! Чего же я маялся по свету, иного искал? А то и вспомнить не может, будто стороной прошел мимо жизни. Но каждому дана Его милость. Только чтобы понять ее, надобно не пропустить один лишь короткий миг, который потом и называем мы счастьем.
Ныне Михаил Ярославич был счастлив. Не испитые меды туманили глаза Михаила, но сладкая горечь пронзительного понимания своего счастливого мига…
Даже пожар тот вспоминался сегодня не бедой, не тем, что унес жизни привычных, милых людей и бессчетное тверское богатство: золото, серебро, каменья, иконы, писаные книги, меха, — одним словом, то, что определяет величие князя и благоденствие его подданных, но тем, что вопреки всему и он, и Аннушка, и первенец их Дмитрий, которого жена носила еще в утробе, единой Божией волей и милостью остались спасены для нужной жизни. Да разве это не счастье?..
А то, что сам впервые посадил на коня сына Дмитрия и увидел в его блескучих глазенках сначала потаенный ужас, а затем такое победное ликование, какого и сам, поди, никогда не испытывал, разве это не счастье?
А то, что второй сын Александр вот уж достиг возраста первого пострига, разве это не счастье?
А то, что сегодня вверил в Божии руки судьбу и третьего своего сына Василия, разве это не счастье?
А то, что Аннушка по-прежнему ему люба, здорова и каждыми родами будто еще расцветает заново, разве это не счастье?
А то, что матушка жива и здорова и ныне по своей воле обрела наконец долгожданный покой и утешение в молитве во Владимире, за монастырскими стенами, разве это не счастье?
А то, что за пиршественным столом он преломляет хлеба и пьет вино из одной братины с лучшими из лучших тверских мужей, которым во всем он может довериться, разве это не счастье?
А знать, что те многие люди, кои сейчас на твоем дворе шумны и пьяны, назавтра, коли будет то надо, по первому слову пойдут за тобой хоть на смерть, разве это не счастье?
А то, что дожди мокры, а солнце сухо и горячо и трава в заливных лугах такая, что не промнешь, и то не великое счастье?
«Господи, благословенно имя Твое, благословенно и то, что счастья и горестей Ты отсыпаешь каждому полною мерою, сколько по силам ему принять…»
Жизнь князя, будто река, вошла в русло, определив берега. Один берег низовой, где Тверь, Анна, матушка, сыновья; другой — крутоярый, на котором вся Русь. Низовой берег как оберег, что хранит от беды; плесы его с вечно горячим песком желты и золотисты от солнца, лужайки мягки и зелены от травы, приманчивы и укромны опушки и рощи, вода возле него и та синей и прозрачней. Крутоярый берег угрюм, неприступен, обрывист и ветропродувен, издали кажущиеся безобидными кустья вблизи непролазны и колючи, как тернии, вечная на нем тень и тьма, в коей люди теряют друг друга, и даже вода у крутоярого берега черна от омутов и пенна от бездонных круговоронок… Как ни приветлив один и ни мрачен другой, однако и реке всей водой к одному берегу не прибиться. Михаилу Ярославичу уже не уйти из них, куда бы ни привели они бегучую воду его жизни.
Скоро уж год, как свершилось тайное его упование. Умер Даниил Александрович, открыв ему путь к большому великокняжескому столу.
Теперь до обретения законной и полноправной власти над Русью ждать оставалось недолго: великий князь Андрей Александрович плох был на Городце, как сказывали о том.
…А пир тем временем своим чередом и плавно катился к концу. На дворе еще топотали самые старательные и усердные в празднике, однако запевки слышались уж издали и сразу со всех улиц, которые разбегались от княжьего терема на все стороны. Долгий, счастливый день, обежав солнцем круг, завершался, и на душе князя было покойно и радостно, как редко бывает у тех, кто мудр и под ношей.
— Спаси Бог вас, бояре, что не погнушались хлебом моим, что со мной да с княгиней разделили, как свою, нашу радость, — поднявшись, поблагодарил князь бояр и неожиданно для самого себя добавил: — Братья! Знаю, за меня жизни не пощадите.
— Так! — закричали в ответ.
— Но и вы знайте, что и я не токмо ради себя живу, жены своей и детей, а и для вас.
— Так! — согласились бояре.
— Знайте, как вы жизни для меня не жалеете, так и я не пожалею ее за вас и за Тверь!
— Знамо! Ведаем! — ответили ему.
А боярин Шубин, выступив вперед, бойко поправил князя:
— Поди уж, за Русь, Михаил Ярославич!
Михаил Ярославич недовольно дернул плечом:
— Живых прежде времени не хоронят. — Но увидев, как искренно смутился Шубин, не сдержался и улыбнулся: — Али нам за Русь жизни жалко?!
Проводив бояр, отпустив княгиню, заспешившую к сыновьям, Михаил Ярославич вместе с Ефремом Тверитином и Помогай Андреичем спустился во двор. Некоторые из оставшихся заядлых опивников все еще толклись во дворе, не в силах поверить, что дарованный праздник кончился. Но столы были уже пусты, да и их разносили. При виде князя мужики закланялись в пояс, нестройно, но истово попытались вновь его славить, однако Тверитин их усовестил и велел идти по домам. Воодушевленные, они покинули княжий двор.
Сам не ведая для чего, видно уж, чтобы завершить этот день особенно, Михаил Ярославич направился к голубятне.
Новая голубятня, поставленная для сыновней забавы, была выше и краше прежней. Будто золотистой свечечкой тянулась она в небеса и горела под солнцем чешуйчатой, выкрашенной в разноцветье, нарядной кровелькой. По лесенке с резными балясинами, с узкими, ухватистыми перильцами, со ступенями, рассчитанными под детский шаг, князь поднялся в верхнюю клеть, покоившуюся на высоких резных сосновых столбцах. За ним, кряхтя, полез и Помога. Двинулся было к лесенке и Ефрем, но князь уже сверху остановил Тверитина:
— Внизу останься. С земли гнать будешь. Умеешь ли? — засомневался Михаил Ярославич.
— Как не уметь, — обиженно ответил Ефрем.
Как и на всякой голубятне, на княжеской было пыльно от той мельчайшей, будто толченой, пыльцы, какую, перелетая с места на место, то и дело гоняют птицы. Пыль та клубилась переливчатыми, радужными искринками в розовых косых лучах уже закатного солнца, проникавших через единственное окно. От той пыльцы засвербило в носу. Однако чихнуть все не удавалось, и князь, подобрав с полу сброшенное перышко из подкрылка, пощекотал им в носу. Чох потряс и саму голубятню, и голубей, забивших крыльями, — как глухари, схваченные на лове петлей.
— На здоровье, Михаил Ярославич! — откликнулся снизу Тверитин.
Нагретая за день кровля дышала жаром. Горько пахло иной, не человеческой жизнью, в которой были и свой порядок, и свой уют, и своя чистота. Несмотря на жару, дышалось на голубятне вольно. А когда Помога распахнул оконце и растворил дверцу на выгул, и вовсе будто проняло сквозняком, хотя на дворе стояла ласковая жарынь.
Потревоженные голуби, наладившиеся было на сон, недовольно, обеспокоенно запорхали по всей голубятне, задевая крылами людей.
Оглядев птиц, Михаил Ярославич выбрал белую голубицу, поймал ее и привычно, пропустив тонкие сиреневые лапки с ласково-колючими коготками меж мизинным и безымянным пальцами, сжал ее в ладони. Тельце ее было жарко и трепетно, сердце колотилось бойко и скоро, попадая ударами прямо в ладошку. Голубица недоверчиво поворачивала, отстраняла головку набок, будто разглядывая и оценивая того, кто ее словил. По руке-то хозяина она не признала.
И то: уж и не вспомнить, сколь лет не поднимался Михаил Ярославич на голубятню. А на новой-то и вовсе ни разу не был.
Голубка затихла в руке и даже уютно, по-свойски приклонилась головкой на край ладони. Зато на полу, у самых ног князя, заходил, выписывая круги и ярясь, тоже белый разлапистый голубь, будто звал человека с собою сразиться. Кружа, он распускал то одно крыло, то другое, закидывал голову и грозно раздувал мягкую шейку.
— Ишь ты, ишь ты, рьяный какой голубок! — засмеялся Помога и поймал его широкой ладонью. Голубь не смирился, но, крепко сжатый, не имея возможности как следует клюнуть, люто щипал клювом руку Помоги, — Ишь ты… — не переставал дивиться ему Помога.
Иные голуби: сизые, белые, крапчатые, разномастные, коротколапые, мохноногие, голенастые, сорокистые — с длинными клювами и острыми крыльями, с хохолками и без, уже не обращали на людей никакого внимания, о чем-то своем, вечернем перекликались серебряными горлами, в которых словно катались зернышки: грл-угл, грл-угл, грл…
— Хорошо, — тихо сказал Михаил Ярославич.
— А то… — тихо откликнулся Помога Андреич.
Опустившись на низенькие скамейки, еще посидели средь голубей, неспешно говоря о житейском.
Помога Андреич за эти годы успел еще оплешиветь, так что волос у него осталось лишь на то, чтобы выглядывать им из-под шапки, успел еще раздаться телом и еще подобреть лицом — морщины и те не прямо, а волнисто резали его лоб, успел и высветлиться когда-то синими, будто у девки, глазами… Да много чего успел за эти годы Помога Андреич. Не раз водил он тверские полки на литвинов и многие в том успехи имел; вместе с новгородцами и великим князем Андреем три года тому назад ходил к устью Охты воевать у шведов неприступную крепость Ландскрону… Между походами успел овдоветь и успел же в другой раз жениться. Одно было скверно: и с первой, и со второй женой оставался Помога бездетен. Отчего-то Господь не давал ему милости быть отцом. Хотя, наверное, во всей Твери более чадолюбивого мужа и не сыскать.
Князь часто видел, как в послеобедешний час, когда жизнь на княжьем дворе, да и на Твери, до того замирает, что и собаки не брешут, дабы не тревожить хозяйский сон, Помога не уходит к себе, а соберет ватажку дворских боярчат да княжат и забавится с ними. То за конюшней бьется с ними в потешном сражении, то иначе как уму-разуму учит, всему, чему сам научился. Он хоть среди равных молчальник, но многое знает. А уж сколько умеет, тому не враз и обучишься. Вот и наставляет он отроков с оружием и конем обходиться, тенета плесть, силки ставить, ямы под зверя копать, засеки на чужие дружины валить, как волком выть, как вороной кричать, всему, что ненароком может сгодиться… Коли видят, что воевода свободен, отроки от него на шаг не отходят. А уж мелюзга, та и вовсе хвостом за ним вьется, будто он сахарными орехами приманивает. Коли бы сподобил Бог отцом ему стать, каких бы сыновей он княжеству дал!
Аннушка-то и та печалуется о нем, сама для него и невесту высматривала, пока он к шведам ходил. Дочку Федора Полового ему сосватала — не девка, а молоко! Но и ее чрево пусто.
— Так что, Андреич, я эту пару с собой вниз забираю, а ты остальных засылай.
— Не поздно ли, Михаил Ярославич? — засомневался Помога. — Солнце на закат, голубка на сон. Вот уж глазки затягивают.
— Ничего, засветло облетаются.
Держа в каждой руке по голубю, чертыхаясь и путаясь в длинной ферязи, Михаил Ярославич спустился по лесенке наземь.
Тверитин, прислонившись спиной к опорному столбцу, будто дремал.
— Али умаялся, Ефрем, пировать?
Ефрем, смущенный упреком князя, быстро поднялся, отряхнул порты, но ответил задиристо:
— А по чести сознаться, Михаил Ярославич, умаялся. Ить как получается: чем больше пируешь, тем больше спать хочется. Да и на пиру как во сне. Как бы нам не проспать чего, Михаил Ярославич…
Князь пристально, но коротко взглянул на окольного.
— Али воевать захотелось? — спросил он, усмехнувшись.
— А что ж не воевать, коли война не в убыток, — хитро прищурившись, ответил Ефрем и серьезно, со вздохом добавил: — Акинф-то много чего болтает, однако и правду, бывает, сказывает. Москва-то готовится Юрия прокричать…
— Знаю… — недовольно поморщился князь и отмахнулся от Тверитина. — Завтра о делах говорить начнем.
На выгульный намост, смешно кивая головками и семеня лапками, выпархивали потревоженные Помогой голуби. На помосте они теснились, жались к краю, толкали друг друга, однако взлетать не хотели.
Обрадованные еще одной забавой, которыми и без того полон был день, к голубятне спешили дворские, гридни, отроки, малые ребятишки и даже сенные девушки. Даже княгиня, ненароком выглянув из светелки, так и припала к оконнице, подперев кулачком скулу.
Ефрем замахал шестом с привязанной к нему яркой тряпицей, засвистал, но голуби ленились летать, хитрили, вспархивали накоротко и вновь умащивались на выгульную площадку.
— Эх ты, вояка!.. — засмеялся Михаил Ярославич над Ефремом и из-под низу, как в землю бросают пахари семя, бросил в небо белую голубицу.
Голубица взвилась и, забирая все выше, белым пламенем полетела прямо на закатное солнце, которое из последних сил палило во все лучи. Смотреть, как летит голубица, глазам было больно. Люди одинаково задрали вверх головы, подняли козырями ко лбам ладони. А голубица, растерявшись ли в небе от одиночества, по какой ли иной причине, улетала от голубятни все дальше. Что ее вдруг повлекло?
— Ну! — вскрикнул Михаил Ярославич.
Тверитин так оглушительно свистнул, что вся стая одним махом ударила крыльями и сорвалась с голубятни.
Однако, покуда голуби, набирая круги, поднялись над землей, белая голубица умахала так далеко, что ее почти не было видно.
— Ах, уйдет, уйдет, Михаил Ярославич! — сверху запричитал-заплакал Помога Андреич.
—. Не уйдет!
Тем же движением князь бросил вслед голубице и стае ярого голубя.
Голубь почти без единого круга взмыл в вышину, будто сокол, и стая, мгновенно признав в нем вожака, повернула было к нему. Однако стаи он дожидаться не стал, а устремился за голубицей. Как и догадался-то, куда она полетела?
Стая же, не догнав его, качнулась назад, низким облаком пролетела над голубятней и вновь взвилась вверх.
— Эх, к ночи-то оне ошалелые… — горестно вздохнул Помога Андреич.
— Эх, Помога Андреич, к ночи-то мы все ошалелые, — эхом передразнил его Ефрем, и княгинины сенные девушки, что тоже были у голубятни, весело прыснули в кулачки.
— Ну!.. — прошептал князь самому себе, неотрывно глядя на небо. Словно от того, достигнет голубь голубки, вернет ее или нет, зависела его жизнь.
А уже и от других дворов несся свист. Завидя княжью стаю да отбившихся от нее голубку и одинокого голубя, прорезавших вдруг вечернее небо, всяк, кто держал голубей (а кто же их не держал?), поспешил поднять в небо и свои летные выводки. Каждому лестно чужого голубя на своем дворе заземлить. А коли еще голубь тот княжий? Почет и слава тому голубятнику…
То над одним двором, то над другим рассыпались небесными охапками сизые, белые, палевые цветы птиц. И скоро все небо над Тверью закружилось единым летящим венцом.
Княжья стая без вожака летала вяло, просто висела в небе на одной глубине, подставляя солнцу то левый, то правый бок. Но князь глядел не на стаю, а вдаль, туда, где скрылись голубка и голубь.
— Летят! Летят! — раздался крик какого-то востроглазого отрока. И хотя в небе было не менее двух сотен птиц, все поняли, о ком кричит отрок.
— Ишь ты! Ведет, помогай ему Бог! — ликующе простонал Помога.
— Ведет… — удивился Тверитин.
«Ведет, ведет, ведет…» — одно слово затвердили вокруг.
Из сине-розовой солнечной дали стремительно приближались птицы. И правда, голубь именно вел голубицу. Будто виноватясь, она поспешала за ним, быстро порхая крыльями. Шли они так высоко, что чужие стаи не могли их приманить за собой. И только родная стая, завидя их, поднялась им навстречу. Теперь, чувствуя волю и силу вожака, стая уже не металась заполошно и бестолково по небу, как то было вначале, но уверенно нарезала круги, поднимаясь все выше, царя над всеми и милостиво давая всем любоваться собой.
«Вот оно что… Вот оно что…» — шевеля губами, однако неслышно шептал князь и глядел на небо, будто молился. Не стаю, не ярого голубя впереди нее видел он, но осуществленную власть.
А голубь вдруг завис, словно остановился в полете. Распушил хвостовое перо и упал на него, кувыркнувшись назад головой. И один раз, и другой, и третий… Восьмериком катился он от неба к земле, как по лестнице.
Глядеть на то падение было одновременно и страшно и радостно.
— Ишь что творит, кувыркунистый!
— Убьется!
— Куды! Чай, он голубь…
В дитячьем восторге открыв рот, Помога Андреич, считая кувырки, загибал пальцы уже на второй руке. И их не хватило.
А голубь просто купался в небе. Падал и не считал ступеней.
Чуть не у самой земли кувыркнувшись последний раз, вожак взмыл ввысь, легко нагнал стаю, ярыми кругами заставил взлететь ее еще выше и, вновь вдруг зависнув точкой на месте, распушив перо, покатился по небесной невидимой лестнице вниз.
Так он падал и поднимался…
А сколь человеку ступеней до неба?
Одна.
— Батюшка, слышишь ты меня, батюшка?..
Михаил Ярославич не враз отвлекся от мыслей. Перед ним стоял старший сын Дмитрий. Оказывается, он все это время был рядом, у голубятни, а князь, глядя на небо да вожака и думая про свое, его не приметил.
Шапку Дмитрий держал в руках. Изо всех сил он тянулся ввысь, пытаясь достичь глаз отца. И для того свою светлую головку, стриженную «венцом», ему пришлось запрокинуть аж на спину, отчего кожа на тонкой шее натянулась и будто бы попрозрачнела.
— А, Дмитрий… Чего тебе?
— Батюшка, батюшка, — с жаром проговорил сын, — вели голубку казнить…
Огромные материны глаза, доставшиеся первенцу, горели на его лице с той яростью, с какой, бывало, горели и у самого Михаила. Дмитрий, в отличие от двух других сыновей, был норовист. Казалось, с первого крика он уже знал, что явился в мир не просить, а владеть. И, может быть, оттого, что еще в утробе матери, вместе с ней, пережил страх и обиду, он будто заранее был готов защищать себя до конца. Это в нем и нравилось Михаилу Ярославичу, но это его иногда и пугало — государь должен быть строг настолько, насколько он может быть милостив…
— Вели, батюшка!
— Пошто? — Михаил Ярославич опешил. Он и в толк не мог взять, о чем говорит ему сын.
— Она, она — переметчица.
— Да отчего же?
— Она на Москву хотела лететь!.. — Дмитрий глядел прямо, чувствуя свою правоту.
— Н-да… — Сказать было нечего.
Выручил Помога Андреич:
— Да куда ж на Москву-то, княжич? Москва-то, чай, вона где! — махнул он рукой на восток. — А голубка-то, Дмитрий Михалыч, во-о-она куда пошла, — указал он туда, где только что опустилось солнце.
— Нет, на Москву! — упрямо мотнув головой, повторил княжич. И вновь обратился к отцу: — Вели ее казнить, батюшка.
— Так, значит, полагаешь… — раздумчиво произнес Михаил Ярославич.
Дмитрий кивнул.
— Ну что ж, так — значит, так… — Михаил Ярославич усмехнулся и повернулся к Помоге: — Давай ее сюда, Помога Андреич, переметчицу.
Помога Андреич удивленно взглянул на князя, однако послушался и полез на голубятню.
— А ты колоду от дровяника принеси, — сказал князь Тверитину.
Народу у голубятни, считай уж, никого не осталось. Девушек позвали к княгине, дворские, отроки, челядь, лишь заземлилась стая, ушли всяк по своей охоте, да и пора было готовиться к вечерней молитве и сну. А тех немногих, что еще оставались, князь сам отослал подалее, как только отправил Помогу за голубкой, а Ефрема за дровяной колодой. Нечего глядеть на лишнее. Теперь в быстро падавших сумерках на дворе они остались одни — сын и отец. Слов не произносили.
Дмитрий — мальчик пяти лет, большеглазый, с льняными светлыми волосами, с плавными, материнскими чертами лица — видно, от внутреннего волнения, носком дырчатого новгородского сапожка сбивал перед собой землю, как конь. Только конь бьет копытом назад, а Дмитрий пырял носком наперед, не замечая, что комки земли попадают в отца. Михаил Ярославич на то внимания не обращал.
Наконец появился сначала Тверитин с изрядной колодой в руках, а за ним и Помога — с голубкой.
— Во тьме-то поди отыщи ее — переметчицу, — ворчал он недовольно.
Ефрем поставил колоду перед княжичем и, усмехаясь, отошел в сторону.
— Не прошла у тебя обида-то на голубку? — спросил князь.
— Не прошла, батюшка, — тихо, но угрюмо ответил княжич.
— Значит, сильна обида?
— Сильна, батюшка.
— И веришь, что виновна она?
— Так, батюшка.
— Ну что ж… — Михаил Ярославич достал из ножен, висевших у пояса, не меч, но достаточно тяжелый и долгий нож и протянул его Дмитрию. — Казни, коли так!
— Я?! — Мальчик отшатнулся от протянутого ножа.
— Казни! — повторил отец.
Дмитрий поднял вверх глаза, мгновенно налившиеся слезами. Однако он пересилил слезы, взял из отцовых рук нож.
Сомнительно качая головой, Помога Андреич вложил ему в руку голубку.
— А как? — потерянно спросил Дмитрий.
— А как курям секут головы. Али ты не видал?
Мальчик вздохнул, опустился перед колодой на колени, положил на нее голубку.
— Пальцы гляди не порань, — предупредил Тверитин и отвернулся.
Михаил Ярославич тоже, казалось, не смотрел на сына, взглядывал то по сторонам, то на небо, что стремительно наливалось чернотой перед ночью.
Дмитрий, склонившись над колодой, не в силах был поднять нож, чувствуя вспотевшей, мокрой ладошкой, как доверчиво бьется голубкино сердце.
— Не могу, батюшка! — обернул он к отцу вспыхнувшие от слез глаза.
— Отпусти ее, так… — выдохнул Михаил Ярославич.
Дмитрий разжал ладонь. Голубка слепо вспорхнула, наугад опустилась на голубятню, не видя, недоуменно глянула вниз, где стояли чудные люди, и начала охорашиваться, поправляя перья, смятые неловкой детской рукой.
А Дмитрий, бросив нож, с ревом кинулся в ноги к отцу.
Помога украдкой перекрестился за княжича.
— Ну, что ж ты плачешь-то, Дмитрий?.. — утешал Михаил Ярославич сына. — Милость-то — она радостна. А впредь будешь знать, каково казнить. Попомни — не по обиде казнят. Убить можно, только когда не убить нельзя, когда уж совсем сердце не терпит. По ненависти-то трудно жить, понял?.. А голубка — что ж, Божья птица, разве она переметчица? Голуби-то, они, сын, не предают, только люди… Ты понял? — Князь говорил тихо, мягко. Одной рукой сжимал хрупкое плечико, другой оглаживал льняные волосы сына. — А нож не бросай. Никогда не бросай, хорошо? Подними-ка…
Княжич, хлюпая носом, но пряча от окольных мокрое лицо, послушно поднял нож, обтер жало о порты и вернул отцу.
— Так когда казнить следует? — спросил Михаил Ярославич.
— Когда сердце не терпит, — остатне всхлипнув, проговорил сын.
— Ну, и по вине разумей. Ступай…
Когда Дмитрий исчез в ближних сумерках, удивленно качая головой, Помога Андреич заметил:
— А ить мог бы он голубку-то порешить.
— Мог бы, — согласился Михаил Ярославич. — Да Бог его уберег… — помолчав, добавил он и перекрестил вослед сына.
Будто любопытствуя, одна за одной на небо скоро взбегали звезды.
Свечи в головах потускнели от полной луны, залившей двор таким ярким светом, что хоть дрова коли.
Бывают такие ночи и у людей, когда им сколько ни дай любви, а все мало, будто ласками впрок напасаются. Но разве любовью впрок напасешься?..
— Боюсь я…
— Чего?
— Не знаю. Только уж больно все ныне ладится.
— Так и должно.
— А помнишь, старцы про звезду тебе толковали?
— Так что?
Поди, уж года четыре тому назад явлена была над землею в дымных космах невиданного огня летучая звезда. Звезда та была обколиста, мутноглаза, горела неверно и предвещала худое. Говорили, что такую звезду видели и перед тем, как грянула на Русь Батыева татарва.
Тогда посетили князя старцы из Желтикова монастыря. Пророчили земле беды, а князю смерть… Прогнал тех старцев Михаил Ярославич, ибо своей жизни никто не ведает, и им про то знать не дано.
— Может, оно-то и есть?
— Да что?
Михаил слышал, как бьется женино сердце. Всем телом она прильнула к нему, а ее густые, длинные волосы тяжелой и мягкой волной накрыли его глаза.
— Да то, что Юрий-то на Москве силы копит.
Но Михаил вдыхал травяной, хмельной запах ее волос и сильного тела, и ничто не могло растревожить ныне его.
— Далась вам эта Москва…
— Али они не знают, что в Писании сказано: худо той земле, где князь отрок и не по роду… Чего им надоть-то?
— Надоть… — откликнулся тихо князь, ведя рукой вдоль спины к зрелым, широким жениным бедрам, которых всегда он касался с трепетом, будто наново, так они поражали его обильем и тайной ласковой теплотой.
— Ай! — сказала княгиня и засмеялась, щекоча ему грудь жарким дыханием. — Поди, стомился уж, князь, боле-то разве надоть?
— Надоть! — сказал он, вдохнув свежий и горький запах ее подмышек.
Приподнявшись, Михаил положил Анну на спину и миг любовался, как, тяжело, налито колыхнувшись, уставились в потолок наметанными стогами женины груди.
— Чтой-то Дмитрий-то нынче плакал?.. — успела еще вспомнить княгиня, однако тут же и позабыла, о чем она вспомнила…
Сколь долог был радостный день, столь коротка счастливая ночь.
Князя подняли до рассвета. Из Городца спешно прибежали бояре с вестью, которую уже ждали: освободив Русь от тягостного правления, умер великий князь Андрей Александрович.
7
Андреева смерть всколыхнула Русь до мятежей и бессудных убийств. По городам били Андреевых наместников, неугодных бояр и, как уж водится, всяких прочих, кто когда-то кому-то успел досадить, а теперь вдруг попал под горячую руку. Из Костромы, Нижнего, Звенигорода, Городца и других земель бежали в Тверь искать защиты и милости у нового великого князя те, кто успел убежать. Прежде всего следовало остановить резню и навести порядок, но тут еще к общей смуте московский князь Юрий Даниилович объявил всенародно, что идет в Орду искать великого княжения в обход дяди, Михаила Ярославича Тверского.
Вроде бы и не страшен вор, что криком обнаруживает свое воровство, однако странно было Михаилу Ярославичу именно то, что племянник вопил о своем воровстве на весь свет.
Как ни безмолвна и ни унижена Русь, но в самом деле, нельзя же не считаться хоть с тем единодушием, какое проявили ее земли и города (исключая Москву), признав очевидное главенство и старшинство тверского князя, в чем Михаил Ярославич имел бесчисленные уверения. Вольный Великий Новгород и тот изъявлял покорность Михаиловой власти…
Разумеется, для вступления на престол великого княжения одного согласия и признания Руси было мало, утвердить князя на большом владимирском столе мог лишь ярлык с алой ханской тамгою. Михаил Ярославич прекрасно то понимал и потому торопился в Орду. Но, видать, про то же думал и Юрий, раз так, не стыдясь позора, открыто и явно кричал о собственном бесчестье и воровстве. Знать, были у него к тому расчеты и тайные основания. Без причины-то и прыщ на носу не полезет… Для того чтобы возжелать стать великим князем, мало одной гордыни. Сила нужна. А силу на Михаила Ярославича Юрий мог отыскать лишь у хана. А почему бы и нет? Разве хан Тохта обещал пособлять Михаилу? Слово ему какое давал? Да и что слово хана?
А главное здесь и вовсе в другом: коли русские обычаи не в чести у самих русских князей, какого уважения к ним можно ждать от татар? Хорошо еще, если Юрий, крича о своих притязаниях, только надеялся на бесправие, какое, очень даже возможно, выгодно ныне хану, хуже, если и кричал-то он по указке Тохты…
Кроме того, Михаил Ярославич понял уже волчий норов московского князя, который к тому времени вполне проявился.
По смерти отца Даниила Александровича — еще и сорокоуст не успели отпеть — Юрий уж прихватил у Смоленска Можайск, взяв в полон Федорова племянника, можайского князя Святослава Глебовича. Год минул с тех пор, как Святослав оказался в Москве живым залогом у Юрия в знак московской воли над бывшей смоленской вотчиной. Что уж говорить о Константине Романовиче, по сю пору томившемся в неволе? В нарушение отцовского слова братья Даниловичи так и не отпустили его из Москвы. Или им мало одной Коломны и они удумали теперь всю Рязань под Москву забрать? Одним словом, по всему выходило, что в отношениях с Юрием нельзя брать в расчет понятия о совести и законе…
Все эти сомнения свои и догадки Михаил Ярославич изложил перед матушкой Ксенией Юрьевной и преподобным святейшим отцом Максимом, митрополитом Киевским и всея Руси.
Какого утешения он ждал от них, Михаил Ярославич и сам не знал. Но у кого же и просить совета и помощи, как не у матери и наместника Божиего на земле? Затем князь и зашел по пути в Орду, сделав крюк, во Владимир. Кроме того, недостойно и вере противно было бы искать ханского ярлыка без благословения митрополита.
Так уж вышло по Божией милости, что, съехав накануне той ночи, когда сгорел княжий терем, на моления к иконе Владимирской Божией Матери, больше уж в Тверь Ксения Юрьевна не вернулась. Приняв схиму, чего уж давно желала ее душа, под новым именем Марии, данным ей в постриге, ныне обреталась она в Успенском монастыре.
Конечно, ничто не мешало ей так же благочестиво нести в душе веру и в Твери, как несла она ее во Владимире, однако со смертью епископа Симона Ксения Юрьевна будто осиротела духовно. Сменивший Симона новый епископ, бывший отрочский игумен Андрей, и в усердии ради Бога оставался надменен и горд. Ни в беседах с ним, ни в совместных молитвах княгиня не могла найти того высокого утешения и светлой надежды, какими дарил ее Симон. Ведь Андрей был крещенным в православную веру литвином, сыном их князя Герденя, который когда-то попал в полон к псковскому Довмонту. Может быть, разумом он и склонился к Богу, однако душой, как видела это Ксения Юрьевна, оставался тщеславным литвином. Несмотря на видимое старание, которое проявлял тот перед старой княгиней, отчего-то Ксения Юрьевна не могла довериться ему полностью, как надлежит доверяться духовнику…
Опять же, и сын к тому времени возмужал умом и сердцем настолько, что давно уже не нуждался в ее поучениях, а она, как и всякая мать, не могла от них воздержаться. И хоть Михаил не показывал виду, но Ксения Юрьевна замечала, что иногда она уже раздражает сына своими советами. Тем паче что и выслушивая ее, поступал-то он все равно по-своему. Причем чаще прав оказывался сын, а не мать. Но норов есть норов, и ей, бывало, тяжело приходилось смиряться с новым своим положением. Кроме того, как ни любила она невестку, случалось ей переживать и оттого, что ночная кукушка куковала звончее. А как иначе, по-другому ведь не бывает… Так ли, не так ли, но теперь, служа Богу и издали думая о Твери, мать Мария, во всяком случае до сего дня, была покойна и счастлива.
Сухо щелкая, падали четки; привыкнув к звуку, мать Мария не замечала его; будто в прошлые времена, когда все решала одна, напряженно она думала о том, как помочь сыну, пришедшему к ней за советом и помощью, и не знала, чем может ему помочь.
Перед ней стоял не сын, но князь всей земли, обреченный властью на волю, недоступную ее пониманию…
Грек Максим посвящен был в митрополиты Киевские и всея Руси константинопольским старцем Иосифом по смерти великого миротворца промеж князьями, нравоучительного Кирилла, сведшего воедино церковные правила, в коих постарался избавиться от омрачавшего их облака еллинской мудрости. Давно то было.
С не меньшим душевным рвением, чем делал то до него Кирилл, Максим взялся за исполнение своих обязанностей, славя Господа и Законы Его, объездил бескрайние веси и города, однако скоро не то чтобы отчаялся, а как-то сердечно утомился от видимой бесплодности и тщеты усилий. И далее с присущим его народу спокойствием глядел на Русь и ее людей будто со стороны.
Да и в чем он мог успеть ее изменить, когда уж ни сил на то не оставалось, ни времени. Более чем за двадцать лет своего духовного пастырства на Руси многое увидел Максим, но не многое понял.
В тот год Максиму уже перешло за семьдесят. Был он стар, будто сухое дерево, но не дряхл, а силен и подвижен, красен умным лицом и чист той стариковской чистотой, что дается не одним умыванием, а жизнью, прожитой строго и бережно.
Волосы его были белы и ухоженны, а глаза оставались полны, будто зрелые темные сливы, и, как у сливы же бок, были подернуты легкою поволокой.
Слушая Михаила, он благодушно, согласно кивал, впрочем глядя не на него, а в окно, выходившее на епископский двор.
Вот уж пять лет, как Максим, покинув Печерскую лавру, вместе со всем клиросом перебрался из Киева, усилиями татар представлявшего собой почти необитаемое пепелище, во Владимир, к вечно праздничной лепоте которого он все не мог привыкнуть.
Острыми, молодыми глазами глядя в синюю даль клязьминской поймы, митрополит думал о милости и наказании, какими наделил Господь эту землю и этих людей. Коли подвластно им возводить такие города, как Владимир и Киев, с их соборами, перед величием которых нельзя не благоговеть, отчего неподвластны эти люди самим себе и Законам?
Сколько же вложил в них Господь всякого и всего, чтобы и разрушая не уставали они строить?
Сколько же нужно нести в душе разного, чтобы, в прах разоряя землю, попусту убивая себе подобных, все-таки оставаться усердными пахарями, искусными делателями, но, главное, вопреки всему, оставаться человеками, подверженными добру и склонными к милосердию?
Сколь велико должно быть к этой русинской стране Божие благоволение, ежели Он наделил ее жителей такой безмерной душой. И как же, несмотря на всю их греховность, велика к ним Господня милость. А милость та — несомненна. Иначе можно ли объяснить, что и татары, на зверства которых митрополит нагляделся в Киеве, так и не преломили их духа…
«Вот и тверской князь замыслил высокое: вернуть Русь на древний единый путь, с которого сошла она еще со времен Мономаха. Крепкое вервие и то изо многой пеньки плетется. Однако Русь держать — не веревку плесть, кабы из той веревки удавки не вышло… — Ведавший в людях старый грек будто по писаному читал в душе Михаила, и было ему и радостно и страшно за князя. — По плечу ли взять захотел?.. Не то беда, что на высокое сил недостанет — в высоком-то Бог помощник, но то, что и высокое на земле, бывает, достигается через низкое, а на низость Божьей помощи нет. Здесь нужен особый, один лишь людской талант, есть ли такой у князя? Вон московский-то Юрий, не спросил у него на то благословения и совестью, поди, не страдал, когда на дядю поднялся! Что же в этих людях за страсть себя и землю терзать? Отчего здесь каждый мнит себя не только выше людских законов, но и Божии готов попрать, считая лишь одного себя истинным христианином.
Коли князья не помнят, что они перед Всевышним за землю ответчики, так что уж с иных-прочих спрашивать? Прочие-то хоть и грешны, да мало виновны. Глаз видящий, ухо слышащее дал им Господь, разум дал, чтобы отличать худое от доброго, но незрячи, глухи и переменчивы люди к истине! Причем по отдельности всякий рад ей откликнуться, всяк лелеет ее в душе, а все вместе словно бесу подвержены — враз готовы ее предать ради лживого обольщения… — И в том с сердечным прискорбием не единожды убеждался святейший митрополит Максим. Чем более он жил на Руси, тем менее понимал, отчего происходит так. — Индо им все равно, кто их будет пасти, лишь бы кто-то да пас, даже и мерзкий вор?..»
Будто забыв о князе, старец неотрывно глядел на город, не в силах оставить взглядом зеленых улиц, сбегавших от кряжистых, приземистых Золотых ворот на одну сторону к Лыбеди, на другую ко Клязьме, бессчетных деревянных церквей и белокаменных храмов, и дальних стен Рождественского монастыря, крепость которых, поди, сродни крепости духа этого русского князя, кротко стоявшего перед ним.
«Что я могу ему дать? Какую истину могу открыть, какой бы он сам не ведал?..»
Михаил Ярославич тоже глядел в окно, думая о своем. Отчего-то сейчас, в преддверии сокровенного мига благословения, прежние радостные мечты о силе и величии Руси, какими он жил долгие годы, заслонились вдруг злыми, неотвязными мыслями о насущном. И оттого нехорошо, муторно было на сердце.
Не то его мучило, что Москва стараниями Даниила Александровича обрела силы. В конце концов, и Псков, и Великий Новгород, да тот же Владимир вовсе не были слабее Твери. Он не сомневался, что данной ему властью в своей земле сумеет одолеть всякого, кто пойдет ему поперек. Но то было горько Михаилу Ярославичу, что, еще не успев и принять великого княжения, в своей земле он должен был силой отстаивать то, что, согласно отчим законам, принадлежало ему по праву. До последнего времени, несмотря на многие предупреждения и вопреки очевидным приготовлениям Москвы к борьбе, он отчего-то верил, что никто не посмеет оспаривать у него это право. До последнего времени (отчего же, Господи?) он наивно предполагал и простодушно надеялся, что люди — ведь не слепы же они в самом деле — поймут, как понял то он, что Русь, ее крепость и воля выше всякой корысти.
Разумеется, Михаил Ярославич знал об обидах братьев Даниловичей. Куда как обидно навеки остаться в удельных князьях, когда судьба обещала иное. Но он к тем обидам не был причастен! Не он, но Господь распорядился так, что батюшка их умер, скончал свои дни на земле, не успев занять высокий владимирский стол. И, значит, Господь своею волей определил встать над Русью не московским князьям, а тверским!
А коли так, значит, Господу угодно именно то, что задумал Михаил Ярославич. Значит, Господь простил их прежние прегрешения перед ним, готов смилостивиться над несчастной русской землей и помочь ей вновь обрести утерянное достоинство и единство. Разве ради будущей славы Руси не следовало забыть свои обиды Москве?..
Ан выходило напротив! Со всей ясностью и отчаянием только теперь Михаил Ярославич увидел то и ужаснулся.
Не племянник ему был страшен, страшно было то, что из-за гордыни, корыстолюбия и скудоумия московских князей, не успев и сойтись под сенью единого княжеского стола, Русь опять раскалывалась в междоусобье.
Что Юрий! Тщеславный и жадный князек, мальчишка, для которого и высокий владимирский стол как можайский прибыток. И мучили Михаила вовсе не опасения за судьбу ярлыка, но то, что Юрий, понимая неправедность и безнадежность предприятия, все же решился на этот спор. Это говорило о многом, и прежде всего о том, что племянник действовал с ведома и одобрения Тохты. Да и как могло быть иначе? На Руси и курица яйца не несет без ханского на то благоволения…
Михаил Ярославич усмехнулся.
Вольно раскинулся на овражистом, широком холме Мономахов «печерний» срединный город. Именем Володимира, светлого князя, что завещал единую Русь и предостерегал лить христианскую кровь, и назван тот город. Высоки валы его, крепки ворота, затейливы дома жителей, густы от дерев обширные сады у домов, строг и торжествен храм Спаса на княжьем дворе, а напротив него будто из мягкой глины искусной рукой вылеплена лишь для утехи глаза церковка Святого Георгия, и, куда ни глянешь, повсюду кресты, словно воздвигся новый Царьград — лучше прежнего; а за стенами детинца до самых дальних лесов тянутся ухоженные владимирские угодья, и надо всем Мономаховым городом высится резным белым камнем Успенский собор, царит и в небе, и над землей пятью шлемами Куполов, крытых оловом. Как вечный знак непобедимого никаким людским злом Божьего Воинства…
«…Неужто всякому царствию на земле суждено начинаться братоубийством? Неужто прокляты мы и на каждом Каинова печать? Иного хочу! Господи, наставь меня на путь истинный…»
Мерно, будто в дальней дали звонко кололи сухие, расщепистые дрова, падали четки в руках княгини. Извне сквозь открытые окна в митрополичьи покои долетал разноголосый шум владимирского богатого Торга, что у церкви Воздвиженья.
— От Господа направляются шаги наши. Как человеку знать путь свой?.. — не отводя глаз от окна, тихо, будто себе, промолвил митрополит.
— Святый отче, с чем уйду от тебя? — смиренно спросил Михаил Ярославич.
— Глядя по тому, чего ждешь, — усмехнулся святейший, чтивший византийскую прелесть не впрямую сказанных слов.
«Вот так бы век и прожить: в мудрости и покое…» — чуть ли не позавидовал Михаил Ярославич старцу.
— Скажи, отче… Должны ли многие из-за немногих страдать?
— Из-за одного? — быстро подняв на князя черные сливы глаз, уточнил митрополит, тут же глаза отвел и снова ответил уклончиво: — Всяк страдает, сын мой, не из-за, а потому. В нас самих наши мучения, в ком — горние, в ком — земные. — Владыка вздохнул и веско добавил: — Ведаю твои мысли, князь, но не сужу… Только кровь и из жилки сначала каплей сочится.
— Не того хочу! — Князь даже скрипнул зубами.
— Чего же?
— Вразуми Юрия! Убеди его отказаться от воровства! Все одно: не напитается, дресву жевать будет, знаю! — с жаром выговорил Михаил Ярославич.
Митрополит безнадежно махнул белой до синевы, тонкой рукой с сухими, долгими пальцами:
— Не придет он ко мне — на воровство благословения не просят.
— Позови! — воскликнул князь, не сдержавшись. — Честной отче, прошу тебя, будь судьей промеж мной и племянником! Скажи, дам ему волости в право, какие он бессудно присвоил, — ладно! Пусть лишь отступится от Руси! Нельзя нам боле кровь христианскую лить! Скажи ему, пусть не ходит в Орду! Али не мыслит он, что там сейчас только и ждут от нас распри, чтобы тяжельше ярмо наложить! Али не видит он, что для того он Тохте только и надобен!.. — Князь замолчал, поглядел в окно и тихо молвил: — Веришь ли, святый отче, не за себя страшусь.
— Знаю.
— Так обуздай его!
— Нет, князь… — Грек в упор посмотрел на Михаила Ярославича, и было в его глазах что-то сродни сожалению. — Не надейся, сын мой, он не отступится. Волк, Михаил Ярославич, до смерти волк… Говорил я с ним. И еще позову, как просишь. Но не надейся. Это о нем у пророка сказано: поступит он вероломно, ибо от самого чрева матерного прозван отступником.
Помолчали немного, слушая летний день за окном.
— Что ж… — Михаил Ярославич глядел темно. — Тогда предупреди его, что нет ему пути на Сарай, я…
— Не клянись, сын мой, — мягко остановил князя митрополит. — На жизнь и смерть одна Божья воля.
Легко, словно был воздушен, а не дряхл плотским телом, старец поднялся от резного налоя, за которым сидел. Поверх камилавки накрыл голову белым высоким клобуком, поправил на груди панагию[80] и тяжелый серебряный крест, тускло блеснувший в солнечном свете.
— Подойди, сын мой…
Михаил Ярославич ступил навстречу, под рукой митрополита с гулким, тревожным сердцем покорно опустился на колени. Оборотясь к обыденному иконостасу, глядевшему на людей из темного доличья[81] икон светлыми, строгими и печальными ликами, святейший широко осенил себя крестным знамением и опустил длань на склоненную голову князя.
— Пред светлым ликом Спасителя нашего Иисуса Христа с радостью и надеждой благословляю тебя, сын мой, на твой путь ради владимирского великого княжения, ради единой Руси. Возлюби сердцем его, ибо, как он ни горек, иного тебе не дано. Знай, Господь ведет тебя по пути твоему. Многие замыслы есть в твоем сердце, но состоится лишь определенное Господом…
Голос старца был тих и некрепок, но слова его падали в душу, оставляя в ней огненные следы. И когда святейший запел стихи Аввакумовой молитвы, Михаил почувствовал на щеках своих слезы.
— «…и должен я быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградной лозе, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя, Он возведет меня на высоты мои…»[82] Над всей землей да будет слава Твоя!
Князь благодарно припал губами к руке святейшего, осенившей его крестным знамением.
«Горек путь его — истинно…» — в столь радостный миг отчего-то с душевной скорбью думала Ксения Юрьевна, глядя сухими глазами на сына.
8
Лосные от пота, со взмыленными шеями, кони тяжело поводили опавшими боками, всхрапывали и фыркали, скидывая с губ пену, и тянулись к воде. Вода и у берега-бежала скоро, а ближе к середине реки и вовсе вскипала от бега белыми бурунами. Ветер был свеж и угонист. От дальнего зеленого острова, клином разрезавшего реку надвое, хлопая лоскутьями парусов, поднимались вертлявые рыбацкие учаны, спеша до захода солнца приколоться у врытых на мелководье осклизлых бревен или причалиться к вытянутым вдоль берега бревенчатым же мосткам нижегородской пристани.
Вот и кончилась бешеная трехдневная гонка: далее бечь стало некуда…
Бросив поводья, Тверитин кулем вывалился из седла, развалисто загребая ногами, увязая ими по щиколотку в глубоком сыпучем песке, пошел вдоль берега, будто все не мог остановить в сердце безнадежного гона.
Сказал бы ему кто сейчас: плыви, Ефрем, авось и догонишь! Ефрем бы, не думая, прыгнул в воду и поплыл. И плыл бы до тех пор, пока б не догнал или не потонул. Все было бы легче, чем бессильно провожать глазами течение. Однако никто не мог ему посулить в том удачи ни на полмизинца, ни на малый гулькин нос, ни на маковое зерно…
«Эх!..»
Всего-то день светлый назад побежали от этих мостков вниз по Волге быстроходные струги московского князя Юрия, которыми снабдили его то ли чересчур хитрые, то ли простодушные нижегородцы. Всего-то день! Но уже ни водой, ни посуху его не достать. Ушел! Будто черт ему помогает.
«Эх!..»
Хоть и течет Волженька от Твери, а службу несет всякому одинаково: немец ли по ней купеческим караваном идет, татарин ли по ее берегам города ставит, московский ли вор летит по ней на самолетной лодье всей Руси на погибель.
«Эх!..»
Только и осталось вздыхать! Кабы мог достать, Ефрем бы локти себе искусал, да не дано человеку в отчаянии и этого последнего утешения.
Оставалось лишь… А что ему оставалось? Может быть, впервые в жизни Ефрем не знал, как ему поступить. Возвращаться ли в Тверь и там ждать наказания от князя, идти ли Сарай, чтобы уж поскорее повиниться перед Михаилом Ярославичем. И то и это было одинаково тягостно. Да и в чем виниться-то, когда вины на нем нет. А коли нет вины — нет ему и прощения. Сам себя Тверитин не мог простить, самое тяжелое это из худшего — знать, что виноват, да не понять в чем.
Забыв о своих людях, не трогавшихся с лошадей и оставшихся позади, Ефрем бессмысленно уходил все дальше, покуда не нагнал его верхом Кряжев.
— Что делать-то будем, Ефрем Проныч?
— А?..
— Нижегородцы из выборных прибежали виниться, слышь ты, Ефрем Проныч!
— Псы! — Тверитин обернул к Тимохе грязное от пыли и пота, искаженное злобой и болью лицо.
— Да не казнись ты так, Ефрем Проныч. Князь в обиду себя не даст. А москвича-то, поди, еще скрутим, ить мы, чай, тоже…
Тимофей Кряжев и смолоду-то не больно был разговорчив, а к годам и вовсе остепенился: два слова кряду редко произносил. А тут разошелся, как соловей майской ночью, однако все даром! Как он ни старался отвлечь и подбодрить Тверитина, слова только зря расходовал — не знал Ефрем утешения. Да и у Тимохи, вопреки его песням, тоска стояла в глазах.
Нижегородцы хоть и знали вину, но каяться не спешили, навстречу окольному тверского князя шагу не ступили на зыбучий прибрежный песок — чинно ожидали его на нижнем посадском валу, обручем тянувшемся вдоль откоса.
Сам город укрывался за бревенчатым срубом неприступного, угрюмого кремника, поставленного по самому краю высоченного, почти отвесного откоса, поросшего кустьями, мхом да редкими корявыми соснами. Трудно было и нарочно удумать более выгодное месторасположение для города. С вершины откоса было видно так далеко округ, что глаза не хватало достать до края. По одну сторону синей стрелой вливалась в Волгу другая река — Ока, и лесистые ее берега проглядывались до самого окоема, где было уж нельзя отличить небесной сини от водной; по другую сторону от кремника вниз убегала Волга, разлившись до дальних, едва видных, заливных благодатных лугов, сменявшихся сосновыми борами да золотыми песчаными плесами… С этой стороны, составлявшей три четверти всего кремника, подойти к Нижнему незаметно было никак нельзя. Да и подойдя, прежде чем подступиться к высоким стенам кремля, надо было еще на откос взобраться. А нижегородский откос столь укатист, что и на богомолье трудно взойти на него без посоха. С противоположной стороны город окружали такие леса, в какие и сами нижегородцы без молитвы зайти не смели.
Кроме того, благодаря некоторой отдаленности, а главное, Божией милости, Нижний не спалила Батыева гроза. Оттого, видать — впрочем, не имея к тому решительно никаких оснований, — жители его зачастую были горды и надменны перед прочими русскими.
Одним словом, нижегородцы хоть и знали вину, но каяться не спешили, а даже напротив, чувствуя свою силу, непонятно отчего горделиво, да и насмешливо поглядывали на грязных, усталых тверичей и их вожака, пешим тащившегося по песку к ним навстречу.
Но и Тверитин не торопился. Во-первых, знал: правды он сейчас все одно не добудет, а во-вторых, и правда та стала ему уже безразлична. Правда была лишь в том, что он проворонил Юрия и не выполнил воли князя. Да и каждый шаг действительно давался ему с трудом. После трехдневной скачки ноги не слушались, сами собой подгибались, не шли, а волоклись по песку.
От нижегородцев выступил вперед невысокий, однако же крепко сбитый, будто усадистая дубовая лавка, боярин Григорий Коча. Высокая летняя шапка из тонкого белого войлока не делала его выше, а лишь подчеркивала коротконогость, общую приземистость и широту плеч. Из-под шапки выбивались густые, битые сединой волосы. Седина еще пуще оттеняла их блескучую, будто нерусскую, черноту. Черная же, длинная и широкая борода вилась кудрей, а оканчивалась ровными, словно нарочно скрученными на скалке пышными кольцами. Не имея ничего, а одну лишь такую бороду, можно уж себя чувствовать вполне значительным человеком.
— С чем прибыли, гости тверские? — сказал боярин густым, как и волосы, голосом.
— Пошто Юрия не удержали? Пошто лодьи ему дали? Али вам не ведомо, что он без права на дядю поднялся? — спросил Ефрем, будто каждым словом плевался.
— Ведали то, — спокойно согласился боярин Коча, прямо уставя на Ефрема маленькие вороньи глаза.
— Так что, любо вам вору пособлять?
— Не лайся, боярин, не у себя на Твери, — со смешком предупредил Ефрема нижегородец. — А то, что лодьями его снабдили, так то наша печаль… Не одна вода переменчива, но и люди. — Коча огладил бороду и пояснил: — Юрий-то побожился нам, что одумался, мол, святейший митрополит его вразумил и он в Орду бежит не соперничать с дядей, а мира искать. Так ли было? — оборотился к своим боярин, и те согласно закивали в ответ бородами:
— Так было, верно…
— Ум-м… — простонал сквозь зубы Тверитин.
И нижегородцы понимали, что это ложь, и Ефрем знал, что они это понимают. Не столь они были просты, чтобы всякой лжи доверяться, а поверили лишь той, что самим сулила прибыток. Ведь ясно стало: придет к власти Тверской — и их мало-помалу заставит едино со всей Русью дышать, придет к власти Юрий — к своей Москве ближнее, что сможет, притянет, а уж на дальнее-то рук, поди, недостанет. И будут они жить как жили, поплевывая на остальных с откоса, на их век воли хватит, а там хоть трава не расти. Как от татар каждый думал сам по себе в своей крепости отсидеться, покуда они не прихлынули несметной силой под стены, так и теперь каждый надеется, что уж его-то неправедная власть минует, не достанет, авось он-то уж от нее дальше всех.
— Так, что ли? — спросил вслух Тверитин.
— Ась? — Войлочная шапка склонилась на сторону, будто открывая ухо для слов.
— Али вам Юрий легкую жизнь посулил? — тихо спросил Ефрем и даже склонился к уху боярина. — Кабы не взвыли от московской-то тяготы.
Нижегородец усмехнулся:
— Нам к тяготе-то не привыкать, чай.
Не следовало Григорию Коче ныне Ефрема испытывать и лезть на рожон.
Ярость захлестнула Тверитина.
Взяв в кулак холеную боярскую бороду, он притянул Кочу к черным, сухим губам и прошептал не в ухо ему, а в глаза, которыми тот, будто в смертной тоске, косил за реку, на дальний луговой берег:
— Ты тяготы-то не знал еще, пес! А не будет вам Юрия, слышь ты, не будет, покуда жив Михаил — Бог за него!
Ефрем оттолкнул боярина так, что тот, качнувшись на крепких коротких ногах, чуть было не повалился.
— Ты пошто бороду треплешь?! — закричал Коча и потянул было саблю, но другие нижегородцы удержали его.
Конные тверичи, хоть и было их по сравнению со всем Нижним городом мало, окружили толпу и, видать, безрассудно готовы были избить ее тут же, на берегу, по первому знаку. А там — будь что будет.
Но ярость Ефрема схлынула так же внезапно, как и пришла, сменившись вдруг тоской и усталостью.
— Прости, боярин, — махнул он рукой и пошел прочь от берега.
Посрамленный трепаной бородой Коча хотел было кинуться вслед, однако воздержался и лишь крикнул Тверитину в спину:
— Коли за Михаила Бог, так что ж ты сам-то Юрия не словил?!.
Тверитин обернулся, помолчал, будто думал, и ответил:
— А ему, видать, черт помощник…
9
В Тверь возвращались словно побитые. Да так оно и было на самом деле. Заморенные кони едва плелись, понуро кивали мордами, будто и они виноватились. Небо и то затянулось непроглядными низкими тучами, и заморосило мелким, унылым дождем, обещавшим скорую осень. В рядах не потешились, не шутковали, как то бывало обычно на подходе к родной Твери, — молчали. Да и веселить некому…
Всем было нехорошо, а хуже всех Ефрему Тверитину. На других вина невеликая — делали, что Ефрем им велел, а вот в чем Ефрем сплоховал, упустив московского князя, он и до сих пор разобраться не мог. Казалось бы, все предусмотрел, обо всем позаботился, ан сорвалось! И неясно: по злому ли умыслу, по измене ли или только по глупости?
Уходя в Сарай, Михаил Ярославич наказал Тверитину во что бы то ни стало остановить Юрия, ежели тот и после встречи со святейшим митрополитом все-таки не оставит мысли искать у Тохты ярлыка на великое княжение. Причем сделать это нужно было без лишнего шума и крови, во всяком случае, самого Юрия непременно оставить в живых, увезти в Тверь и держать там до тех пор, пока Михаил Ярославич не придет из Орды.
Как бы ни малочисленна, предположим, оказалась охрана московского князя, дружинников, что остались с Тверитином во Владимире, для осуществления задуманного явно недоставало. Можно было привлечь к тому и владимирцев, однако для пущей надежности Ефрем позвал из Твери Акинфа Великого с дополнительными силами. Акинф прибежал скоро. Привел с собой такую дружину, какой и не требовалось, — чуть ли не тысячу конных тверичей. Слава Богу, во Владимир побахвалиться, как боялся того Тверитин, догадался не заходить, вызвал Ефрема нарочным. Встретились верстах в двадцати пяти от города. Как мог, Ефрем объяснил Акинфу Ботричу, что от того требовалось. Правда, тогда еще показалось Ефрему, что Акинф слушал его вполуха и что-то свое имел на уме, но в конце концов сговорились, что Акинф, разбив дружину на три части, разводит ее по трем дорогам, что ведут от Владимира на Суздаль, по Клязьме на Волгу и на Муром, из которого по Оке путь шел опять же на Волгу и далее на Сарай. Расстояние, на каком Акинф поставит заставы, не определяли, оставили то на усмотрение Акинфа. Главное, чтобы место было удобно для засады и не слишком близко от Владимира.
Решили так: коли Юрий все же пойдет по одному из трех путей на Сарай, Тверитин, не обнаруживая себя, со своими людьми (их у него было чуть более полусотни) тронется следом. Коли, наткнувшись на засаду, московичи вступят в бой, Ефрем как раз подоспеет нагрянуть сзади, коли Юрий повернет и кинется вспять, то опять же упрется в тверичей. Одним словом, выходило, что деться ему было некуда. Так Тверитин уговорился с Акинфом и на том с ним простился.
Оставалось ждать Юрия, за которым послал митрополит Максим. Скоро он и явился под защитой полутора сотен отроков и с посольским обозом, в котором угадывались дары.
Московский князь был молод. В тот год ему исполнилось двадцать два. Впрочем, он уже хорошо знал, что такое власть, и мог идти к ней вполне осознанно. С отроческих лет он так сумел поставить себя, что после смерти батюшки никто уж не смел ему возразить в том, чего он решил достигнуть. Зная его нрав, и самые предусмотрительные и осторожные из бояр предпочитали с ним соглашаться без споров. Тем более, чего бы ни задумывал он, все у него выходило просто и как бы само собой. Решил вдруг примыслить к Москве Можайск, пошел и примыслил. Хотя многие втайне думали, что на Смоленском княжестве обломает он зубы. Еще при батюшке на Переяславле так прочно обосновался, что даже великий князь Андрей Александрович не решился выгнать его оттуда. Что уж говорить про московские села, сельца и деревеньки, которые он мог самоуправно отобрать у любого из своих бояр лишь потому, что они ему, села-то, полюбились. И попробуй обратное докажи — хорошо, когда только скалится. Мол, может, я в чем и не прав, боярин, а ты попробуй-ка обратно забрать! Правда, и щедр был. Мог так одарить, что все предыдущие изъятия по сравнению с внезапным приобретением оказывались ничтожны. За то и любили его — хоть и тревожно с ним было, а весело. Всякое его стремление в чужую землю и влечение к войне сулило новый прибыток. А стремился он в чужую землю и влекся к войне всегда, будто лишь для того и родился. Если бы не брат Иван, что словно дубовыми колодками постоянно удерживал Юрия от опрометчивых шагов, еще неведомо, дожил бы он до нынешнего дня или уж где-нибудь под Рязанью, Угличем, Дмитровой, а то и Тверью сложил свою буйную голову. Единственным, кого Юрий допускал до совета, был Иван. Более того, он его слушал.
Случалось, конечно, собачились братья. Юрий кричал и топал на младшего брата ногами, но, отойдя от гнева, пусть молчаливо, однако неизменно с ним соглашался, признавая за младшим безусловное превосходство в умении считать и предвидеть. Иван до сих пор был еще безбород, как при отце, по-прежнему тих и тем не менее по-своему, по-особенному настойчив в достижении того, чего ему было надо. А надо, судя по тому, на что он решился подбить старшего брата, ему оказалось многое. Именно Иван сподобил Юрия подняться на дядю. Несмотря на отчаянность и безрассудство, Юрий не догадывался таким простым и скорым путем взять сразу все. Причем право Михайлова старшинства поначалу еще казалось ему очевидным. Кроме того, его натуре более было угодно живое дело войны, нежели судебная волокита у хана.
Лишь только умер Даниил Александрович, Иван при каждой их встрече, сначала исподволь, затем все решительней, начал убеждать Юрия в том, что право Михаила Ярославича на великокняжеский владимирский стол не столь уж неоспоримо, как кажется.
— Право, — убеждал он, — держится вовсе не на старшинстве, которого уж давно никто не ценит, а на силе. Не так разве, брат? — спрашивал он Юрия, вроде бы и заглядывая ему в глаза, но не допуская того проникнуть в свои. — Разве ты не силен?
— А Тохта? — сомневался Юрий. Разумеется, ему было лестно слушать младшего брата, разумеется, от тех веселых, заманчивых писанок, какие рисовал перед ним Иван, и дух захватывало, и слюни текли, а все же опасность была велика. Кроме того, и Ивану, хоть и слушал его, Юрий не вполне доверял — больно уж тот был хитер. А ежели цель Ивана как раз и заключалась в том, чтобы втравить его, Юрия, в склоку с тверским Михаилом и одновременно с ордынским ханом, чтобы тем вернее погубить и занять его место? Всякое могло быть, и потому сначала Юрий лишь посмеивался, слушая брата. Но время шло, известно: и вода камень точит. И если Юрий на камень был мало похож, то Иван в своей тихой, но необоримой устремленности превосходил и воду.
Кап, кап… Он гнусавил, глядя в пол, либо на белые короткие пальцы, которыми при разговоре имел привычку потирать друг об друга, будто щупал тонкую, скользкую ткань. Говорил о Юрьевой храбрости и прочих достоинствах, о силе, какую уже имели, поминал то и дело батюшку, мечтавшего видеть Москву первой среди городов…
— Да мы и так будем первыми! — отмахивался Юрий, имея свой загад на будущее. Оно ему представлялось отважней и проще: через силу, через войну укрепиться среди земли настолько, чтобы уж ни у кого не осталось сомнений в том, кто среди русских князей — князь первый. А уж тогда и в Орде догадаются, кому ярлык передать на правление.
Кап, кап… Иван соглашался, однако же гнул свое.
В конце концов Юрий отправил послов с дарами к Тохте, чтобы предупредить возможный гнев хана. Послы прибежали назад неожиданно скоро, принеся ханское благоволение примерно в таких словах:
— Правосудный хан не знает привычки вмешиваться во внутренние дела своего русского улуса до тех пор, покуда в нем царят мир и спокойствие. Дело русских решать, согласно их закону и обычаям, кто из них более достоин ханского ярлыка, — сказал Тохта послам, но добавил: — Дело же хана, порученное ему на земле предопределением Вечно Синего Неба, заключается в том, чтобы из достойных отличить лучшего. А потому я полагаю допустимым и племяннику стать выше над дядею, коли племянник более предан и угоден хану, чем дядя…
Ответ хана пришелся ко времени. Прежде всего он снял подозрения Юрия на злоумышления брата и тем прочнее заставил его поверить Ивану во всем остальном. Да и почва для того, чтобы взошли прежде брошенные семена, была готова. Юрий вполне примерился к Руси, уверовал в себя и в возможность сколь легкого, столь же и безмерного прибытка. Отчего-то он уже не сомневался в своей победе и только вожделенно ждал мига, когда можно будет о ней прокричать. Более того, то ли он постарался забыть и забыл, то ли по свойству памяти и характера на самом деле не помнил, что всего лишь несколько месяцев назад недоверчиво слушал Ивана, сомневался и даже подозревал того в тайной каверзе.
К тому времени, как на Городце скончался Андрей Александрович, ни посулы, ни угрозы, ни проклятия не могли отвратить князя Юрия от решенного. Коли уж цель определялась, в достижении ее он оказывался не менее упорен и настойчив, чем покойный батюшка или младший брат. И даже во сто крат решительнее, потому как по свойству вспыльчивой души ни в чем не знал, да и не хотел знать никоих ограничений. Убедить его в чем-либо было трудно, но уж переубедить невозможно. Определив цель, он летел к ней, как бездумная, убийственная стрела, пущенная расчетливой и умной рукой. Иное дело, что при его шалом уме, совершенно не склонном к глубоким размышлениям, цель за него должны были определять другие. Но для того и находился с ним рядом Иван. Будто чьей-то заботливой, предусмотрительной рукой поставлен оказался ему думной опорой. Сам Юрий, из гордости что ли, не любил спрашивать совета у младшего брата. Но без совета Ивана и шагу не делал: Иван со своим тихим, назойливым «капаньем» появлялся перед Юрием именно тогда, когда Юрий в нем нуждался. Так у них еще сызмала повелось. Так велось и теперь. Юрий хоть и кичился своим старшинством и положением перед братом, жившим при нем без удела, вроде нахлебника, однако в душе все-таки сознавал, что без Ивана он немногого стоит. И ненавидел его за это.
Иван же жил, покуда не сильно нуждаясь в чужой любви. Он еще и калиту с грошовым подаянием к поясу не примеривал. А что касается любви… Вряд ли была тогда на свете душа, которая бы искренне любила его. Несмотря на его душевную вкрадчивость и ласковость речей, бояре боялись Ивана пуще, чем Юрия. Всегда ровен и тих, всегда же он был ровно опасен, будто волчий капкан.
Не один лишь митрополит Максим и инокиня Успенского монастыря мать Мария уговаривали Юрия отказаться от воровства, не делать на Руси новой смуты. На княжий двор, где горожане с честью приняли московского князя, меняя друг друга, вместе и по отдельности, приходили вятшие, отмеченные заслугами перед отечеством владимирцы, молили его не ходить в Орду, не соперничать с Михаилом Ярославичем.
— Ить дядя он тебе, — всякий вразумлял Юрия.
Но тщетно. Юрий усмехался, почесывал рукой край уха и всем отвечал одинаково: мол, в Орду иду по своим делам, а вы мне не указчики, хоть и седые бороды…
Владимирцы уходили, сокрушенно качая головами, а за воротами, будто по уговору, непременно сплевывали:
— От ить какой неуговористый…
На третий день, перед тем, как московскому князю отбыть, митрополит Максим еще раз сам пришел к Юрию, хоть и знал грек о том, что злаков не сеют в пустыне.
Во дворе еще снаряжался обоз, ржали кони, перекрикивались дружинники, Юрий в покоях еще вправлял под козырный кафтан кованую кольчужку, приятно тяжелившую плечи, но его уж во Владимире не было — весь он был как стрела в пути. Лишь досадовал, что, послушав лукавого грека, попусту потерял два дня.
«Надо было прежде Михаила бежать в Орду-то, как и мыслил…» — огорчался теперь упущенному времени Юрий.
Однако Иван отчего-то удерживал его, отговаривал спешить, он и насоветовал поклониться все-таки митрополиту.
«Экий черт заковыристый… Впрочем, у брата свои расчеты — ему видней. Да и ведает он поболее моего. У него, почитай, в каждом городе свои людишки распиханы, то и дело доносы шлют».
Юрий был высок, строен и почти хорош лицом. Почти, потому что, несмотря на открытость и правильность черт, в облике его проглядывало что-то птичье. Даже когда улыбался князь, он оставался похож то ли на обиженного, сердитого воробья, то ли на злую курицу — так все было в лице его мелко и в то же время как бы уклювисто. Во всякое время, когда и в мыслях то не имел, лицо его будто плыло в вечной усмешке. Создавалось то впечатление из-за тонких подвижных губ, скошенного, мелкого, как у батюшки, подбородка, мелкого же, но клювастого носа и серых округлых глаз, одинаково готовых к веселью и гневу. Спокойствия Юрий не знал. Руки его и те находились в постоянном движении, и ежели не хватались за плеть или меч, то охорашивали кафтан, поправляли шапку на голове или же теребили то одно, то другое ухо, будто в ушах у него непрестанно свербило. Уши Юрия были особенно примечательны. Хрящеватые, будто обломанные, напрочь лишенные мочек, они так плотно прилегали к черепу и были столь неприметны, что, наверное, поэтому глаза всякого собеседника невольно скашивались на них: а есть ли? Что не могло не раздражать князя.
Впрочем, если бы не все эти мелочи, безусловно, Юрий был бы хорош собой. При этом он даже в зиму сапоги носил на каблуке, а коли уж по случаю натягивал ферязь, то она была так расшита золотом, что слепила, а ко всякому кафтану имел по нескольку козырей — пристежных стоячих воротников, каждый из которых на свой лад украшен был шитьем, жемчугами и дорогими каменьями. Пуговиц и тех, кроме серебряных, не признавал.
«Кабы не Иван, поди, уж ноне в Сарае б был…» — остатне вспомнил Юрий Ивана, испытывая уже и зуд от нетерпения покинуть унылый митрополичий город.
На дворе как-то вдруг оборвались все звуки. Не то что кони, даже птицы вроде притихли. На полуслове смолкли сборные крики дружинников. Юрий тревожно приник к оконнице: через двор в полном облачении в сопровождении дьяков, сурово глядя перед собой выкаченными глазищами, высокий и тонкий, как посох, шел святейший митрополит.
Князь недовольно поморщился мелким лицом: кажется, все уже сказано! Чего еще надо?..
Тяжело переводя дух, Максим остановился в дверях. При каждом вздохе рот его невольно и жадно приоткрывался, как у рыбы, выброшенной на берег. На лбу, очерченном жестким обручем клобука, выступила испарина. С беспощадной ясностью, что дана молодости, Юрий вдруг понял: как ни крепок с виду старик, однако же дышит на ладан, а значит, скоро быть на Руси иному митрополиту.
— Здрав будь, святой отец, — насколько мог ласково улыбнулся князь. — Пошто сам пожаловал, меня не позвал?
— Не суесловь, — слабо махнув рукой, остановил его митрополит.
— Али что новое есть? — насторожился Юрий.
— Все новое — старое, — опершись на косяк, проговорил грек и поднял на князя тяжелые, будто печалью налитые глаза. — Последний раз Богом прошу тебя… сын мой, не упорствуй — не ходи в Орду.
— Да что ж, в самом деле, мне и по своим делам иттить али не иттить у тебя дозволения спрашивать? — Юрий схватился рукой за ухо и заходил по просторной нарядной горнице.
— Не лги перед Господом! — Святейший предостерегающе поднял руку. — Худое замыслил, на века худое замыслил.
Юрий бегал по горнице, не выпуская уха, злобно взглядывая на Максима.
— Тебе почем знать?
— Знаю. И ты про то ведаешь, Юрий Данилович: которая земля переставляет свои обычаи — не долго стоит.
— Да в чем обычай-то, святый отче? Я, чай, тоже внук Ярослава.
— Правда за ним.
— Сила за мной. Хан мне пособлять обещал! — выкрикнул неожиданно для самого себя Юрий.
На мгновение они встретились глазами, проникая друг в друга и понимая все до той степени, за которой лишь смерть и тьма.
— Грех — тщеславье твое, Юрий! Не прошу, Господом тебя заклинаю: откажись от гордыни не для Михаила, ради Руси!
— Не откажусь!
— Проклят будешь во все времена! — темно, невидяще глядя, выдохнул святейший митрополит. Помедлил, поднял белой, прозрачной рукой тяжелый крест от груди и явственно, громко, так что слышно было, поди, во дворе, произнес: — Проклинаю! — Повернулся и тяжело пошел из покоев.
Не в силах переменить лица, Юрий глядел ему вслед со всегдашней усмешливостью, хотя на душе его было черно.
10
Тверь приближалась. Давно уж минули Бортеневское урочище, надо б уж было выбросить из головы, что прошло, однако Ефрем по-прежнему оставался подавлен, как ни старался, не мог перестроиться и все возвращался мыслями к той безнадежной гонке.
Со своими людьми Тверитин дожидался выхода Юрия из Владимира в Федоровском монастыре, что располагался на речке Ирпень в Яриловой долине, как раз напротив Серебряных ворот. Если бы Юрий вышел через Волжские ворота сразу на Клязьму, и в том не было беды, так как с монастырской звонницы проглядывались все дороги, ведущие в сторону Волги. Коротким же путем в Орду через Рязань Юрий, разумеется, позволить себе идти никак не мог по той причине, что до сих пор держал в заложниках рязанского князя. Да и в самом Владимире остались у Тверитина соглядатаи, доносившие о каждом шаге московского князя. Одним словом, куда бы то ни было незамеченным уйти он не мог, а иного и не требовалось. Дружинники Акинфа Ботрича, поди, уж заждались на заставах-то — не упустят…
Ефрем был уверен. В том и была его самая большая ошибка, как с бессильным отчаянием понимал он теперь. Ни в чем нельзя быть уверенным до конца, когда дело имеешь с людьми.
Как и предполагал Ефрем, Юрий на уговоры митрополита Максима не поддался и на третий день с дружиной и обозом, никем не провожаемый, кроме малой ребятни да собак, вышел Серебряными воротами и побежал в сторону Боголюбова-городка. Вот здесь-то и оплошал Ефрем. Надо было не ждать ни единого мига, тут же кинуться следом и в чистом поле хоть кровью своей, но остановить его. Бог с ней, с молвой, и Михаил Ярославич понял бы его и простил. Он же, понадеявшись на уговор с Ботрей, дал московичам время не только скрыться из виду, но еще и отъехать достаточно, чтобы прежде времени не мозолить погоней глаза. Сам тронулся — так был уверен! — аж после двух раз, как монахи часы отсчитали. Но, опять же, до самой волжской Нерли дорога шла сплошным житным опольем, на просторе которого всякого было издалека видать. Вот и еще в чем ошибся: разве не знал, что на ополье придется Юрия вперед на целый гон упустить?
Впрочем, пока белым днем летели владимирскими угодьями, сердце только пуще разгоралось от лёта. Погоня — занятие веселое, особенно если знаешь, что беглецу от тебя не уйти — не укрыться, как зверю в осеннем поле. Московский князь и был тот зверь, чистый волк, коли презрел он людские законы. И дружинникам люба оказалась погоня. Павлушка Ермилов все смеялся, задорил:
— Пошто, Ефрем Проныч, Акинфа позвал? Сами бы, поди, справились. На московичей-то, чай, с оружием не ходят…
— А с чем же?
— Так с веревкой, чтобы уж сразу вязать…
Однако же и Боголюбово давно миновали, от Клязьмы свернули по дороге вдоль Нерли, по которой пошел, как сказали добрые люди, обоз московского князя, стороной обежали Суздаль, вызнав — Юрий в Суздаль не заходил, тронулись дальше, летели уже во весь дух, не щадя лошадей, и наконец, миновав ополье, которому, казалось, не будет предела, достигли долгожданного леса, где, по всему выходило, и обосновал одну из засад Акинф.
«Мог бы и раньше, — сердился Тверитин. — Мало ли по пути было укромных оврагов да рощиц. Однако свой ум никому иному в голову не поставишь…»
Благо у каждого всадника на татарский прием была еще одна лошадь в заводе, а то бы по этакой гонке давно уж опешили.
Лес надвинулся на ополье как туча на чистое небо. Издали казалось, что и ему, как и ополью, нет края — так велика земля!
Дорога взошла под деревья, когда уж солнце клонилось к закату. К первым звездам проскакали темный осинник, за которым растянулась широкая, парная от ночного тумана, низкая луговина. Обоз московского князя если и был, то был далеко впереди, засады Акинфа Великого вовсе не было и далее уже быть не могло.
Давно уже, от самого Суздаля, таясь и от самого себя, Ефрем почувствовал тщетность усилий, но тем яростней погонял коня, теперь же та тщетность стала ему вполне очевидна, и даже ярость не на кого оказалось оборотить. Спешившись, дружинники угрюмой черной толпой молча стояли рядом.
— Нагоним, — хрипло и неуверенно сказал кто-то.
— Нагоним, Ефрем Проныч, чего там…
— До полдня возьмем, он волк-то нетравленый, бежит, поди, неторопко… — откликнулись из темноты голоса.
И если вначале слышалось в них сомнение, то чем далее, тем более наполнялись они уверенностью. От той уверенности воспрянул и Тверитин. Одно было нехорошо: без отдыха лошадям нельзя было продолжать погоню. Пришлось отпустить их ненадолго в луговину, чтобы они отдышались боками, подремали, попаслись. Утешало, что и Юрий не мог обойтись без привала.
Тверитин не спал. Лишь закрывал глаза, видел перед собой лошажьи хвосты московских всадников, которые, маня за собой, то близились, то убегали вперед. А то вдруг видел растянутые в ухмылке, ощеренные по-волчьи тонкие губы Юрия: что, мол, холоп тверской, взял меня?..
Об Акинфе и о том, почему он отвел заставу, не думал, решив, что ежели хоть раз взглянет в его чванливые, бахвальные глазюки, то этот раз и станет последним либо для Акинфа, либо для Ефрема.
Двинулись затемно. Прошли луговиной. В бор, надвинувшийся неразличимой черной стеной, въехали продрогшие и будто умытые: высокий туман, оседая на гривах коней и бородах всадников, от тепла превращался во влагу. Дальние, холодные звезды горели ярко, но свет их лесной дороги, укрытой развесистыми лиственными деревьями, не достигал. В полной тьме во всю мочь не больно-то разбежишься — кони пугливы, жмутся друг к другу и идут неторопко, как их ни погоняй. А сердце-то не удержишь, оно само по себе в погоне, не слышит ничего и не видит и далеко обгоняет бег лошадей. Никто не стерегся, потому таким губительным и внезапным оказалось нежданное нападение.
Не успели отсвистеть пущенные на стук копыт, наугад в темноту первые стрелы, как лоб в лоб налетели на тверичей какие-то молчаливые, свирепые конники. И ну без слов железом махать, точно нелюди. Не всяк тверской и саблю успел достать…
Ефрем бился, рубя налево-направо, доставая кого-то саблей и не зная, своего: ли, чужого. В душу прихлынул такой ужас, какого не испытывал никогда, точно бился не с людьми, а с самой нечистой силой, вставшей вдруг на пути. Горло перехватило, зубов для крика не мог разжать, оттого дрался молча, оттого, видать, молчали и остальные. В гулкой ночной тишине слышались лишь стоны и вопли раненых, визг сбившихся коней, задышливое хеканье тех, кто рубил, да единственный в своем роде звук рубящей стали, когда она будто со всхлипом вспарывает людскую плоть.
Кто знает, сколько бы то могло длиться и сколько бы их еще полегло на лесной дороге, так и не успев понять (как это часто бывает на русской войне), кто, кого и за что бьет, если бы и в кромешной тьме вдруг не прозрели в какой-то миг, оттого что услышали, как раненые и умиравшие и из тех, кто защищался, и из тех, кто напал, одинаково клянут московских воров и первого вора средь них — князя Юрия.
Мать честная! Да это ж свои…
— Стой! Стой! — во всю мочь закричал Ефрем, но уже и без его крика резня, будто спало бесовское наваждение, сама собой прекратилась. Только кони еще храпели, только раненые стонали да слышалось отовсюду:
— Пошто?
— Чевой-то?
— Куды?
— Кто такие?
— Эвона оно что…
Ефрем-то сначала подумал, что это ботринцы по дури забрались так далеко и по дури же приняли их за московичей.
Ан нет — оказалось, то были костромичи.
Не желая московской власти и узнав, что Юрий идет к Тохте вредить дяде, костромичи по своей охоте тоже вышли перехватить его на пути. Только с ним-то, видать, разминулись, а попали как раз на тверичей. Только помыслить, сколь людей попусту положили!
Тут уж и рассвело. Равнодушное небо высветлило место побоища: кровь, свернувшуюся в дорожной пыли, отрубленные впотьмах руки и головы… В отряде Тверитина десятерых недостало, не считая тех, кого слепо и страшно ранили по ночной поре. И у костромичей пятеро прикопанными у той дороги остались.
И Павлушку Ермилова там схоронили. От левого плеча до бедра надвое его рассекли. Может быть, он, Ефрем, и рассек, кто ж теперь разберет? А Павлушка-то всегда был рядом с ним.
«Эх!..»
— Бес попутал! — сокрушенно мотали раскаянными головами костромичи и разводили руками. — Эвона оно как!..
То-то оно и есть, что бес. Известно, какой это бес. Юрий — тот бес и есть.
Теперь уж гони не гони — все прахом! До Нижнего долетели, чтоб только на воду бегучую поглядеть…
— Ум-м… — Ефрем то стонал, бранясь про себя, то скрипел зубами, не в силах отвязаться от того, что прошло.
Да и вперед гляделось тревожно — что там?
Прежде Тверитин не знал привычки загадывать: жил как жил. Когда пьян — так весел, когда весел — так пьян, а когда и не пьян, так весел, оттого что не пьян…
Потом появилась Настена. Вестимо: вместе мило, скучно поврозь. Эх, когда б только так! Будто всю душу вывернула она ему наизнанку той стороной, про какую и сам уж не помнил, отмыла да отбелила, как отбеливают бабы лен. Однако как ни была она им любима, сколь много места ни взяла в его сердце, но и ради Настены Ефрем никогда б не переменил беспокойную жизнь княжеского окольного. Едино на что, ничтоже сумняшеся, Ефрем сменял бы свою жизнь, так это на смерть ради того же князя. Разумеется, Ефрем об этом не думал, он знал это так же непреложно, как знал десять заповедей. Да и как могло быть иначе, если его служба князю, как служба простого дружинника, в основе своей и прежде всего заключалась в готовности умереть за князя и отчину.
Однако чем далее жил Ефрем, тем более понимал, что судьба князя немыслимо высока и хоть и касаема к его жизни и жизни других людей, но подвластна совсем иным, недоступным его пониманию законам. И перед этими законами сила, ум, хитрость, да все, на что полагается человек, в сущности, ничего не значат. Все в судьбе князя было будто заранее предопределено.
Тому служило многое. Чего стоило хоть то, что в страшный пожар, случившийся во дворце, уцелели лишь Михаил Ярославич да княгиня Анна, хотя, по всему вероятию, именно они, находясь в теремной светелке, и должны были погибнуть, а не те несчастные, что спали в нижних клетях. Сгорело тогда более тридцати человек. Среди них, между прочим, и старая бабка Домна… Не верилось, что никто из них не очнулся до того, как сгорел, и не попробовал выбраться из огня. Разве что и правда двери оказались подперты? Так или иначе, но спаслись лишь князь с княгиней. Или же взять Михаилово возвращение в Тверь накануне прихода Дюденя. Али случайно он прибежал тогда вовремя, а не сам Господь привел его отразить поганых?
Ефрем не сумел бы определить словами, что чувствовал, но иногда ему явно мнилось: от его усилий, какими бы они ни были, и от усилий иных людей, преданных князю, ничто в судьбе Михаила Ярославича измениться не может. И это не то чтобы смущало, но зло язвило Ефрема в те редкие мгновения растерянности, когда подобного рода сомнения одолевали его, как, например, теперь.
Во всем он привык полагаться лишь на свои силы, сметку и ловкость, какими одарил его Бог. Здесь же выходило, что и сила его оказывалась беспомощна, и сметка неразумна, и ловкость неуклюжа, да и сам он никакого значения не имел. В сущности, так ведь оно и вышло в его бессмысленной и позорной погоне за Юрием…
Его бесила тщетность борьбы за князя с теми неведомыми силами, видеть какие не дано человеку, но которые — Ефрем это чуял — в любой миг готовы кинуться и растерзать Михаила. Зачем же тогда рядом с ним он, Тверитин, если не дано ему спасти князя? Благо, коли предрешенное Михаилу Ярославичу — слава! А коли нет?..
Да и в самом ли деле что-то на свете предрешено…
Как это ни покажется неправдоподобно и странно, но с годами Ефрем стал мнителен и труслив. Странно труслив, как бывают трусливы сильные и бесстрашные люди: он боялся не за себя. Видимо, отсутствие страха за себя самого со временем в нем с лихвой возместилось прямо-таки обморочным, бабьим страхом за Настену, детей, княжичей, княгиню, князя, за всю Тверь, за весь мир, что был его радостной жизнью.
— Тверь! Тверь! — закричали сразу в несколько голосов.
Сколь ни ждешь ее, Тверь всегда показывается внезапно, будто девица на смотринах.
«Тверь…»
Как ни уныло было на сердце, однако и Ефрем услышал. Сердце скорее, громче забилось в груди навстречу доверчиво открытой земной ладошке, на которой причудно уместился город. Проглянувшее к вечеру из-за туч солнце, скатываясь за землю, подожгло вдали узкую багровую полосу; отчетливо, точно писаные, легли на нее, как в огонь, купола Божиих храмов да разноверхие кровли домов.
Облокотившись о стол, подперев рукой тяжелую голову, Ефрем мрачно глядел в близкую к глазам столешницу, будто взглядом искру высекал. Не менее мрачный, чем Ефрем, Помога Андреич, вернувшийся накануне из Великого Новгорода, куда с посольством посылал его князь, мерил ногами тверитинскую горницу. Дубовые половицы под его злыми шагами недовольно скрипели. Третий боярин, Александр Маркович, не больно давно пришедший в Тверь из волжского Городца, однако уже полюбившийся князю, да и прочим людям своим разумением и острословьем, теперь лишь молча потягивал мед из чаши.
Сидели давно. Настена уж несколько раз входила в горницу то блюда сменить, то будто бы огонь в плошках поправить. Но Ефрем жену словно не замечал, и ей оттого было нехорошо. Таким-то угрюмым Настена, пожалуй, и не видела его никогда…
— Так нешто не мог он сразу-то мне сказать, мол, не пойду я, Ефрем, в заставы-то, мол, на Ивана мне надоть… — неведомо к кому обращаясь, недоуменно говорил Ефрем.
— А-а-а, поди, спроси у него! — махнул рукой куда-то вдаль от себя Помога Андреич.
— Истинно — не ответит, — утвердительно кивнул головой Александр Маркович и добавил: — Мертвый за срам не ответчик.
— Ну, дак сколь нам-то дерьмо его расхлебывать? — сокрушился Ефрем кулаками на стол.
— Время, Ефрем Проныч, не нами меряно, — усмехнулся Александр Маркович, опустив ус в медовую пену.
Наконец-то все разъяснилось, но от тех разъяснений легче не стало…
А произошло, как рассказал Ефрему Помога Андреич, вот что. Перед тем ли, как идти ему к Ефрему во Владимир, по дороге ли али уж после их встречи, от своих ли людей московских, от нарочно ли для того засланных к нему переметчиков али еще от кого Акинф Ботрич верно узнал про то, что Иван отбыл из Москвы вместе с Юрием, однако во Владимир с ним не поехал, а укрылся в Переяславле. Вон как оно, оказывается!
Акинфа же на Ивана травить все одно что ярому кобелю про достоинства течной суки рассказывать. Давно уж у него горело отомстить обидчику, от которого пришлось убегать, бросив нажитое, землю, села, дома, жену, дите и даже обоз, словно татю ночному. Уж как он только не подбивал Михаила Ярославича на войну с князем Юрием, чтобы до Ивана добраться. Михаил Ярославич слушал, однако мстить за своего боярина не спешил и, видно, несмотря ни на что, воевать с московичами не собирался. Отчаялся Акинф Ботрич его уговаривать. А тут удача в руки ему сама поплыла: князь в Орде, далеко, и неясно еще, как у него там дела обернутся, а здесь под началом тверская дружина достатняя, и Иван, сучий сын, под боком, иди да бери его — разве тут устоишь?.. На то он и дьявол, чтобы души смущать — вестимо, среди соблазнов живем.
А Акинф, поди, так еще размышлял: Юрия-то и без его подмоги возьмут, никуда, мол, не денется, а и уйдет — беда невеликая, старший-то брат без младшего — что костер из соломы, полыхнет и погаснет, да и, главное, не Юрий ему враг, а Иван. Жди потом другого такого случая отомстить гнусавому местнику, а он может и не представиться никогда…
Опять же, думал, поди, боярин: коли он Михаилу Ярославичу Переяславль добудет, навряд ли князь за то на него осердится. Если, конечно, вообще Акинф Ботрич о чем-то еще, кроме того, как отомстить Ивану, думал.
Одним словом, не разбив, а сплотив дружину, Акинф повел ее не в заставы, как уговорился о том с Тверитином, а прямиком на Переяславль. Так, примерно, рассказывал Помога Андреич Ефрему. А точнее и расспросить было не у кого.
Как ни внезапно Акинф подступил под Переяславль, однако с ходу взять его не сумел. Говорили ему некоторые тверичи — отступись, но он не послушал, взял город в осаду. Только думать ведь надо было: не с его силами переяславскую знатную крепость приступом брать. Да что говорить глухому, злоба-то, коли верх возьмет, в человеке всего сильнее становится, оттого озлобленные беспамятны.
День простояли, другой. Акинфу уж в том радость, что враг его заперт, а он его вволю может из-под стен на весь свет поносить. Однако и самыми поносными словами дело не делается. А тут, пока Акинф голову наверх закидывал да клекотал, как индюк, из Москвы-то как раз и подошел Родион Несторович с дружиной.
Ох, что здесь началось! Помога Андреич, покуда о том Ефрему рассказывал, то белел, то краснел лицом и мед пил, как в жажду пьют воду колодезную. Впрочем, Помога не искусник был рассказывать, да и как рассказать о том, чего сам не видел и имя чему едино: смерть. А уж муки, какие приняли сотни тверичей в том неравном бою, Ефрем и без слов мог представить. В леса скрылись и лесами же дошли до Твери всего сто шестьдесят человек из тысячи. Ведь тысячу, почти тысячу гридней увел с собой из Твери Акинф! Кто видел, рассказывал: пленных десятками загоняли в Клещино озеро, топили; с плотов да лодок рубили головы тем, кто сам тонуть не хотел. А Акинфу Ботричу московский боярин Родион Несторович еще в бою саморучно голову снес, взоткнул ее на копье и преподнес Ивану.
«Господи! Пошто Тебе дураки?!»
— Н-да… — протяжно молвил Помога Андреич, подсев к столу. — Накрутили делов-то без князя, как без мамки ребята малые.
— Да уж, — согласился Ефрем.
— И с князем бы то же было, — вздохнув, утешил боярин Александр Маркович. — Не ноне, так завтра. Не завтра, так на Филиппов пост. Лучше уж ранее.
— Не скажи, боярин, — помотал головой Помога Андреич. — А с Москвой-то не иначе как воевать нам придется. А, Ефрем Проныч?
— Не иначе, — кивнул Ефрем и спросил: — А что ты, Помога Андреич, из Новгорода привез?
Помога помолчал, кусая пшеничный ус и часто помаргивая глазами, будто силился вспомнить — зачем же он ходил в Новгород. Затем почесал ладонью плешь, точно ерошил на ней несуществующие волосы, и ответил:
— Дак что ж… Не пустили меня, Ефрем Проныч, в тот Новгород.
Еще до отбытия Михаила Ярославича прибегали в Тверь новгородские послы, клялись Святой Софией, что Новгород готов признать над собой волю нового великого князя. За тем и послан был к ним Помога, чтобы утвердить договорную грамоту.
— Как так? — удивился Тверитин. — Нешто они передумали?
— А так, — усмехнулся Помога. — Мы, говорят, избрали Михаила с условием, — он ехидностью в голосе выделил словцо, — да явит он ханскую грамоту и будет тогда князем нашим, но не прежде.
— Ишь ты, — покрутил головой Ефрем. — Как будто с ханской-то грамотой он им милее будет. А тебя что ж, и до Святой Софии не допустили?
— То-то и оно. Крутят они чегой-то. Войска к Торжку подвели.
— Ишь ты, — еще повторил Ефрем и даже присвистнул. — Тоже, чай, надеются, что до них московский кнут не достанет?
— Поди, так оно.
— Не иначе, и с Новгородом воевать-то придется. А, Помога Андреич?
— Не иначе, — невесело усмехнулся Помога.
— Не ноне, так завтра, — подтвердил Александр Маркович и нацедил из братины посошок.
Посидели еще. Помолчали. Простились и разошлись.
Ефрем вышел проводить гостей на крыльцо нового, своего дома, поставленного им с благоволения князя невдалеке от княжьего терема.
Всей грудью он вдыхал мокрый воздух из близкого сада и не мог надышаться. Глядел на небо и не мог наглядеться. Ветер шумел тяжелой августовской листвой, глухо в рыхлую землю падали яблоки. Легкие облачка точно конники скользили меж звезд, а звезды, точно подбитые теми конниками, падали вдруг в мгновение ока и исчезали навеки, так же быстро и невозвратно, как любимые люди.
Ефрем услышал, как, скрипнув, за спиной отворилась дверь, затем ощутил едва касаемые до половиц шаги и у плеча почувствовал легкое, прерывистое (будто она страсть как хотела что-то сказать, но боялась его потревожить) дыхание Настены.
— Что ж ты в баню-то не пришла? — спросил Ефрем.
— А ты ждал? — со счастливым смешком переспросила Настена.
— А то…
— Засовестилась, — вздохнула она и жарко приткнулась лицом к груди мужа.
— Чевой-то? — удивился Ефрем.
— Так ведь как с-под Переяславля-то прибежали вестники — по всей Твери бабий вой. Вон, — кивнула она на темный соседский дом многодетного Лазаря Смирного, — Арина-то как уж выла!..
— И Лазарь тоже?
Настена молча кивнула.
— А я ить, Настена, Павлушку-то Ермилова схоронил.
— Ой… — простонала тихо она, обмякла, осела в ногах и всем телом припала к Ефрему. — Что ж это, Ефрем, ведь русские же?!
— Да уж не татаре, — усмехнулся Тверитин, вспомнив костромичей и ту свирепую ночь.
— Кабы Глебушку-то нашего не забидели, — вдруг сказала Настена. — Больно незлобный он. Такому-то как на земле прожить?
Глебка, сынок, был болью Ефрема. Про таких сызмала говорят: не от мира сего. Как Ефрем не приохочивал его к коням да оружию, все было попусту, лихие забавы отвращали сына. Зато, напротив, отчего-то тянулся он ко всякому рукоделью, из прутков до соломы целыми днями в уголке на дворе мог составлять невиданных райских зверей, на которых приходили глядеть и соседские ребятишки, и взрослые.
Как-то, смущаясь, не зная, то ли стыдиться, то ли гордиться ему сыном, Ефрем показал творения его гостям: тому же Помоге и отцу Ивану Царьгородцу. Ну, Помога, ясное дело, радовался — ему от всякого чужого дитя, потому как своих не имеет, радость идет. А отец Иван искренне озаботился, велел Глебку беречь, не мучить его тем, что душе его непотребно, а учить грамоте и Святому Писанию, в нем, мол, душа его и постигнет, чего ей надобно на этой земле.
— Душа-то у него, Ефрем Проныч, мудрая, видать, мудрее твоей, — усмехнувшись, но беззлобно заметил отец Иван, вглядываясь в крылатых львов, клювастых грифонов и прочих диковинных тварей, о которых сам Ефрем и слыхом не слыхивал.
— Так откуда то в нем? — развел руками Ефрем.
— Сие неведомо, каким путем снисходит к нам благодать Господа.
— Так разве то благодать, что защитить себя не умеет? — удивился тогда Ефрем.
— Бог защитит, — утешил отец Иван. — Тех, у кого сабля есть на боку, всегда на земле в достатке, искусников мало. Но и сила дана им великая.
И то… Как ни покорен и мягок был сын, переломить его, коли в том случалась нужда, и Ефрему было непросто. Взглянет глазами, и руки опустятся. И впору уж самому у него прощения спрашивать. Глаза у Глеба, как у матери, черны и бездонны и, как у матери, милостивы, будто заранее в них все и всем уже прощено. И впрямь: как такому-то на земле прожить?
— Ничего, проживет. А добрый — не слабый, — успокоил Ефрем жену и добавил: — Люди-то, ить они, Настя, добрые. Только бесы их мутят.
Ветер выстудил ночь.
— Застыла, поди? — тихо спросил Ефрем, склонившись лицом в ее теплые, мягкие волосы, запах которых, мешаясь с запахом яблок, укропа и всей обильной земли, так вдруг вскружил ему голову, что, не дожидаясь ответа, он подхватил жену на руки и на руках понес в дом.
— Что ты! Пусти! Упаду! Тяжелая я! Нельзя мне! Слышь, Ефрем, что говорю-то? Ой, какой бешеный ты, Ефрем Проныч, прям полуумный людища! — Смеясь от щекотливой бороды, достававшей грудей, на крепких, покойных руках Ефрема счастливо лепетала Настена всякие глупости, какие одинаково лепечут все счастливые женщины, когда чувствуют, что их любят.
Ефрем не слышал. Ничего не слышал.
Как зимний путник стремится к огню, как запоздалая лодья бьется к берегу, от тщеты погонь, от утрат, от усталости, от тревог и печалей спешил укрыться он в тепло ее тела, хоть на миг спрятаться в ней от мира и жизни, как прячутся в мамкиной постели малые дети от страшных снов. Настена была столь желанна, что Ефрем сам себе удивлялся, не понимая, как долгий вечер, когда она была уже рядом, он мог прожить без нее.
Он любил ее тем жаднее, чем плоше было у него на душе. Словно с семенем хотел выбросить из себя горечь пережитого. Настена принимала его с той щемящей радостью, какая возникает в редкую ночь даже у тех, кто искренне любит. И сильные нуждаются в утешении. А что в мире среди достижимого утешнее женской любви, женского тела и глаз?
Впрочем, глаз он во тьме не различал. Только зубы Настены жемчужно белели, когда задышливо она схватывала ртом жаркий воздух…
Но и потом Тверитин долго не мог уснуть, лишь закрывал глаза и видел желтую лесную дорогу перед собой. А то Акинфа. А то Павлушку Ермилова — тот, как всегда, улыбался. Но вдруг показывалось, что голова его отчего-то взоткнута на копье, а копье то в руках Акинфа и он несет то копье, как стяг, навстречу московскому князю. И Юрий радостно дергает лицом и ухмыляется Тверитину: что, мол, поймал меня, холоп тверской? Не поймаешь…
— Фремушка, Фремушка, что ты?
— Что?
— Дак зубы-то сотрешь, как скрипишь. Чай, все уже — дома. — Настена придвинулась к нему горячим, ласковым животом. — А я ведь и впрямь тяжелая.
— Как так? — усомнился Ефрем.
— Дак, знать, понесла я, — засмеялась Настена.
— Вона что! Ишь ты! — восхитился Ефрем. — Что ж прежде-то не сказала?
— Да я разве не говорила? Я ить давеча-то, как тащил-то ты меня, Ефрем Проныч, сказывала, да ты не слыхал, — ласково упрекнула Настена мужа, кожей помня еще, как Ефремова бородища щекотала ей шею и груди, когда через сени нес он ее впотьмах в их покойную повалушку. С ведомой только ей одной нежностью она приникла губами к губам Ефрема. Так она стосковалась по мужу и так ему, видать, было худо, что Настена хоть до петухов готова была тешить-забавить его, лишь бы он не мучился, не стонал сквозь дрему да не скрипел зубами.
А Ефрем глядел на жену очумело, видно и по сю пору не розумея до конца, о чем она ему говорила, и вдруг поднялся чад постелью громадой сильного тела, замотал головой сокрушенно, будто был шумен и пьян, и, оборотившись к божнице, жарко выдохнул:
— Ить ради чего все? Ить токмо ради Тебя. Помоги ему. Господи! А боле мне что еще надо?..
И повалился в долгий, беспамятный, живительный сон.
11
В Сарай Михаил Ярославич прибыл водой: сначала Волгой, затем речкой Ахтубой. Хотя вниз по течению струги бежали скоро, однако времени, чтобы приуготовить себя ко встрече с Тохтой, было в достатке.
Всяк, кто получает власть из чьих-либо рук, от того и остается зависим. Как бы ни была велика эта власть. Отправляясь к Тохте, князь вполне сознавал эту унизительную зависимость, но знал он и то, что впервые за многие годы, прошедшие со смерти Ярослава Второго Всеволодовича, в его лице Русь наконец получала безусловно единоправного государя, соперничать с которым ни по роду, ни по силе было некому. Прежним великим князьям, начиная от Александра Ярославича Невского, приходилось злобой и хитростью доказывать свое превосходство над единоутробными братьями, имевшими одинаковые права на великий стол! Оттого и губилась Русь постоянной завистью и враждой. Теперь, старший среди прямых потомков Ярославова рода, тверской князь один по-настоящему, с сердечной уверенностью в собственной правоте мог рассчитывать встать над Русью, не поправ обычаев, на которых держится Богом данная власть.
А перед Тохтой, дабы заранее хоть чуть-чуть, но ограничить будущую зависимость от него (от которой пока, как ни вертись, никуда не деться), надо явиться не смиренным просителем да убогим искателем ханской милости, а властным князем Русской земли, уже признанным ею. Разве то было не так?
Отчего-то Михаил Ярославич почти не сомневался в благоволении Тохты. Да и неправедных соперников у него, кроме Юрия, не было. А праведных, Богом отмеченных, кого бы следовало опасаться, не было и вовсе: сам Господь их и прибрал к себе своевременно. А кого и не прибрал, тот не помышлял о борьбе…
Михаилу даже стало казаться, что и в Орде понимают и видят свою выгоду в том, что Русь сплотится едино вокруг сильного великого князя. Что в том худого?
Набеги, грабеж и разор менее прибыточны для самой Орды, чем покойное получение постоянного, обусловленного договором выхода.
Загад не бывает богат, знал о том князь. И все же ясными, предосенними днями, покуда струги острыми, обшитыми железом носами резали быструю волжскую воду, думал он и о том, что будет, что непременно будет, чего никак не может не быть, когда Русь обретет достатнюю силу, «Али овцы мы неразумные, что сами о себе озаботиться не сумеем? Али не знаем ладу в дому своем, чтобы в таком же ладу и всю землю держать? Али матери нас на одни только муки родили? Али достойно православным быть в холопах у тех, кто веры не знает? Али для презрения Русь на земле?..»
Берега то отдалялись, то близились, река в иной день перед взглядом струилась ровным стеклом, в иной пенилась снежными, непокорными бурунами. Изредка по берегам вставали селения. Сначала то были селения русских, малые деревеньки да городки; затем побежали унылые становища мордвы да чуди, а далее, от Булгара, столицы совсем недавно сильного торгового народа, вырезанного татарами, пошли ордынские города: Бездеж, Бельджамен, Самара, славный солью Укек… О чем только не передумал Михаил Ярославич: и о Руси, и о себе, и о сыновьях, которым, как казалось ему, он уготовил славную и великую долю. То, что предстояло совершить, нельзя было сладить за один человеческий век, но, мудро пестуя сыновей в Божием послушании и усердии ради всей русской отчины, можно было надеяться на великое. И то: всякая дорога мечтой блазнит, что уж говорить о волжском пути! Известно, какие сны навевает он русскому сердцу. В снах тех только ширь и величие, только воля и ветер, только даль и свобода, в тех снах небеса нисходят к земле и доступны, как собственная ладонь. В Сарае-Баты, где пребывал Тохта, тверского князя встретили вовсе не так, как он думал, то есть совсем не встретили, будто не ждали. К этому Михаил Ярославич не был готов. Он уже стал горячиться, доказывая визирям необходимость скорейшей встречи с ханом, однако боярин Святослав Яловега, лучше знавший тонкость обхождения с чванливыми визирями, доказал ему, что своей горячностью он лишь прибавит удовольствия тем визирям, но дела никак не ускорит. Знать, сам Тохта велел его помурыжить. Пришлось смириться и ждать. Начинался обычный татарский волок.
В Сарае к тому времени собрались многие князья да бояре из русских земель, не говоря уже о купцах, гостивших в Орде во всякую пору, а уж в это благодатное время особенно. Из князей же кто по каким своим тяготам пришел к хану, кто по иным делам, а кто и нарочно, чтобы первым узнать весть и в Сарае же первым поклониться новому великому князю. Был здесь Михаилов сродственник, ростовский князь Константин Борисович, князь суздальский и нижегородский Михайло Андреич (как сказывали, потешаясь, тоже, мол, искавший великокняжеского достоинства), рязанские братья-княжичи Ярослав и Василий, просившие Тохту заступиться за отца своего Константина Романовича, все еще маявшегося в московской неволе…
Сарай, в котором Михаил Ярославич не бывал более десяти лет, сильнее, чем прежде, поразил его своим воистину вавилонским многолюдьем и разноречием. И, как в сгинувшем Вавилоне, в пышности дворца Тохты, в непомерной кичливой роскоши домов его визирей, царевичей и нойонов, в высокомерии его жителей увиделось вдруг Михаилу Ярославичу предвестие скорого конца дивного города. Он сам не мог бы объяснить почему, однако в той жадности, с какой насыщался город греховными удовольствиями, отчего-то чуялось не процветание, но неутолимость голода обреченного.
Бесправные некогда при хане Берке, да и при том же Тохте бесермены-магумедане заполнили Дешт-и-Кипчак, уже довольно изрядно настроили розовых и круглых мечетей, в которых беспрепятственно совершали свои обряды, нестройно ладили заунывные песнопения, поклоняясь Аллаху. Прежде такого в Сарае не было. Конечно, и раньше случались среди татар магумедане, но единому Богу поклонялись они вовсе не так ревностно, в большинстве своем предпочитая вере в единого Аллаха веру во многих духов и в предопределение Вечно Синего Неба, какую и завещал им Чингис. Это тоже был новый и странный знак, какого не мог не заметить внимательный взгляд…
Несмотря на то что уже наступила осень и на Руси, поди, зарядили дожди во всю мочь, солнце над степью висело еще высоко, светило долго и палило нещадно. От сотен ног и конских копыт, то и дело бежавших по улицам, желтая пыль столбом стояла над городом. Жаркий ветер носил ее средь домов, кидал в глаза, забивал ею нос. От непривычки к таким погодам во рту беспрестанно сохло. Нарочно отряженный для того отрок повсюду таскал за князем кожаный татарским бурдюк, наполненный русским квасом или греческим вином.
Как ни досадна была задержка, времени Михаил Ярославич даром не тратил. Здесь была ныне вся Русь, всякий день Михаил Ярославич с кем-нибудь да встречался. Билось к нему людей много: и русских, спешивших засвидетельствовать почтение и изъявить покорность, и татар, бывших у него в услужении еще с давних пор, и греков, и византийцев, и немцев, и латинян, для своей выгоды, впрок, желавших свести знакомство с князем, которому предстояло возглавить Русь. Были и те, кто встречи с ним избегал. Впрочем, последних оказалось немного: купцы московские да суздальский князь.
Михайло Андреич, как и покойные братья Александровичи, тоже приходился Михаилу Ярославичу двоюродным братом, но уже со стороны другого Ярославова сына — Андрея. Между прочим, Ярослав-то Всеволодович Андрея более отличал меж братьями и не случайно именно ему, а не Александру оставил он по себе великий владимирский стол, понимая его значение, хотя Андрей и уступал Александру в возрасте.
Сказывали, он действительно был умен, и не токмо книжной или житейской мудростью, но и сердечной. На Русь имел взгляд особый, с взглядами Александра несходный, татарскую власть признать не хотел, как мог противился введению «числа», за что, разумеется, впал в немилость в Орде, был у шведов в бегах, вернулся, а тут уж брат, войдя в силу, растоптал его до последнего унижения. Говорили, Невский приказал охолостить Андрея Ярославича, как холостят жеребцов, в вечную память, что поднялся на брата. А уж после того смилостивился, позволил сесть ему в Суздале, где, смиренный, доживал он остатние жалкие дни в безумном страхе и душевном беспокойстве, трепеща имени своего удачливого единоутробника. Господи, отчего злоба наша так непомерна? Пошто убил Каин Авеля?..
Памятуя ли о судьбе отца, понимая ли тщетность устремлений или только по склонности довольствоваться тем, что дано, Михайло Андреич жизнь прожил тихо. Так тихо, что, владея богатой Суздальской землей, ни в ком против себя не возбудил ни зависти, ни вражды. Да что говорить: не будучи врагом Дмитрия, тем не менее он умудрился не озлобить против себя и Андрея. А это мало кому удавалось. Он будто сызмала, с тех самых пор, как увидел отца ослабленным, дал зарок не вязаться в склоки и войны. «Пусть минует меня стороной, что может минуть, а что не минует, то стерплю…» — казалось, так рассуждал Михайло Андреич в отношении непостоянной жизни. А жил он по старине: охотой, пирами да доставшейся от отца привычкой к чтению книг.
Михаилу Ярославичу было странно, что брат на старости лет решил вдруг переменить свое тихое бытие и вступить с ним в борьбу за владимирский стол. По чести, он имел к тому основания, но все, что знал о нем Михаил Ярославич прежде, входило в явное противоречие с тем, что говорили о нем теперь. Не мог разумный человек, каким Михаил Ярославич считал брата, всерьез рассчитывать тягаться с ним. Да и почтенный возраст, какого достиг Михайло Андреич, и его бездетность совершенно лишали суздальско-нижегородского князя каких-либо надежд на удачное или сколь-нибудь долговременное правление. Тем не менее вокруг упорно говорили о том, что прибыл он в Орду не случайно, а затем, чтобы обойти тверского князя, и даже был принят уже Тохтой… Не дожидаясь, пока старший брат придет на поклон, Михаил Ярославич решил навестить его сам.
Как ни велик и многолюден Сарай, а найти нужного человека не составляет труда, тем паче если тот человек из Руси, хоть князь, хоть купец, хоть какой рукомысленик. Отчего-то на русских у татар взгляд зорок, пожалуй, зорче, чем на иных. Важно, чтобы снизошли до беседы, а коли уж до беседы-то снизойдут, про всякого скажут: что стоит, зачем в Орде, умел ли, умен ли, удачлив и в милости ли у хана.
Не уговариваясь заранее, в один из дней Михаил Ярославич подъехал к небогатому, но опрятному дому в русской улице, который издавна содержал для своих наездов в Орду суздальский князь. Михаил Ярославич отметил для себя разумность такого приобретения. В этот раз, как и в прошлый, сам он остановился на подворье сарского епископа Исмаила. Хоть грели душу купола с крестами, вознесшиеся в небо Дешт-и-Кипчака, больно любознательно глядели епископовы клирошане на Князевых посетителей.
Михайло Андреич принял тверского тезку с почтением и честью в небольшой, невысокой, но чистой горенке. Несмотря на белый день, из-за прикрытых резных ставенок, предохранявших дом от пыли и заоконного зноя, в горенке было полутемно. Зато уж дышалось вольно, а с пылу дня на мгновение сделалось даже знобко. Да и света, как проморгался Михаил Ярославич от солнца, вполне хватало. Белыми лучами, игравшими разноцветьем, свет бил в узорные прорези ставень. Видно, недавно скобленный с колодезною водою сосновый пол дышал прохладой и дальним лесом. Ноги-то в сапогах будто стонали, просясь босыми ступить на влажное холодное дерево.
— А ты, брат, разуйся, — предложил Михайло Андреич и признался: — Я сам-то в этом Сарае в жару по избе в одном исподнем хожу. Иначе нельзя, сопреешь.
— Погожу разуваться-то, вдруг погонишь, — усмехнулся Михаил Ярославич.
— По тому глядя, зачем пожаловал, — пожал плечами суздалец. Говорил он звучно, широко и вольготно, сильно напирая на звук «о».
Сели на лавки по сторонам длинного рубленого стола. Михайло Андреич велел принести квасов, меду да овощей. Говорить не спешили.
Суздальскому князю давно перешло уже за пятьдесят лет. Он был высок, жилист и худ костистым, поджарым и угонистым, как у хорошего скакуна, телом. В руках его угадывалась прежняя крепость. Вопреки впалым щекам и тонкому горбатому носу, в лице его не чувствовалось злобы, угрюмости или уныния, свойственных подобным лицам. Напротив, оно было живо и будто выражало всегдашнее крайнее любопытство. Точно его хозяин всему удивлялся и как бы молчаливо спрашивал: что это у вас происходит этакое и почему без меня? Впрочем, впечатление то было обманчиво, потому как сами глаза Михайлы Андреича глядели на мир умно, холодно и безо всякого любопытства. Седые его волосы стрижены оказались коротко, а макушку светлого, как у дитя, черепа прикрывала маленькая, наподобие монашьей камилавки, круглая шапка, сотканная из шелковых ниток.
— Не знаю, как и спросить у тебя про то, Михайло Андреич. В сомнении я, — наконец проговорил Тверской.
— Да что ж, так и спроси, коли в чем сомневаешься.
Михайло Андреич был спокоен, глядел просто и взгляда не отводил.
— Ты пошто, брат, Русь в смущение заводишь? — спросил Михаил Ярославич, и брови его невольно грозно сдвинулись к переносице.
— Русь! — Михайло Андреич засмеялся, показывая по сю пору не съеденные, белые, широкие зубы. — Мне ноне девку смутить и то в радость, а ты про Русь говоришь…
Тверской смеха не поддержал.
— Русь-то, Михайло Андреич, что девку смутить — недолго. Прокричал, что ты ее суженый, она уж и заневестилась.
— Так… — согласно кивнул Михайло Андреич. Он уже не смеялся и глаза отвел на столешницу. — Ну, дак что же?
Михайло Андреич поднял на Тверского глаза, в углах которых то ли слезы скопились, то ли так отсветилась скопившаяся старческая белая слизь.
— Стар я, Миша, в женихи-то для Руси, — проговорил он с горечью, открывшей вдруг Михаилу то, что всегда скрывалось: и в этом человеке жили, жили когда-то честолюбивые устремления и великие замыслы. Не один только страх в душе, но и силу надо было иметь, чтобы смирить их и глядеть уж на мир равнодушно, будто не видя, как раздирают Русь сыновья отцова губителя.
— И я так размыслил, — вздохнув, проговорил Михаил Ярославич. — Только отчего-то вокруг иначе болтают… Знаешь ли?
— Знаю, — подтвердил старый князь.
Он помолчал, поднялся, сам налил себе и гостю из братины меда.
— Будь здрав, Михаил Ярославич!
— Будь здрав, Михайло Андреич!
Отпили немного из чаш, чтобы горло смочить для пущего разговора. Мед был душист, настоян, пенной сладостью пырял в нос. От вкуса его, что ли, Михаилу Ярославичу вдруг поблазнилось, что сидят они с братом не в Сарае, а где-нибудь на Руси — хоть в Суздале, хоть в Нижнем, хоть в Твери — и знают они с братом друг друга давным-давно, а не так, как на самом деле, только нынче увиделись в первый раз. Сколь сильно при вражде родственное отталкивает — до смертной, непримиримой ненависти, — столь скоро и сильнее сближает равных друг другу по крови. Впрочем, все мы на земле однокровники…
— Знаю про то, — задумчиво повторил Михайло Андреич и спросил: — А ты вот, поди, не ведаешь, что врагов у тебя куда как много — не одни братья московские.
Михаил Ярославич удивленно поднял глаза и ничего не ответил.
— Вот что скажу тебе… — Михайло Андреич помолчал, оглаживая бороду, в которой среди белых, седых волос встречались еще и темные, русые прядки, отчего борода его в полутьме горенки казалась мокрой, точно медом облил ее князь. — Не сам Тохта, однако люди его пытали меня: отчего, мол, не прельщаюсь я владимирским отцовским столом? Смекаешь, про что говорю?
— Смекаю, — кивнул Михаил Ярославич.
— Раздор им нужен, раздор! — проговорил Михайло Андреич, подняв к голове руку с вытянутым указательным пальцем. — Знают, что из меня раздорщика сделать — что козла оседлать, только потеха одна, а все равно им. Седин не устыдились моих. — Суздальский князь поднял чашу, припал к ней надолго. — И поделом мне! — выдохнул он, с громким стуком поставив опустошенное серебро на столешницу.
— Знать, все же верно говорят, затем ты в Орде?
— Нет, Михаил Ярославич, неверно! Я хоть слаб да стар, но смерти не боюсь — открестился я от них, отбоярился. Тебе поперек и словом не стану. А ты все ж подумай: зачем я им, старый, понадобился?
— Зачем?
— Али сам не кумекаешь?! — Михайло Андреич недовольно поглядел на младшего брата. — Стерегутся они тебя, власти твоей великой. Это ты ныне за ярлыком прибежал, а ну как силу-то почувствуешь да переменишься? Вот на то им я и понадобился. И Юрий им на то надобен. Думаешь, они волчонка-то Русью прикормить собираются? — Князь усмехнулся и покачал головой: — Нет, Михаил Ярославич, не Русью — тобой! — Он снова ткнул в Михаила пальцем.
— Что-то я не пойму тебя, брат. — Михаил Ярославич попытался уразуметь, о чем говорит ему князь. — Юрий — то ладно, с ним ясно. Ты-то зачем им понадобился, тебя-то пошто они приплели?
— Как же! — Михайло Андреич всплеснул руками, затем сгреб со стола в ладонь лежавшие там виноградные кости и пояснил: — Чтоб, как косточки эти в землю кидают, в людях сомнения зарыть. Чтобы потом, коли понадобится, крикнуть: «А Михаил-то не по правде сидит! Он — тать!..»
— Так по правде же! — вскрикнул Михаил Ярославич.
— Эх, Михаил… — князь огорченно вздохнул и плеснул по чашам еще из братины. — Вроде ты и разумен, а вроде и нетолков. Кому та правда нужна? Татарам, что ли?
— Руси.
— Руси!. — Михайло Андреич невесело рассмеялся и, усомнясь, повторил: — Руси… Сам же говоришь, Русь обмануть — что девку смутить. Нужна ей правда-то. Али московичи правды не ведают? — Прямо взглянул он в глаза тверскому князю. — То-то… Знать, правда-то им не больно надобна.
— Не вся Русь — московичи! — возразил Михаил Ярославич.
— А и без них Русь не целая, — отбился Михайло Андреич и вновь поднял чашу.
— Здрав будь, Михаил Ярославич!
— Здрав будь, Михайло Андреич.
Мед у суздальца был не только душист, но и хмелен, да крепко хмелен. В голове от него не яснело, а пуще туманилось. Михайло Андреич подпер кулаком скулу и тихо спросил, будто Михаил был за то ответчик:
— Что ж твоя Русь молчала, когда батюшка мой, Андрей Ярославич, муки за нее принимал. За нее!.. — повторил он.
В голосе его столько оказалось искреннего страдания, что Тверской, пожалев старика, не стал ему возражать. Пусть выговорится, поплачет. Поди, за всю жизнь не многим в том мог довериться…
— Да, — горько и досадливо проговорил Михайло Андреич, — стар я в женихи-то для нее, для Руси-то… Пока в силах был — забаивался. Слышь, Михаил, боялся я! Да молодцов на нее и без меня хватало. Терзали ее всяко, бедную. Мол, все стерпит! А молодцов-то, чую, и ныне достанет…
— Ну… — настороженно протянул Тверской.
— Не о тебе речь, — махнул рукой Михайло Андреич и вдруг натужно, будто закашлял, рассмеялся. — А я вот нарочно на ордынке женюсь! Слышь, брат, на молоденькой!
Михаил Ярославич поглядел на него удивленно. Жениться — дело нехитрое, да ведь и на то резон нужен. Особливо в преклонных летах. Нешто влюбился али просто бес под ребро толкнул? Так ведь на Руси и своих боярышень и княжон довольно.
— Не веришь? — Михайло Андреич казался доволен своим лукавством и удивлением, какое вызвал у брата. — Во как! Я ведь и в Сарай-то за тем пришел…
Еще поднимали чаши. Но Михаилу Ярославичу стало уж скучно с князем. Тот как-то враз по-старчески сник, лишь посмеивался да все повторял, видать, полюбившееся присловье:
— На Русь-то без меня женихов достало, а я вот теперь нарочно на ордынке женюсь…
Михаил Ярославич и сам собрался было уже проститься, но тут к старику от излишнего ли пития, от иного ли утомления враз подступил недуг. Князь сделался странен: лицом вроде и побелел, но на его острых высоких скулах выступили багровые пятна, лоб покрылся испариной, и задышал он хрипло и тяжело, как дышат перед зеленой кончиной.
— Ступай, брат. Худо мне, — простонал он, схватываясь то за грудь, то за шею.
— Нешто позвать кого?
— Ни к чему… Сами прибегут. — Он улыбнулся сквозь муку и, тяжело дыша, снова проговорил: — Женюсь вот, слышь, брат… на ордынке… на молоденькой… Ну, ступай уж… Бог с тобой.
Михаил Ярославич тронулся уйти, но князь, наконец глубоко вздохнув, еще задержал его:
— Погоди!
— Что, брат?
В глазах старого князя стояла видимая, осязаемая тоска вяло прожитой жизни, одиночества и невысказанных обид.
— Я ноне наболтал тебе, не думай про то… Не Русь виню — Невского. Его одного. А Русь, как Дева Пречистая, и в грехе непорочна! Смекаешь, что говорю-то?
— Понял, Михайло Андреич, — кивнул Тверской.
— А ты, Михаил, живи без оглядки. Вижу: Бог тебя любит. Ну, ступай.
— Прощай, Михайло Андреич, — повернулся Тверской в дверях.
Князь сидел, привалившись грудью к столу, неловко скрючив белые слабые руки.
— А ты их не щади, не щади! — неожиданно закричал он. — Руби их до корня! Сам корень вырви, слышь, брат! Вырви! — Откуда и сила взялась в нем для жаркой речи? — Вырви! Иначе погубят они ее, невесту-то нашу, слышь, брат!
Знал Михаил Ярославич, на кого злобится брат, но молчал.
— Не дай злому семени править Русью! Антихристы они! Погубители! Как дед их, как дядья их, Андрюшка бешеный с Дмитрием — погубители. — Навалившись грудью на стол, князь хрипел, плевался слюной, в углах рта закипала у него белая пена, но яростный взгляд его был холоден, и от этого взгляда Михаилу Ярославичу становилось не по себе, будто старик и впрямь помешался рассудком. — Спаси Русь! Убей Данилкиных сыновей! — наконец обессиленно выдохнул он.
— Смирю я их, — пообещал Михаил Ярославич.
— Не смиришь!
— А злом одно лишь зло воцарю. И от того не будет добра, — тихо, но твердо проговорил Тверской.
Михайло Андреич безнадежно махнул рукой. Глаза его потускнели, затянулись обычной скукой и безразличием.
— Ну, ступай. Бог тебе, брат, помощник.
Уже в сенях Михаил Ярославич услышал вдогон, как старик, то ли всхлипывая, то ли смеясь, произнес:
— А я вот на ордынке женюсь…
Кстати сказать, Михайло Андреич слово сдержал: женился на знатной ордынке из рода бек-нойона Усейна. Однако и в том судьба не была к нему благосклонна. Вернувшись в Нижний, он умер, не прожив с молодой женой и двух месяцев.
Михаил Ярославич с трудом пробирался верхом по улице, где люди в непрестанном движении волновались как речная вода — так их на улице было много. День убывал, но солнце напоследок палило еще нещадней.
В сущности, ничего нового встреча с Михайлой Андреичем ему не открыла. Может быть, кроме того, что в Орде не больно-то хотели видеть его великим князем по той лишь причине, что с благословения Руси он уже им являлся. Князь усмехнулся своим недавним опрометчивым и благодушным расчетам. Но Михаил Ярославич знал, что уже не отступится — ногти с рук обдерет, а выцарапает этот ярлык. Ныне ему надо стать хитрей и угодливей к татарам, чем был сам Александр Ярославич. Понятна ненависть Михайла Андреича к брату отца, но прав, выходит, тот, кто победил.
Пологим бугром улица поднялась от реки к лысому взлобку, где располагался базар. От базара навстречу Михаилу Ярославичу трое татар тащили на веревке оборванного, страхолюдного с виду русского. Мужик не упирался, но идти не спешил. Провожатые, смеясь и похабно ругаясь, обломками кольев в тычки подгоняли его идти быстрей. Мужик мычал в ответ неопределенное и вертел по сторонам кудлатой головой, будто надеялся на спасение. Собственно, это и не мужик был, а парень, отчего-то состарившийся до времени. Старили его угрюмые, запавшие глубоко глаза, не имевшие цвета, длинные, точно в печали отпущенные, грязные волосы да старческая сутулость…
Сам не зная почему, Михаил вдруг остановил татар.
— Эй! Куда вы его ведете? — окликнул он их по-кумански.
— Башку сечь! — ответил один из них.
— За что?
— Украл.
— Что?
— Мясо с жаровни.
— Голодный? — спросил князь мужика.
— Давно не емши, — хмуро кивнул мужик.
— Сколько стоит его воровство? — спросил князь у татар.
Татары были из простых, небогаты, промеж собой толковали они недолго и объявили пеню за русского всего в семь сарайских диргем. Несмотря на то что за многие преступления, включая и воровство, Джасак полагал наказанием непременную смерть (между прочим, смерть, согласно Джасаку, ждала и того, кто поперхнулся пищей за общим столом или же помочился на пепел и воду), ко времени правления Тохты нравы в Орде несколько помягчели и приобрели более рыночный характер. Какие из преступлений и вовсе перестали считаться преступлениями и не преследовались, за другие же можно стало откупиться денежной пенею. Так то было меж русскими в прежней Руси. Правда, у татар размер пени значительно колебался, главным образом завися не от рода совершенного преступления, а от того, кто его совершил и по отношению к кому. Так, уже при Тохте за убийство магумеданина причиталось сорок золотых сарайских диргем, убийство монгола оплатой не возмещалось, за смерть китайца или же латинянина можно было откупиться ослом, русских убивали бесплатно…
Михаил Ярославич расплатился с радостными татарами, вовсе не ждавшими получить прибыток за этого русского, и тронулся далее.
Спасенный мужик, будто до сих пор был повязан, покорно и безразлично поплелся в хвосте у коня. Бывают такие черствые люди, им точно все равно, что самим не жить, что других убивать. Впрочем, при внешнем безразличии к жизни живут они почему-то долго. Не благодаря и не выказывая радости от спасения, мужик, поди, так бы тупо и проводил спасителя своего до подворья, кабы князь его не прогнал.
Безмолвное, какое-то звериное присутствие человека за спиной раздражало. Хоть тот шагал, понуро опустив кудлатую и скорее всего вшивую голову, казалось, что его блеклые, холодные глаза буравят шею, упираются в затылок. Как ни грешно жалеть о сотворенном благодеянии, Михаил Ярославич вдруг остро пожалел, что спас этого единоплеменника от татар.
— Пошел прочь! — оборотившись, брезгливо сказал князь бесцветному и будто протухшему мужику.
Мужик глянул на него как-то неописуемо равнодушно, неторопко поворотился и, загребая ногами пыль, вразнолад покачивая длинными, точно бескостными руками, повлекся обратно.
Отчего-то на сей раз благодеяние не принесло душе радости, как то бывало обычно у Михаила, а, напротив, смутило душу.
Впрочем, о мужике он думал недолго.
12
Юрий явился внезапно.
Воистину появление его в Сарае (во всяком случае, для Тверского) было подобно грому среди ясного неба. Однако весть о том Михаил Ярославич встретил спокойно. Ни один мускул в лице не дрогнул, и даже глаза, всегда выдававшие его, не загорелись нетерпимым огнем. Будто он ждал эту весть. Иное дело, что творилось у него на душе. Ефрем действительно должен был благодарить Господа за то, что тот из Нижнего направил его в Тверь, а не в Сарай. Впрочем, князь и в душевной ярости понимал, что, коли Тверитин не смог удержать Юрия, значит, были на то основания.
Тотчас Михаил Ярославич распорядился найти племянника и передать ему, что до суда у Тохты он хотел бы с ним перемолвиться.
Боярин Яловега вернулся от московского князя ни с чем — Юрий наотрез, да еще с непотребным лаем, отказался встречаться и говорить с Михаилом. Мне, мол, с дядею говорить не о чем. Я, мол, в Сарай не к нему прибежал, а к Тохте, с ним и толковать буду.
Как ни востер был племянник, однако взглянуть в глаза дяде забаивался. Вестимо, даже открытые подлости за глаза-то легче творить. Хотя, разумеется, есть и такие люди, что и от прямого, прилюдного подличания смак испытывают. Но до этого Юрию надо было еще дозреть.
Тем же днем, но уже ближе к вечеру, на епископское подворье пришел нарочный от серебряных дел искусного рукомысленика Николы Скудина, отданного когда-то князем Тохте в услужение. Сам Никола даже поклониться не пришел своему бывшему князю и благодетелю. Не решился. Видать, под надзором был.
Нарочным от него оказался вятший новгородский купец Данила Писцов[83], имевший намедни по случаю сношение с Николой.
Никола сообщал, что дела русского улуса ведет беклерибек[84], а не старший визирь, что татары давно ждали Юрия и склоняют его теперь дать больший выход дани с Руси, чем дает Михаил Ярославич, и тогда, мол, хан утвердит его на великое княжение.
Примерно то и предполагал Михаил, когда опасался прихода в Сарай московского князя. Юрий уши-то, поди, развесил, обнадежился и поверил, а того не разумеет, что каков бы выход он ни назначил, а не быть ему на столе владимирском!
Яловега, находившийся тут же, на слова Писцова хмыкнул и выругался по-татарски, помянув московскую боярыню, не в добрый час зачавшую Юрия.
— Что Юрий? — спросил купца Михаил Ярославич.
Писцов усмехнулся:
— Вестимо, божится дать, сколько бы ни понадобилось.
— Собака!
— Известна порода, — согласился новгородец. — Дед-то его, когда «число» ордынское вводил, тоже всех облапошил…
Смело говорил купец с князем. Михаил с вниманием поглядел на новгородца.
— Дак ить так и было оно, — подтвердил тот и пояснил, будто князь не знал: — Невский-то посулил, что равную долю от ханской дани на всякую душу положит, котора в «число» войдет. Народ-то и возликовал равенству, а того не смекнул, что доходный-то путь у каждого свой. У кого эвона какой, — купец развел руки вширь, — а у кого — эвона! — Он сузил пальцы на обеих руках для кукишей. — Сначала-то думали подать от каждого сообразно его доходу, пойдет в том, мол, и ровность. Ан вышло-то иначе. Хоть беден, хоть богат, а за каждую душу плати одинаково. Брат-то его, Андрей Ярославич, кричал, что обманет Александр, упреждал против брата с татарами, когда еще бить их звал, ан нет, разве умных-то у нас слушают? — Он огорченно махнул рукой. — После-то уж поздно стало кулаками махать…
Купец был хорош: ладен, плечист, дороден, гладко речист и, видать, смышлен. Несмотря на жару, на встречу к князю явился не в легком пыльнике да в мурмолке, как полюбили одеваться в Сарае и русские, но в тяжелой боярской ферязи и в высокой белой шапке, загнутой вверху лихим крюком. Волосы на голове и борода его лоснилась от безжалостно вылитого на них конопляного масла. Карие глаза, как масленки в траве, то открывались навстречу собеседнику, а то прятались от видимого лукавства.
— Ну, а новгородцы-то что? — спросил князь.
Писцов поглядел на Михаила Ярославича, как птаха, склоня голову на плечо, будто спросил тот пустое.
— Новгородцы, великий князь, известно что…
— Так что же?
— Коли с утра не тихи, так уж к вечеру буйны, коли к вечеру буйны, так всю ночь колобродят. А с утра снова на вече.
— Али ты не новгородец?
— И я новгородец. Только и новгородцы, великий князь, чай, разные. — Писцов серьезно посмотрел Михаилу Ярославичу в глаза и вздохнул. — Ходим мы по миру-то, видим, как иные живут.
— Али лучше?
— Да не в том суть, что лучше, — лучше нашего-то, поди, нигде не живут. А вот чище, что ли, единей. Не знаю, как и объяснить-то тебе. Что шведы, что немцы, что татаре эти поганые друг за дружку вона как держатся! Мы одни над собой надсмехаемся, токо бьемся да режемся.
В Князевых покоях воцарилась долгая тишина, какую не нарушало, а, напротив, усиливало дальнее церковное пение.
— И я то не ведаю… — тихо, раздумчиво произнес Михаил Ярославич. Помолчал и сказал так, как говорят самому себе. — Хочу иначе. Да не знаю, как сладится. — Потом усмехнулся, глядя уж на купца. — Дело не скорое, Данила Писцов. Не загадываю. И славы не обещаю. А коли хочешь быть помощником, так служи у меня, — неожиданно предложил он.
Новгородец осенил себя крестным знамением, низко поклонился Михаилу Тверскому и молвил:
— Что ж, послужу тебе, великий князь. Затем и пришел…
— Поболе таких-то писцов-то, глядишь, и беда помене была, — сказал Святослав Яловега, когда новгородец, урядив договор с князем, отбыл.
— Да мало ли их таких! — отозвался Михаил Ярославич.
— Эх, княже, — по-свойски вздохнул Яловега, — в том и горе, что мало.
Ежели до сего дня Яловега с окольными ровно на службу ходил в ханский дворец, толкая Князеву нужду и торопя визирей ее наготовленными для того подарками, то теперь Михаил Ярославич делать этого не велел: как позовут, так и ладно.
Никогда прежде не чувствовал Гюйс ад-дин Тохта полноты своей власти в той мере, в какой чувствовал это теперь. Могущество его было зримо, как звезды на небесах.
Все веры и все языки мудростью Тохты и благим предопределением Вечно Синего Неба склонились пред незыблемым превосходством Чингисова закона и взлелеянного им народа непобедимых татар.
Великий народ не знает над собой единого Бога. Великий народ верит — что ни есть в небе и на земле: огонь, вода, воздух, свет, тьма, ветер, дождь, кусты, прах, дневное и ночные светила, — все служит ему божеством. Великий народ не знает Бога Человека, кроме самого хана… Так отвечал Тохта магумеданам и латинянам и всем, кто имел смелость склонять к своей вере.
— Только в покое величие, только в величии покой, — говорил он загадочно, но никто не мог достигнуть ни его величия, ни покоя, потому как один надо всеми он был велик и покоен.
Из многих кровей могущественный Чингис сотворил единый великий народ. Но русские и под пятой того народа все остаются русскими, иным народом со своей верой, речью и обычаями. Даже служа хану, воюя и умирая за него, они все одно остаются иными — русскими. В том их загадка и их несчастье. Будто меченые они. Иные что листва, с дерев сорванная: полетели скопом под ветром и забыли, какой из них с какого дерева оборвался. Русские — нет: и в чужом скоплении помнят, откуда они. И в этом их сила…
Тохта не боялся русских. Его могущества и сейчас вполне хватило бы на то, чтобы огнем смирить всякое возможное непокорство, однако вокруг он ценил покой, а в самом себе более всего почитал мудрость. А для того чтобы и далее сохранялся покой, всего-то и надо было не давать русским помнить о собственной силе. Давно известно: сила любого народа в единстве. Единство достигается верой, властью да общей бедой. Беда и вера у русских была едина — и этого хан их не мог лишить. А вот чего у них не было — так это единой власти. Значит, следовало и впредь не допустить ее прочного становления. И табун без вожака не бежит.
Гюйс ад-дин Тохта, при всей его мудрости, ничего нового не выдумывал, он лишь продолжал то, что делали и до него в отношении Руси предшествующие ему ханы. Все в этом мире не ново. Да и что может быть ново в мире, где от века правят зависть и злоба?
Но те же персы, те же латиняне, несмотря на разительные отличия, в злобе и зависти равны: и завистливы чаще к другим, чем к единоплеменникам, и злобливы чаще не друг к другу, а к разноверцам. Русские же просто на диво противоположны в том прочим. Так, иноземцам они не завидуют и, даже видя их выгоды и преимущества жизни, только вздыхают усмешливо, будто на самом-то деле знают свое превосходство: что ж, мол, так уж у них, знать, заведено по-хорошему. К иноземцам, да к тем же татарам, они и незлобивы без повода, а чтобы их раззадорить, много горя нужно им принести. Но зато уж промеж собой ни в злобе, ни в зависти меры знать они не хотят. И коли уж меж собой раздернутся, в бойне до такого беспощадного остервенения доходят, какого, пожалуй, ни к татарам, ни к немцам не питают. Вот что в них любопытно и примечательно.
«Однако тем проще и вернее править над ними, — размышлял иногда правосудный, равно расположенный ко всем добрым людям Гюйс ад-дин Тохта. — Надо лишь вовремя дать им повод для зависти, а уж злоба в них сама разгорится».
Юрий в своем превосходстве над Михаилом уверился еще на Москве от братниных слов. В Сарае же ему такого в уши напели, что теперь он вовсе не сомневался в том, что владимирский стол по праву принадлежит ему. Ордынские вельможи не только улыбчиво и благосклонно принимали его подарки, что само по себе считалось добрым знаком, но и открыто обещали ему непременное содействие в достижении заветного ярлыка. Советовали лишь не скупиться на обещания да не торговаться о выходе, а там уж правосудный Тохта решит дело в его пользу. При этом они не сильно лукавили и почти были искренни, так как всем было ведомо, что на стороне московского князя, в защитниках его перед ханом, стоит молодой, во увертливый и хитрый Кутлук-Тимур, новый беклерибек.
Кутлук-Тимур вознесся счастливой судьбой на вершины власти недавно: после того, как именно он сумел убедить нойонов Ногая предать старого князя и перейти на сторону хана — Тохты. Их перемет с тридцатитысячным войском во многом определил исход сражения и уж во всем определил дальнейшую звездную судьбу Кутлук-Тимура. Тайный магумеданин, теперь он пользовался большим расположением Тохты, чем великий лама, некогда безмерный в могуществе Гурген Сульджидей, ныне увядавший в старческой немощи. Впрочем, как ни ослабло его влияние, но и по сю пору слово Сульджидея, освященное благостью Вечно Синего Неба, все еще что-то значило для Тохты. Хотя, разумеется, чем более велик становился Тохта, тем менее восприимчив делался ко всяким словам, даже и освященным благостью Вечно Синего Неба…
Так или иначе, но поддержка в Орде у московского князя была, и росла она тем быстрее, чем безрассудней и опрометчивей день ото дня кричал он свои обещания служить хану верой, правдой, войском, серебром — словом, всем, что есть дорогого у русских. Действительно, обещал он с такой изумительной легкостью, будто сроду не знал, как тяжко дается Руси каждый малый золотник серебра, из тысяч и тысяч которых составляется ежегодная великая ханская дань.
Михаилу Ярославичу оставалось лишь скрежетать зубами, винить себя за то, что сам не остановил на Руси племянника, да диву даваться, глядя на то, как бесстыдно торгует московский князь тем, что ему не принадлежит. Ради гордыни Юрий готов был отказаться и от тех немалых льгот, что получила. Русь во время ордынской замяти, случившейся после смерти жесткого и коварного хана Менгу-Тимура. Вновь, как дед его Александр Ярославич, он готов был навести ханских баскаков и откупщиков, уж было забывших на Русь дорогу. Но здесь Юрия с дедом и равнять было никак нельзя, потому что его в том никто не неволил, он сам кричал: дам, мол, татарам прежний доходный путь! Истинно, оставалось лишь удивляться: пошто себе на погибель носит таких земля?
Однако в том, что племянник кричал о собственной подлости и неразумности на весь белый свет заутренним петухом, было для Михаила Ярославича и некоторое утешение: во-первых, его слышали, не могли не слышать многие русские из разных земель, бывшие в те дни в Сарае. Пусть здесь от их мнения совершенно ничего не зависело, но купцы да бояре рано ли, поздно вернутся домой и уж дома поведают людям о злодействе, какое замыслил московский князь. Али там все равно, кому дань платить: своему князю или наезжему татарину, для которого и семь русских шкур всегда мало? Авось помнят еще, как плакали да стонали, как глаз не смели поднять на лицо откупщика — а то вдруг тому взгляд не понравится, так он голову вмиг ссечет… В том был дальний и тревожный загад — если придется все-таки войной да силой отнимать ярлык у племянника, ладно будет и то, что никому уж не понадобится объяснять свою правоту. Это во-первых… А во-вторых, чем щедрее да посулистей обещал Юрий, тем невыполнимее становились его обещания. И этого Тохта не понимать не мог.
Разумеется, дело было вовсе не в том, что Тохту могли бы напугать возможные возмущения в русском улусе. Орда была достаточно сильна, чтобы пригасить всякую отчаянность, как то бывало уже не раз, в каком бы отдельном городе или княжестве она ни возникла. Но ведь кобыл пастухи пасут не ради шкуры, а ради их молока. А от жирной кобылы можно получить молока вдвое больше, чем от загнанной и худой. А кроме того, разве не мог ну хоть даже предположить Тохта и того, что и русские, забыв свои распри, вдруг да объединятся перед общей кровавой бедой? Али то уж совсем немыслимо?..
И так и эдак прикидывал Михаил Ярославич, думал и за Юрия, и за Тохту.
Время тянулось пыткой.
Ушли из Сарая последние лодьи низовских, новгородских, шведских и немецких купцов, покинули его шумные персы и генуэзцы, тронули в дальний путь караваны китайцы, кочевые татары погнали в степь и далее на зимние предгорные пастбища стада овец и конские табуны, тяжелые, непрогонистые тучи омрачили ясное небо Дешт-и-Кипчака, от дождей раскисли, казалось бы, навсегда убитые летним зноем пыльные сарайские улицы, город вдруг обезлюдел, наполнился ветрами, что по ночам стучали зло в ставни и выли по-волчьи, обещая скорую стужу.
Но, как всегда и бывает в столицах, после долгого волока дело решилось неожиданно разом.
13
Веление явиться в ханский дворец пришло как раз в канун дня Михаила Архангела, небесного покровителя тверского князя. Всю ночь молил Михаил Ярославич Господа и своего тезоименинника о помощи, а наутро, причастившись Святых Тайн на случай внезапной смерти, отправился на встречу с вольным царем.
Коли был бы теперь жив Властелин Мира и Владыка Человечества великий Чингис, поди, не потерпел бы он роскоши Тохтоева дворца. Несмотря на несметные сокровища, которыми обладал, Чингис вел простую, грубую жизнь воина, в коей всякие излишества исключались как недостойные внимания Человека. То и заповедовал он своим потомкам на скрижалях Джасака, однако известно: слаб человек, и многие из потомков его не смогли избежать искушения и привыкли к пышной магумеданской роскоши. Хотя Тохта оставался язычником, однако уже и в его душу магумедане, постепенно бравшие верх в Орде над прочими, заронили зерна, покуда всходившие пустоцветом внешнего, показного величия, богатства и превосходства над остальными. Будто забыл Тохта прозвище, данное Чингисхану магумеданами: Проклятый, так они его называли.
Огромный белостенный дворец под круглым небесным сводом полнился золотом и серебром, отлитым в разных землях для разных нужд в чаши, кубки, церковные потиры, подносы… Полы были застелены не войлоком, но хорезмскими коврами, ласковыми и мягкими, как тело женщины, шаги в них глохли, как глохнет печаль в утешную ночь, однако ноги будто ступали но живому. Что-то в самом дворце неуловимо, но явственно изменилось, точно он стал не жилищем пусть и великого, недостижимого, но человека, а святилищем ожившего идола.
Тверского князя и его спутников долго вели сквозь строгие, молчаливые ряды стражников. Многочисленные вельможи, провожая, сдавали их, будто вещь, с рук на руки один одному. И каждый из провожавших и вновь принимавшие гостей сладко и длительно улыбались такой улыбкой, от которой сводило скулы. При этом и те, кто улыбался, и те, кому улыбались, знали истинную цену этой приветливости.
Но еще более дворца изменился сам Тохта. Женственное его лицо с выщипанными лунной дугой бровями обрюзгло, кажется, стало желтее, по лбу и от крыльев носа легли глубокие, прямые морщины. В длинных маслянистых волосах, по-прежнему заплетенных в косицу, была уж не одна седая прядка, которой некогда хан гордился, как небесным отличием, но многие. Выбиваясь из-под высокой, круглой и шитой золотом шапки «кюрде», волосы его тускло светились, будто чернь по серебру, выполненная искусной рукой. И чревом Тохта стал обилен, чего не могли скрыть широкие, ниспадавшие долу складки белых одежд. В повороте ли головы, в движении вялой пухлой руки виделись то ли величие и покой, то ли усталость человека, познавшего в этом мире все и ни в чем не нашедшего ни смысла, ни удовольствия. Впрочем, первое равно второму, потому как человеческое величие несовместимо с понятием небесного смысла, а покой лишь конечное завершение жизненных удовольствий. Если дворец показался Михаилу Ярославичу богохульным святилищем, то Тохта поразил его действительным сходством с теми молчаливыми, темными и грозными чудскими идолищами, какие и до сих пор часто встречались ему на лесных дорогах мерской Руси.
Гурген Сульджидей по-прежнему сидел от хана по правую руку, хотя место это более соответствовало беклерибеку. Одет он был, как когда-то, будто все в ту же засаленную серую ряску из грубого холста, голову его венчал будто все тот же, не сношенный до сих пор высокий колпак.
Правда, лицом изменился. Оно словно иссохло, сделалось маленьким, как у ребенка, только не было в нем ничего от дитя. Напротив, будто сама старость глядела из запавших узких глазниц. Круглые черепные кости словно заострились, высокие скулы еще более выступили вперед, обтянулись истончавшей, казалось, готовой вот-вот прорваться кожей, хрупкой, как смертный прах. Впрочем, глаза мудрейшего эмира великого хана глядели цепко и холодно, как у охотника, укрывшегося в схороне.
Все, что было в его силах, сделал он к этому дню, чтобы Тохта не ошибся в решении, от которого, может быть, тоже зависело дальнее будущее Чингисова племени. К старости Гурген Сульджидей пришел к странному и внезапному выводу: Баты неверно выполнил предписания Чингиса, воевать мир следовало не на западе, а на востоке. Из русских же следовало сделать не данщиков и врагов, но союзников, и тогда… И тогда во все времена не было бы на свете более сильной и великой империи и уж той империи не был бы страшен враг, какого Сульджидей боялся пуще всего, потому как не знал от него защиты. Если бы Вечно Синее Небо дало ему новых сил, все силы отдал бы он одной борьбе с ненавистными Сульджидею магумеданами. Странно то казалось и самому Сульджидею, но в душе, тайно, давно, вот уж несколько лет, в православной Руси он видел не опасность, но спасение для татар…
Тут же находился и новоиспеченный беклерибек Кутлук-Тимур. В противоположность Сульджидею, он был молод, порывист, толст круглым румяным лицом. От удачи ли, пришедшей так рано и так внезапно, просто ли от веселого нрава Кутлук-Тимур беспрестанно, стоило лишь кому-нибудь на него поглядеть, обнажал жемчужно-белые крупные зубы в улыбке. Впрочем, тому, кто глядел на него, от той улыбки отчего-то сразу становилось не по себе и он спешил отвести глаза. Беклерибек был так молод, что усы его не успели обвиснуть, как у других татар, а топорщились над губой жесткой и колкой щеткой. Тайный магумеданин, русских он ненавидел страстно, хотя и самому себе вряд ли смог бы ответить за что. Ведь рабы — а он полагал русских рабами — недостойны ненависти.
На владимирском столе, оказывается, имевшем какое-то значение для этих русских, Кутлук-Тимура более всего устраивал Юрий. Как ни странно, при всей его нелюбви к русским вообще, московский князь ему нравился. И своей молодостью, и норовом, схожим, видать, с его собственным, и рабской, так свойственной русским готовностью к любым уступкам ради достижения нужной цели, и даже повадками, напоминавшими зверя.
Со своей стороны Кутлук-Тимур постарался заранее приложить усилия, чтобы выбор Тохты пал на его избранника.
В огромной, однако душноватой и сладкодымной зале, где прямо на каменном полу горел очаг, находились и другие люди — повзрослевшие царевичи, нойоны и огланы — но всех их оказалось куда меньше, чем в прошлые времена. Отчего-то отсутствовали ныне и ханские жены. Не было и гостей. И за парчовой опоной свирельники не играли в свои свирели. Лишь легкие, скользкие и пахучие от мускусных притираний девушки в прозрачных, почти невидных на них одеждах, как прежде, утопая босыми ногами в коврах, бесшумно скользили по зале, разнося высокие чаши с кумысом да серебряные блюда с пряным мясом и сладкими овощами.
Племянника Михаил Ярославич приметил сразу, но в его сторону не глядел, будто его здесь не было. Впрочем, и Юрьев взгляд был надменен. Московский князь сидел в гостевых местах, в окружении трех-четырех окольных, на женской, левой от Тохты стороне. Сидел по-татарски, скрестив и поджав под зад ноги. Видать, уже отдарился.
Как повелось, и тверской князь пришел на поклон не с пустыми руками. Долго лились к подножию ханского места (Тохта сидел на возвышенном золотом полукружье, точно на краю всходящего солнца) дары от княжьей казны. Опять были среди них горностаевые да собольи меха, драгоценные сосуды, каменья да бабьи безделицы, наготовленные бесчисленным ханским женам.
Но вот и подарки иссякли, и все поклонные, приветственные слова. Михаил Ярославич молча стоял перед ордынским вольным царем, покорно опустив голову и ожидая решения судьбы.
Но и хан, по своему обыкновению, не торопил события, молчал, глядел на Михаила Ярославича, точно стараясь припомнить, кто это перед ним. Затем равнодушно отвел глаза, шевельнул не всей рукой, а одними пальцами, тем самым определив тверскому князю место напротив московского. Таким образом, Михаил Ярославич отправился на сторону, бывшую по правую руку от хана, где сидели царевичи и нойоны. В иное время того бы уж было достаточно, чтобы понять, в чью пользу решится дело. Однако ныне Тохта казался слишком замкнут и скучен, а все вокруг непредсказуемо и тревожно. Тем не менее от кумыса, предложенного князю, Михаил Ярославич отказался.
Татары точно забыли о русских, вели неторопливо свои дела да время от времени славили хана. Длилось так довольно долго, пока сам Тохта не обратился вдруг к Михаилу Ярославичу.
Отчего, князь, редко гостишь у меня? — неожиданно ласково спросил он по-русски.
— Без воли твоей на то не решаюсь попусту беспокоить великого хана, — ответил Михаил Ярославич.
— Э-э-э, — вяло махнул рукой хан и тут же снова спросил: —.Зачем же теперь пришел? Или дело у тебя какое ко мне?
Михаил Ярославич отставил высокий кубок с густым, кровавого цвета вином, поднесенным ему взамен кумыса, поднялся. Разумеется, знал Тохта, зачем пожаловал к нему князь, да и князь знал, что Тохте все известно, потому говорил Михаил Ярославич недолго, лишь представил свои доказательства на старшинство среди русских князей. И закончил:
— …Ищу суда у тебя, правосудный хан, на племянника, — он кивнул в сторону Юрия, глядевшего исподлобья злым глазом. — Забыл он али не знает, однако издревле и не нами говорено: не стоит та земля, в которой князья неправедны. Не по чести хочет он меня обойти. А ить всякий народ — что татары, что русичи — своим обычаем держатся. И сильны дотоль, покуда чтят те обычаи. Слыхал, я, великий Чингис и вам то заповедовал. Али не так, правосудный хан?
Во все время его речи хан сидел, мерно покачиваясь и прикрыв ладонью глаза, будто молча пел свою песню. И не сразу, как князь замолчал, опустил он от глаз ладонь.
— Мудрость наша в том, что мы в чужие обычаи не мешаемся, — изрек он. — Чингис и то сказал: всякий, кто покорится, будет помилован, всякий, кто не покорится и выйдет с распрей, да погибнет. А до вашей веры и ваших обычаев нам дела нет. По своим обычаям и законам ты с племянником и судись. — Он помолчал, затем оборотился лицом к Кутлук-Тимуру, который радостно оскалил навстречу ханскому взгляду белые зубы, и вновь повернулся к Михаилу Ярославичу. — Однако говорят, московский князь против твоего вдвое больший харадж дает. Так ли?
Не сдержавшись, Юрий вскочил с места, выкрикнул:
— Так, великий хан, так! Врет он на меня, пес, врет! Я прав на Владимир не мене его имею! Дед мой, Невский, верой ханам служил… — Юрий будто подпрыгивал на месте, перебирал ногами, как конь, чтобы его лучше заметили. — Дам дань, какую…
— Не тебя спросил! — недовольно оборвал московского князя хан. Юрий, смутившись оттого, что навлек на себя недовольство Тохты, тихо опустился на корточки.
— Так каков, Михаил Ярославич, твой харадж будет? — усмехнувшись, спросил Тохта.
Действительно, попробуй-ка тут враз и с ходу ответить, когда уж другим заявлено, что он все равно вдвое больше заплатит.
«Господи! Пошто земля таких носит…»
Слышно стало, как хрустнул зубами князь, видно стало, как заходили у него злые желваки на скулах, аж шевеля ближние волосы бороды.
— Так каков, князь, твой харадж будет, спрашиваю? — повторил Тохта.
Михаил Ярославич вздохнул.
— Великий хан, оставь выход в той мере, каков ныне есть. Тяжко Руси, дай ей потучнеть. А уж придет срок, сторицей восплатим тебе…
— Не про то говоришь, — поморщился Тохта.
— Отставь пятину Руси, — заупрямился Михаил Ярославич.
— Ну а ты сколько даешь? — оборотился Тохта на Юрия.
— Вдвое, великий хан.
Михаил Ярославич с ненавистью поглядел на племянника.
А Юрий, точно распонуженный конь в ожидании посыла, то и дело переступал с ноги на ногу, руки его то хватались ушей, то тянулись к нарядному поясу, словно ища оружие, которого не было, так как всех русских перед входом в дворцовую залу разоружили, — и весь он находился в каком-то мелком беспрестанном движении, будто тело его зудело от насекомых. Клювастая голова его и та быстрыми птичьими поворотами склонялась то к одному плечу, то к другому, что было явственно видно при жесткой неподвижности празднично и дорого изукрашенного высокого козыря, плотно обрамлявшего вихрастый затылок и шею.
— Вдвое, великий хан, вдвое!.. — радостно, победно кричал он в противовес каждой меры, предлагаемой тверским князем.
При таком раскладе отстаивать свое было и бессмысленно и опасно. Но что еще оставалось?
И долго тянулась омерзительная бесовская морока бесстыдного предательства и нещадного разорения русской земли.
Свирепая распря возникала по всякому поводу, какого бы ни касались.
Если тверской князь обещал помогать Орде русской ратью по мере военной необходимости, то московский князь сулил ежегодно и безвозвратно поставлять в ханское войско каждого десятого русского; если тверской обещал с прежним избытком содержать ханские посольства, стоявшие в каждом городе, Юрий так расщедрился, что чуть не всю Орду звал в Русь на кормление. Будто на ведал ордынских делюев, служивших на Руси по посольской нужде. Русские меж собой тишком называли их не делюями, а нелюдями. И то: их одних-то, изощренно глотастых, прокормить какой казны стоило! Да и не хлеба, в конце-то концов, жалко было Михаилу Ярославичу, но свободы русской! Ведь делюи-то на Руси не одного хлеба ради сидели! Неужели и того Юрий не разумел? Разумел…
Спорили и по черному бору, и по зерну, и по меду. Спорили по числу голов и даже по мастям лошадей — и тех татары обязывали Русь поставлять в Орду, хотя русские-то лошадей зачастую сами у татар за серебро покупали. До хрипа спорили по любой закавыке, которая, попав буквенным крючком в ханскую грамоту, нуждой цепляла всякого русского, подобно тому как цепляет рыбину за губу хитрый ловный крюк искусного рыбаря.
Скрепя сердце и воистину скрежеща зубами, Михаил Ярославич вынужден был набавлять, чтобы опередить племянника. Он чувствовал себя переметчиком, будто это он, а не Юрий всю чадь, всех людей, всю Русь отдавал поганым на поругание. Душа его стенала и выла. Но ведь и иначе было никак нельзя! Оставалось лишь отрешиться в пользу племянника, но и то решительно не давало пользы, а, напротив, еще более развязало бы руки умопомраченному гордыней Юрию.
Юрий же распалился до страсти и не обещал лишь кресты снять с церквей. И то потому, что его о том не спрашивали.
— Отступись, Юрий!
— Не отступлюсь!
— Христом прошу! Не ради себя — Русь губишь!
— Пошел ты…
— Что ж ты творишь-то, хвост сучий?!
До исступления дошли и дядя и племянник, уж легче бы было железом звенеть!
«…не щади их! Вырви себя! Убей Данилкиных сыновей!..» — стучало в мозгу.
И то: казалось, голыми руками готов был схватить Михаил Ярославич племянника за кадыкастую шею и придушить его здесь, как куренка, на глазах у татар.
Татары же получали уже не просто удовольствие, но чистое наслаждение от брани русских владетелей. Смеялись, задорили, брызгали слюной по усам, будто собак травили.
Сам правосудный Тохта, невозмутимый, как идол, и тот повеселел от забавы.
Наконец, вволю испив позора, Михаил Ярославич взмолился:
— Нет боле сил терпеть тяготу! Хан правосудный, дай мне поле с племянником! Пусть Бог наш всевидящий кровью рассудит, кто из нас прав!
Тохта презрительно усмехнулся:
— Бог ваш на небе рассудит вас — после. А на земле на то моей воли хватит.
Неожиданно Гурген Сульджидей поднял на хана маленькую, с хороший кулак, и костистую же, как кулак, голову и заговорил о чем-то, быстро и остро взглядывая то на тверского князя, то на московского. Несмотря на тщедушность тела, голос его оказался тверд и громок. Некоторые слова он вскрикивал даже пронзительно. Правда, понять его было никак нельзя, потому что с ханом Сульджидей всегда говорил на ином наречии, тогда уже недоступном пониманию и многих ханских приближенных, не то что простых татар.
Сульджидей говорил яростно. Такой ярости немыслимо было и представить в предгробном старце. Оттого неведомые его слова казались еще страшней.
— Когда в войне с Мухаммедом-воителем, славным из славных воинов в своей презренной земле, Богда Чингисхан осадил Самарканд, тридцать тысяч магумедан, убоявшись Чингиса, переметнулось к нему. Не так ли, Тохта? — Старик спрашивал у хана, но отвечать ему не давал. — Так было, так… Чингис их принял любезно, не так ли?.. Так было, великий хан! Но когда Самарканд пал, он всех их, всех до единого истребил как изменников своему государю! Не Чингису изменили они, но, напротив, его врагу, презренному магумеданину Мухаммеду. И он убил их всех, поголовно, как изменников своему государю. Богдо Чингисхан тем и велик был, что и у противников равно почитал достоинства, а более всего ненавидел склонность к измене и без жалости карал даже тех, кто изменил другим ради него. Не так ли, великий хан?
— Что хочешь? — Тохта неприязненно глядел на старика, от слова которого когда-то он трепетал, как от небесного грома.
— Возвеличь этого, — кивнул он в сторону тверского князя. — И убей того! — согнутым желтым пальцем с внезапно белым, безжизненным уже ногтем указал он на Юрия.
Видно, верно говорил о нем Кутлук-Тимур, — мол, от старости великий лама замутился умом, и родник мутнеет от времени…
— Убей! Убей! Тридцать тысяч простых воинов, предавших своего государя из-за глупого страха, убил Делкян езен Суту Богдо Чингисхан, ты же, Тохта, убей одного, предающего тысячи из жадности и гордыни. Убей его не ради Руси, но ради своих монголов, убей одного, заклинаю тебя милостью Вечно Синего Неба, убей его, и будешь славен в веках и велик, как Чингис!
Сульджидей почти кричал на хана, выкатив из запавших глазниц глаза, горевшие то ли сумасшествием, то ли чародейским прозрением.
Как в молодости, Тохте стало жутко от его загадочных слов, но он уже не верил Сульджидею, как верил ему в молодости.
— Нет, почтенный Гурген, нет. Что тебе эти русские? — не столь ласково, сколь осторожно увещевал Тохта старика. — Я поступлю иначе. Я сделаю хуже им — я оставлю его. Пусть он будет, он нам нужен, пойми… Пусть будет он.
Дряхлый Сульджидей, видать, обессилел от долгой и безуспешной речи. Глаза его вновь глубоко запали, спрятались и потухли, а личико еще более сморщилось, как у ребенка, готового к плачу.
— Дело ваше скоро решится, ступайте… — вяло, одними пальцами шевельнул Тохта, отпуская русских князей, смиренно дожидавшихся своей участи.
И, презрительно отворотив голову, застыл в глупом величии и покое.
Татарское «скоро» длилось, вестимо, долго. Немало дней прошло в томительной неизвестности.
В один из тех дней Михаил Ярославич встретил свое тридцатитрехлетие. Тридцать три года сровнялось тогда Тверскому. Впрочем, он и не вспомнил о том. На душе было темно и уныло, как в кипчакском небе, кропившем степь беспросветным дождем. По такой погоде даже выехать из Сарая не представлялось возможным…
А вот Юрий — с чем ли, ни с чем ли, однако, напакостив сколько смог, уж отбыл так же внезапно, как прибыл, успев ухватить еще не раскисший до непролазности путь. Точно черт ему помогал.
Наконец и Тохта опять позвал князя.
На сей раз он был, не в пример первой встрече, любезен. Смилостивился, идолище. Смеясь, называл Тверского русским царем. И тем же днем сам вручил Михаилу Ярославичу долгожданный и ненавистный ярлык.
Скреплявшая пергаментный свиток алая ханская тамга жгла руку и казалась Тверскому отверстой, кровавой раной.
Январским днем одна тысяча триста пятого года владимирцы и пришлые отовсюду люди, словно в светлый и печальный праздник Успения Божией Матери, стекались к Богородичной церкви, где венчался на владимирское великое княжение Михаил Ярославич, князь тверской.
Позлащенные двери собора были распахнуты настежь, в мороз дня клубами валил из них людской теплый дух. На улице снег и солнце до слез слепили глаза. В соборе слезы застилали глаза от иного, вышнего света.
Жарким огнем горели серебряные и золотые паникадила, огонь тот отсвечивал, возгорался на крестах священников, на округлых боках золотых богослужебных сосудов, в сотнях глаз, глядевших на князя с любовью, надеждой и умилением. На чудных вервях, словно от Божьего дыхания, мягко колыхались тяжелые драгоценные ткани, извлеченные из ризницы по великому случаю. Торжественное облачение митрополита Киевского и всея Руси Максима и его архиереев было тяжело для немощных, старых плеч, но в то же время и тяжестью своей сообщало плечам особую силу. Длиннополая багряная порфира князя сливалась цветом с бархатной багряной «дорогой», устилавшей пол.
В двенадцать высоких и узких окон, расположенных вкруг свода под самым куполом, лился прозрачный небесный свет, и в том свете по писанным на небе купола облакам снисходил к людям, к чадам своим, Спаситель, паря над ними и недостижимо и близко.
Уже под венцом и в бармах, возложенных на плечи, Михаил Ярославич одиноко стоял, обозримый всеми, на небольшом возвышении невдалеке от алтарной преграды. В руках он держал тяжкий, изукрашенный золотом и каменьями посох.
Люди плакали и молились о счастье нового государя.
— Возмогай же отныне, возмогай, когда и силы избудешь, возмогай ради люди своя. Ибо, когда приидет час суда твоего, ты возможешь стать пред Господом безбоязненно и сказать: «Се аз, Господи, и люди Твои, которых Ты дал мне». Михаиле! Вмале ты был мне верен, надо многими поставлю тя!.. — осеняя князя Мономаховым животворящим Крестом, говорил первосвященник владыка Максим.
— По Божией милости и по данной тебе благодати Святого Духа благослови, владыко, на великое княжение ради Руси и людей ее богомольных, — истово выдохнул Михаил Ярославич.
— Прийде, сын мой, принять Печать и Дар Святого Духа! — ответил митрополит.
Михаил Ярославич преодолел по багряной дороге недолгий, но тяжкий от бремени путь до царских врат, возле которых пал на колена, и святейший старец Максим свершил над ним миропомазание, призывая сошествие на князя благодати Святого Духа.
— Да умножит Господь лета царствия Михаила, да узрит Он сыны сынов своих на отчем месте, да возвысится десница Его над врагами и устроится царство Его мирно и вечно… — в других вселяя надежду, пел над князем добросердечный святейший митрополит. И многие губы повторяли за ним: «мирно и вечно, мирно и вечно», вкладывая в те слова тоску и светлые устремления злой, краткой жизни.
С хоров глядела на славу сына матушка Ксения Юрьевна. Она уповала в его судьбе только на Божию милость. «Дай совершить ему, что задумал, ради люди Твоя беспамятные…» — смиренно просила за сына у Бога.
«Господи! Господи!..» — неизреченной молитвой плакала и рыдала душа Михаила, возносясь к Господу, зримо парившему в вышине купола.
И тут словно кольнуло князя. Так бывает, когда сердцем почувствуешь живой взгляд, на какой невозможно не обернуться. Поворотись, налево от царских врат, в алтарной преграде среди завес и пелен с иными иконами, с младенцем Христом на руках увидел он ту, чьим именем и названа была церковь.
С печалью глядела на него Богородица. Так смотрит мать на сына во гробе…
Не выдержав ее скорбного взгляда, Михаил отвернулся и вдруг с внезапным безжалостным прозрением собственной судьбы наперед, до острой боли в груди пожалел, что не убил его. Племянника. Юрия.
Он ужаснулся кровавой, братоубийственной мысли, помимо воли возникшей в уме во храме, пред взглядом той, чей Сын своей смертью искупил людские грехи. С трепетом он вновь поднял глаза на икону Божией Матери, вновь встретился с ее взглядом. Не было в нем упрека, не было!
И в золоте, и в драгоценных каменьях чудотворная владимирская святыня была проста и истинна, как рождение или смерть. И загадочна, как смерть и рождение…
Но видел Михаил: во взгляде ее не появилось упрека. Хотя и осталась та же печаль.
«На Москву пойду! На Москву, теперь же! Антихрист он, на погубление призван!» — неожиданно пронзила Михаила догадка. Хоть взгляд Божией Матери и остался печален, Михаилу показалось, что губы ее словно тронулись грустной улыбкой.
«Копьем достану! Антихрист он!..» — чуть не вслух повторил Михаил то, что открылось ему пред чудотворным взглядом Заступницы.
И владыка, умом провидящий скорбь, предупреждал об антихристе:
— Помышляющим, яко государи возводятся на престол не по Божию благоволению и при помазании дарования Святого Духа, тако дерзающим против них на измену — анафема!..
Тверь встретила великого князя ликованием, колоколами и войском, предусмотрительно готовым сей миг выступить на Москву.
Часть третья
1
Зима одна тысяча триста семнадцатого года выдалась на редкость студеной. Лед на Волге промерз аж на сажень. Чтоб не задохлась, мужики рубили полыньи в тех местах, где в спячке стояла рыба. Легкие птицы — воробушки, клесты да зяблики — падали наземь, каляные от мороза. Хохлится этакая пичуга под стрехой, ищет тепла и вдруг кувыркнется вниз безжизненным малым комом — знать, стужа достала до сердца. Таких подбирали ребятишки, дышали на них нутряным теплом, обогревали за пазухой и тех, что чудесно оживают в руках, несли в дома, где ждали птах для того заготовленные высокие, круглые клети, сплетенные из гибкого ивового прута. Теперь, утешая людей, до самой Красной Горки, ясного дня, как зажжет Мария Египетская снега, будут потом щебетать да чирикать беспечные птицы небесные. По утрам дымы из печных труб густыми столбами поднимались над городом в белесое небо. Боялись пожаров… По ночам над Тверью не слышалось и песьего бреха. Собаки носу на улицу на показывали — грелись в своих домиках, усердно дыша себе под брюхо да укутываясь хвостами. Приходи, лихой человек, на двор, бери, что ни поглянется.
В потайные, темные ночи ходили по тверским улицам и вкруг княжьего терема сторожа со звонкими липовыми трещотками да колотушками — известно, у князя много завистников.
— Кто идет?
— Князевы люди.
— Чьих будешь?
— Петруха я. Ивана Щукина, купца, сын.
— Чевой-то ты, Петруха, по ночам не спишь — шастаешь, али каку вдову грел?
— Дак, так оно, есть, чай, знобко ей без меня-то!
— Мотри! Тятька-то дознает, ухи тебе оборвет!
— Чай, ухи — не мудя, для тятьки не жалко.
— Ступай себе, вострослов.
Тт-р-р-р-р-р-р-к… — бойкой забористой трелью трещала трещотка.
Г-р-р-р-р-р-к-у-у… — вдруг отвечало ей жалобным долгим треском какое дерево, занемогшее от лютого холода, пуще зноя пьющего влагу соков. И снова звонкая тишина, в которой далече разносится лишь снежный искристый скрип от шагов сторожей.
Выбеленные морозом звезды глядят на Божий мир и населяющих его людей холодно и враждебно. Словно разлюбили и Божий мир, и людей, его населяющих.
Два раза подступал к Москве Михаил Ярославич.
Первый — когда с ханским ярлыком из Орды воротился и встал во Владимире над князьями и всей землей русской. Тогда никак нельзя было оставлять безнаказанным того, что натворил племянник в Сарае. Пора было с ним посчитаться…
Великий князь не был мстителен, и дело стало вовсе не в одной лишь личной обиде, но в том, что по вине московского князя Тохтоевы руки так ухватили Русь, что и вздохнуть стало трудно. А люди ждали иного от Михаила, люди-то, они ждут от новых правителей не пущего гнета, но послаблений. Ан нет — с легкой и пакостливой руки московского князя выходило перед людьми, что он, тверской, за ханский ярлык продал Русь.
Да и бояре требовали отмстить побоище, учиненное московичами дружине Акинфа Великого. А как раз за то побоище Михаил Ярославич не московского Ивана судил, а покойного Акинфа Ботрича, быть ему пусту. Надо же было ему удумать этакое! То, что он своевольно кинулся на Переяславль, было похлеще предательства. Предав князя, Князевым же именем и прикрылся Акинф. Уже, сказывают, народ судит по дальним я ближним углам: вон, мол, Тверской-то, еще и князем великим не стал, а уж чужие города пошел воевать. И мало кому дела, что вовсе не он то затеял, а пустоголовый боярин. Воистину, мертвые сраму не имут…
Да и то, нельзя было спускать московичам, как свирепствовали они над пленными тверичами, топя их в Клещином озере — вдовы и сироты поминали о том. Нет, по всему заслужила наказание Москва, и наказать ее следовало в пример прочим немедля, чтобы впредь никому не повадно было спорить с великим князем о старшинстве.
Время выгадывать не стали, выступили тотчас, впрочем рассчитывая взять Москву до распутицы. Москва вину свою знала, однако так скоро «гостей» тверских не ждала: войско успела выставить лишь под самыми стенами кремника.
Переговоров не вели, да и не о чем было переговаривать. В бой пошли сразу и те и эти, только завидев друг друга. Рубились нещадно, на века кровью скрепляя ненависть между Москвой и Тверью. Багряный плащ великого князя метался над побоищем стягом, наводя ужас на тех, кто попадал в его тень. Но князь простых московичей бил без ожесточения и будто рассеянно. Весь он был устремлен к одной цели, к одному из всех прочих.
— Юрий! Юрий! Блядов сын, где ты! — охрипло; пугая собственного жеребца, звал Михаил Ярославич племянника, и от криков седока конь кидался в стороны, отчего казалось, что и он ищет кого-то. Но Юрия среди московского войска не было. В самом начале битвы Юрий с Иваном уже затворились в кремнике.
Хотя и упорен был бой, силы оказались неравны, и вскоре, — московичи дрогнули. Остатки их, бросая раненых и оружие, спешили укрыться за дубовыми стенами кремника. Опасаясь подвоха (а вдруг нарочно заманивали?), Михаил Ярославич отступавших преследовать не велел и в немедленный приступ войско не двинул. Да с ходу и невозможно было бы взять Укрепленный рвом и острогом, вроде бы невысокий, но крепко сложенный могучий московский кремник, из-за стен которого Милой Михайлову сердцу русской приметой тянулись к небу купола построенных еще Даниилом церквей. Перекрестившись на те купола, сожалея, Михаил Ярославич тем не менее приказал пожечь предгородие. Поднявшиеся за стены московичи молча глядели, как горят дома их посадов.
Михаилу же от того веселого, бесовского огня стало не по себе. Никому, даже Анне, не мог бы он рассказать, как горько вдруг стало ему среди языкатого жаркого пламени и черных хлопьев летящей сажи. В том пламени увидел он вдруг огонь иного пожарища, себя — малого, увидел, как на давнем тверском пепелище бесноватый князь Андрей Александрович, скаля длинные, лошадиные зубы и дергая тощей, жилистой шеей, тыкал пальцем, указывал на него татарину: вот, мол, еще один русский князь, мол, будет кому пособлять вам и после меня… Может быть, то видение и смутило душу великого князя?
Далее какая-то нелепая, несуразная спешка погубила то, что было почти уж слажено. Всего и требовалось: осадив Кремль со всех сторон, вольно кормясь в житных подмосковных селах, простоять под городом до тепла, до лютого весеннего голода, а там поглядеть, каким шелком постелились бы под ноги изморенные московские жители. Небось сами бы выдали Юрия, тем более не больно-то они его и любили. То и предлагали исполнить ему бояре. Да Михаил Ярославич и сам вполне сознавал, что именно так и надобно поступить. Однако…
Однако для крови ли человек?
Тверской и себе-то потом не мог объяснить, почему не довел до конца начатое, отчего не довершил. И дело здесь было, разумеется, не во внешних обстоятельствах, но в нем самом. Знать, жило в нем глубокое внутреннее противление тому, чтобы править на Руси страхом крови. Но разве без того с ней управишься?
Наказать Юрия даже и смертью, и этой смертью других привести к покорности он был готов, однако тогда для одной смерти Юрия жертвовать жизнями тысяч оказалось ему не по силам.
А кроме того, перед ним лежал город, люди в котором говорили на одном языке с ним и теми же словами молили о защите от него, Тверского, того же Господа, у какого он просил помощи против них…
Бес ли его попутал, Бог ли удержал, посчитал ли он наказание достаточным, однако для всех, и в первую очередь для московичей, неожиданно, без видимых на то оснований, великий князь отступил.
В Тверь, как и загадывали, вернулись до распутицы. Правда, Москву не взяли…
Год прошел тихо. А через год Русь ужаснулась новому Юрьеву злодеянию. Юрий отважился — удавил Константина Олеговича, рязанского князя.
Отныне ради примысла на Руси дозволялось все! Не то чтобы прежде ничего подобного не случалось, бывали и до Юрия среди князей выродки, но, пожалуй, впервые преступление было совершено с такой очевидной жестокостью и наглой явственностью. Московский князь точно кричал на весь белый свет, что ему все дозволено, а значит, и нет ничего Девятого. Вот что оказалось всего мерзее! Всякое убийство отвратно. Но это было тем отвратнее, что нарушало слово, прилюдно данное Константину еще Юрьевым батюшкой Даниилом Александровичем, перед самой смертью обещавшим с миром отпустить его в Рязань. То, что свое слово Юрий с легкостью нарушал, было уж всем привычно, теперь выходило, что и отцова честь для него не многого стоила.
А еще то убийство было отвратно тем, что оказалось совершенно бессмысленным. Как выяснилось в скором времени, смерть Константина Олеговича не принесла Юрию выгоды. Но, кажется, он уж одной грязной славой был доволен. Будто убил лишь для того, чтобы попрать законы.
После убийства рязанского князя, напуганные Юрьевой жестокостью, под защиту великого князя прибежали из Москвы в Тверь двое из троих младших братьев Даниловичей — Борис и Александр.
Княжичи-погодки, старшему из которых еще не исполнилось и семнадцати, были схожи меж собой как пальцы одной; ладони: Борис оказался лишь на ноготок повыше Александра.
— Прими под защиту свою, великий князь! Стань нам отцом! Не хотим более жить с убийцами… — в один голос просили дядю младшие племянники, в одно время и просьбы стыдясь, и отказа побаиваясь.
Михаил Ярославич принял беглецов ласково, как умел. Тогда же и расспросил их о московском житье. Поначалу братья смущались, но затем, видать, доверились и уж говорили с ним без утайки, как принято меж одними родственниками поминать про других, причем последние в такие миги непременно начинают икать, коли живы.
При этом брата Ивана они чернили еще более, нежели Юрия. Мол, Юрий по недомыслию не ведает, что творит, а Иван-то задолго заранее знает, на что и ради чего толкает Юрия. Мол, и Константина Олеговича, в котором младшие Даниловичи души не чаяли, Юрий не столько по собственной злобе удавил, сколько по наущению Ивана.
— Что ж, Михаил Ярославич, и у нас теперь, как в Орде, пойдет? — спросил еще тогда Александр.
— Что? — не понял Михаил Ярославич.
— Так ить убийства-то… — Александр глядел исподлобья, но взгляд его был пытлив и разумен. — Ить эдак-то только нехристи родичей-то своих отравляют да душат по всякой распре. Нешто и у нас так-то отныне будет?
— Не должно. Чай, мы не татаре, — ответил княжичу Михаил Ярославич, но и сам себе не поверил. Однако княжичей-то надо было приободрить, он усмехнулся: — Ты сам-то, Александр Данилович, брата вон смог бы зарезать ради выгоды? — кивнул он на Бориску.
Александр смутился, опустил глаза. Для ответа на сей вопрос одно слово «нет» больно коротким казалось. Его выручил брат. Бориска улыбнулся во все лицо, обнаружив на пухлых, румяных щеках девичьи приветные ямочки, и сказал:
— Что ты, Михаил Ярославич! Сашка-то и ради выгоды какой-никакой не то что меня, а и сучонку паршивую не прибьет, он ить у нас совсем простофиля. — Не обращая внимания на братнино недовольство, Бориска рассмеялся и со смехом же добавил: — А вот брат Иван, тот не-ет! Что ты, дядя! Он бы и безо всякой выгоды нас обоих зарезал, лишь бы нас рядом на свете не было, вот что… — Он уж не смеялся, а глядел серьезно и взросло. — Потому и пришли к тебе.
— А Юрий? — быстро спросил Михаил Ярославич.
— Что ж Юрий… — Борис помолчал, будто думал, и ответил не сразу: — Для Юрия, Михаил Ярославич, законов нет. Он бы и Ивана убил, когда б знал, что без него обойдется.
— Да на что ж ему Иван-то? — удивился Михаил Ярославович.
— Как на что? Думать. — Борис снова заулыбался. — Он ить без Иванова слова шага не ступит. Только слава, что своевольный.
— Н-ну да шибко он вас, видать, запугал. Больно страшно вы мне Ивана-то малюете, — засомневался Михаил Ярославич, — ровно черт в преисподней.
— Так он и есть черт, — тихо, себе под нос, пробормотал Александр.
— Ну… — остановил его Михаил Ярославич. — Во всем, а наипаче в худословии, мера потребна. А вот ответьте-ка мне иное: часто ли на Москве послы из Сарая гостят? — спросил он.
Выяснилось, Тохтоевы послы в Москву часто наведываются, то большим скопом прибудут, то тихим малым числом. Были они как раз и намедни, перед тем, как Юрий удавил Константина.
— То-то… — заключил Михаил Ярославич. — Черт-то вам не там видится, — тихо проговорил Михаил Ярославич, но братья услышали, переглянулись.
— А что, али не Тохта у нас царь? — весело вскинул глаза на княжичей Михаил Ярославич.
— Тохта, — согласились братья.
Как ни хитер Иван, однако не с его умом было такое умыслить, да и как бы он без Тохты Рязанью распорядился? И как ни был пакостлив Юрий, не мог он решиться на убийство рязанского князя, не имей он на то доброго расположения Тохты. Видно, тогда еще, в Сарае, или позднее Юрию намекнули: мол, не худо бы тебе довершить то, на что батюшка не Осмелился, а как не станет законного-то владетеля, мол, тебе ; под Москву не одну Коломну, а всю Рязань отдадим. Пользуйся, чужого не жалко! Так, верно, и было оно, на то и рассчитывал Данилович, убивая рязанского князя.
Кстати, сразу же по смерти Константина Олеговича в Орду позвали и Василия Константиновича, княжившего на Рязани в отсутствие отца. И там, без вины и суда, умертвили. По чьей ябеде? Уж не Юрия ли?.. Скорее же всего безо всякой на то ябеды, а согласно раннему сговору: мол, коли Юрий убивает отца, Тохта убивает сына.
События эти последовали незамедлительно после того, как в Сарае умер великий лама и Тохтоев эмир Гурген Сульджидей. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, отчего так скоро, даже внезапно изменилось в Сарае отношение к Руси. Во всяком случае, Михаил Ярославич именно со смертью Сульджидея связывал то, что Тохта вновь обернул свои идоловы глаза на Русь. Причем вряд ли, что сам.
Юрий уж радостно потирал руки, Готовясь принять Рязань под Москву, но тут что-то в Орде изменилось, а скорее всего, как полагал Михаил Ярославич, так оно и сразу было хитро задумано, и Тохта, как бы вдруг, отдал ярлык на рязанское княжение не Юрию, а пронскому князю Ярославу, другому сыну Константина Олеговича. Вот на Москве-то изумились, поди! Нет, непрост, непрост оказывался ордынский царь…
Но неудача с примышлением Рязани вовсе не отрезвила, а еще более озлобила Юрия. В своей безнаказанности он делался все опаснее. И той безнаказанностью даже кичился перед другими. Нет, мол, в Руси того, кто его остановит!
Кроме того, были у великого князя и другие основания для войны с Юрием. И московские княжичи косвенно подтвердили то, что сообщал Данила Писцов и некоторые другие Михайловы союзники из Новгорода. А Данила все настойчивей предупреждал Михаила о том, что Юрий имеет сношения с вятшими новгородскими боярами на тот счет, чтобы, в обход великого князя, сесть ему — мол, по воле народа новгородского — на княжение у Святой Софии. Во всяком случае, Юрий подговаривал новгородцев не пускать к себе Михаила. Гордыни-то в нем не поубавилось.
Новгород же действительно вроде бы и не отказывался признать над собой великого князя, однако же до сих пор грамоту с ним не подписал и наместников его у себя не сажал.
Известно — Великий Новгород!
Вот тогда, одним махом наказывая и Юрия, и Новгороду давая знать свою силу, в другой раз двинул Михаил Ярославич тверские полки на Москву.
Надо б, надо б было великокняжеской волей всю низовскую землю поднять с собой на московичей, надо б было! Как и советовали ему то бояре. И каждая русская земля — и Владимирская, и Суздальская, и Костромская, и Рязанская, и Ростовская, и даже Нижегородская — тогда бы с радостью откликнулась на тот зов, потому как много в русской земле накопилось обид на Москву. Однако не позвал Русь за собой Михаил Ярославич. Почему? Кто знает. Посчитал себя не вправе других в войну ввязывать? Свое дело с Юрием один хотел порешить? Кто ведает…
Тверичи подошли со стороны Дмитрова. Московское войско встретило их в луговой пойме у речки Клязьмы. Переговариваться опять не стали. Будто не в битве, а в драке стена на стену, и конные и пешие стакнулись грудью об грудь. Тверичи в рубке были умелей, но московичей числом поболее. И те и другие бились, до капли вымещая обиды и злобу, до полного иссушения милосердной души. Вот уж истинно: такую-то силу да такое ожесточение оборотить бы против татар! Но куда там, встречаясь с татарами, русские всегда заранее будто смущались их, оставляя кровавую удаль для таких же, как они сами, русских.
Снова Михаил Ярославич звал Юрия, и снова тот не откликнулся, вновь искал его, устилая путь свой телами порубленных им московичей, но вновь не нашел, хотя на этот раз Московский князь был при войске. Не блазнило ему, видать, открытом поле встречаться с дядей. Знал, что живым не станется.
Лишь к вечеру, когда солнце побагровело от заката, как присохшая сукровица на шее без головы, стало ясно, что верх одержали тверичи. Ясно стало и то, что тот верх дался им из последних сил. А в общем-то, если судить по числу убитых, кто в той битве верха не одержал. Если кто и остался без раны, так тот в чужой крови был, как в своей. После уже, когда оставшиеся тверичи омывались в Клязьме, синяя вода замутилась от крови. Что говорить, в тот бешеный день и с той и с другой стороны многих недосчитались. В некоторых сотнях и до половины ратников пало.
И на Москве, и в тверском стане катились одинаково соленые русские слезы. Только что в тверском-то стане невыносимого бабьего воя не было. Хотя и тверичей тот вой и жалобные причитания, от которых сердце тоской заходится, ждали напереди. Мыслимо ли для матери али жены проводить живого, а встретить мертвого?
На что кремень-человек Ефрем Проныч Тверитин, но и тот в голос всхлипывал, утирал слезы со щек грязным рукавом суконного охабня, когда собирал вцело порубленное многими саблями, дырявое от злых копий тело Тимохи Кряжева. Видать, лишь скопом сумели его одолеть московичи. Однако сумели.
Прикрыв руками лицо, сидя, как по нужде, на корточках, Ефрем стискивал зубы, давил в себе внезапный, необоримый вой, но только пуще всхлипывал, встряхиваясь от рыданий плечами.
«Тимоха… Тимоха… Кто теперь так смолчать-то сумеет, как ты молчал? Друг ты сердешный, пошто тебя-то они, пошто не меня?..»
Уж скольких похоронил Ефрем, но ни по кому, даже по удалому Павлушке Ермилову, не убивался он так.
Рядом молча стояла поредевшая Кряжева горсть. Ефрем поднялся, не видя, оглядел ратников, хотел упрекнуть, но злые слова застряли в глотке средь всхлипов.
— Эх!.. — только махнул он рукой и зашагал прочь, одинокий, как всякий муж на войне.
Что здесь скажешь и что ответишь? Безжалостна к самой себе русская жизнь.
Впрочем, тогда повидался Михаил Ярославич с племянником. Да не с одним Юрием, но и с Иваном встретиться довелось.
Войско свое великий князь не отвел, хоть и было оно потрепано сильно, но, напротив, вплотную подвел к Москве, сделав вид, что, вопреки всему, готовится к приступу. Тем самым, как и рассчитывал, он вынудил Даниловичей все же поклониться ему.
Встретились на половине пути меж московским предгородием и тверским станом, на холме, поросшем соснами и дубами, невдалеке от малой речки Неглинной.
Тверитин предлагал изловчиться да ненароком и ухватить Юрия, но князь осадил его:
— Ране надо было хватать, когда тебе на то воля была дана.
Бывало, озлясь, князь поминал Ефрему давнюю оплошку с московским князем, когда он змеем из рук ускользнул. Видать, и у него то в памяти занозой сидело. Ефрем, как пес, которого по вине пнул хозяин, сгорбатился и опустил рыжую голову. Смягчая обиду, Михаил Ярославич усмехнулся:
— Чай, мы не нехристи вероломные — уговорщиков в плен захватывать…
Великий князь дождался, пока из кремлевских ворот выйдут московичи. Он потребовал, чтобы, как побежденные, шли они пешими. Они и шли пешими, загодя понурясь и пыля сапогами. Всего — с боярами да выборными людьми — человек двадцать пять. И только как достигли московичи означенного места, не ранее, а даже и еще потомив их несколько времени, тронул великий князь поводья белого скакуна. Можно было изумить московичей пышностью свиты, но, будто в насмешку над ними, в сопровождение Михаил Ярославич взял отца Ивана, немногих бояр да Тверитина для острастки. «Довольно с них будет…»
Иван Данилович — несмотря на его видимую второстепенность, именно так, по батюшке, отчего-то хотелось его величать — не в пример брату, одет был скромно, чуть не в монашеское. А уж ласков и смирен был, точно агнец. Голову перед великим князем клонил низко и все разводил руками, якобы дивясь: за что, мол, нам наказание такое, и скорбел глазами, изломисто приподнимая бесцветные брови.
Юрий, напротив, пытался казаться развязным, усмехался губами, однако лицом был бел, как его шелковая плечевая накидка, и в глазах князя, что бегали в стороны, как потревоженные блохи на пузе у пса, Михаил Ярославич видел смертный страх. Так-то смотрят тати перед казнью, готовые завизжать от боли и ужаса. Судя по этому, не по своей воле Юрий вышел через ворота — либо народ его к тому принудил, либо брат да бояре заставили. Даже его хваткие руки и те мелко, но явственно подрагивали, когда он тянулся огладить бороду, поправить изрядную шапку или мимоходом коснуться невидных ушей.
В сущности, те переговоры ничего не дали, ничего не прибавили к взаимной злобе, да и не убавили от нее ничего.
Хотя было одно наблюдение, какое вдруг поразило Михаила Ярославича. Он изумился ничтожной жалкости, какая открылась ему в московском владетеле. Глядя тогда на Юрия, хоть и не в первый раз он его видел, князь и поверить не мог, что это внук Невского. И все ловил себя на странной, непрошеной мысли, что перед ним не он, не тот Юрий, какого он опасался. Да разве можно опасаться такую склизь? Так, пустобрех из тех заполошных, заливистых в лае, но бесполезных кобельков, что сами ни следа не ухватят, ни к загнанному зверю вблизь первыми не подступятся. Будут кружить около, лаять да попусту скалить зубы, выжидая, когда зверя завалят другие. В хорошей своре таких стараются не держать, хотя без таких и хорошая свора почему-то не обходится. Кто-то след берет, кто-то рвет, но и такие, знать, нужны своре, чтобы было кому на ветер лаять…
Перед ханом-то, перед Тохтой, он вона как вопил в угоду ему, а здесь открыл свою суть, и суть та показалась Михаилу Ярославичу настолько незначительной и даже ничтожной, что он просто диву давался прежним собственным мыслям о нем.
Ну какой он антихрист? Ужели дьявол так неразборчив и неимущ на Руси, что мог печатью своей пометить этого князька, скудного и душой и умом. Что ему Русь? Зачем? Али мало на Москве ему боярышень? Али не хватает серебра-золота на одежды? Али бедно в хоромах его убранство? Али для молодечества, коли руки такие чесучие, мало ему округ дальних пространств и поприщ? Ежели охоч, примышляй Москве дальнее, глядишь, оттого и всей Руси вольготнее станет…
Нет, мелок был Юрий. И эта видимая мелкость никак не совмещалась в уме Михаила с величием его притязаний и с теми действительно великими злодеяниями, какие он уже успел совершить. Будто и правда был в нем кто иной или так искусно управлялся князь московский иным…
Иван Данилович оказался гораздо значительнее и любопытнее для великого князя. Иван же в основном и говорил, видно, о том заранее условились братья. Юрий лишь иногда кивал да поддакивал, иногда что-то вякал от робости да кривил в усмешке или кусал от бессильной злобы синие, помертвелые губы.
Иван говорил тихо, точно шелестел ветерком, не говорил, а обволакивал речью, да еще и пришепетывал, отчего приходилось напрягать слух, чтобы дослышать его с коня. Изощренного ума, о котором все, кто знал княжича, даже и опасливо поминали, Михаил Ярославич в племяннике не приметил (да и какой ум обнаружишь в увертливых, покаянных словах?), но глаза Ивановы, заглянуть в какие было так же трудно, как достичь взглядом дна в глубоком колодце, безусловно, казались умны, хотя бы уж потому, что скрытны.
— Пошто, великий князь, опять к нам пожаловал? — Иван Данилович развел руки кверху ладошками, показывая беззащитность и немощность свою перед великим князем.
— Али не знаете?
— Истинно, не ведаем. — Иван Данилыч вскидывал глаза, но тут же и опускал их или глядел мимо Михаила Ярославича, будто за спиной его происходило что любопытное.
— Так что ж, али доложить вам, в чем провинилися?
— Да что ж ты, батюшка, серчаешь-то так? Уж ясно, что виноваты, коли пришел…
— Что говоришь, не слышу!
— Так, вестимо, говорю, чай, все мы не без греха-то…
Говорить с Иваном Даниловичем, как со всяким, кто глаза и мысли скрывает, было и правда тяжелехонько. Да еще это его нарочное пришепетывание да ласковость в придыханиях, будто не с великим князем речь ведет, а с девкой о чем уговаривается.
— Что ж ты, Иван Данилович, шепчешь-то, — усмехнулся Михаил Ярославич и взглянул на Юрия, — ить когда-нибудь князем станешь. Как людей-то за собой поведешь?
— А лаской, батюшка, лаской, — прошелестел Иван. — Люди-то крика не слышат, а тихое-то слово как комарик в ночи.
Иван Данилович заволакивал, втягивал в свою тишину, эдак-то с ним долго можно было пробеседовать. В другой час Михаил Ярославич и побеседовал бы с племянником, был он и впрямь любопытен, однако…
— Ты взгляд-то не верти, ответь мне: али не по праву я сел на стол отца и деда моего? Али не благочинно святейший митрополит Максим, Царство ему Небесное, меня на тот стол помазал?..
Юрий острым носком зеленого, шитого золотом, но запачканного кровью сапожка, будто дите, пырял земельку, взгляда не поднимал и молчал.
— Что ж молчишь-то? Мало тебе совокупления всех прав моих на великое княжение, мало, хвост сучий?!
— Ты меня не лай, дядя! — Юрий глянул исподлобья на Михаила Ярославича и тут же коротко по сторонам, видно опасаясь каверзы и подвоха.
— Да ить что ты, батюшка, вестимо нам…
— Погоди, Иван, пусть он скажет! — Михаил Ярославич не отводил глаз от Юрия.
— Да ить разве мы теперь о том спорим? — тихо, но назойливо клинясь, проговорил все же Иван Данилович.
— Ну?
Юрий сглотнул слюну, которой не было в пересохшем рту, и ничего не ответил.
— Али и впрямь нет над тобой русских законов? — Михаил Ярославич сказал это тихо, пораженный, и вдруг закричал: — Поля! Поля хочу с тобой!
— Что ты, батюшка, что ты, — будто спотыкаясь, неуверенно шурша ветром по сухому жнивью, запричитал Иван Данилович. — Он же тебе племянник, чай… А батюшка-то тебя как любил, скажет, бывало, нет брата роднее, чем Михаил-то Тверской. — Он бормотал что-то, подойдя под самую морду коня и ухватив его под уздцы. Только вдруг Михаил Ярославич понял: врет он и бормотания его нарочны.
Юрий стоял, затравленно, по-волчьи озираясь и даже среди своих бояр не чуя поддержки.
— Ну!
— По праву… твой стол, — безголосо, одними губами выдавил из себя Юрий.
— Повтори!
— Твой стол, говорю, по праву! — будто плюнул, выкрикнул Юрий.
Словом увернулся от смерти Юрий. Гнев Михаила Ярославича схлынул, перед ним вновь стоял жалкий, петушистый и нелепый племянник, биться с которым — себя срамить.
— Так пошто ж ты новгородцев смущаешь?
Юрий испуганно вскинул глаза на брата:
— Не ведаю, о чем пытаешь…
— Ну, далее… — понудил его Михаил Ярославич.
— Великий князь, — послушно повеличал его Юрий.
— Так уж и не ведаешь? — Михаил Ярославич помолчал. — А из Новгорода-то мне верно доносят, что ты кремник свой да батюшкины храмы на Святую Софию менять собрался. Так ли?
— Не было того! — выкрикнул Юрий. — Не было!
Но не удержался, ухмыльнулся и тут же и себя, и Новгород выдал:
— А коли я им люб, так в том вины моей нет!
— Али не знаешь, что новогородцам-то тот и люб, кто всей Руси враг?
— Великий князь, да ить наговор все, со злобы да зависти нас с тобой рассорить хотят, — заюлил Иван Данилович, — ить мы тебе отныне как сыновцы[85] преданы…
— А вы мне и есть сыновцы! — оборвал его Михаил Ярославич.
Но не так просто было оборвать тихого Ивана Даниловича, когда он того не хотел.
— Дак ить разве мы в чем волю твою нарушили?
Великий князь оглядел всех, выпрямился в седле и сказал громко, чтобы услышали все:
— А воля моя в том, чтобы Русь едино крепить! Я на вашу отчину и имение не зарюсь, живите, как все мы живем — Божией милостью. Но знайте, отныне живете вы, как князья ваши — мои сыновцы, моей волей. Покуда я, Михаил Тверской, благословением Святого Духа великий князь всея Руси, не дам творить беззакония! — Он помолчал и вдруг гневно выдохнул: — Пошто убили князя Константина Олеговича?
Возникла долгая тишина. Лишь кони тверичей нарушали ее, глухо переступая по земле копытами да звякая ненароком железами.
Московичи при имени безвинно убиенного князя закрестились раскаянно.
— Так ить случай, — истово перекрестился и Иван Данилович. — Сами-то сокрушаемся.
— Али вы татаре? — укорил Михаил Ярославич московичей.
— Бес попутал, — вздохнул Иван Данилович.
— То-то, что бес…
Более говорить было не о чем. Михаил Ярославич тронул коня, но еще раз оборотился:
— Ты, Юрий, помни: коли в другой раз приду — не пощажу. А коли тебе татарский закон милей, — тяжело усмехнувшись, пригрозил он, — татар нашлю. На то мне и ханский ярлык дан. Чай, знаешь, они чиниться не станут.
— Что ты, Михаил Ярославич, великий князь, чай, все в Божьем Законе живем! — опять закрестился, на сей раз от татар, младший брат.
А старший, не глядя на князя, едва слышно, но все же так, чтобы разобрали стоящие рядом московичи, проговорил:
— Чай, нам известно, дядя, как ты тот ярлык покупал…
— Что шепчешь? — не расслышал Михаил Ярославич.
— Ничего, великий князь, — усмехнулся Юрий.
От разговора с московскими братьями осталась на душе какая-то слизь, подобная той, какую еще долго чуют пальцы, коснувшись нечаянно тухлого. Так в неводе среди живых, сверкающих серебром рыб вдруг попадется дохлая, распухшая от гниения, с полуосыпавшейся чешуей на тусклых боках, и вот ведь что примечательно — непременно ее и ухватишь, и потом как ни полощешь руки в быстрой волжской воде, все они слышат ее мертвый холод…
2
Обошли, обволокли, обманули! Один хитер, другой низок, и оба двуличны и нужны друг дружке, как две стороны татарской деньги. А Юрий-то как ни глуп, но выгоду свою знает: крест поцелует и тут же предаст! Тоже ведь уразуметь надо было: чем мельче и ничтожнее человечишко в сути своей, тем ухватистей до власти и жизни. Будто мышь с цепкими кречетовыми когтистыми лапами.
Только зачем, Господи, Ты и мышам крылья даешь, чтобы парили они над нами? Али не Ты это, Господи?!
Впрочем, тогда, в одна тысяча триста восьмом году, Михаил Ярославич о том не думал и походом к Москве был доволен. Не из прихоти или примысла ради пошел он на Юрия, но по грехам и упрямству его. Тем более хоть и немалой кровью, а цели своей достиг: и московского князя смирил, и Новгороду Великому путь указал.
Не успели тверские бабы оплакать погибших, явились на Князев порог послы из Новгорода. Вон как быстро вести-то по Руси летят! Посольство было большое, с дарами, со многими знатными людьми, во главе со старым посадником Юрием Мишиничем и архиепископом новгородским владыкой Феоктистом.
За медлительность Михаил Ярославич новгородцев корить не стал — сами пришли, и ладно. Да и видел он, как нелегко им дается кланяться, тем более ему, князю тверскому. Помнил еще честолюбивый Новгород те не такие уж и давние времена, когда Твери и в помине не было, а земли тверские считались «новгородской вотчиной. Великий князь владимирский Всеволод Большое Гнездо, да особенно сын его Юрий изрядно потеснили Новгород на тех землях, присовокупив к Низовской Руси обширное пространство вплоть до Торжка. А теперь надо было не только великому князю кланяться, но и подати для него собирать, и на хлеба сажать его тиунов и наместников, да не в одном Новгороде, айв Изборске, и в Ладоге, и в Бежецке, и в Обонежье, и в других городах и пятинах. Да опять же, тем тверским наместникам да тиунам кланяться — каково это было новгородцам-то? Михаил Ярославич то вполне Осознавал, а потому принял их по достоинству, ни в чем не ущемляя их чести, и даже намеком не упрекнул их в тайном сговоре с московским князем, будто и не было того сговора.
Долго рядились с договорной грамотой, всяку строку пытаясь каждый себе приспособить. Но пуще иных выгод дорожились новгородцы пресловутой «вольностью во князях», утвержденной за ними еще древней грамотой великого князя киевского и новгородского Ярослава Владимировича Мудрого. Не понимал Михаил Ярославич, как Мудрому-то Ярославу ума достало такой волей даровать новгородцев. Ведь, по сути, такая воля не просто ограничивала княжескую власть над Новгородом, но лишала князя над ним всякой власти. Потому-то и прежде никому, даже и Ярославу Мудрому, не удавалось совладать с ними. Да и с приходом татар, в новейшие времена, пожалуй, не было князя, какому бы служили они, не изменяя ему при первом удобном для того случае. Обычное непостоянство новгородцев можно было превозмочь лишь силой и хитростью. Уж на что, кажется, властен был (да на словах-то и люб новгородцам) Александр Ярославич Невский, но и его они изгоняли. А после, как снова надобился, — каялись. Вече-то их — сума переметная, потому как во многих совести не сыскать, по совести всяк един ответ держит.
Попробуй-ка объедь их на козе, докажи им, что не токмо; ради одной корысти, но и ради их же будущей выгоды ныне они должны отдать ему больше власти, а главное, снять условие, по которому не волен он их звать за собой туда, куда: они не хотят! К чему, к примеру, подниматься им против татар, когда татары далее Торжка и носу-то не казали…
— Али вы чище русских-то?
— Чище — не чище, а живем по-своему. — Старый Мишинич слова ставил крепко, как топором по лесине рубил.
— Ты, владыко, ответь мне: али вы себя выше Господа ставите?
— Не суесловь, Михаил Ярославич. — Старый тоже, еще и постарше Мишинича, владыка Феоктист глядел строго, сводя седые брови над переносьем. Хотя в глазах его Михаил Ярославич видел лукавство умного человека: мол, любопытно тебя послушать, но чего бы ты ни сказал, все одно по-старому будет — большой ковш и пьяница враз не осилит. А коли осилит, так и упьется до смерти. И властью тако-то упиваются… — Так что, сын мой, коли благословил тебя на стол Дарами Святого Духа митрополит Максим, и мы власть твою признаем. — Владыка потянулся рукой к лодыжке, точно зачесалось у него, согнулся в спине и хмыкнул: — Покуда…
— То-то — покуда! Покуда люб вам? — Михаил Ярославич впервые за все переговоры, что длились, прерываясь пирами, уж не один день, не выдержал — закричал.
— Не нам, — поправил его Юрий Мишинич, — а народу новгородскому, вече…
— Знаю я ваше вече, — махнул рукой великий князь.
— Откуда ж знать тебе? — усмехнулся владыка Феоктист. — Ты у нас не бывал, батюшка твой, что у нас в князьях сиживал, давно помер, поди, и не успел тебе ничего поведать. Ратиборка, что ли, пес, налаял про нас?
Эвона кого вспомнил, эвона кем упрекнул!
Михаил опять не сдержался — сказал:
— А Ратиборке-то и лаять не надо было, у него на лбу клеймо-то горело: я новгородский! Всю жизнь как сучий хвост провилял и сдох в болотине.
Новгородцы, бывшие в князевой гриднице, зароптали — жива еще была память о Ратиборе-предателе. Задело. Мишинич даже с лавки поднялся ответить великому князю.
— Ты по Ратиборке-то нас не равняй, Михаил Ярославич, он не Новгороду, а батюшке твоему служил.
— Не батюшке он служил, а Орде! — крикнул Михаил Ярославич и уже тише добавил: — Вот и вы так, новгородцы, от Руси-то отнекиваясь, не кому-нибудь, а Орде пособляете.
— Мы к тебе, великий князь, с поклоном пришли, а не лаяться, — с угрозой произнес новгородский посадник. — А коли не ладна тебе старая грамота, так знай, новую-то писать нам все одно не велено.
— Вот те на! — Михаил Ярославич даже руками всплеснул. — Так чего ж мы здесь талдычим который день, али вы меня к вече склоняете — пустое-то лить!
Так бы ни с того ни с сего еще тогда, глядишь, и поссорились, однако владыка Феоктист положил предел распре:
— Ты сначала послужи нам, Михаил Ярославич, и мы тебе послужим, а там поглядим, чай, грамоту-то наново написать не трудно, коли в жизни слова с делами сойдутся. Так ли я говорю-то?
Согласились новгородцы, согласился и Михаил Ярославич. Ссориться тогда никому не хотелось, а уж Михаилу-то и вовсе важно было поладить с новгородцами миром, чтобы все-таки поверили они: не со злом и не из одной корысти идет он к ним.
Так что уладились на прежней, батюшкиной еще, Ярославовой грамоте, что в главном отвечала новгородским требованиям. Вступая в Новгород по той грамоте, не многое выгадывал князь, беспокойство же получал великое.
Михаила Ярославича поражала непоколебимая способность новгородцев не слышать чужих слов и разумных доводов, какое-то тупое и непоборимое нежелание согласиться по доброй воле хоть в чем-то с великим князем, непременная, прямо-таки душевная необходимость уж после всех разговоров и примирений заявить вдруг:
— Ан так не будет.
— Да отчего же, вроде сговорились уже?
— Ан нет.
— Пошто же?
— Того не хотим!
В том были и дурость, и гордыня, и лихость, и какая-то готовность лить многую кровь — и свою и чужую. Так что заставить их отступиться хоть в чем-то, как с душевной скорбью неоднократно убеждался князь, можно было только войной.
Новгородцы много и часто успешно воевали на западе: и с датчанами, и со шведами, и с немцами, и с корелами, и с водью, и с ижорой, и с литвинами — одним словом, со всякими иноземцами. При удаче били их беспощадно. А пренебрежение к чужой жизни в конце концов оборачивается пренебрежением и к жизни собственной. Ибо заповедано нам — любить.
Действительная причина обиды для них будто бы и вовсе не имела значения — был бы повод к самой возможности обидеться. Ей-богу, иногда казалось, новгородцам счастливей и легче умереть, чем отдать Князевым людям покос, на котором сами они не косили. Впрочем, поводов для обид между великим князем и вольным Новгородом, разумеется, в жизни хватало, как всегда хватает их в русской жизни. Но вовсе не обязательно думать, что обиды те исходили только от великокняжеской власти, от Михайловых тиунов да наместников. Хотя и то было.
Какими бы преданными, честными и на Твери умеренными в корысти ни были бояре, которым Михаил Ярославич дал доход в Новгородской земле, там они, не веря в прочность и долговременность союза с Новгородом, спешили урвать и для князя, ну и, конечно, в первую очередь для себя то, что только и можно было урвать. Такова уж, видать, людская натура, и с этим великий князь ничего поделать не мог.
Конечно, по настоянию и жалобам новгородцев время от времени великий князь отзывал, да, случалось, и примерно наказывал каких-то своих сидельцев на Новгороде, особенно замаравшихся лихоимством, однако перемены эти на установившийся порядок отношений и саму суть жизни влияли мало. Наново прибывшие чиновники, либо предвидя неминуемый и скорый разрыв, либо трезво сознавая, что и без вины они все одно будут неугодны новгородцам, но, главное, по слабости корыстной людской души, оглядевшись маленько, начинали лихоборствовать с еще большим усердием и наглой спешкой, чем их отставные предшественники.
Но, видно, так уж от века устроена власть на Руси.
Многое не устраивало Михаила Ярославича в отцовой грамоте. Однако мир и надежды на то, что когда-нибудь сумеет он «перетакать» новгородцев, делали договор с ними вполне приемлемым. И то уже хорошо, что о московском князе вроде забыли новгородцы.
Впрочем, четыре года, а то и чуть поболее — для мирных отношений с Новгородом срок значительный, — Тверь со своевольным соседом прожила вполне дружелюбно.
За то время Михаил Ярославич и сам побывал у Святой Софии, принят был новгородцами на Ярославовом дворище с почетом и изъявлением покорности. Новгородцы даже звали Михаила Ярославича предводительствовать ими в походе на лодьях сначала по Ладоге к устью реки Узерва, где стоял город Корела, а затем и за море в шведскую землю. За честь оказанную Михаил Ярославич новгородцев поблагодарил, но в поход с ними идти отказался: мол, сроду-то он в чужой земле прибытка не искал.
Тогда новгородцы одни в поход пошли и, дойдя до шведской крепости Ванаи, воротились с победой и лодьями, полными всяческого богатства.
3
А великому князю и впрямь не было дела до чужих земель: в своей-то ладно управиться времени не хватало.
Своя земля, как изба, требует постоянного присутствия и внимания, выморочные-то деревни и то не стоят без жителей. Кажется, какая избам-то разница, дышит кто под их крышами или нет, стойте себе под солнцем, дождями и ветрами, как стояли. Ан отчего-то нет — не стоят без хозяев избы. Кровля вдруг сама по себе проваливается, бревна, что навек в угол срублены, враз начинают гнить пуще трухлявых пней, а первым крыльцо косится, растворяя криво дверь, будто вся изба зашлась в молчаливом плаче, и через малое время глядишь, а на месте деревни, где жирные гуси щипали траву и голозадые ребятишки ползали в пыли вперемешку с толстопузыми кутятами, уж пустошь, и, как от всякой пустоши, веет от нее смертной тоской.
Даже к владимирцам, искренно полюбившим великого князя и всякий раз звавшим его сесть на столе в митрополичьем граде, Михаил Ярославич наведывался не часто, а лишь когда того требовали обстоятельства. Всем, а особо неизъяснимой, горней лепотой храмов нравился ему стольный старый Владимир, но, став великим князем, как и отец его Ярослав Ярославич, Михаил не оставил Тверь. Более того, задумал он и Тверь поднять так, чтобы ни перед кем незазорно было назвать ее новым стольным городом всей Руси. Не посреди ли Руси, как сердце, бьется она, не она ли стоит на берегу великой реки, что от новгородских окраин через всю Русь вольно бежит к хулагидскому морю, несет по себе купецкие лодьи с товарами из всех стран до самой Золотой Орды, где ныне скрестились караванные пути от латинян до Китая?
Однако одного хотения и даже воли великокняжеской для того, чтобы Тверь возвысилась, недостаточно, к тому время нужно и деньги, так много денег, что сколь обильно ни поступало бы серебро в княжескую казну, все будет мало. А уж сколько времени для того надобно, и вовсе никто не ведает. Ясно лишь, для всех задуманных свершений одной жизни Михаиловой не хватит. И то велика Божья милость: четверых сыновей даровал Михаилу, и каких сыновей! Дмитрия-то уж на дворе кличут не иначе как Грозные Очи. Хоть и правда, грозен растет сынок, но знает Михаил Ярославич: сердце в нем верное. Александр, тот иной, не столь вспыльчив — и то хорошо, хотя и он обиду в себе не станет держать, а если уж решится на что, то пойдет до конца. Третий — Василий — увалень, покуда проказлив да добродушен, хотя мечтательной душой он изо всех более в Аннушку. А последний — Константин — и вовсе мал, только ласков. Недавно первый постриг его пировали. Сел он на коника-то, вцепился в гриву ручонками, сморщил мордаху, ну, подумал Михаил Ярославич, теперь заревет. А он глаза зажмурил, рот открыл от восторга и давай хохотать, да так счастливо и заливисто, что весь двор тако ж покатился со смеху, только коник шагал серьезно, бережно неся на себе малого княжича.
Господи! Может же так полно счастлив быть человек в воле Твоей!
Главное, чему наставляет сыновей Михаил Ярославич, так тому, чтоб всегда помнили они свое родство, помнили, что братья они перед миром и перед Господом, что никакая слава и власть никогда не окупят предательства. Мать с отцом всему не научат, но главное постичь только они и могут помочь. А коли главное в человеке есть, остальное к нему само приложится…
Нет, всего, что задумал, Михаил Ярославич сам завершить и не надеется. Больно много хочется сделать для отчины. Ну так что ж? Ему бы начать, заложить основу покрепче, благо есть кому продолжить, и знать будет, кому завершить.
Пусть не враз и не вскоре, но станет Русь едина, велика и свободна, как едины в вере своей, велики в немыслимой лепоте и свободны пред всяким взглядом купола ее храмов. Разве не в них душа всей земли? А коли велика и свободна душа, какую люди умеют вложить в камень и дерево, то и в них самих, бессомненно, душа и свободна и велика. Надо только разбудить ее, что ли…
Вроде и небольшое время прошло без распрей и наездов татар, однако и его достало, чтоб люди словно преобразились.
В Твери возводились стены новых монастырей и храмов, пол лелеемого князем Спасо-Преображенского собора покрыли невиданной красоты мраморными плитами, двери же украсили золотом, не хуже, чем во владимирском Успенском соборе, по велению Михаила Ярославича и под началом игумена монастыря Богородицы молодого отца Александра в Отроче завели летопись, в коей с дотошностью надлежало отражать писаными словами как достойные, так скорбные и прочие миги скоротечного времени. Отрочские чернецы соперничали меж собой в умении угнаться словом за быстрыми днями.
Безо всякого на то распоряжения народ потянулся к грамоте. Великий князь и тому споспешествовал. В Отроче чернецы собирали на обучение отроков. Любо было глядеть на стриженные венцом светлые головы ребятишек, в усердии склоненные над кириллицей. Не одним счетом жива душа, и не одними лишь ведомыми кметями[86] за купецкими товарами Русь славится.
Еще была Михаилу Ярославичу малая радость из тех, кои особенно приятны и лестны правителю, потому как то, что приносит ту краткую радость, остается нетленно в веках в назидание и память потомкам о разумном и отечестволюбивом правлении того государя.
Однажды — правда, было то несколько позднее по времени — для любопытства Михаилу Ярославичу принесли малые доски, расписанные яркими, живыми как Божий день красками. Писанное на досках сопровождало поведанное книгой Георгия Амартола[87], недавно переложенной на кириллицу с греческого отрочскими же чернецами. Всякому поучению мудрого еллинца соответствовала и отдельная малая доска, на которой вживе были запечатлены дела, свершенные на земле, и люди, к делам тем причастные, умершие многие веки тому назад. Причем в лицах тех давних иноземных людей Михаил Ярославич узнавал вдруг знакомые черты тверичей, и от того узнавания замирало в груди, словно не на малеванные доски глядел, а самое жизнь предбывшую вновь увидел. Точно рукой искусника водили ангельские силы небесные.
— Кто сотворил се?
— Слуги твоего Ефрема сын, Глебка Тверитин.
— Ко мне его немедля.
— Знаешь ли, что сотворил ты? — спросил Михаил Ярославич Глебку, когда тот явился вместе с отцом, явно напуганным вниманием князя.
— Знаю, великий князь, — не смутившись, ответил Глебка, — на то и голова на плечах, чтобы ведать, что руки делают.
— Ты не юли перед князем-то, Глеба, — взмолился перед сыном отец. — Сознайся, коли чего натворил, великий князь милостив…
— Так я ведь, батюшка, вины за собой не чую, — усмехнулся лукаво и смело Глеб, и в длинном, нескладном отроке, более похожем на чужеземку Настасью, чем на отца, увиделся князю сам молодой Тверитин.
Много дива на свете! А то ли не диво, что у Ефремки Тверитина, который и знает из всех цветов один цвет — кровавый, сын вдруг явился искусник. Вот уж радуга в зимнем небе!
— Коли что и делаю, так не ради себя, а токмо ради вас с матушкой да великого князя Михаил Ярославича. — Глеб в пояс поклонился отцу, а затем великому князю.
— Подойди ко мне, Глеб Ефремыч, — при всех по батюшке повеличал отрока Михаил Ярославич и, когда тот подошел к нему, поцеловал, будто сына…
Еще обильнее, чем прежде, стекался отовсюду в Тверскую землю народ. И всякому, кто не тать, на Твери были рады.
А если кто-то попадался на воровстве или, паче того, доказывали на кого вину в убийстве или ином злоумышлении, от того люди еще от живого отворачивались, как от мертвого. Суды вершились скоро и без обид, потому как после судов тех обижаться уж было некому. Суд тверской — не Божий, сказывали. Да и отчего ему быть милостивым, когда суд тот не Богом, а людьми вершится. Да и сам Господь как ни милосерд, однако и Он бывает гневен и строг к нераскаянным грешникам. Нет, право, коли поднял ты руку на чужую жизнь, что каждому равно даровал Господь, пошто после ждешь милости от Него и сетуешь на людскую жестокость?
Может быть, с той жестокостью, какую ввел Михаил Ярославич для преступников, не все соглашались, как тот же отец Иван Царьгородец или супруга его мягкосердая Анна Дмитриевна, порой укрощавшие княжеский гнев, зато девки по грибы и малину в лес без опаски стали ходить.
Не стало страха в глазах добропорядочных горожан, напротив — более почтения к другим, но и более уверенности и уважения к себе. По деревням смерды глядели веселей и смелей, мужики не втягивали уж головы в плечи при дальнем стуке копыт, и девки не кидались опрометью куда глаза глядят, спасая то, чего нету дороже у девки, что лишь сама она, доброй волей, может отдать…
Да что говорить, и русские купцы из других городов, а пуще того иноземные гости дивились тверским порядкам и нарочно, без какого принуждения к тому, приходили на княжеский двор с дарами, дабы выразить свое почтение и глазами увидеть редкоразумного князя, вставшего над русской землей.
А еще отлили на Твери такой колокол, какого, пожалуй, и не было во всей Руси. Великий князь не пожалел казны на тот колокол, отпустил умельцам столько меди, олова да серебра, сколько потребовалось. И дело оказалось вовсе не в величине того колокола, хотя был он и велик, и объемен, но в том, что, видать, колокольники душу вложили в его медный звон. И звучал его голос в двунадесятые и великие Божьи праздники столь дивно, что вся Тверь замирала, едино оборачивая взгляды на соборную звонницу, истово моля Господа о насущном да о мире. И отчего-то каждому верилось, что слова именно его молитвы и малой просьбы достигнут Спасителя, слившись с густым и тяжелым, как вязкий мед, звуком соборного колокола, что падал с поднебесного купола и, паря, вновь возлетал в поднебесье.
И сам Михаил Ярославич в то верил, всякий раз, как чуда, ожидая праздничного благовеста дивного своего колокола.
Так бы и жить да мало-помалу копить серебро на будущую великую силу.
Беда пришла, как всегда, откуда не ждали и ждать не думали. И беда та оказалась велика. Однако так незначительны, мелки, безумны и даже нелепы были те, кто ее нес, что поначалу Михаил Ярославич и значения тому не придал: подумаешь, мыши…
Мыши пришли с востока. Как половодная вода, неостановимым потоком шли они, укрывая землю живым и серым, мерзким ковром. С ордынских окраин, точно ведомые по указке, мыши продвигались быстрее, чем можно было от них ожидать.
Начав с Рязани, поворотили они на Владимир, ушли было в Стародуб, но вернулись, изъели суздальское ополье, через Юрьев пришли к Ростову, а уж оттуда, краем задев московские земли, двинулись через Дмитров на Тверь.
Поля после них оставались пусты, обглоданы и страшны, особенно потому, что вчера еще, радуя глаз, колосились налитыми уж злаками, что растит человек для жизни. Бабы и ребятишки с воем елозили по мертвым полям, собирая уцелевшие зерна. Но с неоглядного поля в горстях уносили то, что оставляли мыши после себя людям на пропитание.
Мужики бесполезно чесали в затылках, не зная средств, как бороться с напастью. Всяко пытались: копали рвы вокруг деревенских полей, отводили в них воду, вилами сгребали в ямищи колоды[88] мышей, топили их, жгли, топтали скотом и конями. Но не было с ними сладу, и взамен одних, словно из их же крови, появлялись бессчетно другие ртастые твари. Навстречу мышиным полчищам с иконами, хоругвями и святой водой выходили даже священники, однако ни вода, ни огонь, ни молитва не могли упасти те деревни, города и поля, по которым пролегал точно заранее обозначенный кем-то путь. Путь тот оказался вертляв, но избирателен, и следовал он по самым житным местам Руси. И никто не мог объяснить внезапного мышиного множества и непредсказуемой, но очевидной целеустремленности. Реки — и те не были для мышей преградой. Так они достигли Твери.
Выезжая на поля, Михаил Ярославич каменел лицом, хотя и ему, как бабам на тех полях, в голос хотелось выть от собственного бессилия перед необоримым мышиным воинством. Не саблей же их рубить! В безмозглой и бесстрастной мышиной силе была какая-то жуть, непостижимая жуть. Жуть была и в том, что мыши ничего не боялись, ни на что не злобились, тупо, неостановимо и мерно просто шли, шли и шли, покрывая землю на целые поприща плотным безмолвным месивом, обжирая по ходу все, что можно сожрать.
Страх и недоумение царили в душах. Великий князь и тот мучился, не понимая, за что, за какие грехи то наказание Господне. И утешался тем, что веровал: не могло то быть наказанием Господа, а значит, было противоборством иного…
Хлеб пытались убирать наперегонки с мышами, но не успевали их обгонять — за ночь опустошались целые волости.
Да и убранное, свезенное в амбары зерно, как его ни оберегали, вдруг оказывалось потравленным.
Однако, пройдя всей Русью, мыши отчего-то далее Твери не пошли, но, объев ее до последней полосы, исчезли, лишь утренний лед тронул лужи, так же чудесно и внезапно, как появились.
Следствием той напасти стал тяжкий год.
К Рождеству и у житных людей оскудели амбары, и встал над Русью един господин безжалостный — голод. Пустели деревни, потянулись в города нищие крохоборы, но в городах подавали скудно, самим есть было нечего. Зобница травленной мышами ржи стоила многих гривен, но и тому, кто имел серебро, надо было умудриться найти продавца на ту зобницу. Купцы, ища выгоды, в поисках хлеба расходились по дальним весям, но чаще возвращались ни с чем. В Новгороде, куда мыши не дотянулись, своего-то жита сроду не хватало, всегда докупали, Орда, ясное дело, русским хлебом жила; оставалось в самой Руси искать места, по счастью не тронутые мышиным нашествием. Однако в тех местах, пользуясь случаем нажиться на чужом горе, как пользуются люди такой возможностью во все времена, хлеб продавали втридорога. Да хоть и задаром, хоть весь тот хлеб развезти по Руси — все равно не хватило бы. А голод день ото дня делался все лютее. Немощные, опухшие люди брели из последних сил, сами не зная, куда и зачем, замертво падая по дорогам. Даже и сытым было тоскливо жить, потому как от собственной сытости им становилось страшно.
Известно — одна беда не приходит. От голода ли, от заразы, занесенной неведомо откуда мышами, начался мор повальный. Сначала на скот напал, а затем и на людей перекинулся. Костоломом назвали тот мор.
Всякий мор непонятен и грозен, но такого не было еще на Руси. Ни старики, ни письменные предания такого не помнили.
Как всякая моровая болезнь, началась она внезапно: вроде ни с того ни с сего закорчит вдруг человека, руки-ноги сведет У него, шею скрутит, точно колом пронзит от самого копчика — такая мука, что крепкие мужики, которые от сабельных ран лишь постанывали да покряхтывали, криком вопили! Человек скосит губы на сторону, словно в бесовской ухмылке, глаза, кровью налитые, выпучит и вопит без слов беспрестанно: «А-а-а-а!» — будто жгут его изнутри.
И все-то кости хрустят в нем, как валежник сухой под стопой, и суставы трещат давленой ореховой скорлупой. День-два от силы покричит человек и преставится.
Хотя, случалось, некоторых и отпускал костолом, так же нечаянно и внезапно, как схватывал. Правда, у тех, кто излечивался, либо память отшибало, либо и вовсе ум. У которых на время, а у которых и навсегда. Много после того костолома прибавилось на Руси безумных. Но этих — костоломных — от прочих скудных умом отличала то ли ухмылка, то ли улыбка навеки скривленных губ…
Тяжек был для Твери девятый год нового четырнадцатого столетия. Не чаяли, как и выжить.
Ужели так хрупок мир, что пошатнуть его могут и мыши?
Однако бодрость народа заключается не в одних лишь его победах и в сытом благополучии, но и в том мужестве, с каким выносит он выпавшие на его долю испытания.
Правда, надо бы, чтоб и испытания те хоть когда-нибудь заканчивались, а не длились веками, чередой сменяя друг друга. Иначе и самый сильный, могучий некогда народ превратится под гнетом тех испытаний в безмолвную, беспамятную скотину. И умрет…
Впрочем, мор и голод, возникавшие время от времени то врозь, то разом, были Руси привычны. К ним относились с той разумной терпеливостью, с какой и следует переносить неизбежное. Зато уж по истечении испытания для тех, кто остался жив, жизнь становилась стократ милей, и налаживалась она, входя в крепкое русло, неожиданно скоро. На Руси-то и всегда так: после горьких и тяжких лет войн ли, бесовской ли неправедной власти, когда, казалось бы, уж и остатние силы иссякли, люди еще пуще берут от жизни, что прежде взять не смогли, и как-то ловко и вмиг заново обустраиваются. Ежели, конечно, их не треножат.
Михаил Ярославич не треножил, напротив, сам радуясь пришедшему послаблению, сколь мог способствовал оживлению общему. Так пчельник после студеной зимы с горестью и надеждой обихаживает оскудевшие ульи. Хоть и требовала казна поступлений нового серебра на всякие нужды, а делать нечего — пришлось дать пусть малые, но льготы убывшим, числом издольщикам, лишь бы земля не пустела. И на следующий год, словно винясь перед людьми, земля одарила их таким обильем, какого и ждать не надеялись, так как за неимением запасов посадили меньше обычного.
Враз оживилась торговля, и в будни, а особливо по базарным пятничным дням потянулись к Твери подводы, груженные съестными припасами. Хуже всего в тот год шла торговля у рыбников — постной-то вяленой рыбой в предбывший год так налопались, что глаза на нее, спасительницу, не глядели. Воз сухой щуки стоил такой бесценок, что и платить его было совестно.
Правда, на папертях у церквей стало гуще от нищих. Осиротевшим, косорылым костоломникам, впавшим, в убожество, подавали щедро и с умилением.
Девки спешили замуж, жены чаяли ночами зачать, чтобы скорее родить детей взамен умершим в черный год, овдовевшие — и те невзначай тяжелели. Рожались отчего-то все больше мальчики. Для жизни то было славно, но по приметам, как сетовали старухи, принимавшие роды, такое единодушие сулило войну.
Война ждать себя не заставила. Хоть и знал Михаил Ярославич новгородский норов, но надеялся отчего-то, что сумеет удержать их от распри. Да вот и недавно совсем по их доносу и клевете им в угоду опять сменил наместников на двух городах, ан и эти им плохи. Али они ждут, что он, великий князь, за то, что встал над ними, им же еще и приплачивать будет?
А новгородцы, не голодавшие и не мореные, ободренные своими победами за морем, в общем-то без достаточных на то оснований, потому как возникавшие обиды можно было с великим князем и миром ладить, просто от одной лихости и тщеславия порешили вдруг, что пора уж им с князем поссориться. Мол, не держит он своего слова. А в чем именно не держит — не сказывали…
Весть о том, что в Новгороде готовятся выступить на негр с войной, Михаил Ярославич получил задолго до того, как простые новгородцы прокричали на вече: «Пойдем на Тверь за Святую Софию!..» — будто сами они то выдумали. Было в Новгороде кому воду мутить — ради беспредельной новгородской вольницы. И было кому сулить им ту вольницу.
Вновь потянулись на Москву послы с тайными грамотками…
Во всяком случае, имел Михаил Ярославич сообщения о том от верного Данилы Писцова, служившего великому князю вовсе не из корысти.
Так что, покуда новгородцы искали повод к войне, уговаривались на вече да рядились, упредив их, великий князь занял Торжок и Бежецк — города, через которые шли на Новгород торговые пути из Руси.
Подступив к Торжку, новгородцы смутились тем, что не смогли застигнуть Михаила врасплох, как надеялись. Озадаченные встали они под стенами своего же новгородского пригорода. В приступ идти не решались. А со стен укоряли их тверичи и бранили теми словами, коих они и заслуживали своей блядской изменчивостью.
Простояв некоторое время, новгородцы одумались, вспомнили вдруг о щадящей их честь Феоктистовой грамоте да о том, что и обиды-то не столь велики, и повинились перед Тверским.
Но оскорбленный великий князь решил так просто не прощать им измены.
Сказал:
— Покуда не заплатите мне, мира вам не даю. И хлеба вам не даю. Видать, давно не голодали, что на Низовскую Русь волком смотрите.
И приказал задержать на Твери все купецкие обозы, все подводы с суздальским зерном, шедшие в Новгород. Иных купцов велел развернуть восвояси, а новгородских взять в заложники.
Теперь уж новгородцы вернулись домой с истинной обидой на великого князя, по свойству характера тут же забыв, что сами же на себя его гнев и накликали.
А тут как раз случился в Новгороде большой пожар.
Улицы там были не широки — всего в две повозки, да и дома новгородцы ставили кучно, почти ровным кругом от детинца раскидывая по лугам улицы да концы. Оттого всякий пожар, занимавшийся даже в крайних домах Людина ли, Неревского ли, Плотницкого ли конца, неминуемо бежал по кровлям соседних домов, сходясь к детинцу. На сей раз ночью загорелся Словенский конец, покуда ударили в било, ветер уж погнал огонь на Торговую сторону, чуть было и Ярославово дворище не занялось. До самого волховского моста полыхало. Сгорело девять церквей безвозвратно, еще до сорока обгорело, а людей погибло чуть не сто человек! Да товару разного, да хлеба на многие тысячи серебряных гривен. За одну ночь кто нищим стал, а кто в большом прибытке остался. Тут же хлеб, разумеется, вздорожал, но и при дороговизне ясно стало новгородцам, что без подвоза долго они не протянут.
Так что еще быстрее, чем ожидал того Михаил Ярославич, прибежали новгородцы в Тверь каяться. Привел их владыка Давид, поставленный на епископство новым митрополитом Петром.
Петр не любил и боялся Михаила Ярославича, против воли которого утвердили его на митрополичьем престоле, Михаил же Ярославич не прощал Петру хитрости, с какой тот обошел его, и лишь вынужденно признавал над собой духовную власть первосвященника. По смерти святейшего митрополита Максима, случившейся вскоре после вокняжения Михаила, великий князь надеялся, что митрополитом Киевским и всея Руси станет святой отец из северной, Низовской Руси. В том он и поддерживал перед Константинополем соискателя митрополичьего престола владимирского игумена Геронтия. А чуть ранее галицкий князь Юрий Львович[89], внук Даниила Галицкого, послал в Константинополь игумена Петра[90], родом с Волыни. Причем послал он его с той целью, дабы утвердить у себя митрополию в Галичине. В ту пору и пришла в Константинополь весть о кончине Максима. Не разобравшись, что ли, в том, о чем его просит галицкий князь, поддавшись ли хитрости Петра, не успев ли получить просьбы великого князя о назначении Геронтия, константинопольский патриарх Афанасий нежданно-негаданно посвятил в сан волынца. Таким образом, получилось, что галичане остались без митрополии, а во Владимире на Владычьем дворе поселился вовсе не тот, кого бы хотел там видеть великий князь. С тех пор и пошло нараскоряку меж одной и другой властью. По сю пору Петр боялся, что Михаил Ярославич сумеет-таки доказать свою правоту перед Константинополем, а там одумаются да отдадут престол теперь уж не Геронтию, а тверскому епископу Андрею Герденю. На Переяславском соборе в присутствии многих епископов, священников, князей, а главное, посла нового царьгородского патриарха Нифонта тот Гердень обличил Петра в том, что он, мол, не по заслугам и даже обманом выхлопотал для себя митрополичий престол.
Одним словом, многое встало меж великим князем и митрополитом Киевским, Владимирским и всея Руси. Петр в хождении по Руси избегал Твери, Михаил Ярославич, бывая во Владимире, обходил стороной Владычий двор. И даже при редких встречах говорили о русских делах не столь для того, чтобы друг другу открыться, а просто чтобы в душу иного не допустить.
Но могут ли быть раздоры меж наместниками на земле Божией воли?
Петров ставленник, архиепископ новгородский Давид, сменивший старого Феоктиста, был молод, рьян, свободы и права новгородские отстаивал перед великим князем смело, ежели не сказать более, и даже усовестил Михаила Ярославича тем, что тот, мол, пользуется к своей выгоде бедствием, постигшим Великий Новгород.
Михаил Ярославич слушал его спокойно, но те, кто знал князя ближе, видели, как отливает кровь от его щек, как бледнеет он и гневом возгораются его глаза. Однако он выслушал отца Давида до конца и после не сразу ответил ему, будто давил в себе гнев. Лишь костяшки пальцев, сжатых в крепкие кулаки, белели от ярости.
— Я ли к вам с войной пришел, святый отче? — спросил он.
Новгородский епископ глаз не отводил, однако сказать ему было нечего.
— Когда три года тому назад детишки малые на Твери от голода пухли, ты, святый отче, и собаки твои новгородские поделились ли с ними малою коркою?
— Сам знаешь, великий князь, едва от урожая до урожая живем.
— То-то что живете. А мы-то дохли здесь. Али мы не одной земли люди?
Нечего было ответить епископу.
— А когда грамоту Феоктистову рядили, разве не обещали новгородцы служить мне по совести? А ежели будут какие обиды, миром их ладить? Мало вам шведов с немцами, со мной воевать хотите?! Али русская-то кровь для вас слаще?
— Так ведь повинились мы уж перед тобой, великий князь, — возгордился было Давид.
— Повинились?! — Князь усмехнулся так, что и слов не требовалось, дабы сказать ими, насколько он верит в их раскаяние.
От чужих и своих бояр в гриднице было тесно, но так тихо, что казалось, слышно стало, как солнышко проникает через оконницу. Из-под высоких изрядных шапок с богатыми Цеховыми опушками струился по боярским лбам пот.
— Пошто измену ладите? — тихо и как-то устало спросил. Михаил Ярославич. Так не про измену спрашивают, а про мелочь обыденную. Однако новгородцы аж дернулись, забегали глазами, как тараканы запечные, по стенам да потолку.
— Не ведаю, о чем спрашиваешь… — отвел глаза и святой отец.
— Я ли по вашим жалобам не отзывал людей своих от вас? Я ли не держусь Феоктистовой грамоты и даже в голодный год ничего, кроме ваших даров, не взял с вас сверх того? А ты меня упрекаешь, отче? Говори, в чем еще провинился!
Владыка Давид вздохнул. Молод он был еще с Михаилом-то спорить, да и ради Новгорода врать не умел.
— Нет на тебе вины, великий князь, — понурился епископ.
— Я слова менять не стану: покуда не откупитесь, ни хлеба вам, ни мира не дам…
Мир тогда установился скоро, но был он еще более ненадежен, чем прежде. Как рыхлый весенний лед на реке.
Новгородцам за свою опрометчивость пришлось заплатить тысяча пятьсот гривен серебряных. И то сказать, маловато взял с них великий князь.
Может быть, и надо б было отступиться ему покуда от Новгорода и собирать иные земли. Может быть. Но не мог Тверской, потому что знал: лишь только он отпустит его, сей же час вокняжится у Святой Софии московский князь, и тогда скрытая распря тут же прорвется войной, причем войной доселе невиданной, войной, в которой заполыхает вся Русь. Он же пришел на великий стол вовсе не для того, чтобы русские убивали русских.
И худой мир дорог, когда другого нет.
И все же Михаил Ярославич не оставлял надежды и новгородцев привести по уму к одной воле. Время надобно было ему для того. Мир и время. Но оказалось, ни того, ни другого не осталось у великого князя.
В конце августа одна тысяча триста двенадцатого года пришла из Орды глухая, как дальний гром, весть: умер Тохта.
4
Много воды утекло с тех пор, как отворил великий князь торжские ворота хлебным обозам для Новгорода. Пять лет прошло, пролетело, минуло. Время то тянулось татарским волоком, как в те два нескончаемо долгих года, что провел он в Сарае перед новым ханом Узбеком[91], то летело выпущенной стрелой. Только цели не достигало — ничего не стронулось к доброму в противостоянии Твери и Новгорода. Лишь пуще обоюдной злобы прибавилось. Да и как ей не прибавиться, когда год от года та злоба свежей кровью напитывается. Господи! Сколько же той крови пролито попусту!
Разумеется, и Москва от той вражды в стороне не осталась. И, скорее всего, ту вражду Москва же и сеяла, как сеет пахарь худое зерно: авось да взойдет.
Началось все как раз тогда, когда Михаил Ярославич вынужден был отправиться в Орду на поклон новому вольному царю хану Узбеку.
В том, тринадцатом, будь он неладен, году корелы, сделав измену, впустили шведов в Кексгольм, отмстя новгородцам поход на Ванаю, умертвили там множество русских и сожгли Ладогу. И хотя, в свою очередь, новгородцы — между прочим, под водительством Михайловых наместников — тут же отомстили шведам злодейство, вскоре после возвращения с победой вроде бы ни с того ни с сего собралось злое вече. Никаких видимых причин для обид вовсе не было, но люди сошлись на вече дружно — какие нетрезвые, а какие, особенно гневные и крикливые, не иначе как подзуженные. И ну кричать!
Мол, покуда Михаил перед ханом пресмыкается и Русь в Орде продает, мы из-за него досаду от шведов терпим! Мол, доколе такое будет?!
Ну и остальные кричат, разумеется: Русь продает! Доколе!
Много ли времени надобно русскому человеку, чтобы найти виноватого?
Ну и далее как всегда: умрем, мол, за Святую Софию! Не нужен нам такой князь!
Отчего же не крикнуть, когда другие кричат.
— А что, мужи новгородские, побежимте-ка на Москву, звать Юрия! Люб он вам?
— Лю-у-уб!..
А у тех, кому не люб, и не спрашивают. А тех, кто возражает, — не слышат. Много ли скажешь русской толпе поперек, тем более когда она уж взъярилась.
— А тверскому князю — война!
— Война Михаилу.
— Умрем за Святую Софию!
— Умрем…
Отчего ж с такой легкостью мы смертью клянемся? Али и правда жизнь нам не дорога?
Как крикнули, так и сделали. Известное дело — вече, крикнуть куда как легче, чем после поворотить назад. Михайловым наместникам велено было сбираться и уходить изо всей Новгородской земли, а в Москву побежали бояре — звать Юрия.
Юрий, однако, сам не приехал, но послал вместо себя своего родича князя Федора Ржевского. Новгородцы так и опешили: досадно было им принимать у себя безвестного, малоудельного князька, хоть и родича Юрьева, но деваться уж было некуда — не виниться же опять перед Тверью. Тем более тот Федор прыток оказался сверх чина: взял да и похватал нечаянно встретившихся ему по дороге изгнанных из Новгорода тверских наместников. Похватал — ладно, волок бы их тогда обратно в Новгород для суда. А он от бездумья ли, нарочно ли, чтобы уж отступного пути у Новгорода не было, взял да и умертвил их на той дороге всех до единого. Пошто, спрашивается? При всей нелюбви новгородцы-то их от себя живыми выпустили. Многие тогда подивились в Новгороде такому ненужному зверству, да даже и пожалели тверичей, с которыми худо-бедно, а не один год вместе хлеб делили. Однако возмущались тем убийством да жалели тверичей уж не на вече, потому как никто не сзывал, а так лишь, промеж собой…
Федор же и бояре звали идти на Тверь, показать свою преданность Юрию. Чтобы озлобить, хитрость нужна, а чтобы озлобиться, много ума не надо. Так ли, иначе ли, но в ту же осень двинулись новгородцы на Тверь.
И все же, чуя, что накричали лиха и творят беззаконие, новгородцы — хоть и ведали, что великий князь в отбытии — в тот раз шли к Твери с душевным унынием. Даже попутный грабеж не радовал, и, вступив в неприятельскую землю, новгородцы вели себя тогда скромно, как ни задорили их на озорство войсковые начальники. Вообще был тогда миг, когда все еще могло бы переломиться. Но заступники Михайловы оказались в меньшинстве, не при власти, а потому робки. И бояре, люто ненавидевшие Михаила за придирчивость, видевшие в его силе лишь посягательства на свои права, во главе с Федором Ржевским, строго соблюдавшим Юрьевы — али Ивановы? — указания, сумели-таки довести новгородское войско до Волги, где на другом берегу, упрежденный заранее, уж ждал их Михаилов сын Дмитрий.
Дмитрий к тому времени не достиг и отцова возраста, когда тот впервые повел рать на Кашин, то есть и пятнадцати ему еще не исполнилось, но уж величали его не иначе как Дмитрий Грозные Очи. Знать, заслужил, и не только тем, что взглядом умел сверкать. При Дмитрии ненавязчивым пестуном и старшим воеводой, разумеется, находился неизменный Помога Андреич, с годами приобретший еще большее дородство и добродушие. Помога Андреич сам недавно воротился из Новгорода, он-то и водил тех новгородцев отбивать у шведов Кексгольм. Теперь он глядел на бывших своих сотоварищей с сожалением, как смотрит кот на недоступную птицу, любя и презирая ее. Дело в том, что противников надежно разделяла река, по первым морозам едва покрытая тонким льдом, который и одного пешего не мог выдержать. Жалел о том Помога Андреич — за неправоту следовало бы наказать переметных новгородцев. А тверская рать, крепко скованная великим князем, даже и без него была страшна и могуча.
— Ну, Помога Андреич!
— Чай, я не мороз. Ждать надо, княжич.
Дмитрий хоть и рвался в бой заступиться за отчину и за отцово достоинство, но был послушен, как и наказывал ему, уезжая, Михаил Ярославич. А совет был один: ждать.
Долго перекрикивались через речку, бранились, обещали ужо пустить друг другу кишки, как лед встанет. Однако далее еще неожиданно потеплело, и новгородцы, видно убоявшись распутицы, снялись в одну ночь. Наутро увидели тверичи голый берег.
Новгородцы возвращались домой, подверженные внезапно напавшей на них, то ли от ожесточения на самих себя, то ли еще по какой причине, отчаянной лихости. Так бывает среди людей. После сомнительного предприятия вдруг нападет, да разом на всех, какое-то бесовское веселье, от которого, впрочем, на душе вовсе не весело, и пущая лютость, как правило совершенно бессмысленная. Как только являлось их взглядам какое-никакое тверское усадище, точно огненным помелом проходились по нему новгородцы. Никого — ни тверского монаха, ни девку — кто бы ни попался им на возвратном пути, не щадили они. Словно рукой на себя махнули новгородцы: «А, семь бед — один ответ…»
И доказывали свою преданность московскому князю многой безвинной кровью.
Хотя понимали, что и без той крови дело уж сделано бесповоротно. Зная великого князя тверского, можно было не сомневаться в том, что обиды он не оставит.
В другой раз побежали гордые бояре новгородские в Москву звать Юрия. На сей раз Юрий был уступчив и милостив. Повязав с собой и меж собой новгородцев тверской кровью, согласился вокняжиться на престоле Святой Софии. И то, с богатым, тщеславным Великим Новгородом ему теперь и тверской великий князь был не страшен. Да еще Москва оставалась за спиной Михаила Ярославича. Отныне, в какую бы сторону ни оборотился он, спина у него всегда останется неприкрытой. Авось с голым задом-то не навоюется… На Москве оставил Юрий Ивана — тот провожал его с Искренней горестью, — с собой взял Афанасия, старшего из трех последних братьев Даниловичей.
Юрий с Афанасием прибыли в Новгород перед заговением. Новгородцы встречали московского князя с невиданной радостью. Они уж не чаяли увидеть его. В душе-то многие из них успели и напугаться, и покаяться в содеянном. Пошто творили? Как бес попутал. И многие же втайне думали, что Юрий к ним не придет — мол, сам поманил, а потом отвернулся. Ан приехал все-таки, долгожданный.
Юрий же был по-московски уступчив да ласков, сулил благоденствие и обещал править новгородцами по всей их воле.
Рухнуло и то малое, чего достиг Михаил Ярославич.
5
Смерть Тохты для всех была внезапна, а для него самого и преждевременна. Он умер, едва ему исполнилось сорок лет, не успев испить до дна чашу величия. Только приладился к ней по-хорошему, ан пора помирать.
Трудно сказать, была ли и его смерть насильственной, однако и этого исключать нельзя. Тем паче при обилии и разнообразии ядов, коими снабжалась столица Ордынского царства. Во всяком случае, Михаил Ярославич, узнав о смерти Тохты, про себя усмехнулся, вспомнив скользкую китайскую чесунчу его нижних рубах.
Тверской предвидел, что в Орде по смерти Тохты, как по смерти всякого ее государя, непременно случится замять. Хорошо оказалось и то, что он не успел отправить в Орду уже собранный ханский выход. Теперь можно было не спешить его отправлять, придержать у себя до тех пор, покуда сами татары не спохватятся да не потребуют.
А еще Михаил надеялся на то, что татары, как это уже случалось прежде, схватятся меж собой из-за власти, да так наконец-то схватятся, что после схватки не вскоре еще и очухаются. И тогда, Бог даст, поймет Русь: и ей пришло время сплотиться против Орды воедино. Сколько же можно терпеть и ждать, ждать и терпеть? Всегда та надежда жила в нем, к тому готовил он Русь и себя. Сильно надеялся великий князь и на то, что лишь только забрезжит для всех, а не для него одного действительная возможность освобождения, тут же, как опадает шелуха с вызревшего в плод семени, опадет злобная и безумная пелена с глаз тех, кто покуда не видит этой возможности избавления от ненавистной татарщины.
Надеялся князь. И надежды его крепли по мере того, как приходили из Орды смутные, неверные слухи. По осени еще Николка Скудин сообщал, что в Орде беспокойно. Вкруг Сарая сбираются пришедшие со всего Дешт-и-Кипчака знатные степняки. По городам же, а особливо в самом Сарае, вдруг в одночасье обнаружилось много приверженцев Алкорана, причем приверженцев тех оказалось много и среди высоких нойонов и прочих начальников, при Тохте ревностно поклонявшихся разноструйным ветрам да Вечно Синему Небу. Кроме того, явился в Сарай откуда-то из Хорезма какой-то Узбек, называющий себя ханом. А за тем Узбеком стоит Хорезмское шахство, сарайские и иные неисчислимые магумедане и их муфтий Имам ад-дин Эльмискари.
Ламы кричат, мол, на улицах против магумедан, но их не слышат. А магумедане покуда молчат. Однако в их молчании, как добавлял Никола, ужаса будет поболее, чем в криках лам и бохшей.
И мимоходящие купцы сведения те подтверждали. Так что по всем сообщениям и слухам, что росли и ширились день ото дня, выходило, что не миновать Орде замяти, и замять та будет великой.
Оттого Михаил Ярославич доволен был и неверным миром с новгородцами. Тогда он приуготовился прощать обиды, потому как и великокняжеские обиды были несоизмеримы с тем, ради чего он жил и чего ждал всю жизнь.
Однако вскоре Великий князь всей Руси — так начали величать Михаила государи иных земель — получил повеление немедля предстать пред новым ордынским царем. Звали того царя Узбек.
Аз-бяк, как называли его русские меж собой…
А в Орде тогда и впрямь не хватило малого, чтобы занялась она повсеместным пожаром.
Согласно Тохтоеву завещанию, заместить его на ханском столе должен был старший сын Ильбасар. Однако, когда Тохта в одночасье скончался, сын находился вдали от Сарая, в устье Дуная, откуда и правил он самым западным улусом Орды.
Узбек же тайно пришел из Хорезма не раньше того и не позднее, а как раз накануне смерти Тохты. А сразу же после смерти правосудного хана с почестями был принят знатными сарайскими магумеданами, которые спешно и прокричали его царем.
Одним словом, Ильбасар вернулся в чужой город. Вернее, в город, для которого он сам стал чужим. И ненадолго пережил отца.
Убийство Ильбасара послужило сигналом к избиению неверных магумеданами. Бохши и ламы уже не лаялись, но смиренно умоляли соплеменников оставить им жизнь. Их снова не слушали: отрубленные головы в остроконечных колпаках нарочно натыкались на колья и выставлялись на улицах и базарах для устрашения. Как всегда в таких случаях, били не одних только ламаистов и приверженцев Ильбасара, но и прочих неверных. Досталось и русским, и иудеям, и латинянам. В несколько дней цветущий Сарай-Баты был опустошен и разграблен. Новый хан наказал ненавистный ему Сарай, из которого когда-то, еще в материнской утробе, его изгнали.
Узбек приходился внуком Менгу-Тимуру — он был сыном Тагрула, брата предбывшего хана Тула-Буги. Как известно, Тохта вместе с Тула-Бугой убил и всех его братьев, но отчего-то не догадался убить и их жен. Впрочем, затяжелевшая женщина некоторое время выглядит как пустая. Вот одна из тех жен, пытаясь сберечь оброненное в нее царственное семя Тагрула, и унесла из Сарая, подалее от Тохты, в укромном тайнике своего чрева будущего ордынского хана.
Расправившись со старым Сараем-Баты, Узбек повелел перенести столицу в новый Сарай, располагавшийся выше по течению реки Ахтубы, также невдалеке от Волги. Отныне он приказал именовать столицу Сарай-Берке, прибавив в название имя первого хана, принявшего магумеданство.
Силой утвердившись на престоле, с присущей ему твердостью молодой Узбек начал требовать и от дальних степняков, и ото всех своих подданных немедленного отказа от прежних заблуждений и поголовного обращения в любезное его сердцу магумеданство.
После сарайского побоища немногие уцелели из прежнего окружения Тохты. Однако, проявляя ли назидательное милосердие, из иных ли дальновидных соображений, но родичей того, кто самому Узбеку оставил жизнь лишь по случайному недогляду, он не казнил. Ни жен Тохты не тронул, ни других его сыновей, ни их жен, ни Тохтоевых племянников и их жен. То было странно, божественно великодушно, царствено и непонятно. Новый хан уже был велик и загадочен, как его вера.
Не казнил Узбек и ближайшего из эмиров Тохты Кутлук-Тимура.
А в Дешт-и-Кипчаке кипели страсти: по степи, загоняя коней, летели гонцы, неся от кочевья к кочевью тревожные вести, то тут, то там близ Сарая появлялись летучие отряды степняков. Одни эмиры требовали созвать курултай, другие али собирать войсковые туманы, чтобы уничтожить ненавистных магумедан и их хана, третьи слали Узбеку письма. «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, но какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания? Как мы покинем Джасак Чингисхана и перейдем в веру арабов? Думал ли ты о том?» — спрашивали они.
Одним словом, готовился обратный переворот. Среди заговорщиков был Инсар, второй сын Тохты, могущественный эмир Тунгуз, сын Мунджи, и многие другие татарские князья, не желавшие переходить в мугамеданство. Был среди них и тайный магумеданин Кутлук-Тимур. Кутлук-Тимур и выдал заговорщиков. Но не то удивительно, что он рыдал их, он всегда безошибочно предавал обреченных, как предал он Ногая, да и яд Тохте мог поднести только Кутлук-Тимур, странно, что он, магумеданин, оказался в числе заговорщиков-ламаистов. Кутлук-Тимур с ведома, а то и по указке Узбека сам и затеял тот заговор, чтобы разом выявить и уничтожить ханских врагов в столице, без которых остальная степь, уже не сможет подняться.
Заговорщики позвали Узбека на пир, якобы устроенный в его честь, на котором и намеревались его убить. Казалось, все предусмотрено и готово к убийству. Заранее уведомленный Кутлук-Тимуром, Узбек приглашение заговорщиков принял милостиво. Однако на пир пришел не один, но с войском.
Теперь сердце Узбека не знало пощады. Он казнил всех, кого дальновидно не казнил прежде: и Тохтоевых жен, и других Тохтоевых сыновей и их жен, и Тохтоевых племянников и их жен… Он казнил и многих нойонов и беков, даже тех, кто не был напрямую причастен к заговору, но предлагал собрать курултай, и тех, кто слал ему письма или просто стоял в стороне.
Не почитая Джасака, Узбек из всех правил великого предка всегда и неукоснительно соблюдал одно: достоинство всякого дела заключается в том, чтобы оно было доведено до конца.
Степь ужаснулась и покорилась.
На том и умер старый, злобный, но простодушный Дешти-Кипчак.
Гийас ад-дин Мухаммад Узбек был юн и красив той царственной красотой, что отличает красоту властителей от заурядной пригожести мелких злодеев и неумеренных сладострастников.
Узбек был велик. А его юное, миловидное лицо лишь подчеркивало это величие. Никто еще не знал, что спустя немногие годы целые народы в знак любви к государю назовут себя его именем, никто не ведал, что причислен он будет к самым умным и могущественнейшим царям мира, никто не предполагал, до каких небывалых высот вновь возвысит этот отрок Золотую Орду.
Не знал о том и Михаил Ярославич. Но с первого взгляда, когда увидел он в ханском дворце молодого царя, нахлынуло на него отчаяние, чувство необоримой и очевидной безысходности, которой не было ранее, и защемило сердце. Точно сердце вперед ума узнало, кто перед ним.
Румяное, в нежном пушке, тонкогубое, не желтое, а скорее смуглое лицо хана будто светилось изнутри непреходящим изумлением, словно все, что окружало его, было внове ему. Когда он слушал доклады визирей, рот его даже приоткрывался как-то совсем по-детски, а брови, сросшиеся на переносье, сами по себе ползли вверх.
«Вот как? Любопытно… так-так-так», — без слов говорило его лицо.
Когда он бывал милостив, улыбка Узбека лучилась добротой и приязнью.
«Ну что же! — звал он к себе всех и каждого улыбкой всемогущего Бога. — Идите же ко мне! Разве вы от меня ничего не хотите? Я дам вам — всем и каждому — то, чего вы пожелаете. Ну же…»
Но мало кто обманывался этой улыбкой.
Когда же хан был сумрачен, то наводил округ такой ужас, что не только визири, а и мимолетящие мухи, казалось, впадали в уныние. Но менялся хан лишь для того, чтобы нынче отличаться от себя вчерашнего, а завтра не быть похожим на себя сегодняшнего.
Однако внутри он всегда оставался холоден, расчетлив и ровен. Никого не впускал в душу, был одинок, счастлив и корд своим одиночеством. Вести и те принимал на ум осторожно, как глотают студеную воду.
Весело и удобно было хану менять личины, зная заранее, на многие годы вперед, чем обернется кому-то вот эта его улыбка, оброненная будто бы невзначай…
Более двух долгих лет с тоской наблюдал Михаил Ярославич за внешними переменами и уловками хана. При всей его дальновидности, при магумеданской изощренности строгого и ясного ума, сам по себе он все-таки не был страшен князю, хотя бы потому, что во многом Михаил умел понять и предугадать молодого Узбека. Но за Узбеком стояла Орда, страшная и без Узбековой воли, Орда, которую хитрый хан предусмотрительно еще прочнее сплотил на века жесткой единой верой.
За Тверским была Русь.
А из Руси приходили худые вести. И скорбные… Во Владимире, в Успенском монастыре, почила благоверная инокиня Мария. В миру княгиня Ксения Юрьевна. Матушка…
Еще никогда с такой безысходной тоской не принимал Михаил Ярославич обычный татарский волок. Хотя и волок был необычен. Узбек держал его подле себя, впрочем не допуская вблизь, будто нарочно испытывая терпение великого князя. Не было нужды ему далее оставаться в Сарае, все, что можно было решить и уладить, было улажено и решено. И ярлык с новой ханской тамгой давно уж лежал в походном княжеском сундуке. Но великий беклерибек Кутлук-Тимур, с которым несколько раз добивался встречи Михаил Ярославич, лишь пыжился и глядел на русского князя, не скрывая злорадства и давнего, необъяснимого презрения: мол, погоди, князь, не торопись, теперь уж недолго осталось…
Михаил Ярославич понимал, о чем говорил взгляд беклерибека. Впрочем, значения ему не придавал: какой татарин не хочет смерти русского князя?
— Когда же? — одно спрашивал тверской князь у Кутлук-Тимура.
— Нет покуда на то воли великого шахиншаха.
Михаил Ярославич понимал: с той прытью, с какой начал Узбек, он не удовольствуется наведением порядков в одной лишь Орде, непременно потянет руки к Руси, и Узбековы руки будут покрепче иных, а Русь и не чует того. Сказывают, Новгород так вольно разгулялся под Юрием, что от ушкуйников[92] спасу нет, до Нижнего добегают на лодьях, а по пути бесчинствуют, словно в чужой земле.
В долгие, беспроглядные сарайские ночи, тревожные от ветров, ему мнилось: попади он сейчас на Русь, одно имя его остановит беззакония. А Новгород он накажет по-своему, так, чтобы надолго запомнил… А Юрия… Что ж Юрий? Как ни обширна земля, а, видно, не жить им вместе с племянником на земле этой. Хватит уже — до трех раз прощают.
И молил Господа освободить его из татарского плена.
За те два года, что провел Михаил Ярославич в новом Сарае, не так уж много раз видел он хана, а еще менее говорил с ним. Но всегда, понимая, что хитростью с Узбеком ему ничего не достичь, говорил откровенно, насколько можно было быть откровенным русскому князю с ордынским царем. И всякий раз с горечью сознавал, что и откровенностью не добился, чего хотел. Милостиво улыбаясь, Узбек принимал самые неожиданные, внезапные решения, но совершенно противоположные тем, на какие рассчитывал Михаил Ярославич. Иногда то обнаруживалось сразу, иногда после.
В Сарай великий князь пришел вместе с митрополитом Петром. Тому тоже надо было подтвердить у нового хана монастырские льготы, существовавшие еще со времен Менгу-Тимура. Кстати, Михаил Ярославич и надоумил на то Петра, и уговорил его пойти в Сарай вместе с собой.
С пущей щедростью Узбек подтвердил те льготы, но при этом ущемил права великого князя и защитил перед ним митрополита. Михаил Ярославич ждал ответа от константинопольского патриарха Нифонта на свою грамоту, в которой просил церковным судом судить Петра и, коли суд найдет возможным, сместить его с высокого митрополичьего престола. К тому он прилагал основания.
Петр же пожаловался Узбеку на притеснения, какие якобы имеет он от великого князя. Да если бы и были те притеснения, как мог допустить себе митрополит всея Руси подать жалобу на великого князя не кому-нибудь, но магумеданину и ордынскому притеснителю!
Господи! Доколь мелки бывают и высокие слуги Твои, держащиеся за свой стол!
Менгу-Тимурова грамота, определив монастырские льготы, никоим образом не вмешивалась ни в отношения Церкви с русскими великими князьями, ни собственно в дела самой Церкви. Узбеку лестно было вмешаться в дела иного Бога, кроме того, митрополичья просьба давала ему право и впредь вникать в возможные тяжбы как между православными священнослужителями, так и между ветвями духовной и княжеской власти. Хотя православие было скучно Узбеку. В будущем, пусть неблизком, он мечтал видеть Русь, да и весь подлунный мир магумеданским.
А в Твери уже дожидалось князя послание патриарха Православной Церкви константинопольского старца Нифонта. Нифонт своей патриаршей властью поручал великому князю силой отправить недостойного митрополита в Константинополь. Не знал еще о том Михаил Ярославич, а когда сведал, уж не дотянулся до Петра, укрывшегося в Москве. Да после и не до того ему было.
А еще во всякую встречу с ханом Михаил Ярославич просил Узбека рассудить его с Юрием. На ту просьбу он имел право, так как и тверской, и московский князья считались слугами ордынского царя. Не о многом просил он — ишь о ханском суде. Узбеку, судя по тому, как слушал он Михаила, Юрий показался любопытен. Он непременно обещал его вскоре вызвать, но отчего-то не звал. И Михаил Ярославич знал отчего: не нужен был хану суд, на котором великий князь непременно доказал бы вину племянника. После того как тот сел на Новгороде, слишком уж она стала очевидна.
Так и тянулся без проку безнадежный татарский волок.
А Орда под властной рукой молодого хана все крепла, и ясно становилось Михаилу, что теперь цель Руси уж не в том состоит, чтобы скинуть татар, как хотел он того, но лишь в том, чтоб не дать Орде утвердиться на Руси на вечные времена. Благо еще, что Узбек, хорезмский царевич, более глядел не в сторону Руси, а на юг и восток. Но долго ли перевести взгляд с востока на запад? А там Русь. А на Руси раздоры: да свары, зависть да злоба к самим себе. Приходи да бери ее, бей, режь, жги, грабь да силуй. Кто поднимется, кто защитит кресты православные?
Страшно Михаилу за Русь пред новой Узбековой силой. И тяжко, так тяжко, что, случалось, на молитве или бессонной ночью чувствовал вдруг, как мокнут глаза, — то, будто в детстве от нетерпимой обиды, прихлыновали к ним вдруг жаркие бессильные слезы.
«Пошто вы, русские люди, не любите так себя?..»
Наконец на новый, шестнадцатый год — а год исчислялся тогда с сентября, — еще раз позвали великого князя к хану.
То был не обычный ханский прием, на каких присутствовало и до сотни разных людей. На совете-диване собрались лишь самые близкие и доверенные Узбеку лица — Кутлук-Тимур и самые видные эмиры, первая жена хана, хорезмская красавица Балаянь, Узбековы сестры. Сначала долго говорили, не трогая сути. К сути же подошли, как всегда бывает, внезапно и покончили с ней в один миг. Все уж было подготовлено и решено. Узбек позвал Михаила лишь объявить ему свою волю.
Узбек глядел на русского князя будто с сочувствием. Как ни затворено ханское сердце, нравился ему этот русский. И статью своей, и взглядом, в котором не чувствовалось привычного хану раболепства и страха, и тем, что не юлил, как другие, и тем даже, что пытался ограждать свою Русь, и умом, который так редок в людях. Однако знал Узбек: в том, что нравится ему великий князь, для самого князя ничего хорошего нет. Если помощники нужны поподлей, побессовестней да помельче, то что уж говорить о врагах?
Легко держать в подчинении лишь тот народ, который лишен достоинства. Но можно ли позволить такому народу иметь достойных князей? «Конечно, нет, — разумно полагал хан, ласково глядя, словно прощаясь, на великого князя. — Иначе, глядя на достойных князей, и сам народ взбодрится, почует достоинство, а таким народом нельзя уже управлять одной силой».
Пока Михаил был в Орде, многие склоняли Узбека к тому, чтобы избавиться от него. Кутлук-Тимур и прямо настаивал убить Тверского сейчас же. Мол, первый то враг для Орды среди русских. Но хан не спешил. Больно уж чист и ни в чем не замаран оказался тверской князь перед Русью, как белый голубь на синем небе. Такие-то после смерти, бывает, оказываются пострашнее, чем при жизни. Прежде чем убивать, надо его пометить кровью, как дегтем, да густо, чтобы уж не голубем взмыл, а вороном. И есть к тому у хана надежное средство. А еще было б лучше, если бы не татары, но сами русские его и убили. Это при их злобе и зависти устроить не тяжело.
Жизнь человека, даже если он хан, коротка. И прожить ее нужно мудро и бережно. Как девы хранят всякий раз белые одежды от неизбежной крови, так государи должны оберегать будущую по себе память от неизбежной хулы. Чтобы потом, когда призовет к себе божественный Мухаммед, вечное время наслаждаться в его цветущих садах и слушать, как люди на земле славят твои добродетели. Гийас ад-дин Мухаммад Узбек никого не убивает безвинно. Он лишь наказывает.
— Я дам тебе войско, князь. Накажи тех неверных людей — новгородцев.
Будто одаривал, Узбек сиял лучезарной улыбкой.
Слова толмача были внезапны.
— Я не прошу у тебя войска, великий хан.
Выслушав ответ толмача, хан не перестал улыбаться.
Между прочим, Узбек знал, что тверской князь понимает и говорит на куманском наречии, но обращался к нему через гласника. Так ему было удобнее.
— Разве князь отказывается от дружеской помощи милостивого Узбека? — Узбек все так же лучезарно улыбался, покуда улыбкой давая понять, что от дружеской ханской помощи не отказываются.
— Я просил у хана суда с Юрием, а не войска на Новгород, — ответил Михаил Ярославич.
Хан не перестал улыбаться, но теперь улыбка его неуловимо изменилась, стала холодна и хрупка, как стекло.
— Будет суд, — пообещал Узбек. — Я послал за тем Юрием. Сначала надобно выслушать и его. Так берешь мое войско, князь?
Хан больше не улыбался.
— Великий хан, мне новгородцы обиду сделали, я их и наказать должен.
Хлопнув в ладони, что означало решение дела, Узбек внезапно весело рассмеялся:
— Верю тебе, князь! Я посылаю войско на тех неверных новгородцев. Ты его поведешь…
За Покровом татарское войско во главе с воеводой Тойтемером, ведомое великим князем тверским, вступило в Русь.
Вот уж истинно — злее зла честь татарская…
6
Десятого февраля одна тысяча триста шестнадцатого года подле Торжка, на Тверце, сошлись для битвы войска Михаила Ярославича, в которых собраны были суздальская, владимирская, тверская и татарская рати, и новгородцы. Новгородцами предводительствовали Федор Ржевский и князь Афанасий! Данилович. Юрий еще летом отбыл в Сарай, трепеща Узбекова вызова. Разминулись они с Михаилом Ярославичем лишь потому, что Юрий предусмотрительно избрал не обычный, кратчайший путь в Орду по Оке и Волге, а вертлявый и дальний — по Каме. Когда дело касалось жизни, московский князь был расчетлив.
День поднимался мглистый. Долго не могло развиднеться, а когда развиднелось, въяве увидели новгородцы тьму Михайлова войска и содрогнулись, так было оно велико.
— Братья! Умрем за Святую Софию! — выкрикнул Афанасий.
— Умрем! — глухо пророкотало в ответ.
Теперь и без клятв новгородцы понимали, что обречены умереть, пощады им ныне от Михаила не будет.
Что ж, коли суждено умирать, так хоть исподнего не запачкать.
Переговоров не вели. Не о чем было переговариваться.
Уговорено было, что Тойтемер первым наскоком ударит по новгородцам конными лучниками, а как откатят их волны, вперед пойдут тверичи, за ними и остальные. Отчего-то Михаил Ярославич все не давал знака к бою. Татары злились, понужая и сдерживая коней. А Михаил заране чувствовал какую-то неуместную сердечную маету и медлил. Коли бы не было с ним татар, как бы было ему ныне легко, думал, досадуя, он. Легко ли?
Наконец на высоком древке взвился условленный багряный княжеский стяг.
Завизжали татары, как санные полозья на повороте, поднялось над заснеженной поймой белое облако, тронулись конные ряды лучников один за одним, догоняя друг друга у невидимой черты, где скидывали они с тетивы стрелы. Новгородцы ждали того — подняли над головами щиты. Немногие татарские стрелы пробили брешь и достигли цели. Крик татар еще не исчез безвозвратно в воздухе, еще не осела снежная пыль из-под копыт их коней, как пошли на новгородцев, обнажив короткие мечи и сулицы, сподручные для пешего боя, тверские полки. Твердо, плечо к плечу, двинулись им навстречу и новгородские «плотники».
Шли молча. Ни те, ни другие не поминали ни Бога, ни князей, ни родителей — так велика была ненависть, ни злое слово, ни крик ничего не могли к ней прибавить. Оттого, что молчали, те двести саженей, разделявшие ратников, казались непреодолимым вечным путем, но первым никто не хотел нарушить молчание. Так и молчали до железного звона, а там уж не разобрать было, кто кого клянет, кто кого зовет, кто кого поминает… В один бесовской, ненавидящий, злобный вой слился единый русский язык, в котором не осталось места для слов.
— А-а-а-а-а-а-а-ля!.. — кричали одни.
— А-а-а-а-а-а-а-ля!.. — кричали другие.
Никогда досель не было в жизни князя столь страшной, кровавой и дикой сечи, как та, что случилась под торжскими стенами.
Зная вину и не видя в ином спасения, новгородцы бились отчаянно, предпочитая умереть с честью, но не сдаться великому князю, от которого все равно они не ждали пощады. Раненые новгородцы об одном молили и своих и чужих:
— Христа ради нашего Господа, убей, человече!..
Иных и убивали из жалости, по ходу пронзая железом.
Мертвых не обирали — новгородцам было то ни к чему, а тверичи дрались не за добычу, но вымещая обиду.
Как ни противились новгородцы, однако силы их в сравнении с силами Михаила были ничтожно малы. На смену уставшим рубить тверичам вставали владимирцы. Отдышавшись, отхаркавшись да отерев с лиц пот и чужую кровь, чтобы не застилала глаза, с новым остервенением кидались тверичи в рубку.
Михаил Ярославич также сошел с коня, чтобы быть рядом со своими тверичами. До десятка новгородцев один положил. Средь них мальчонку безусого. Сначала ударил, а потом уж увидел, кого бьет, но поздно было. Голова его скособочилась, осела на плечо, а белая кожа на тонкой шее сине вздулась на месте удара, покуда не хлынула кровью…
Что ж — бой. В бою не знают различий, в бою убивают. Только худо отчего-то стало Тверскому. Бросил меч. Пошел прочь. Поначалу слышал, как позади, оберегав Князеву спину, ухая, рубится Тверитин. Потом смолкло все, точно не посреди битвы шел, а по мертвому полю.
Со стен города в безмолвном оцепенении глядели торжские жители на великое зверство. Бабы плакали без голоса, одними слезами, глядя, как кончается русская жизнь.
«Господи! На что мы рожаем-то?! Господи…»
Господи, слышишь ли ты?
А Михаил Ярославич шел, тяжело загребая ногами по грязному, кровавому, протоптанному до черной земли снегу.
И было ему видение.
Словно смотрит он сверху, откуда-то с высокого неба, на себя на другого. А тот, другой, будто бы идет по земле, но под ногами его, обутыми в те самые сапоги, что были на князе сейчас, не снег, не земля, не трава, не песок, не тропа, не дорога, не лесовый настил, а мертвые русские люди. Именно мертвые, потому что лица их страшны и безглазы, именно русские, ибо все они, несмотря на то что мертвы, говорят на одном языке, произносят одно слово, не отворяя мертвых, сомкнутых губ:
«Пошто? Пошто? Пошто? Пошто? Пошто?..»
А тот Михаил, что вверху, в Божьем венце небесном.
А тот Михаил, что внизу, в кровавом венце.
«Пошто? Пошто? Пошто?..» — быстрей и быстрей кричат мертвые, точно подгоняют его, и он идет все быстрей, быстрей, но не кончается мертвое поле и не стихают слова в ушах. Быстрей! Быстрей! Кажется Михаилу — он уже бежит, летит над тем полем, но все не кончается мертвое поле, нет для него предела…
Тяжело загребая ногами, более привычными к стремени, чем к земле, не оборачиваясь, медленно уходил от сечи великий князь по грязному, кровавому снегу.
Незадолго до скорых потемок серого короткого февральского дня битва меж русскими завершилась полной, разгромной победой сил великого князя. Израненные, жалкие остатки новгородцев затворились в Торжке.
Играя конем и плетью, весело скаля зубы, к тверскому князю подскакал Тойтемер, воевода Узбеков.
— Харош урус бьется!
— Сойди с коня, пес! — не разжимая губ, каким-то жутким, утробным рыком с ненавистью одернул его Михаил Ярославич.
Видно от неожиданности, татарин опешил. Теперь глядел на Михаила зло, с выжиданием.
Тверской был черен лицом, точно в горе. Губ не разжимал, говорил сквозь зубы, как будто глотку ему свело:
— Что татар пустил мало?
Тойтемер ухмыльнулся:
— Две собаки дерутся, третьей нет места.
— Собака — ты и есть.
— Зачем лаешь, князь? — обиделся татарин.
— Царь я тебе в своей земле, татарин, слышишь ты, царь!..
Тойтемер вспыхнул лицом, зло усмехнулся, но отвел глаза в сторону. Ему не терпелось кинуть своих татар вслед затворившимся новгородцам. Сейчас, когда их войско было смято, раздавлено, подошло время татарам показать удаль в стенах опрокинутого, побежденного города. Ни у кого не было сомнений в том, что грозная торжская крепость, опоясанная высоким земляным валом, теперь беззащитна. Мужества, наверное, достало б новгородцам, но сил у них не было — из полутора тысяч ратников в крепость вернулось не более трех с половиной сотен, да и те наполовину оказались изранены. А немногочисленные жители Торжка, не имея вины перед князем, не имели и мужества. Кабы не честь и не страх перед татарами, они бы и сами отворили великому князю ворота.
Татары же, покуда русские бились, уничтожая друг друга, запасливо снарядились котомами для скорого грабежа и ждали лишь знака, чтобы ринуться в приступ. Ведали Тойтемеровы воины, что в богатом, бойком Торжке было чем поживиться. Потому и рвались первыми войти в город.
— Дай волю… царь, — покорно, но усмешливо скривил губы татарин, — сейчас возьму тебе город.
— Нет на то моей воли. Нет! — глухо, сквозь зубы, но твердо ответил Михаил Ярославич.
И потом как ни склоняли его взять Торжок приступом, на все доводы татарских да и русских воевод великий князь отвечал непреклонно и коротко:
— Нет.
Словно ему было важно не покарать, не уничтожить в прах своевольных новгородцев, а принудить, заставить их покориться и вновь признать его старшинство. А над мертвыми не бывает старших.
В обмен на жизнь и мир Михаил Ярославич потребовал выдать ему Афанасия Даниловича и Федора Ржевского и заплатить за измену великий откуп.
Не веря в милость тверского князя и, видать, еще полные решимости умереть, новгородцы ответили твердо:
— Не выдадим Афанасия, но помрем честно за Святую Софию!
Однако задумались. Многие из них смутились тем, что великий князь, имевший достаточную возможность на их же плечах войти в город и поквитаться с ними кровью еще вчера, отчего-то этой возможностью не воспользовался. Это было непонятно. И это давало пусть крохотную, но надежду на мир с Михаилом Ярославичем, а следовательно, и на жизнь. Тогда же многие должны были, хоть перед самими собой, признать новгородскую неправоту перед великим князем.
Ничто другое не завладевает человеком так властно и скоро, как надежда на жизнь, внезапно явившаяся после того, как он уж готов был умереть и не умер лишь Божией волею.
Еще стояли несколько дней вкруг Торжка. Великий князь не спешил. Тяжелей всего ему оказалось сдерживать Тойтемерово войско. Татары не понимали нерешимости князя, злились, ругали глупых русских и весь бесполезный поход на Русь, впервые не давший ни прибытка, ни удовольствия. В конце концов, устав ссориться с Тойтемером, Михаил Ярославич из своей казны изрядно заплатил татарам за невольное беспокойство и отправил их восвояси.
Кровь лить великий князь избегал.
Прошло еще несколько дней, за которые сил у новгородцев отнюдь не прибыло, а у великого князя вовсе не убыло, несмотря на уход Тойтемера. Теперь Михаил Ярославич послал сказать так новгородцам;
— Радуюсь вашей верности Афанасию. Так выдайте мне за мир одного Федора.
Новгородцы, обрадовавшись, что сохранили честь, во всем признав требования великого князя вполне справедливыми, выдали тверичам унылого Ржевского. В тот же день как злоумышленного татя, повинного во многой крови, Ржевского повесили на торжском посаде в виду крепостной стены.
Далее переговоры пошли без заминок. Раз уступивши, новгородцы более ни в чем не отказывали великому князю. И Афанасия все-таки выдали ему в заложники откупа, и бояр, каких он сам пожелал. На том и составили грамоту:
«Великий князь Михаил условился с Владыкою и с Новым городом не вспоминать прошедшего. Что с обеих сторон захвачено в междуусобие, того не отыскивать. Пленники свободны без откупа. Прежняя тверская Феоктистова грамота должна иметь всю силу свою. Новогород платит князю в разные сроки от второй недели Великого поста до Вербной двенадцать тысяч гривен серебра. Князь, приняв сполна вышеозначенную сумму, должен освободить аманатов, изрезать сию грамоту и править нами согласно с древним уставом».
Грамоту подписали с тем же архиепископом Давидом, находившимся при войске. На сей раз владыка был угрюм, молчалив, в глаза Михаилу Ярославичу не глядел, да и грамоту подписывал, особо не вчитываясь в писаные слова, точно видом показывал, что не верит он в эту грамоту.
— Али не ладно составлена? Али писцы зря корпели? — усмехнулся Михаил Ярославич.
— Много обиды от тебя, великий князь, Новгороду, — не удержался, упрекнул владыка Михаила.
— Так ли то, святый отче? Не встаешь ли ты против истины? — Михаил Ярославич поднял глаза на епископа, и Давид, не выдержав его взгляда, в котором не было торжества победителя, а лишь тоска и усталость, отвернулся. — Ответь, святый отче, пошто грамоту нарушили? Пошто Юрия кликнули?
— Многие обиды, великий князь, — вздохнув, повторил Давид и отмахнулся рукой, словно не желая поминать те обиды.
— Нет, владыко. — Михаил Ярославич покачал головой. — Не многие, а одна вам обида: в том, что под Русь хочу вас поставить. А вам что на Русь, что в неметчину — одинаково любо ходить ушкуйничать. На то вам и нужен Юрий. Али не так я мыслю?
Ежели и слышал Давид Михаила Ярославича, то сознаться в том не позволяла ему новгородская вечевая гордость.
Но в тот раз и действительную обиду нанес великий князь новгородцам: войдя в Торжок, он велел отобрать и у торжских жителей, и у новгородских ратников решительно все оружие, какое можно было сыскать на людях и на дворах.
Выполняя указ, удивляясь да посмеиваясь, тверичи грузили обозы отобранным у побежденных железом: доспехами, мечами, саблями, копьями, топорами, щитами, палицами — всем, чем можно было колоть, резать, бить, всем, что служило войне. Такого унижения не знали новгородцы. Вроде и не полоненные, но как свободные люди они были обесчещены хуже пленников.
Пришли жаловаться Михаилу.
— Пошто обиду чинишь, великий князь? — Новгородцы были поклонисты и смиренны.
— В чем вам обида есть? — спросил Михаил Ярославич.
— Так ведь люди твои мечи с поясов снимают!
— И что в том?
— Как?! — изумились новгородцы. — Разве может быть человек без оружия?
— А вы пошто кровь льете зрей?
— Так война, — только руками оставалось разводить новгородцам на вопросы великого князя, точно дите малое спрашивал.
— Нет войны меж русскими. Не должно ей быть!
— Так ведь есть!
— А не должно!
Что тут скажешь?
— А все ж не бесчесть, Михаил Ярославич. Возьми серебро, оставь мечи.
— Я слов не меняю. А мечи ваши как серебро ценю: в низовой вес пойдут в счет долга вашего мне. Лишь бы кровь боле не лили русскую.
— Не ладно мир творишь, — упрекнули новгородцы Михаила Ярославича и ушли с великой обидой.
Без оружия они были точно голыми на миру и беззащитными перед миром. Это ощущение неприкрытости и беззащитности оказалось более оскорбительно, чем поражение, чем жизнь и мир, выкупленные у Михаила Тверского за серебро.
Впрочем, дело состояло вовсе не в той обиде, как бы глубока она ни была. И великий князь, и Великий Новгород прекрасно сознавали цену миру, купленному за серебро. Тем более что никогда серебро то — двенадцать тысяч гривен, означенных в грамоте — так и не было выплачено Новгородом Твери.
Юрия в Сарае приняли ласково…
7
Зима одна тысяча триста семнадцатого года выдалась на редкость студеной. Войско великого князя гибло от стужи и голода средь непролазных чащоб нехоженых новгородских лесов.
Эх, Ловать, Ловать! Не зря прозвали ту речку Ловатью, как птицу в силках, как зайца в тенетах, словила она тверскую рать, да так крепко словила, что, видать, уже и не выбраться. Заманила, повела за собой, а сама, закованная во льдах, неизвестно в каком перелеске унырнула от глаз. Куда? Бог ее ведает. Где теперь Ловать та?
— Ло-о-овать!..
Знаешь, что не откликнется, а хочется, хочется, приставив руки ко рту, звать ее из последних сил, как маленьким в детстве, отчаявшись, мамку звал, заблукавшись в лесу.
— Ло-о-о-о-вать! Ма-атушка-а-а!.. Лов-а-а-ть!..
Не откликается. Да ить все равно теперь, что вперед итить, что назад ворочаться, что блукливую речку звать, только и остается — лечь в снег, ужаться в нем, как в утробе, укутаться ровным саваном да помереть, угретым снежным теплом. А сначала уснуть, уснуть и в том сне не волков услышать, а ангелов Ить поют же они…
В мутные, кой день слезящиеся глаза Ефрем Тверитин с тоской глядел на бескрайнюю гать, припорошенную неверным снегом. Пойдешь по такой болотине как по полю, только взбодришься от того, что под ногами не болото, а твердь, как в тот же миг и ухнешь в разверзшуюся под ногами вонючую, топкую, жадную чертову пасть. Как ни велика стужа, но и ей не под силу выморозить до дна бесовское стойбище.
И слегами путь устлать некому. От войска, что вышло из Твери два месяца тому позади, осталась малая жалкая часть. Да и те, что остались, походили теперь не на ратников, а на смердов, переживших долгую, голодную зиму. И то, уж не вспомнить, который пошел ныне день, как доели последний хлебушко. Немногие обозные сани тянули еще за собой, но в них, кроме железа — мечей да кольчуг, особенно болезных, полумертвых людей, да тех еще некоторых, кто помер, но был слишком дорог, чтобы оставлять их волкам, ничего не было. Щитов и тех не осталось. Червленые древесные щиты из прутьев пожгли еще в начале пути. Кожаные доедали теперь.
Толстую бычью скору ратники обдирали со щитов, резали тонкими лоскутами, запихивали в рот и жевали, жевали, грызли ослабленными в деснах зубами, пропитывали скору влагой слюны, размягчали и жевали, жевали до тех пор, пока не оседал во рту горький, едва уловимый, далекий вкус пищи. Тогда напитанную кожаным вкусом слюну сглатывали в живот, а изъеденный лоскут сплевывали. Немного погодя, а то и сразу, резали новый лоскут и снова жевали его, жевали… Сил это вроде не прибавляло, зато идти становилось легче, словно в самом жевании таилась некая сила.
— Покуда жуешь, потуда и живешь, — хрипели некоторые новую шутку.
В ход шли и голенища от сапог, и конская сбруя. Самих коней, как начали они падать и скопом, и в одиночку, тоже пробовали потреблять, по обычаю поганых. Мясо конское было жестко, но вкусно. Но тот, кто отчаялся на поганое непотребство, в три дня до смерти исходил кровавым, пенным поносом. Несъедобна вышла конятина — лошади-то, оказывается, не от усталости и голода падали, а от неведомого внезапного мора.
Весь-то путь, пройденный тверичами в тот месяц от малого погоста в Устьянах, что стоит в Деревской пятине — всего-то верстах в пятидесяти от Великого Новгорода, — устлан был жуткими вздутыми лошадиными тушами и вымороженными людскими трупами, кое-как прибранными в снегу под чужими деревьями. Знали бы тверичи, какой мукой обернется для них это бесславное возвращение, вопреки князю, пешими побежали бы от Устьян к Новгороду мстить иную княжескую обиду. Куда как лучше помереть в бою от вражеского железа за Тверь да за князя, чем так вот бесследно сгинуть в болотной лесной глухомани от стужи и голода, неизвестно за что и про что.
И не было спасения от неумолимого и безжалостного врага. Голод и холод косили тверскую рать невидимой смертной косой, не разбирая, где сын, где отец, где вятший боярин, где боярчонок, где холоп и где князь. Никогда еще дружина тверского князя не терпела столь сокрушительного и скорбного поражения. Люди не могли противостоять ему. Знать, заманили, словили в сети иные силы.
…Ловать, Ло-о-о-о-вать! Ма-а-а-а-тушка! И впрямь, явилась Матушка. Ефрем не удивился, а обрадовался и заплакал от счастья. Матушка была молода, словно, пока Ефрем жил, не успела состариться. Матушка шла откуда-то издалека, ноги ее были босы, но их не касалась стужа, потому что Ефрем знал: она давно умерла. Матушка улыбалась, но глаза ее оставались печальны, словно встреча с Ефремом не радовала ее.
— Матушка, когда же ангелы запоют? — спросил Ефрем…
— Вставай, Ефрем Проныч, вставай! Пошто сел? Чай, еще не дошли до Твери-то. — Сизый, с заиндевелой бородищей дружинник, коего и не узнать было в той серебряной бороде, встряхивал Тверитина за плечи, толкал в бок кулачищем. — Полно тебе помирать-то, вставай!
— Когда, говорю?
— Да ить прямо сейчас и подымайся, слышь, что ль?
— Нет, — ответил Ефрем, но не дружиннику, а кому-то другому.
— От беда-то, — посетовал дружинник, — со смертью балакает.
И с новой силой принялся тормошить Тверитина. Наконец Ефрем вроде бы очнулся от смертной дремы, начал ругаться.
— Куда! Уйди! Не хочу я более!
— Ефрем Проныч, нельзя тебе, кто ж поведет-то нас? — ласково укорял его ратник, пытаясь поднять со снега тяжелое тело.
— Ништо, — отбивался Ефрем, будто пьян был и шумен.
Но еще долго Ефрем приходил в себя, поводя округ очумело глазами, не понимая, где он и для чего.
От дальнего княжеского возка раздался слабый, задушенный ветром крик:
— Ефрем Проныч! Князь тебя кличет…
— Слышь, Ефрем Проныч, князь! Поди к нему, зовет он тебя.
Сквозь заволоченное студеной мглою сознание пробилось слово «князь».
Ефрем поднялся. С трудом установился на затекших ногах. Потом зачерпнул в горсть снега, до боли, так, чтоб засаднило, потер лицо.
Ладонь не чуяла ни носа, ни щек.
«Обмерз…»
Тверитин тер лицо снегом, жесткой овчинной рукавицей, сдирая клоками обмерзшую кожу, покуда издалека не пришла слабая, чуть ли не ласковая, едва чувствительная боль.
И от этой ли тихой боли, от ветра ли, от стужи снова слезы застили взгляд, пред которым только и было неумолимое белое пространство нескончаемой болотины с одной стороны, а с другой черная, неприступная стена леса, из которого нынче вышли. И опять захотелось кричать, выть безнадежно от тоски и бессилия пред безжалостной смертной силой.
— Ловать! Ловать, мать ее так, где она, эта Ловать-то? — прохрипел Тверитин, будто нарочно прочищая горло. И сизомордый дружинник довольно усмехнулся: в голосе Ефрема появились смысл и злоба. Знать, вернулась и жизнь.
«Князь!..» — точно только сейчас дошло до него то слово, и изо всех сил, петляя ногами, Тверитин кинулся к княжескому возку.
Не было на Руси ни покоя, ни мира. Хоть не было и очевидной замяти, открытой войны. Так в остывающих угольях напревают теплом сухие поленья, чтобы зайтись огнем. Михаил Ярославич знал, что он не в силах уже ни залить, ни затоптать те поганые уголья, ему оставалось лишь ждать, когда полыхнет костер. То было скверное, унизительное и нестерпимое состояние для деятельной души князя, однако поделать он ничего не мог. Русь правилась из Орды. А в Орде был ныне Юрий. И оказался он там в таких неслыханных милостях, каких, пожалуй, еще не знали князья русские.
Оттого и новгородцы смелели день ото дня. Хоть и уговорился Новгород с великим князем жить по старой Феоктистовой грамоте, хоть и пустил вновь его тиунов и наместников, а договор не держал. Да и торжскую грамоту новгородцы забыли, будто ее и не было: ни гривны серебра не хотели давать взамен своих же аманатов, и аманатов требовали отпустить теперь уж без откупа. Мол, князь не по праву их взял, а обманом. А торжскую грамоту, мол, следует порвать да забыть. Разве сладишь с таким народом?
Афанасия-то, взяв с него слово не идти более супротив, Михаил Ярославич еще по весне отпустил на Москву. Что Афанасий? Не в нем причина и корень, хотя корень-то тот же: ни совести не знает, ни чести, ни креста не боится. Может, и был среди всего выводка Даниилова один вне породы — Александр, но он на Москве умер в тот же год, как вернулся туда из Твери. А из Твери Александр ушел, когда Михаил Ярославич в Сарае находился, а Юрий на Новгороде вокняжился. Видать, не под силу стало кормиться из рук того, против кого неправедно брат поднялся. Чистой души был отрок. А Бориска, тот ранее убежал: в мышиный год, когда на Москве повеселей было. Ну, этот — вестимый хвост, хоть и вовсе ничтожен. Теперь Афанасий на Новгород его за собой приволок.
Афанасий на Москве пробыл недолго, уж осенью воротился в Новгород. Видать, с вестями. Еще бы: ужо и на Твери слыхать, а не то что в Москве, о том, как ордынский царь Юрия милует! Новгородцы после прихода Афанасия вовсе забылись, войной грозить начали. Каких Михайловых наместников выгнали, каких в заложники обратили. Не верил Михаил Ярославич новгородцам, знал, что тем кончится, однако не думал, что так скоро они про совесть забудут. Не случайно было и грозное Узбеково повеление, пришедшее летом, прислать в Орду пред его очи Михайловых сыновей. То было ударом. Свой татарский аркан загодя хан накидывал на шею князя: авось, когда сыновья будут в Орде под его лучезарным взглядом и под рукой его палачей, отец на Твери станет покладистей.
Что ж, все под ханской волей живем. Князья же, а значит, и княжичи, паче прочих ближе к хану стоят, ближе к хану — ближе и к смерти.
Вовсе ослушаться Узбека Михаил Ярославич не мог, однако и в слово выполнять ханское повеление не стал. Слишком уж великую мзду запросил Узбек за его покорность. Решил Михаил Ярославич, что пошлет не всех, а одного из сыновей. Надо было решить — какого? Какой из пальцев на руке менее люб ладони, ежели и сильна-то она кулаком? Анна Дмитриевна убивалась особенно, хоть и не показывала вида перед мужем и сыновьями. Выбор оказался мучителен. Михаил Ярославич прикидывал и так и этак, кого из сыновей отдать татарам в заложники, и вместе с Аннушкой рядили они не кто из сыновей дороже и ближе им, но кто по своему нраву и душе станет меньшей жертвой для всей Руси в будущем, коли придется ему умереть сейчас. Как определить то, как решить судьбу сыновью заранее? Вот задача для сердца родителя.
В конце концов решили отправить в Сарай младшего, Константина. Изо всех сыновей он был наиболее мягок, не властен, не по-княжески податлив другим. Даже Василий — увалень, и тот мог стать вдруг упрям и настоять на своем. Константин — нет. Его и звали-то все округ за ласковость и милоту Костенькой да Костюшей. Кроме того, перекрестясь, понадеялись, что само малолетство Константина — в тот год ему сравнялось двенадцать — вдруг да и упасет в лихой час. Ну, в том Михаил Ярославич Аннушку лишь утешал, он-то доподлинно знал, что ничто не упасет сына, коли захочет его смерти Узбек.
Настал день объявить сыновьям о выборе. И горек был тот день тверскому князю, потому что въяве увидел: пришла пора платить сыновьям за его жизнь, за его грехи пред людьми и за усердие перед Русью. И радостен был тот день: потому что въяве увидел Михаил Ярославич, что вырастил сыновей, достойных называться людьми, братьями и князьями. Все готовы были в Сарай отправиться вместо младшего брата заложниками отцовой части.
Дмитрий, так тот даже обиделся:
— Почему не я, батюшка? Я, чай, старший. Али ты не веришь в меня?
Александр ярился, убеждал отца с матерью, что нет среди братьев хитрей его, а с татарами, мол, известное дело, хитрость потребна:
— Отправь меня, батюшка!
Так уж хитер, что слез досадных укрыть не может.
Василий, увалень да насмешник, и тот серьезное молвил, что поразило всех:
— Меня пошли лучше, батюшка. Я ить все одно для княжения и Руси малогодный.
Все знали, на что отца упрашивали!
Ну, а уж Константин-то, Костяня, тот горд был, что за отца ответ держать перед ханом станет. Один он, наверное, и не сознавал до конца, зачем его в Сарай посылают.
— Не уронюсь я, батюшка, что ж ты печалуешься?
А Михаил Ярославич глядел на сыновей, и радостно, горько и умильно было ему до слез.
Что с ними станется, одному Господу ведомо, но то, что легкого в жизни будет им мало, это Михаил Ярославич и сам сейчас видел. Что ж, не для легкости жизнь, а для ноши, а коли ты княжьего роду, по чину тебе и крест. Не об облегчении ноши молить надо Господа, но о том, чтобы вразумил Господь и путь указал.
Однако сколь ни милостив Бог к нему, Михаилу, сколь ни вразумляет его, а жизнь впереди все одно что лес беспросветный. Да не то беда, что лес темен, а то, что тропу забыли, заросла она пырьем да репейником, колдовским разнотравьем, наново торить ее надо, наново. И знает Михаил Ярославич, где та тропа, знает, как ступить на нее, только выйти ему на нее не дают.
С тяжелым сердцем отправил Михаил Ярославич Константина в Сарай. Непокойно было округ, ощутимо подступала беда, и оттого даже к благому, к тому, чем жил, даже к молитве не лежала душа, думалось лишь о войне.
А когда, забыв обещания, Афанасий спешно вернулся на Новгород, война сделалась неизбежной. Да еще, видно, взбодренные вестями, которые доставил московский княжич, новгородцы воодушевились на новую пакость: составили на великого князя пространную клевету и с той клеветой послали в Сарай тайных жалобщиков. Благо о тех послах успел предупредить князя Данила Писцов, а ухватить их труда не стоило.
Столько лжи о себе, да сведенной письменами в одну грамоту, сколь было в перехваченной новгородской клевете, Михаил Ярославич во всю жизнь не слыхивал. И в худой день так черно он о себе помыслить не мог. В коих только грехах не винили его новгородцы! Однако для пущего доверия писали и правду: мол, мало того, что Михаил вестимый ханский хулитель, он, мол, еще на счет ордынских податей пользуется.
Было то. Быть-то было, да как новгородцы проведали? Действительно, с того самого года, как воцарился Узбек, с той поры, как нечаянно все-таки удалось Михаилу Ярославичу, благодаря недолгой ордынской замяти, последнюю Тохтоеву дань почти целиком у себя удержать, всякий год великий князь исхитрялся отдавать в Орду меньше, чем было прежде назначено. Поток дани из Руси оказался так велик, что даже и при множестве визирей, а может быть, именно благодаря их множеству, точных данных о всех положенных поступлениях никто не знал. В разные года, по разным статьям и по самым разным причинам колебались и суммы собранного серебра, и число возов хлеба, и число голов скота, и убитого зверя, и… Да всего, чем платила татарам Русь. Ясное дело: год на год не попадал. В иной год хлеба больше собрали, в иной меда, а когда ни хлеба, ни меда, зато рыбы да воска или пеньки впрок напасали. Так Михаил Ярославич и рассчитывал ежегодно, когда и чего татарам меньше отдать. Имелись для того и иные пути. Во-первых, из той части дани, что у себя оставлял, выгодней было отдельных визирей задаривать, чтобы они пуще глаза свои узили. Мздоимание при всех ханах в Орде происходило великое, им никто не гнушался, а почитал за достоинство и отличие службы. Во-вторых, можно было в сопроводительном пергаменте по своему усмотрению и произволу уменьшать число душ, с каких по Руси собиралась подать. Число-то душ на Руси еще более колеблемая величина, нежели чем что иное — то мор, то война. Благо баскаки первый и последний раз приходили считать народ по головам аж при хане Берке. Были и другие к тому условия…
А зато не страшны теперь великому князю и всей Низовской Руси ни мыши, ни летучая саранча, ни рослая рожь, когда пуст колос без зерен, ни засуха, ни иная беда, грозящая голодом — будет чем прокормиться; зато Владимир деньгами тверского князя стоит во славу Христову, точно наново выстроенный; зато в Твери что ни дом — то терем, сразу и не понять, в каком боярин живет, а в каком простой гридень; зато заложена вкруг Твери каменная, негоримая крепость, и, кабы ныне ее неприступные стены, какими придумал их сам Михаил Ярославич, выросли уж под бойницы, кто знает, послал бы он теперь Константина к Узбеку?..
Так что совесть за удержанное у татар свое же русское серебро великого князя не грызла, напротив, он и малой-то прибыли, коей умом мог лишить Орду, радовался, точно воинскую победу над ней одерживал.
Ясно стало, зачем Афанасий вернулся на Новгород. Видно, Юрию в Орде понадобились дополнительные доказательства вины Михаила Ярославича перед ханом. И доказательства той вины должны были исходить именно от русских, на то и нашли новгородцев. И вину, собаки, нашли. Ежели иные клеветы, изложенные в грамотке, не стоили и опровержения, обвинение в укрытии ханской дани сулило расплату. И к той расплате можно было начинать готовиться уже теперь. Потому что, коли новгородцы о том дознались, можно было не сомневаться, что узнает о том и Узбек. Всех завидников да жалобщиков не перехватаешь — больно Русь велика.
Однако любопытно — откуда же про удержанные подати новгородцы проведали? Не иначе, Иван Данилыч Юрию споспешествует, он же и послал Афанасия в Новгород. Неужто сам о том догадался? Неужто сам просчитал? Похоже на то. Да, силен княжич московский Иван Данилыч, силен, хоть и тих, как комарик. Истинный комарик: покуда зудит — не страшен, а как смолк — кровью, знать, напивается…
Но уж и новгородцы, как поняли, что их доносная да поносная грамота ведома великому князю, таиться вовсе не стали. Тогда-то и выкинули Михайловых наместников, они, кстати, чуя неладное, жили там тише воды ниже травы. Каких выкинули, каких в заложниках у себя оставили, для того и пускали.
А тут еще ударили в колокол — вече! Сам ли Афанасий решил отличиться, бояре ли его надоумили, только не ко времени народ-то стали злить да подзуживать: распутица на дворе, на Тверь со злобой не побежишь, а осеннее дело — темное, злобу всуе в себе не удержишь, излить надобно. Только крикни: «Распни!», только укажи виноватого, только дозволь бесчинствовать без вины, и явит тебе народ такую язву вместо лица, что ужаснешься!
Потом уж мимоходящие купцы сказывали про зверства, что вмиг учинились в Новгороде неведомо отчего. От злобы да зависти сами себя новгородцы начали есть. Кого могли уличить в приязни тверскому князю, схватывали на улицах, вытаскивали из домов, били скопом на Вечевой площади, затем кидали в Волхов с моста. Имущество же делили меж тех, кто уличил изменника. Многих забили, средь прочих и тех, кто никакого отношения к Твери не имел, а был лишь досадлив кому-то или богат на зависть и не по чину. Средь прочих забили какого-то Веска Игната, якобы за то, что он держал перевет к великому князю. А на Твери такого прозвища и сроду не слыхивали. Забили и Данилу Писцова. Причем забили нечаянно — холоп указал на него. Да и указал-то, что примечательно, не по знанию вины, а по одной лишь зависти.
Коли и были у Михаила Ярославича сторонники на Новгороде, так не стало их, а коли и остались какие, так до пяты оробелые.
Вот после того, дождавшись, как стали дороги, и повел великий князь тверские полки карать безумный и непокорный Новгород.
Дошли до Устьян…
Поди, в два дневных перехода достигли бы Новгорода, а там, глядишь, либо кровью упрямых переупрямили, либо сами костьми полегли. Так много было решимости в тверичах. Явился бы тверичам, Божией волею, Новгород на месте Устьян, неведомо, достало бы новгородским «плотникам» мужества устоять против них. До того все озлобились!
Поход оказался тяжек, зима настала больно студена, кони, видать, хворали и плохо шли. А на Твери остались бабы и девки в пустых угретых постелях, и сильно хотелось к ним на постель.
— Не больно-то весело воевать, — вздыхали тверичи. — И не воевать не выходит, — снова вздыхали они. — Кой год нет покоя от переметных новгородцев.
— Последним разом на них идем, — утешали, злобясь, друг друга ратники. — Хватит ужо, теперя либо мы, либо они. Другого не будет.
Ан вышло другое.
Устьяны не Новгород, лишь безвестный, малодворный погост, а Новгород за крепостью, рвом и острогом зря ощерился великой силой в ожидании тверичей.
В Устьянах великий князь занемог. Да так внезапно и тяжело, что не чаяли, будет ли жив Михаил Ярославич.
Болезнь обрушилась вдруг знобким пылающим жаром, отъявшим на долгое время и память и разум. Лишь в вечер первого дня вроде очнулся накоротко и, оглядев тех, кто был рядом с ним в дымной, черной избе, взглядом, полным явственной тоски и отчаяния, превозмогая мутную пелену омраченного болезнью сознания, все же успел сказать:
— На Новгород идти не велю… пусть их. На Тверь возвращайтесь… там еще будем… Надо.
И впал в беспросветное забытье.
Слова его казались напрасны. Новгород был рядом, и с той силой и злобой, что теперь жила в тверичах, нельзя было отступать. Но без воли на то великого князя и наступать невозможно. День ждали, другой, покуда спадет горячка, но жар у князя не убывал и разум не возвращался.
Известно: Господь и богатство дает в наказание, и болезнь посылает в благость и вразумление.
Или то знак победы иного?
Ведал про то один Михаил Ярославич. Сон его был то светел до ослепления, то черен до вечной и полной тьмы, словно в том сне, в той болезни столкнулись над ним бесы и небесные ангелы. Снова, снова и снова в том сне, мучая безответностью, возникая то из тьмы, то из света, являлось великому князю беспредельное поле, укрытое телами мертвых русских людей, что, шевеля губами, просили, требовали, молили князя ответить одно: пошто их убили? Пошто? А то являлись великому князю для утешения те, кто был ему дорог и умер давно. И тогда пели ангелы. А еще в том томительном сне он будто прощался со всеми, кто должен был умереть.
А то позвал вдруг Помогу. Да тонко так, жалобно и долго, покуда сам Помога не взошел в избу, князь просил его о пустом: поймай, мол, карасика…
Старый Помога плакал, утирал рукавом так и не поблекшие, синей лазури девичьи глаза и качал головой, дивясь благости князя, вспомнившего о нем и о том, о чем сам он давно позабыл.
— Помога, милый, поймай карасика…
Но когда окольные пытались сквозь его сон пробиться к нему словами, князь затихал, точно пытался понять, о чем ему говорили, а потом впадал в беспокойство, разметывал медведны, какими его накрывали, и отвечал одно:
— Не знаю… не знаю… не знаю…
Да еще кони начали падать один за одним. Где уж тут воевать!
Надо б было прежним путем возвращаться по речке Мете на Торжок, да больно долог и уныл показался тверичам путь, которым уже прошли. И князя надо было спасать. Решили пройти напрямки по Ловати, а там повернуть и ближним лесом выйти на Селигерье, откуда на Тверь шел прямой, ходкий путь. Ловатью предложил идти Помога Андреич — и лес он тот знал, и дорога ему была ведома. Однако первым из всех, открыв ряд бесконечных, бессчетных смертей, будто нарочно, воевода и помер еще в начале второй седмицы безжалостного пути.
Умер Помога просто и скоро, в один миг хватившись рукой за сердце, успев лишь подосадовать, что помирает, не добыв князю славы и не в чести. Знал бы он, как следом-то за ним помирать начнут, авось не досадовал бы.
Эх, Ловать, Ловать! Тебе-то зачем людская печаль?
Глебушка умирал. Пар изо рта от его задышливого дыхания неровными толчками поднимался в студеный воздух, оседал неверным инеем на мягких усах. Грудь его то вздымалась, спеша вздохнуть, то замирала, и вместе с ней замирал и Ефрем, боясь шелохнуться.
Как прежде-то желал Тверитин, чтобы сын его, Глеб, рядом с ним находился в походах, чтобы силой и удалью, как отец, служил князю, но Глеб в походы не шел, от ратничества уклонялся, в ином искал свою долю. Так ведь нашел! Лучшим стал на Твери в иконном письме искусником. Сам князь отличил его перед всеми, наполнил отцово сердце почтением к сыну. Более уж Ефрем не нудил, не звал его за собой никогда. А тут, ну точно нарочно, взбрело вдруг в голову Глебу увязаться с войском на Новгород. Пошто? Кто ж это ведает… Только ведь известно: Глеб хоть и мягок, почетник отцу и матери, однако, коли решил в чем настоять на своем, его уж с места не стронешь. В том и беда, что свое-то дите, как ни послушно оно, тяжельше всего вразумить, когда вдруг дите поперек родительской воли встанет. Нет на то слов, одна боль.
Так и Глеб — уставил глаза Настасьины и будто не слышит ни слов отцовых, ни всхлипов материных.
— На сей раз с тобой пойду, тятя.
— Чать, ты не дружинник!
— Не одним дружинникам князю служить да отчине.
— Ты другим ему служишь, сам говорил.
— Так то. Однако пойду на Новгород.
— Да пошто ж, Глеба?
— Надо мне, тятя.
— Да пошто ж тебе надо-то?
— Надо.
Да что ж это за «надо» такое? Али за смертью он шел?
Ефрем все поддерживал, укладывал голову сына на котоме, неровно набитой всяким тряпьем, но голова Глеба на котоме не держалась, никла к плечу. А Ефрему казалось, коли установится она прямо, то и дышать ему будет легче.
— Не надо, тятя… — тихо, ласково сказал Глеб. — Не тревожь меня. И так больно ладно.
Ефрем опустил руки вдоль тела, не зная, чем еще помочь.
Глеб, точно чуя, как отцу тяжело, слабой рукой словил его черный, заскорузлый от жизни палец, сжал в холодной, точно каляной ладони.
— Ну вот, тятя, и я князю-то послужил.
— Ум-м-м…
— Не надо, тятя. Меня уж ничто не томит. Хорошо. Ладно мне нынче, правда… — Застывшие Глебовы губы трудно складывали слова, но он улыбался. Что бы внутри ни терпел, а улыбался отцу.
— Что ж я матери-то скажу, сына?!
— Ты скажи ей, матушке-то… — Глеб задышал скорее, и Ефрем боле смерти его напугался, что не успеет услышать то, что сын наказывал передать.
— Что, Глеба, что?
— Ты скажи ей, мол, Глебка-то, как помирал, ангелов слышал. Она и утешится…
— Глеба…
— Не надо, тятя… прощай уж… поют.
Ефрем не глядел на сына, боялся глядеть, а как взглядывал, Глеб все улыбался, и Ефрем не сразу сообразил, что пар-то от Глебова рта боле не поднимается в стужу.
Тогда и Тверитин сник. Кой день от слабости, от стужи или от горя застят взгляд слезы, но не текут, и больно сквозь них глядеть на то, что видится, и хочется выть и кричать.
«Ловать! Ловать!..»
Одно слово, пробившись сквозь муть безысходной тоски, достигло сознания: «Князь»…
Князь глядел строго. На черном опавшем лице глаза горели огнем, будто в них по сю пору таился губительный жар. Ефрем не смел поднять на него глаза, точно это он был во всем виноват. Молча стоял, пытаясь сглотнуть сухой ком, вставший у горла, тискал в ладонях шапку, пахшую теплом, салом волос и потом.
— Ну? — коротко, едва разлепив запекшиеся губы, вымолвил Михаил Ярославич.
И Тверитин заплакал.
В Тверь вышли истинно Божией милостью. В тот же день, как очнулся Тверской, набрел на них из глухих селигерских мест Ефстаха Озерный, князев рыбарь. То-то потом дивились! От Ловати-то они давно отвернули и верно шли. Однако не по пути, а рядом с путной дорогой, по лесам да болотинам.
Не иначе как бес их и вел.
8
После несчастного похода «на Устьяны», как вмиг окрестили тот поход скалозубые тверичи, что-то переломилось в князе. Он уж не помышлял ни о том, чтобы Новгород покарать, ни о том, чтобы крепость заложенную возвести под бойницы. Жизнь словно еще не вполне возвратилась к нему. Болезнь ли, свирепое ли поражение в новгородских лесах от мора, стужи и голода, а может быть, то, что открылось ему в долгом, мучительном сне, накинуло на шею Тверского удавку, которая оказалась посильнее даже Узбекова аркана.
Теперь многое время Михаил Ярославич проводил за Псалтырем, в тихих, долгих беседах с прежним духовным своим наставником отцом Иваном Царьгородцем, все еще служившим при храме Спаса Преображения, или же в Отроче с молодым монастырским игуменом отцом Александром. А чаще с княгиней Анной Дмитриевной затворялся в ее терему. Причем, если раньше всегда с нетерпением он ждал вестей — плохих ли, хороших ли — кои так или иначе побуждали сильнее жить, действовать ради и вопреки, радоваться или бороться, теперь всякого сообщения он избегал, оттягивал время, чтобы не слушать гонцов и докладов, а уж когда поднимался в княгинин терем, строго наказывал ни с чем, ни с чем не беспокоить его. Словно в тереме у княгини надеялся упастись от милостей жизни. Но разве от них упасешься?
Из Сарая приходили такие вести, что все только крестились и ахали. Один Михаил Ярославич ничем не выдавал беспокойства, словно знал уж вести те наперед. От одного Константина ждал весточки с трепетом, даже в лице менялся, когда приходил от него какой-нибудь человек с малой грамоткой или словами. Но, слава Богу, худого пока ничего о Константине не было слышно. Одно хорошее: так полюбился он своей милотой и сердечной привязчивостью старшей Узбековой жене Балаяне, что она всякий день к себе его кличет, сама забавится, как дитя, и его забавляет.
«И то…» — сумрачно кивал Михаил Ярославич, но тут же спешил сообщить о Костяше княгине и уж до вечера затворялся на теремном верху.
Однако жизнь на Руси не остановилась, шла своим чередом туда, куда, видно, и была ей дорога…
Летом вдруг ни с того ни с сего к новгородцам вернулся рассудок. Как внезапно ополоумели, так внезапно и вразумишись: Афанасию отказали в кормлении и выставили его на Москву, а в Тверь к великому князю прислали смиренных послов. Впрочем, послы были те же…
Новгородский владыка Давид за тот год, что не видел его Михаил Ярославич, отчего-то сильно состарился (может, какая болезнь точила архиепископа?), обрюзг лицом, поскучнел глазами, и волосы из-под клобука уж не бились смоляными, неслушными прядями, а свисали жидкой, пегой от седины гривкой. И хотя в речах остался он по-прежнему шумен, говорил уж о другом.
Говорил о надобности прощения и милосердия, о том, что сильно искушение, а люди подвержены омрачению и злобе, о том, что новгородцы поняли и признали свою вину перед великим князем, готовы вновь принять его на прежней Феоктистовой грамоте, коли будет он так же милостив, как бывал уж милостив к ним. Просил отпустить аманатов и боле не задерживать купцов на Твери — с одними шведами да немцами торговать, мол, им мало выгоды стало, потому как немецким товаром не то что амбары и склады, а все лодьи забиты, и хорошо б тот товар, как раньше, на Русь пустить, от того и Низовой Руси, мол, выгода будет.
Михаил Ярославич слушал его и не слышал — скучен ему стал владыка.
— Что ж, великий князь, — архиепископ вздохнул и развел руками, — желаем спокойствия и тишины.
— Что ж Москва-то, не дала вам покоя?
— Омрачены были, великий князь.
— Больно вы легко омрачаетесь, — усмехнулся Михаил Ярославич.
— Невоздержны, — согласился владыка. — Однако ныне со всей Русью без распри желаем жить.
«Поздно, поздно, святый отче, — про себя подумал великий князь, — не дали вы мне Русь-то собрать, не дали…»
От горькой мысли чуть было не впустил злобу в сердце, как прежде, чуть было не сорвался в крик, однако другой уж стал Михаил Ярославич — сдержался.
Так ответил:
— Купцов на низ посылайте — не трону. Заложников отдаю. — Не ожидавшие, что так скоро добьются от великого князя того, зачем пришли, новгородцы вскинулись бородами, запереглядывались, мол, что дальше…
Михаил Ярославич молчал. Потом поднялся. Был он страшен, глаза пылали, налитые обидой и гневом. Разом и всем почудилось, так тоже бывает, что сейчас великий князь переменится, обратит сказанное в потешную шутку, а всерьез велит схватить новгородских послов и тут же повесить, убить, растерзать. Бледные стояли новгородцы пред князем. Михаил Ярославич молчал. Потом пригасил глаза и твердо, ненавистно сказал:
— Мира вам не даю. Не будет вам мира. Стыжусь с вами мира бесчестного, потому что бесчестные вы.
— Князь, князь, истинно видим — велик! — закланялись в пояс бояре. — С Русью желаем жить! Люб ты нам, Михаил Ярославич! Прими!
«Поздно! Поздно!» — рыдало сердце.
— Нет вам мира. Ждите, придет и вам кара.
Наконец, словно благодатный дождь пролился на иссушенную землю, ожил Михаил Ярославич. Пришла весть, та весть, какую он ждал давно: Юрий с войском шел из Орды на Русь. И это был другой Юрий.
Три года, что провел он в Орде, не прошли для него напрасно. Возвращался Даниилов сын победителем. Юрий нес не только ярлык с алой ханской тамгой на великое княжение, но и достоинство Узбекова зятя. Чем купил он в Сарае ханский ярлык, было ясно, и за тот ярлык еще предстояло Руси расплачиваться по Юрьевым долгам, но как удалось ему склонить к родству ордынского царя, казалось непостижимо. Не в том одном была странность, хоть и она оставалась велика и загадочна, что рьяный магумеданин Узбек согласился отдать свою сестру Кончаку за русского православного князя и для того должен был согласиться на ее крещение в иную, православную веру, но и в том еще, что отдавал Узбек сестру в руки того, чью ничтожность он понял, распознал, не мог не распознать при его-то предусмотрительном и остром уме, с первой встречи. Да ведь и до встречи еще он уж вполне составил для себя мнение о московском князе. Можно было поверить в то, что Юрий обольстил Кончаку. Хотя, опять же, чем? Козырями, что ли, своими, али козырей она иных не видала? Можно было представить еще, что татарка, засидевшись у брата, сама увлеклась московичем и даже сама старалась, чтобы ее отдали за него, однако видел Михаил Ярославич Узбека, видел, а потому понимал, что даже при самой нежной любви к сестре тот никогда против своей главной выгоды ни за что и ни у кого не пойдет в поводу. Да что, право, — Михаил Ярославич даже смеялся своим рассуждениям, — может ли государь ради бабьей прихоти пренебречь своей государевой выгодой?
А вот в то, что Юрий сам по себе хоть чем-то мог обольстить проницательного, умного и тонкого Узбека, Михаил Ярославич не верил.
Знать, была в той женитьбе иная, дальняя выгода. Что ж, в умении предвидеть и приуготавливать будущие события ордынскому правителю никак нельзя было отказать. Не Юрий на ордынке женился, то Орда Русь под себя подминала, закрепляя насилие брачным договором. Разве не стоила сестра Руси? Ныне одна Кончака крестилась и назвалась в крещении Агафьей, а завтра, что станет завтра? А завтра Русь кончится, вот что! Баты низвел Русь мечом и огнем, низвел до того, что и ныне, спустя почти век, земли ее заселены вполовину. Но разве за этот век в сути своей изменилось что-то в отношениях меж русскими и татарами? В русских — все тот же страх, в татарах — все то же презрение, и в тех и других — злоба. Просто Узбек — иной, и средства, чтобы низвести Русь, он ищет иные. Далеко мыслит хан, далеко… На то далекое и сестру не жаль в чужую веру отдать, на то далекое, прикрыв глаза, можно и с таким породниться, как Юрий. Что ж, для такой-то свадьбы лучшего жениха и впрямь во всей Руси не сыскать. Вдов он — и то кстати. И то, что от первого брака осталась у него дочь, а не сын, тоже приманчиво: не будет ужо Кончаковым выпросткам соперников на русском престоле! Так что всем вышел московский князь в ордынские примаки. То, что удел невелик, — не беда, зато тесть знатен. На тебе, Юрий, всю Русь — володей! Что ж с ней чиниться, чай, стерпит…
Вон оно что выходило.
Так ли, иначе ли, однако Юрий возвращался на Русь победителем: великим князем владимирским и ханским зятьком.
Сколько ни ждешь войны, всегда она приходит внезапно. Михаил деятельно взялся приуготовляться к решающему мигу судьбы. Хоть знал, что уж давно судьба его решена. И вовсе не жалким Юрием, и даже не лучезарным могущественным Узбеком…
Теперь жалел он, что упустил время и не уделял в унынии своем должного внимания заветному детищу, надежному детинцу — тверской крепости, какую заложил по возвращении из Сарая, да все не мог возвести под бойницы из-за досадных отвлечений. Поздно было наверстывать. Да ведь не крепость, упасает, но дух. Правда, велел поставить острог перед городом на Тверце по торжскую сторону, на случай, ежели вместе с Юрием и новгородцы подступятся. Хотя и клялись они, ох как клялись в последний-то раз уж более в его распрю с Юрием не вмешиваться. Да ить новгородцы.
Занялся и войском. Дружина хоть и пополнилась после Устьян, однако больно была зелена-незнакома — из старых-то воинов мало кто остался в живых. Сила да молодость ратников одновременно и радовала и тревожила: выстоят ли? Для боя одной силы мало, вера нужна и стойкость.
Впрочем, в вере тверичей и в их преданности ему Михаил Ярославич не сомневался. И все же не хватало среди ратников тех, на ком и держится рать, тех, кто славой прежних побед да видимыми Рубцовыми шрамами вселяют в отроков гордость, а в слабых — неколебимое мужество. И не хватало Помоги! Так не хватало Помоги…
Он один своим неизменным покоем, какой хранил в самой дикой и отчаянной сече, мог укрепить слабых, удержать пошатнувшихся, приободрить уставших. «Помогай тебе Бог!..» — раздастся, бывало, над бранным полем знакомый, какой-то даже веселый возглас высокого, певучего его голоса, и всяк, кто слышит его, подумает, что именно ему желает воевода удачи, именно для него кричит над полем: «Помогай тебе Бог!..» Даже умирать под тот крик и то было легче. «Помогай тебе Бог!..» И тот, кто уж слышал за стонами да за звоном железа, как поют ангелы, улыбался, словно и он благочестиво перед смертью получил утешительное напутствие. А уж как бился Помога!
Нет более его рядом. Помоги ему, Господи…
Впрочем, за хлопотами некогда жалеть об ушедших. Как когда-то тверской князь готовился к своей первой Кашинской битве, так ныне, хотя и с иным трепетом, с иным знанием, готовился он встретить Юрия. А в том, что теперь битва состоится, он и на миг не мог усомниться. По всему выходило, — что избежать той битвы никак нельзя. Знал Михаил Ярославич, что, даже смирившись и не ослушавшись хана, он все равно вызовет его гнев. Не этим, так тем. Он был неугоден Узбеку, хотя бы потому, что угоден ему был Юрий. И жалел он лишь об одном, что не станет та неизбежная битва той битвой, о которой мечтал всю жизнь: битвой всей Руси со всей ненавистной Ордой. Но Орда стала велика и сильна, как никогда еще не была сильна во всю жизнь Михаила. А Русь дремала.
Даже в малом, и тем более в малом, не мог князь ныне противиться ханской воле — Константин в Сарае был залогом его покорности. И эта мысль ни на миг не оставляла Михаила Ярославича. Когда бы жизнь его сына, плоти от плоти и крови от крови его, ради великого понадобилась бы Руси, он готов был пожертвовать жизнью сына, но Русь той жертвы не требовала — дремала. Точно удовольствовалась уж тем, что в последние годы татары не грабили в открытую, не жгли и не убивали повсеместно и без причин, не наезжали для разбоев по собственной прихоти, но дожидались ханских посылов. И то уж казалось русичам благостью. А что платили дань — так куда от нее денешься? Разве что в бродники скроешься… Что ж, дань, так уж, видно, издавна повелось. Словно смирились для рабства русичи: мол, не нами придумано, не нам то и отменять. Что худо — привычно, абы хужее хужего не стало, и ладно… Дремала Русь. И какой князь над ней — тверской ли, московский, куда ведет, чего хочет, и в том, казалось, не было людям разницы. Дремала Русь…
Знал то про свою возлюбленную Русь Михаил Ярославич, знал и на защиту ее не надеялся. Знал, но в той дремоте не ее винил — себя. Все ему было дано, а он не успел, не сумел пробудить ее, собрать для защиты. Что ж, пришло, знать, время отвечать по грехам, за то отвечать, что недостало сердца его на кровь и злобу. Больно беспредельно великим увиделось ему то мертвое поле: чтобы ступать по нему, укрытому, как хорезмским ковром, неживым людом, видно, иную душу надо было иметь… Или не иметь ее вовсе.
Как ни тяжко оно далось, однако великий князь принял решение. Сейчас сопротивляться ханской воле было бессмысленно и губительно не для одного Константина, но и для всей Руси. Узбек, поди, только бы обрадовался такому сопротивлению, как поводу еще пуще наказать непокорных и через то наказание еще скорее и вернее утвердиться в Руси. Потому Михаил Ярославич решил отречься без борьбы от великого владимирского стола. И все же, все же готов был в другие дни спорить с безжалостным ордынским судьей: «Глух ты к Божьему слову, Узбек. Потому творишь беззакония. Но знай, покуда жив, не Юрий — холоп твой и мой, русской кровью и честью откупивший у тебя, поганого, твой поганый ярлык, а я остаюсь на Руси помазанник Божий!..»
Знал то Узбек. И на то был надобен ему Юрий.
Лишь в одном готов был ослушаться хана Михаил Ярославич. Еще матушка учила его: жизнь можно отнять у князя, но достоинство у князя отнять нельзя. Потому Михаил Ярославич и готовился к битве. Знал, Юрий идет не Русью править — что ему Русь? — к нему он идет, за ним.
А Юрий приближался неумолимо. И Русь уж стонала от хивинцев, бесермен и прочих татар, которых он вел с собой.
Состарив, время добавило к дородной и внушительной внешности отца Ивана Царьгородца то редкое благообразие, которым наделяются люди, прожившие жизнь достойно, праведно и со смыслом. Коли в детях, в глазах их и лицах, сызмала проявляется то чудесное и высокое, что дал им Господь, то по лицам стариков становится очевидно, как сумели они распорядиться тем, чем Господь одарил их когда-то. Глядя на отца Ивана, всякому пришедшему во храм делалось совестно перед ним за тайные грехи и неблаговидные действия и хотелось жить начать наново — чисто и праведно, чтобы в старости походить на него. Казалось бы, за долгую жизнь, сполна постигши людскую низость, он должен был в своем неизмеримом превосходстве отворотиться от людей, однако всякого отец Иван принимал в свою душу, на всякого глядел приветливо и для всякого умел найти нужное слово. Ежели со святоучительным епископом Андреем, умершим, кстати, еще в то время, когда князь был в Сарае, Михаилу Ярославичу иногда становилось тягостно, потому что чувствовалась в Андрее не созвучная сану княжья гордыня, то с отцом Иваном всегда ему было душевно и просто, даже и не как с духовником, которому ведомы все страсти сердца, а словно со старшим родичем — братом, отцом, коих он не имел; между прочим, бездетный отец Иван тоже любил Михаила с родичевой невысказанной преданностью и тоской. Наверное, оттого так легко им было друг с другом. Иногда Михаил Ярославич, думая о Царьгородце, удивлялся: отчего вдруг чужие люди делаются друг другу ближе и милее, чем самые близкие родичи?
— …Так я решил, отче.
За оконницей неустанно бил осенний занудливый дождь, от которого киснут дороги и усталые души. Отец Иван пристальней вгляделся в великого князя: неужто и он ослабел? Нет, доселе слабость оставалась неведома князю, и ныне глядел он твердо.
— Али устал под ношей?
Михаил Ярославич покачал головой:
— Ношу, что взял, осилю.
— Как так? — удивился отец Иван. — От великого княжения отрекаешься, а ношу несешь?
— В ином моя ноша… — Он отошел к окну и от окна, не обернувшись, глухо спросил: — Али, думаешь, многою кровью стану велик?
— Дак ведь ждали мы, хотели, — вздохнул Царьгородец.
— Хотели, — эхом откликнулся Михаил Ярославич. — Только не поднять ныне Русь, спит она.
— Спит, — согласился отец Иван.
Михаил Ярославич обернулся, лицо его оказалось бело даже в огненном свете свечей.
— Пошто так, отец Иван? Знаешь душу мою, скажи, али я плохого хотел?
— Что ты, Михаил Ярославич…
— Пошто недостойных ценят? Пошто они на Руси государи?
— Так ведь знаешь, чай, притчу-то про Тита да Фоку?
Михаил Ярославич кивнул, но отец Иван повторил:
— Когда Господь Бог Титу[93] Иерусалим предал, то не Тита любил Он, но Иерусалим казнил. И тоже: когда Фоке[94] Царьград предал, не Фоку любя, но Царьград казня за людские прегрешения…
— Да что ж, отче, разве доселе не оплатила Русь кровью безмерной грехи свои? — Великий князь с силой ударил по широкой дубовой плахе, выступавшей из-под оконницы. — Ить от князей ее неразумных злобность идет, в чем люди-то провиноватились?..
— А в том, что слепы, да еще и спят на ходу… — Отец Иван сокрушенно, тяжко вздохнул. — Словно кто ум-то им застит. Точно не своей, а чужой, не жалкой жизнью живут, мол, ныне ладно, а назавтра переиначу…
Михаил Ярославич опустился на лавку, уставил крепкие руки в колени, сказал, прямо глядя перед собой:
— Ах, отче, много мыслей имел, как пособить христианам сим, но, видать, по моим грехам многие тяготы сотворятся им вместо помощи… — Он помолчал, повернулся к отцу Ивану, и даже отец Иван не вынес его взгляда, полного муки: — Может быть, последний раз, отче, открываю тебе внутренность души. Я всегда любил отчину, знаешь то. Я всегда хотел мира в ней, знаешь то. И не мог прекратить наших злобных междуусобий… — Он усмехнулся, сквозь муку тронув улыбкой губы. — По крайней мере, рад буду, если хоть смерть моя успокоит их.
Отец Иван не сразу ответил.
— Не успокоит, сын мой: видишь же, кто идет! — Он кивнул в темный, дальний угол, точно из того угла и грозило нашествие. — А ты, Михаил, рано смерть кличешь, прежде времени, — укорил он князя.
Михаил Ярославич прикрыл ладонью глаза.
— Не смерти страшусь, но позора.
Он отнял ладонь ото лба, и будто светлей стало от сухого, яростного огня его глаз.
— В чем виноват, отче? Вижу, нет мне помощи, и смущаюсь оттого. Пошто Господь отвернулся?!
— Не сетуй на Господа, сын мой, — мягко, ласково даже остановил князя отец Иван. — Не ведаем Его помыслов, не знаем путей Его милостей. Помнишь ли? — спросил он и скоро проговорил стих псалма Давидова: — «Все, видящие меня, ругаются надо мной; говорят устами, кивая головою: «Он уповал на Господа, — пусть избавит его; пусть спасет, если он угоден Ему…»
— Истинно, — воскликнул Михаил Ярославич, — истинно, отче!
— Так что ж нам сетовать, как неверящим? Господь велик, каждому дает спасение по вере его.
— Да ведь не за себя только страшусь, отче, не за себя одного молю его!
И сказал отец Иван неутешное, о чем и сам Тверской думал:
— Велик Господь, сын мой. Но и дьявол велик. И, видно, вечна борьба их за нас. Однако не вечна власть дьяволова над людьми, но временна.
— Когда же пройдет?
— Когда народ Богу душу откроет.
— Когда же?
— Когда для добра проснется.
— На то уповать? — усмехнулся Михаил Ярославич.
— На то уповай. А более не на что, — усмехнулся и отче. — «Ибо Господне есть царство, и он — владыка над народами…» — Царьгородец осенил великого князя крестным знамением. — Верь, что Господь вразумил тебя, и дух твой пребудет в крепости.
— На то уповаю! — истово перекрестился Михаил Ярославич.
Еще говорили, как всегда говорят, сойдясь, русские, которым особенно больно за отчину.
Впрочем, есть ли такие русские, коим не больно за отчину? Конечно, есть…
Понимал, что ни власть, ни Русь уже не спасти, и все же, пытаясь предотвратить лишнее пролитие крови, Михаил Ярославич послал в Кострому, навстречу Юрию, переговорщиков, бояр да духовных, умевших доходчиво толковать от простого до сложного. Впрочем, сложного в посольстве их не было, Михаил Ярославич одно велел сказать Юрию: что он, Тверской, отрекается от великого княжения, и потому пусть, мол, Юрий распустит войско и идет к столу во Владимир. Михаил Ярославич велел просить послов Юрия дать ему спокойно княжить в тверском наследии.
Старшими в посольстве пошли бояре Александр Маркович да Святослав Яловега.
В гриднице было душно. По постному времени шли Филипповы дни, из каждого рта крепко пахло луком и иной простой, только что принятой пищей. Редко кто дышал скоромным. Тех редких отличали ладони, поднятые к бородам, словно ладонями они пытались загородить мясной дух, перший из чрева. Князь собрал людей внезапно, не дав и пополудничать, то есть поспать после обедни, как то и было заведено. Рты раздирала зевота. Из оконниц вынули войлочные заглушки, однако оттого легче дышать не стало. Оконницы не выставляли — Михаилу Ярославичу нездоровилось.
В гриднице было людно. Несмотря на неурочный час, собрались все, кого звали: бояре, окольные, воеводы, купцы и иные знатные горожане из тех, за кем шли и кому верили остальные тверские жители. На лавках никто не сидел, потому как всем места на лавках бы не хватило, и перед глазами сидящих, коли бы кто и сел, стеной высились спины тех, кто напереди. Припозднившиеся, чтобы увидеть князя, забыв вальяжность, с ногами забирались на лавки, крытые толстым сукном. Впрочем, перед тем как взобраться на лавку, снимали сапоги от почтения к княжескому сукну. Но лучше б уж не снимали. В гриднице было душно.
Князь один сидел в дальнем красном углу на высоком и просторном царском стольце. По одну его руку стояли сыновья: Дмитрий, Александр и Василий, все рослы, крепки и одинаково хмуры лицами. Даже Василий напустил на себя грозный вид.
«Знать, война…» — думали тверичи.
По другую руку Михаила Ярославича стояла жена.
Те, кто знал и помнил Михайлову матушку, покойную княгиню Ксению Юрьевну, поражались до изумления удивительным сходством с ней княгини Анны Дмитриевны, какое она приобрела с течением времени. Разумеется, она была вовсе иной, пышнее телом, румяней лицом, моложе и нарядней в одеждах. Однако сам лик, зримый образ лика благоверной свекрови словно перенесся на лик невестки. И та же строгость и даже скорбность в чертах и во взгляде. Впрочем, схожесть та явственно для всех обнаружилась вдруг и совсем недавно — лишь в этот несчастный год.
Рядом с княгиней стоял новый тверской епископ Варсонофий, а далее, расходясь тесным кругом, иные…
— Все, что ли? — спросил Михаил Ярославич.
— Все, батюшка, — ответил Дмитрий.
Но еще некоторое время молчал князь, оборотившись в свои глубины. Никто не смел его потревожить, люди лишь вздыхали да коротким движением рук утирали пот, струившийся из-под шапок.
— Прости великодушно, тверской народ, что позвал не ко времени. Весть пришла… — говорил он негромко, но внятно, так, чтобы каждому слышалось и тихое слово. — Убил Юрий мое посольство.
К смерти были привычны и терпеливы тверичи. Не смерть оказалась страшна, но бесправие.
— Как то?! Пошто договорщиков? Или зверь он?..
Люди ахали и крестились, поминая тех, кто ушел с посольством. Ить люди-то ушли — не последние из людей.
— Пошто руку-то Господь ему не иссушит?..
Михаил Ярославич дождался, пока опомнятся.
— Позвал вас, чтобы вы рассудили: верно ли мыслю, того ли хочу, что и вы желаете?
— Али когда по-другому было? — попробовал кто-то подбодрить князя, но тот поднял руку, и крик оборвался, будто прикушенный.
— Не сам ли хан утвердил меня на великом княжении?
— Так было, великий князь…
— Не собирал ли я для него царской пошлины?
— Так было…
— Не я ли стоял с вами за всю Русь?
— Так было…
— Теперь стал я неугоден ордынскому царю. За многое серебро, за низость свою Юрий, московский князь, откупил сей ярлык у хана. Доколе же достоинство наше не по роду, не по чести, а по обычаю поганых будет стоять над нами?
— Так что ж, коли царь, — сказал кто-то тихо.
Михаил Ярославич взглянул на голос. Люди стояли плотно, покорно, и не понять было, кто сказал.
Михаил Ярославич усмехнулся, прикрыл глаза, чтобы не увидели его скорби.
— Теперь… — Вновь смотрел он на тверичей, но непросто давались ему слова. — Теперь отказываюсь я от сего владимирского достоинства. Совесть меня не упрекает. Но, может быть, ошибаюсь? — спросил Михаил Ярославич внезапно так истово, словно от ответа тверичей что-то еще могло измениться, словно от их ответа все зависело в его жизни.
Пытал великий князь тверичей, ждал, что упрекнут они его в слабости, пожалеют Русь и владимирского стола. И тогда…
Нет, молчали тверичи. Не в чем было им упрекнуть князя. Страшна им была Орда.
Долго томились молчанием.
— Что ж, отрекся я. Отрекся, — повторил князь, точно нарочно терзая и их, и себя. — Что ж, отрекся, но и тем не могу укротить злобы Юрьевой! — Голос его возвысился, стал тверд. — Он идет за мной, меня ищет, головы моей ловит! Скажите тогда, тверичи, виноват ли я перед ним?..
Здесь гридница выдохнула едино и бодро:
— Прав князь! Умрем за тебя, умрем! Али ты не отец нам! Умрем!.. — Словно стыдясь недавнего своего молчания, люди истово клялись в готовности умереть за великого князя, потому что на Твери и без поганого ханского ярлыка он для них всегда был велик, Михаил Ярославич поднялся. Дождался, покуда смолкнет последний крик.
— Не за меня одного, тверичи! Но за множество! За всю жизнь нашу! Сказано же, кто положит душу свою за други своя, тот велик наречется в Царствии Небесном. Да будет нам, тверичи, слово Господне во спасение!..
Хоть и знал Михаил Ярославич, что не примет мира московский князь, хоть и готовился встретить Юрия, ан упредить его не успел. Больно уж рвался Юрий скорее покончить с ненавистным ему Михаилом. В том, что пришел час его торжества, Юрий не сомневался. Он сам был поражен обилием войска, которое вел за собой. Узбек, понимая, что не так уж и просто Юрию будет сладить с Тверским одними татарскими» силами, хотя силы те оказались огромны, дал Юрию грамоту, по которой все низовские города должны были подчинить целям Юрия свои рати. Кроме того, для Узбека было важно, чтобы сами русские своими руками свалили им якобы неугодного великого князя. К Юрьеву войску пристали суздальская, московская и переяславская дружины. Владимирцы, костромичи, рязанцы отказались поддержать Юрия, несмотря на угрозу татарской расправы. Владимирцы и костромичи и вовсе готовы были принять Михайлову сторону, да как-то нечаянно не успели…
Татары шли под началом бек-нойона Кавгадыя. Кавгадый послан был Узбеком еще и с тем, чтобы именно он возвел на владимирский стол московского князя.
Кавгадыю от роду было лет тридцать. На бритом до синевы лице татарин носил ровно стриженные ухарские усы, волосы его были черны и блескучи, как воронье крыло, на затылке и по вискам заплетены в тугие косицы. По татарским, да и по всем обычным человеческим меркам Кавгадый казался хорош собой. Видимо понимая то, Кавгадый любил глядеть на себя; и нарочно с той целью в седельной сумке возил китайское зеркало, оправленное в золото. Одно было неприятно в нем: при всякой беседе он чистил пальцем в носу, да затем еще и приглядывался с задумчивостью к пальцу, словно стараясь понять, что же на сей раз удалось ему извлечь из носа. Делал он это то ли нарочно, из презрения к тем, с кем беседовал, то ли нечаянно, из одной лишь потребности. Да ногти еще с каким-то постоянным тщанием и усердием он как-то особенно подрубал, подрезал нарочно заточенным для того ножом и затем долго еще грыз их, выбирая заусеницы крепкими белыми зубами, как выбирает блох шелудивый пес. Как все татары, был он хитер, при необходимости льстив, но в его лесть верилось трудно, именно из-за того, что, хваля тебя, он, казалось, все-таки больше думает о собственных ногтях или носе. Впрочем, у татар Кавгадый находился в почете, сам Узбек отличал его и не случайно именно ему поручил сопровождать Юрия.
В тверскую отчину Юрий вошел в начале декабря. Если в иных землях Кавгадыевы татары лишь бесчинствовали, довольствуясь малым, то в тверской стали зверствовать. В плен брали лишь рослых, сильных, молодых и здоровых, остальных истребляли с какой-то необъяснимой старательностью, словно тверичи были не люди, а опасные животные или насекомые. Надо сказать, что и русские, шедшие с Юрием, воодушевившись чужим безбожием, не уступали татарам в жестокости. Точно великую обиду вымещали они на тверичах, крепя зло и ненависть в сонных душах. О подобной свирепости не знала Тверь со времен Баты. Так прошли они Святославле-Поле, Кснятин, попутно опустошили Кашин, дошли до самого Вертязина, или, по-другому, Городни, уже тверского предгородия. Позади них остались только дымы и трупы.
Ни до того, ни после никогда в жизни не испытывал князь Юрий такого беспредельного и пьянящего чувства власти. Три года добивался он его многими дарами и еще большими обещаниями перед визирями, эмирами, беклерибеком Тимур-Кутлуком. И все равно не сразу поверил Юрий, что достиг недостижимого и внезапное, божественное благоволение могущественного Узбека — не сон. Только теперь по-настоящему он начинал осознавать, насколько то не сон, но чудная явь, подтвержденная заветным ханским ярлыком, молодой царственной татаркой, которую теперь он вез за собой по Руси в обозе, чтобы преклонить к ее ногам Русь и подарить ей, как и обещал, «на вскрывание» Тверь — пусть знает московскую щедрость. При том неизмеримом превосходстве сил, какое было у Юрия, в победе над Тверью не приходилось сомневаться. Да он и не сомневался.
За прошедшие годы Юрий заматерел, стал уж не петушист, а окончательно хищен. Всякое чужое мыслилось им не иначе как свое. При этом (вот странность!) по сю пору своего-то он как бы и не имел: Москву отдал Ивану, Новгород — Афанасию. И все одно — ему было мало! Не умея владеть, он мог лишь завидовать, а зависть давала ему способность к примыслу. Нынешнее его положение великого князя открывало такую дорогу к дальнейшим приобретениям, что голова мутилась от замыслов и сердце напухало величием. После Твери к Москве, по его (и Иванову) загаду, должны были отойти сначала Рязань, старой занозой зудившая воровскую руку, затем Ростов, затем… И далее, далее до самого Новгорода.
За Вертязином перешли на другой берег Волги, по которому вскоре должны были выйти на Тверь. Но лишь тронулись, как в урочище близ сельца Бортенево предстала им Михайлова рать.
Михаил Ярославич мучился совестью оттого, что не успел встретить татар и Юрия ранее — и тем самым дал погубить многие безвинные души. Те, кому удалось уйти от татар, достигнув Твери, рассказывали такие ужасы, каких он, воин, князь, не раз водивший полки на войну, себе и представить не мог. Кой зверь есть на свете страшнее человека?..
Негодных для плена баб, стариков и детей сгоняли в избы и сжигали живьем, голыми, зачем-то обязательно голыми топили в волжских полыньях, на забаву пытали каленым железом и прочая, прочая, чему ни слов нет, ни ума, но на что горазды люди в бесовском помешательстве.
Была к тому причина, что задержался Тверской: вновь не ко времени занедужил и вновь лежал земляным пластом неподъемным. Старым стал, что ли? Пожалуй что, так: осенью, в день Михаила Архистратига и прочих Небесных Сил бесплотных, сравнялось князю сорок пять лет. О болезни князя знали лишь самые близкие и строго молчали о том, как велел Михаил Ярославич, чтобы рать не смутилась. Для всех отъехал он будто бы в Желтиков монастырь на моления. И все же на сей раз поднялся — духом пересилил болезнь. И только окреп чуть, хоть с запозданием, стоившим сотен жизней, а все же вывел войско из города.
То еще ладно, что теперь он заранее знал, где и когда встретит Юрия. Место у сельца Бортенева выбрал сам, сам и дружину расположил для битвы с заведомой хитростью. Много больно, люди сказывают, Юрий войска набрал…
Тверитина с тысячей конных оставил за взгорком, в редком сосновом лесу, авось, будет надо — налетит, не задержится; пеших тверичей-ополченцев выставил на низу, под взгорком, дабы бечь было им неудобно, коли вдруг испугаются. Все же с татарами-то в открытом поле не бились еще. Сам взял под начало две тысячи конных. Неведомо, сколько войска вел Юрий, но Михаил Ярославич собрал всех, кого смог собрать. В Твери затворились бабы, малые дети и старики…
В ночь на зачатье Анны-праведницы[95] долго не спал. Слушал с тревогой несытых волков, стекшихся в дальний лес в предчувствии пира, молился пред старым походным иконостасцем. Иконы были черны от свечной да лампадной копоти, а все же горели глаза Спасителя и святых живым Божиим светом. Долго молился, повторяя спасительные слова. Все перебрал в уме и душе, о чем смел попросить. И вдруг отважился и попросил о запретном.
«Господи! Укороти век мой скороминующий! Дай умереть мне ныне. Тебя хочу лицезреть, но не горе, какое несу своей жизнью ближним и дальним. Жалею их, плачу о них. Желаю тишины им и благоденствия и не могу дать покоя… Нет крыл у меня — взлететь до Тебя. Убей меня ныне во славу Твою. Не могу глядеть на отчину во прахе и разорении. Господи! Убей меня…» — попросил Михаил Ярославич Господа.
И, что удивительно, тут же уснул, будто ангел слетевший наложил на веки упокоивающие ласковые ладони.
Юрий, горячась перед юной женой, рвался на Михаила, требовал от Кавгадыя немедленно вступить в битву. Кричал, что сам Узбек велел ему убить Михаила. О том кричать не следовало. Да и не велел Узбек убивать — а так, ежели уж получится… Татарин грыз ноготь и не спешил. До Юрьевой выгоды не было Кавгадыю дела — своя на уме. Ему было жалко своих татар пускать на русские копья — не для того на Русь ходим, чтобы умирать, а лишь для веселия и сайгата. Ноготь так и не поддался зубам, и Кавгадый сплюнул под ноги Юрию пустой слюной…
Юрий досадливо развел руками перед Кончакой — новокрещеной Агафьей: вот, мол, тебе и татары, матушка!..
По обычаю своего племени, Кавгадый сначала решил подъехать к Тверскому с обманом и лестью.
Подъехал: мол, зло сотворил не по злобе и не желая того, а нечаянно, и пришел лишь затем, чтоб сказать тебе, великий Князь русский, что шахиншах Гийас ад-дин Мухаммад Узбек зовет тебя, великий князь, к себе, а то, что ты не в почете ныне, так то временно, хан милостив и ждет тебя, чтоб простить, а еще, великий князь, мол, сынок твой, поди, заждался тебя в Сарае-то…
Михаил Ярославич глядел на красивого, синего от бритья и мороза татарина, что улыбался ему во все зубы, на его тугие черные косы, ровно спадавшие на стороны из-под собольего малахая, и думал, отчего же и этот ордынский князек так уверен, что он умнее его, Тверского? Отчего все они, даже самые глупые из них и никчемные, так уверены в своем непременном превосходстве над русскими? Вся Кавгадыева хитрость была перед князем как на ладони, будто нарочно до бессмысленности проста и очевидна. Видно, в очевидной простоте их хитрости и таилась главная опасность для русского ума, тух же пытавшегося отыскать, что же Подлинное спрятано за той простотой. А за той простотой очевидной, ясной младенцу, более ничего и не было — вот что…
Польстив, обманув, припугнув, одним словом, исполнив необходимое для подвоха, Кавгадый прикусил ноготь на мизинце левой руки и ощерился острыми зубами на князя: ну, что скажешь теперь?
— Не с тобой бьюсь, с Юрием. — Михаил Ярославич усмехнулся. — Ступай в Орду. Скажи хану: великий князь Михаил Тверской его не ослушался…
Михаил Ярославич понудил коня поворачивать.
— Так что ж, князь, не хочешь дружбы моей? — Кавгадый Мелко сплюнул откусанную наконец заусеницу. — Гляди, князь, — пригрозил он, — нет в дружбе людей верней, чем татары.
— Не с тобой бьюсь, — повторил Михаил Ярославич.
Кавгадый рассмеялся:
— Русский-то против татарина худо бьется!
— Поглядим…
На том и разъехались.
На праведницу Анну, когда была зачата Пресвятая Богородица, день выпал бодрый и румяный от солнца, красного, как снегирева грудь. В такой-то день не сечу творить, а на охоту ладиться. Не тишину б ныне слышать — ту, что всегда одинакова перед боем, а хлопотливый шум на дворе перед охотой, тоже всегда одинаковый и особый. Уходящие мужики малословны и значительны, остающиеся бабы шумны и насмешливы. А выжловые суки ласковы, кидаются в ноги да в губы лизаться, визжат, рвут тороки из рук псарей, будто на дворе еще чуют зайцев…
Михаил Ярославич тряхнул головой, сгоняя напавшее на него не ко времени ощущение тихой печали и радости от памяти мимоходящей и скоротечной жизни. Тем сильней оно было, что пришло вдруг перед битвой, и стало жаль тех обыденных радостей, мимо которых прошел без пригляда, а в них-то и есть единственная опора и милота.
«Ради чего жил, не слезая с седла? Чего достиг? Вон они, татары, стоят как стояли, и скалятся, как скалились раньше. Неужто зря все? Не зря…»
И так захотелось жить!
Тверской знал, что татары поберегут себя, первыми пустят русские рати. Что ж, на то и рассчитывал. Так и вышло — колыхнулись Юрьевы стяги и двинулись одни русские на других.
Михаил Ярославич осенил себя крестным знамением, оборотился к тысячам глаз, глядевшим на него с надеждой и верой.
— Что ж, тверичи! Али мы не русские? — зло, безнадежно, отчаянно закричал он. — Умрем за други своя!..
Сеча была кровавой. И сначала верх взяла было Юрьева рать. Тверичи хоть и не бежали, но явно отступали, теснились к взгорку. Да и трудно было устоять тверичам перед всей силой объединенного Юрьева войска. Когда стало ясно, что победа близка, еще и Кавгадый кинул своих татар. Но того и ждал Михаил Ярославич. Наперерез татарам, за спину русским дружинам хлынула лавой на лаву тверская конница. А те тверичи, что, казалось, были уж смяты под взгорком, вдруг точно взбодрились, наново ощетинились копьями, да так, что свет ясный застили ими, и лихо стало Юрьевым русичам. Никто ж не знал, что за слабыми, вернее, не шибко умелыми в бою ополченцами стояли лучшие Михайловы ратники, и, когда пришел их черед ударить в железо, Юрьева рать всполошилась, как стая галок.
Вот здесь и началась настоящая сеча, такая рубка, в которой смерть сыскать легче, чем лист на березе. Ни татары, ни одни русские, ни другие помирать не хотели — всяк цеплялся за жизнь, убивая иного. Уж второй конь пал под князем. Латы его были иссечены, погнуты под ударами, но ни един удар не достал тела. Его багряный плащ стягом взмывал над битвой то здесь, то там, словно внезапно ткался из света и воздуха. Удивительно, но находясь в самой гуще сражения, он всегда появлялся там, где более всего в нем нуждались, где уже не хватало сил отражать татар.
И над урочищем летел крик великого князя, вновь он звал Юрия:
— Юрий, блядов сын! Ищешь моей головы — вот она! Где ты?!
Юрий не откликался…
Татары, неожиданно для себя подпав под русскую силу, отбивались отчаянно, зло, пронзительный визг покрывал лязг железа и предсмертные крики коней. А от берега Волги, от Юрьева стана, несся вой сотен пленных, повязанных меж собой, и в том вое звучали то горесть, то надежда.
Солнце давно переместилось по небу. Начав биться по первому свету, изможденные люди ждали его заката и тьмы, что остановит резню. Однако до ночи многих еще можно было убить.
И тут на взгорке явилась новая тысяча.
«Ить не раньше — не позже, а в самый раз», — успел заметить про себя Михаил Ярославич, сшибаясь с татарином, который пытался достать князя саблей.
— Ых!.. — Удар ордынца ссек кольчатый назатыльник со шлема и пришелся по конскому крупу. Покуда конь, брыкнув от боли задом, не начал валиться, Михаил Ярославич успел кинуть копье вдогон татарину. Копье вошло ему в спину. Татарин дернулся, толкнулся грудью вперед, припал к конской гриве, удивленно вывернул шею, оборотясь на князя белыми от смерти глазами. То третий конь пал под Тверским.
Поднявшись на ноги, Михаил Ярославич поглядел на взгорок. Медлил Тверитин.
«Ну!..» — без звука крикнул он Ефрему.
И Ефрем будто услышал князя.
— Бей!.. — вместе с конной лавиной, вихрившей копытами снег, упал сверху победный вопль.
Побросав стяги, кое-где сохранявшиеся еще у врага, чужие русские и татары бросились вон с поля боя к обозам, отчего-то надеясь там упастись.
Михаил Ярославич пеший стоял средь поля.
— Юрий! Юрий! Вот моя голова!..
Юрий не мог слышать князя. С малой дружиной числом не более ста человек он уже был далеко от урочища. Бросив рать, татар, Кавгадыя и молодую жену, он уходил на Торжок.
9
— Что ж ты плачешь, Ефрем? Ведь я же не плачу… — Голос князя был не властен, но тих и мягок. И оттого, что князь утешал его, Ефрему делалось еще горше. — Я ли не был в чести? Али ты, Ефрем, мало видел славы моей? Что ж теперь Бога гневить упреками? А это, — Михаил опустил глаза на тяжелую деревянную колоду, сковавшую шею, — это, Ефрем, кратковременно.
«Только когда же закончится?..» — с тоской добавил он про себя.
— Да ить не плачу я — от дыма то, — оправдался Ефрем, тыльной стороной ладони проведя под глазами.
В просторной, но бедной веже[96] было вовсе не чадно — лишь масляные плошки горели, давая скудный свет и бросая тени на стены.
— Какой ныне день?
— Канун твой, батюшка.
— Кой канун, Ефрем, что ты?
— Чать, завтра, Михаила Ярославич, двадцать второй день ноября, среда ужо…
Вон что, Михаила Архангела день — тезоименитство его. Знать, ныне в ночь исполнится Михаилу Ярославичу, великому князю всей Руси, сорок шесть лет.
«Вон что, сколь времен скороминующе! Быстро, быстро летит, даже если и тянется бесконечным татарским волоком…» Михаил прикрыл глаза. Не для дремы — сон он давно потерял — но для мыслей, кои одни в тягостной неизреченной, муке печали и утешали его.
Сколь времени прошло? Сколь осталось? Михаил в уме просчитал дни своего последнего пребывания в Орде. Выходило, что завтра, точнее, ныне уже пошел семьдесят седьмой день. От шестого дня августа, когда прибыл в Орду и предстал перед ханом. До первого суда, вершившегося в субботу двадцать первого октября, прошло сорок пять дней. Сорок пять — по дню на каждый прожитый год. Второй суд творили над ним ровно через неделю, опять в субботу. Неужели ж Узбек и смерть определил принять ему через сорок пять дней от суда? С него станется, любит он подгонять число под судьбу. Только больно долго, немилосердно то. И от какого ж суда дни отсчитывать, от первого ли, от второго?
«Господи! Не о многом просил Тебя, почему не дал умереть тогда у Бортенева, в силе и славе, в чести и победе?..»
Месяц осталось, как год минет с того побоища. А все-таки милосерд Господь, хоть в малом дал Михаилу исполнить заветное. Пожалуй, впервые после Калки да Сити бились русские с татарами не на стенах осажденных городов, но в чистом поле. И не с малой их горсткой, а с сильным войском. И разбили, разбили наголову, хоть вместе с Юрьевыми ратями было их больше чуть ли не вдвое! Значит, и русские могут татар побивать, могут! Пусть в памяти на будущую силу та победа останется. И останется — видел он глаза тверичей, в такие глаза страх-то обратно вогнать уже не так будет просто — и то, велико! А Тверь-то как изумилась, когда он пленных несчетно привел! Кабы не заступился он за них, поди, всех растерзали б. Пошто смилостивился? Знал же, что и милость к пленным татарам не оправдает его перед ханом. Константина пожалел, вон что…
А пленил он тогда и Кавгадыя, татарского князя улизанного, и Узбекову сестрицу Кончаку, и брата Юрьева Бориску… Один лишь Юрий и ушел, точно унес его кто!
Бориска-то не ждал милости от него — трепетал. Михаил же лишь спросил:
— Что, погубили Александра-то? Из какой выгоды?..
Затрясся весь, губы поплыли — жалок.
— Не княжич ты, Бориска, не княжич, — одно лишь и сказал ему Михаил.
Кавгадый боле не скалился и про ногти забыл. Винился, что, мол, без воли Узбековой Тверь воевал, обещал поддержку в Сарае, дружбой клялся, льстил да лгал… Думает теперь, поди, мол, ловко он Тверского-то обольстил да обманул. Михаил же и тогда полслову его не поверил. Не поверил, а отпустил все же — Константин был в Сарае.
Кончака чванилась — хоть пленница, да сестра Узбекова. Однако не в том беда, что сестра царева, но в том, что жена холопья…
Юрий перед весенней ростепелью вновь подходил с войском, на сей раз с новгородским. Вестимо — новгородцы клятвы-то до первого ветра держат, а как подует, так все выдувает из них. Ну да Бог им судья, Михаилу-то боле их не карать.
Встретились у Торжка. Однако биться не стали. Не было на ту битву воли Тверского. Он уже о другом мыслил. Выдал Юрию Бориску, прочих заложников. Одну Кончаку не выдал — умерла на Твери царева сестра и супруга новопоставленного великого князя Руси московского Юрия… Одним словом, порешили тогда с Юрием в Сарай идти, суда у хана искать. А Михаилу-то и без суда в Сарай надо было спешить, донесли ему, хан велел Константина голодом уморить, ежели Тверской перед ним не явится. И уморили бы. Сказывали, доходил уж сынок, только нашлись умники, вразумили Узбека: мол, ежели убьешь княжича, Михаил к тебе вовсе не явится. Мол, к немцам с казной уйдет. Что ж, звали тверского князя немцы-то, и Гедимин — князь литовский к себе звал, и даже Папа латинский, что сидел тогда в галльском Авиньоне, послов в Тверь прислал.
Да ить разве мыслимо из отчины убегать? Того и в мыслях князь не держал. Так что порешили у Торжка более крови не лить, а идти в Сарай вместе, искать у хана суда.
Кой суд!
Как управился с делами последними — к смерти-то всегда их отчего-то много копится, так и тронулся из Твери. Народ выл, как по покойному. Вся-то Тверь от малых деток до седых стариков, с которыми еще на Кашин ходил, вышла провожать князя на волжский берег. И долго еще, не трогаясь с места, люди стояли в недвижном оцепенении, глядя вслед княжьим лодьям. А над городом скорбно, тягуче звонили колокола. И гудкий, тяжелый голос большого, его колокола все достигал Михайлова слуха, когда уж и Тверь, и серебряный в свете солнца купол его Спасо-Преображенского храма скрылись из виду, в недостижимую даль унесенные волжской водой. А колокол все рыдал, плакал медью над водной гладью, или то уж Михаилово сердце рыдало?
С Василием дома простился. Княгиня Анна, княжичи Дмитрий и Александр да отец Иван упросили проводить до ближнего места. Вместе, в последнем родственном утешении, дошли до Нерли. Царьгородец и в Сарай с ним ехать намеревался, едва отговорил его, стар стал отче. Ни к чему ему перед скорой смертью у поганых в Орде душой маяться. Новым духовником взял с собой игумна отрочского Успенского монастыря отца Александра. Годами молод, зато душой возрос. Пусть увидит, как князь его за веру смерть примет, поди, сумеет о том и другим рассказать. На то в Отроче и летопись завели.
До Нерли шли с Аннушкой на отдельной лодье. Нечего на их слезы лишним глядеть. Даже сыновей прочь отсадил, еще натерзаются.
А с Аннушкой почти и не говорили. Столкнутся взглядами, того и довольно. Надо б было пуще утешить ее словами, но разве словами утешишь? Как-то ей ныне там? Поди, не спит теперь, молится. Молись, Анна.
А перед тем как в волжскую Нерль войти, с остальными простился. Дмитрий молодцом держался. Хмурился лишь. Александр плакал, ну, точно маленький. Али не видел, что слезы-то его отцу тяжелы? И жалко его, а все одно, не надо бы так-то при живом убиваться. Да у всякого свое сердце.
Оба на коленях стояли. Упрашивали не ездить к Узбеку, говорили, мол, лучше в войне с погаными умереть. Так-то оно бы и ладно было, коли б одному умереть-то, а война одному-то смерти не дает. Вразумлял их. Разве можем мы ныне всей силе ордынской противиться? А коли не можем, честно ли ради одной жизни бедствию отечество подвергать? За мое ослушание сколько голов-то христианских падет? Так и спросил.
После когда-нибудь надобно же умирать, так лучше теперь положу душу мою за многие души. Так и сказал.
Раз так, ответили, пошли, мол, нас в Орду-то вместо себя… Добрые сыновья. Видно, о том сговорились промеж собой по пути. Спросил: разве царь вас к себе требует? Да ведь и их еще позовет, ненасытный…
Последний раз душу открыл перед отцом Иваном, исповедался. Да что ж нового-то мог он открыть отче в своей душе, ведомой тому с малых лет. Из рук его Святых Тайн причастился. И в том утешение было великое.
Аннушка перед сыновьями не плакала. Горе взгляд обожгло, высушило глаза. Однако, коли б кричали глаза-то, какой бы вопль по Руси стоял…
Нельзя на заведомую смерть заране прощаться — тяжко. А и не проститься нельзя. Доныне все до последнего слова слышится, до водного плеска у берега, доныне все видится так, точно вживе перед глазами стоит. Простились наконец, ох, Господи…
Во Владимире, в Успенском соборе, где венчался на царство, помолился той иконе Божией Матери. И вновь почудилось ли, въяве ли увиделось — живая она, икона та. Смотрела ласково, обещая… Ужели дойти к милосердию можно лишь через муки? Али не дано нам быть добрыми без страданий?
Хотел было с митрополитом Петром на смерть замириться, да, сказывают, нет уж давно в митрополичьем граде Владимире митрополита Владимирского и всея Руси — в Москву перебрался Петр к Ивану Даниловичу, поди, шепчутся…
А тут во Владимир пришел ханский посол Ахмыл, бек-нойон, старый Михаилов знакомец. Сказал, что ежели в месяц великий князь (так и сказал: великий князь) в Орду не поспеет, Узбек за ним сам на Русь с войной придет. И добавил тихо, хоть и были одни с ним в покоях: убьет тебя хан, Михаил Ярославич, беги… Коли татарин добра ему пожелал, тем более надо было в Орду спешить. Знать, склоняли уже Узбека к тому, чтобы за его, Михаилово, ослушание всю Русь под огонь и железо подставить.
Михаил открыл глаза. Плошка с огнем чадила, фитиль брызгал маслом. Тверитина в веже не было. Уйдет — не слыхать, войдет — не слыхать. Отрок, что находился при князе для того, чтобы переворачивать перед глазами листы Псалтыря, дремал, падая носом в святые буквицы.
Пусть его спит… Однако куда же Ефрем-то пропал? Пусто без него, беспокойно. Он все бежать подбивает, старый, неймется ему доблесть выказывать. Будто не знает, что нет в бегстве доблести. Впрочем, не доблесть и в колоде сидеть. В колоду забили сразу после второго суда, сколько ж позор этот терпеть на плечах?
Пока был один и никто не слышал, Михаил вздохнул тяжело, сокрушенно.
А еще и во Владимире не поздно было участь переменить. Владимирцы и те уговаривали его не ходить кланяться хану. Только ведь в доброте своей ясно ли понимали, чем непоклон тот им самим угрожает? Во Владимире опять провожали всем миром и с горестными слезами. Не в том ли дано ему утешение, чтобы при жизни увидеть, как плачут о нем?
Верхнего Сарая-Берке достигли за три седмицы. А хана-то нет, и город пуст и уныл: то ли на ловы пошел, то ли на Арран[97] хулагидов теснить. Известны ловы-то ханские, не дичь ищет, а примысел. И Костю за собой поволок… Кинулись вдогон что есть мочи, в срок поспеть перед ним явиться. Вот уж гонка-то была! Вся-то жизнь единым гоном прошла — не знал, что и за собственной смертью гнаться придется.
Хана нагнали уж в устье Дона, перед самым Сурожским морем. Такой пышной и великой охоты Михаил не мог и представить. За ханом шел весь многотысячный Сарай: женщины, купцы, оружейники. На походе войсковые туманы хранили порядок, на привалах же, которые могли длиться по воле хана и день, и неделю, и месяцы, степь уставлялась округ, будто единым мановением руки, тысячами веж и шатров. По ночам зарево от костров освещало небо от края до края, и не было пределов татарской силе. Кабы с такой силой теперь шагнули они на Русь, пожалуй, не было б и Руси. Михаил благодарил Господа, что тот удержал его от искушения спасти свою жизнь.
Константин, слава Богу, оказался здоров. Правда, худ. И глаза у него стали травленые. Потеряла Тверь князя. С такими глазами не правят. Как увидел его глаза Михаил, на колени встал перед сыном: прости мне!
А Константин оттого еще пуще смутился, заплакал:
— Ты прости меня, батюшка… Уронялся я перед погаными…
Что ж, и среди князей не всякому князем быть. А сын оттого, что слаб, родительской милости и любви не лишается. Да и можно ли винить его в этой слабости? Человек-то духом не сразу крепнет, а пыток-то, бывает, и крепкие не выдерживают. Вестимо ли, дите морить голодом?..
Тем же днем пошел к царю на поклон. Допустили немедля, без обыкновенных проволочек. Видно, ждал его хан. Однако был хмур, молчал. На Князевы подарки, припасенные для него и для жен его, не взглянул. Да и на самого Михаила не глядел, точно ему было больно глядеть на князя: мол, что ж ты натворил-то, Михаил Ярославич, как же мне теперь с тобой быть-поступать?..
Эх, хан! Велик ты, царствен, но и тебе не тягаться взглядом с тверским князем.
Михаил сразу понял, что его ждет. Только вида не подал, пусть тешится хан, раз еще не натешился. Сладость для него не в том, чтобы убить, на то много ума не надобно, но в том, чтобы прежде низвести, сломить человека и лишь потом раздавить его, да так раздавить, чтобы и рук не запачкать…
Узбек даже про вины не спрашивал, только вздыхал и тягостно качал головой: мол, как же ты мог, как ты мог?
А что ему спрашивать, когда Кавгадый вместе с Юрием в Орду прибежали гораздо раньше его, да не одни, а с целой толпой свидетелей — новгородских, московских и прочих переметных бояр и князей, готовых показать против Михаила все, что понадобится. И то, всем люб не будешь. Пожалуй, не было свидетелей против него лишь из Рязани, Костромы, Владимира да Твери. Ну да и те, которые пришли, довольно хулы и поноса нанесли на великого князя, в том было время убедиться ему на суде. После суда-то, сказывали, бояре те затеяли пир, пили много вина и пьяные затем похвалялись промеж собой да перед Юрием тем, кто какую напраслину возвел на тверского князя. Что ж, пьяному-то и срам в доблесть.
Так что спрашивать у Михаила про вины его у Узбека ни нужды, ни охоты не было.
Спросил лишь мимоходом, пошто, мол, бился с послом моим?
— В битве не отличают послов, — ответил ему Михаил.
Еще спросил, также не глядя на Михаила, вскользь, безо всякого к тому любопытства:
— Зачем жену Юрьеву умертвил?
Так и сказал: не сестру мою, а жену Юрьеву. Знать, ведал зачем?
— Божией волей сестра твоя умерла. В горячке кончилась, — твердо сказал Михаил.
Да что ж здесь и спрашивать и отвечать, когда Юрий на всех углах кричит, что отравил Кончаку Тверской.
Однако милостив лучезарный хан, безмерно милостив! Велел визирям без волока и по всей правде вершить суд меж Юрием и Тверским. Более того, пообещал сам разобраться в их тяжбе. Мол, хан справедлив, без вины не накажет. На тебе, князь, травленую наживку — лови! Коли сумеешь оправдаться, я тебя пощажу. Но, главное, пообещал судить не одного Михаила, а разобрать его тяжбу с Юрием! Милостив, милостив ордынский правитель! Прощаясь, даже взглянул иначе, точно солнце в ненастье лучом обогрело. Истинно, лучезарный!
Тогда до суда отпустили князя. Правда, приставили стражу. С тщанием стерегли, будто око. Молился при них, исповедовался при них, Тайн Святых причащался и то при них, как ни увещевал покинуть вежу ордынцев отец Александр, — одно слово, поганые. Коли что заветное поведать хотел, с Ефремом взглядами перекидывались, благо Тверитин за долгую обоюдную жизнь и без слов князя понимать научился…
Да где ж это он?
С вечера ветер нанес пургу. Мело, как в Твери в феврале. Хотя и пурга здесь иная, и снег как будто другой, и даже светила на землю глядят будто бы по-иному. Солнце, коли взойдет, горит с какой-то неистовой силой, а звезды ночами в небе бархатны и близки, и каждая светит словно тебе одному, и каждая, словно тебе одному, мигает о чем-то неведомом, но простом. На Руси-то, поди, уж зима, Волга от берегов стынет льдом, а тут на горных лугах кони еще щиплют траву. Вольно им на траве…
— Князь, князь… — тихо, задышливо зашептал Ефрем. Он появился так же неслышно, как и исчез. — Бежать, бежать надо, Михаил Ярославич…
— Ну…
— Купил я аланцев, кони готовы, вмиг сулят в горы унести, где Узбек не достанет. Беги, батюшка, Михаил Ярославич!
— Пошто смущаешь меня, Ефрем? — спросил Михаил с укоризной, но тут же улыбнулся преданному слуге. — Ежели один спасусь, какая в том будет слава?
— Что ж слава? Для нас спаси свою жизнь!
— Нет, Ефрем.
— Беги, князь, Богом тебя прошу!
— Молчи, Ефрем. Доселе не бегал и ныне не стану. Князь я, Ефрем, — сжав зубы, точно пожаловался Михаил, прикрыл глаза и отворотил от Тверитина голову. В углу глазницы задержалась, копя влагу, слеза. И скатилась. Одна.
Тверитин, обхватив голову руками, раскачивался в неслышном горестном плаче. Как Глебку, сына, похоронил, плаксив стал Ефрем.
— Ступай, Ефрем, к аланцам-то, отпусти их. Да, слышь, Ефрем, заплати за добро-то…
Сглотнув слезный ком, Тверитин кивнул и слепо, но так же неслышно пошел из вежи.
— Да долго-то не ходи, — попросил его князь. — Томно мне что-то ныне…
Дыхнув в кибитку наружным воздухом, от которого пуще замигал в плошках огонь, войлочный полог бесшумно опал за Тверитином.
…Ну вот, пошто отвлек? Теперь и не вспомнить, что мыслил.
Он пробежал умом по долгому волоку. Выплыл из ума день, когда в первый раз судили его. Сразу-то он тогда еще не смекнул, что нарочно сорок пятого дня дожидался Узбек. Мол, отжил ты свою жизнь, Михаил, по вольному году на день ордынский. Разумеется, никакой тяжбы с Юрием в том суде не было. Да что суд — не суд, а позорище! По Чингисову-то Джасаку — татары сами сказывают — куда как верней судили!
На первом суде в судной кибитке русских было более, чем татар, — все свидетели Юрьевы. Главный средь судей — бек Кавгадый. Бывает ли суд-то, в котором обиженный судьей выступает? У Кавгадыя язык — что ножик его для ногтей — востер и извилист, до всякой грязи достанет. И проку нет, что Михаил ему жизнь сохранил. Да что Кавгадый — татарин, с него и спросить нельзя. Русские, хоть и знал Михаил их злобу да зависть, поразили его. И жалко их, потому как, виня Михаила, себя сами в яму толкали. Не ложь удивила, того и ждал Михаил, но то, как правду в угоду татарам похабно вертели да ставили. Мол, дань с них цареву брал, а хану и вполовину не отдавал, мол, крепость на Твери заложил от Орды, мол, немцев хотел навести на Узбека… И всяк отчитается перед судом, и грамотку свою поносную с поклоном перед Кавгадыем кладет. Широкого вретища[98] для грамоток тех не хватит. Где уж тут отпереться! Да и не отпирался князь — знал, что пустое. Хотел лишь русским-то путь указать, чтобы впредь друг друга ни ради татар, ни ради иных не топили. Ведь эти деньги татарские, что он от дани утаивал, по сути русские деньги, и он их у себя оставлял не ради одной Твери, но и для всей Руси, и так бы оно и было, кабы Русь-то за ним пошла. Много ли ему надо? Вон с собой-то в смерть и золотника единого не ухватишь! Да кабы иначе было, разве стал бы он голову свою под ханский меч подставлять?..
Э-э-э-э… Не верят, смеются… После того суда и пировали они. Во всем: в доблести ли, во лжи ли русский человек до отчаянности, до самого предела дойдет, оттого, знать, и вина ему много надобно. В вине-то нет ни страха, ни совести…
А через неделю, в двадцать восьмой день октября, снова в субботу, на второй суд привели. На том суде, кроме Юрия, русских не было. Одни татары. Доверенные Узбековы. И опять судил Кавгадый. И то же было, что на первом суде, и не то же.
Винили в том, что дань цареву утаивал — причем те, с кем данью той делился Михаил, более иных и злобились. Что ж здесь ответишь? Винили в том, что татар царевых побил. Так побил же… Винили в том, что цареву сестру отравил. Хоть и не доказано то, а что им скажешь? Молчал князь. В том еще винили, что, мол, горд перед ханом и непокорен. Куда уж больше покорства, когда сам за смертью к хану пришел? Ну и дальше всякая лжа…
А в вину записали: «Не последует нравам нашим и неуступчив есть нам, посему достоин быть смерти…»
Господи, коли достоин, отчего не дают?
После того суда Узбек, словно дело сделал, от Дона далее на Арран пошел, через Маджары, через город Дедяков, и Михаила следом поволокли. Тогда же и колоду на шею накинули для вящего позора и унижения. Что ж, и то терпеть надо!
Господи, неизреченно мое терпение, когда же примешь меня? Осилю ли этот путь?
Вон давеча-то, в Дедякове, поставили на торгу коленями на телегу, собрали русских и иных языков людей, сказали бить его плетьми по коленам тем, кому должен он. Никто не ударил. Однако до полудня на торжище в колоде под взглядами простоял. Свидетели-то из тех, что винили его на суде, с горестью на него глядели и отводили глаза, когда Михаил вдруг находил их в толпе.
Господи, прости и им их невольное прегрешение…
А как повели назад в вежу, не стало сил. А Кавгадый ласков, велел стулец принести и отрокам приказал колоду на шее поддерживать, а сам смеется, не унывай, мол, царь поступает так и с родными в случае гнева, но скоро объявит тебе милость, и снова будешь в чести…
Смеется татарин.
Неужто и правда скоро минует неупиваемая чаша сия?
Вот тогда-то, третьего дня, как подняли со стольца отроки Михаила, повели его в вежу, не выдержал он — заплакал. И тот стих псалма Давидова, что Царьгородец ему еще в Твери поминал, не идет с ума.
«Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой! Я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью — и нет мне успокоения… Все, видящие меня, ругаются надо мною; говорят устами, кивая головою: «Он уповал на Господа, — пусть избавит его; пусть спасет, если он угоден Ему…»
Плакал Михаил. И тогда купцы и прочие люди подошли, сказали: «Ступай в вежу, не плачь, ты такой же был царь в своей земле, нельзя тебе плакать…» Вон что…
Господи, Пресветлый мой, ну когда же, когда же минет сия неупиваемая чаша?
«НЫНЕ», — словно пропел женский глубокий голос, в котором была и любовь, и нежность, и вечная-вечная скорбь.
Смилостивилась… Она…
Рядом как-то совсем по-детски задушевно и остатне всхлипнул Ефрем.
Ну, вот… Когда он вернулся?
Михаил Ярославич открыл глаза. Он улыбался.
— Что ж ты плачешь, Ефрем? Вот видишь, я же не плачу…
— Да ить само оно, батюшка, из нутра. — Ефрем беспомощно вскинул руками и тоже хотел улыбнуться.
— Ну вот… — похвалил его князь и кивнул на отрока, сладко спавшего за листами. — Разбуди его, будет.
Ефрем неслышно поднялся с пола, тронулся к отроку.
— Стой, — остановил его князь. — Простимся, что ли…
— Князь…
— Убьют меня ныне, Ефрем. Прости мне…
— Князь!
— Молчи, Ефрем. Все…
Тверитин стирал слезы на бороду, но они еще пуще катились.
— Буди же его…
А на дворе медленно поднималось утро. Ветер давно уже стих. Снега намело много. И был он хоть и бел, как в Твери, но будто непрочен, уже по обилию его было видно, что еще до полудня он стает и Узбеково войско ныне опять не тронется на Арран. Над кибитками, уставленными до самого окоема, до неприступных и льдистых гор, клубились дымы, и муллы пронзительными, громкими голосами будили татар к молитве.
Тихо было в веже, лишь огонь потрескивал в плошках да отрок непроснувшимся голосом читал псалмы по листам:
— «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня; я стенаю в горести моей и смушаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого; ибо они возводят на меня беззакония, и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня; страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня…»
— Да… ужас… ужас… — повторил Михаил. — Сердце смутилось мое. Читай же, читай!
— «И я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы…»
— Вот… И улечу, и почию… — вздохнул Михаил всей грудью.
А на дворе послышался конский топот, голоса.
— Ступай, посмотри, что там? — послал Михаил отрока.
Отрок вернулся тут же.
— Идут, — неслушными губами произнес он.
— Ведаю для чего, — сказал Михаил, и взгляд его засветился той прежней силой, какая в нем одном и была.
Ефрем помог князю подняться.
Русские и татары — было их семеро — в вежу вошли неторопко. Огляделись, признали князя, переглянулись глумливо.
— Бери, Романец, твой князь, — сказал один из татар, видимо, старший среди убийц.
Кудлатый, с грязной башкой, сутулый и длиннорукий мужик хмыкнул и вяло кивнул.
И тут мгновенно, как бывает, может быть, лишь перед смертью, явилась взору князя желтая, пыльная улица старого Сарая-Баты, и он на той улице, и этот мужик, которого когда-то спас, откупив у татар.
Мужик глядел сонно, не узнавая, потом хмыкнул и медленно двинулся на Михаила, раскачивая на ходу плечами и низко опущенными, точно безжизненными руками.
— Нет! — не закричал, а рыкнул горлом Тверитин и кинулся навстречу кудлатому. Но не достал его, другие прежде пронзили его железами. Обвиснув на копьях тяжелым телом, Ефрем все тянулся к сонному мужику, хрипя из последних сил: — Нет, нет… — Пока слово не застыло на губах розово-желтой пеной. Тогда его скинули с копий на земляной пол.
— Падаль, — сонно сказал кудлатый, брезгуя наступить, перешагнул через тело Ефрема и потянулся к князю.
— На тебя уповаю, Господи! — твердо сказал великий князь Михаил Ярославич.
Он хотел осенить лоб, однако рука осеняющая стукнулась о колоду. И тут Романец ухватил князя, с силой бросил его на стену. Не выдержав удара, стена разверзлась. Сквозь пролом Романец выволок князя на снег, пальцами проник под колодой до горла, длинными, крепкими, будто кремень, ногтями разорвал плоть, всунул руку в еще живое, горячее тело и на татарский обычай — так Чингис заповедовал убивать животных — сжал в бессмысленном кулаке сердце своего князя.
В России есть город Тверь. В Москве — Тверская улица.Комментарий
КОСЁНКИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ родился в 1955 году в городе Бор Нижегородской области. Окончил Саратовское театральное училище им. Слонова, затем Литературный институт им. Горького в Москве. Служил в армии, работал дворником, сторожем, актером, режиссером, был рецензентом в московских литературных журналах, редактором, заведовал отделом прозы в молодежном журнале «Мы», был художественным руководителем Калужского театра кукол.
Как прозаик дебютировал на страницах журнала «Октябрь» в 1985 году. В 1989 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая повесть Андрея Косёнкина «Больница», другие повести и рассказы публиковались в столичных журналах и альманахах. Член Союза писателей и Союза театральных деятелей России.
Роман «Крыло голубиное» — первое крупное произведение автора. Этот исторический роман посвящен жизни и смерти князя Михаила Ярославича Тверского, всю жизнь стремившегося к объединению русских земель.
Текст романа «Крыло голубиное» печатается впервые.
Хронологическая таблица
1272 г.
1 ноября — родился Михаил II Ярославич, сын Ярослава III Ярославича от брака с Ксенией Юрьевной, боярыней новгородской.
1278 г.
Великий князь Дмитрий Александрович и ростовский князь Дмитрий Борисович идут на Тверь, но остановлены у города Кашина князем Михаилом. Великий князь вынужден признать независимость Тверского княжества.
1285 г.
По велению княгини Ксении Юрьевны заложен, а в 1290 году освящен собор Спаса Преображения.
1291 г.
В Орде при помощи князя Ногая убит Тула-Буга, а на престол взошел юный Тохта.
1293 г.
Городецкий князь Андрей Александрович поднялся на брата, великого князя Дмитрия Александровича, и навел на Русь татар под предводительством царевича Дюденя.
1294 г.
Смерть великого князя владимирского Дмитрия Александровича. Великим князем владимирским становится его брат Андрей Александрович.
Брак Михаила Ярославича с Анной Дмитриевной, дочерью удельного князя ростовского.
1296 г.
Съезд князей во Владимире.
1298 г.
В Твери сгорел великокняжеский дворец со всею казной и домочадцами. Из пламени спаслись лишь Михаил и его жена Анна.
1299 г.
Рождение у Михаила и Анны первого сына Дмитрия (Грозные Очи).
1300 г.
Съезд князей в городе Дмитрове.
1303 г.
У Михаила и Анны родился второй сын Александр.
1302 г.
Умер бездетный переяславский князь Иван Дмитриевич, завещав отчину московскому князю Даниилу Александровичу.
1303 г.
Умер Даниил Александрович, князь московский.
1304 г.
У Михаила и Анны рождается третий сын Василий.
Умер Андрей Александрович, великий князь владимирский.
1305 г.
Митрополит Максим благословляет на владимирский стол князя Михаила Ярославича Тверского.
Михаил Ярославич в Орде побеждает в споре московского князя Юрия Даниловича и получает ханский ярлык на великое княжение.
Боярин Акинф Великий с тверским войском подступил к Переяславлю и был разбит Иваном Даниловичем.
Михаил Ярославич подступает с войском к непокорной Москве.
Умер митрополит Киевский и всея Руси Максим.
1306 г.
Московский князь Юрий злодейски убивает рязанского князя Константина Романовича.
Рождение у Михаила и Анны четвертого сына Константина.
1308 г.
Михаил вновь подступает к Москве. Юрию приходится признать власть великого князя.
1312 г.
Ссора с новгородцами. Михаил захватывает Торжок, затворяет путь для обозов с хлебом и отворяет его вновь, лишь получив с новгородцев 1500 гривен серебра.
Смерть в Орде хана Тохты. Власть переходит к хану Узбеку.
1313–1315 гг.
Михаил Ярославич пребывает в Орде, чтобы подтвердить свой ярлык на великокняжеское правление у нового хана Узбека.
1314 г.
Брат Юрия Афанасий Данилович в отсутствие Михаила Ярославича приводит полки новгородцев в тверскую землю. Встретил их юный Дмитрий Грозные Очи. Битвы не было.
1316 г.
10 февраля — Михаил Тверской, возвратившись из Орды, после жестокой битвы с новгородцами берет Торжок. Но новгородцы не выполнили условий мира, и Михаил Ярославич вновь идет с войском на Новгород, однако собственная болезнь и мор на лошадей заставляют его отступить — отступление оказалось гибельно.
1317 г.
22 декабря — битва при Бортеневе. Михаил одерживает блестящую победу над соединенным войском ордынского посла Кавгадыя и Юрия. Юрий бежит в Новгород.
1318 г.
Смерть Кончаки (в крещении Агафьи), сестры Узбека, выданной им замуж за Юрия.
6 августа — Михаил выезжает из Владимира в Орду.
6 сентября — Михаил прибывает в ставку хана Узбека.
22 ноября — зверское убийство в Орде Михаила II Ярославича.
1319 г.
Спустя год после смерти тело Михаила Ярославича захоранивают в Спасо-Преображенском тверском соборе.
Примечания
1
Дмитрий Александрович — великий князь владимирский и переяславский, сын великого князя Александра Ярославича Невского. В 1276 году по смерти великого князя Василия Костромского старшинство и владимирский стол перешли к Дмитрию Александровичу как к старшему из сыновей Невского. Стремился усилиться за счет Новгорода и некоторых других земель, но усиление старшего брата стало знаком к восстанию против него со стороны младшего Андрея. Против Дмитрия образовался союз князей, в который входил в том числе и тогдашний тверской князь Святослав Ярославич — и на Русь были приведены Андреем татарские полки. Дмитрий со своей стороны обратился за помощью к князю Ногаю. После воцарения в Орде хана Тохты на Русь по жалобе князей также было отправлено большое войско во главе с Андреем Городецким, Федором Ярославским и царевичем Дюденем. В результате этого набега Андрей взял себе владимирский стол. Дмитрий успел проехать в Тверь, где уже правил Михаил Ярославич, и был вынужден просить мира у брата, в результате чего он вернул себе Переяславль, но не доехал до города — умер по дороге в Волок в 1294 году. Похоронен в Переяславле.
(обратно)2
12 июля, по современному летосчислению.
(обратно)3
Тысяцкий — воинское звание, военачальник над тысячью воинами, полковник; также почетное звание любого посадского, городского жителя, купца.
(обратно)4
Ратибор Клуксович, личность историческая, упоминается в летописи как выбранный по воле Ярослава Ярославича новгородский тысяцкий.
(обратно)5
Князь Андрей Александрович — князь городецкий и костромской, великий князь владимирский, сын Александра Ярославича Невского. Воевал со своим братом Дмитрием, желая получить великое княжение. Чтобы достичь цели, неоднократно приводил на Русь татар. Почти все русские удельные княжества были вовлечены в эту вражду. После смерти Дмитрия, а затем и его сына Ивана, и усиления Московского княжества за счет Переяславля, Андрей Городецкий вступает в распрю с Даниилом Александровичем Московским за переяславский стол. По смерти Даниила Андрей едет в Орду и получает там долгожданный ярлык, но уже не может силой соперничать с сыном Даниила Юрием. В 1304 году Андрей умирает, и смерть его служит знаком к борьбе между Москвой и Тверью.
(обратно)6
Менгу-Тимур (? — 1282) — хан Золотой Орды с 1266 года, внук Батыя. Организовал походы — в союзе с русскими князьями — на Византию, Литву, Кавказ. Менгу-Тимур выдал один из первых ярлыков об освобождении Русской Церкви от уплаты дани в Орду.
(обратно)7
Князь Святослав Ярославич — князь тверской и псковский, сын великого князя Ярослава Ярославича, сводный брат Михаила Ярославича Тверского. Ходил на литвин с Дмитрием Александровичем Переяславским и Довмоитом Псковским. Затем в союзе с Даниилом Московским и новгородцами выступил против великого князя Дмитрия Александровича в союзе с его братом Андреем.
(обратно)8
Столец — сиденье, стул, скамья.
(обратно)9
Торока — ремешок позади седла для пристежки, т. е. как псы на привязи.
(обратно)10
Цитировано по Откровению св. Иоанна Богослова, гл. 4.
(обратно)11
Заутреня — ранняя церковная служба в праздники.
(обратно)12
Имеется в виду князь Ярослав Ярославич, отец Михаила Ярославича, великий князь тверской, сын князя Ярослава Всеволодовича, брат Александра Ярославича Невского. Он стремился усилить Тверское княжество, спорил с Александром Невским за Новгород, а затем с Андреем Ярославичем в Орде за великое княжение. После смерти Андрея в 1264 году получил ханский ярлык. Жил то в Твери, то во Владимире, то в Новгороде. После ссоры с новгородцами навел на Русь татар, но Василий Костромской миром остановил ордынские полки. По свидетельству С. М. Соловьева, Ярославу не удалось усилить Тверь из-за соперничества с Василием и из-за недостатка твердости. После замирения Ярослав поехал в Орду, а в 1272 году на обратном пути умер.
(обратно)13
Гридень — княжий телохранитель, воин отборной княжеской дружины, гвардеец.
(обратно)14
Ярослав Всеволодович — князь переяславский и новгородский, великий князь владимирский, сын великого князя Всеволода III Юрьевича, отец Александра Невского. Заняв великокняжеский стол, направился в Орду к Батыю в поисках мира, а затем в августе 1246 года к хану Куюку (Гаюку), где, по одним свидетельствам, Ярослава отравила на пиру мать хана, по другим, его смерть в Орде была следствием родовых княжеских усобиц. Точных свидетельств о насильственной смерти Ярослава Ярославича нет.
(обратно)15
Поруба — тюрьма, темница, место заключения.
(обратно)16
Здесь: боярские дети, составлявшие окружение князя, его свиту; дружинники.
(обратно)17
Скудельницей называли общую могилу погибших во время мора или по иному несчастному случаю или общую могилу вне святой земли, где погребали самоубийц, а также кладбище вообще, место захоронения.
(обратно)18
Опонник — ткач или делатель попон.
(обратно)19
То есть на крест во временном, недостроенном здании.
(обратно)20
Батый, или Баты (1208–1255), — монгольский хан, внук Чингисхана, с 1243 года хан Золотой Орды. Предводительствовал общемонгольским походом в Восточную и Центральную Европу (1236–1243). Земли Восточной Европы и Руси были полностью разорены. Этот поход считается началом монголо-татарского ига.
(обратно)21
Ногай (?— 1300) — татарский правитель, князь рода Джучиева и полководец со времен Берге, хан Ногайской орды. Владел территорией от Дона до Дуная. Давал войско русским князьям. Имел большое влияние в Золотой Орде, выдвигал на ханский престол своих ставленников, но в конце концов в борьбе с ханом Тохтой потерпел поражение.
(обратно)22
Мера земли под пашню, в разных местах разная, возделанные поля.
(обратно)23
Лопотина — верхняя старая и изношенная одежда, ветошь.
(обратно)24
Азям — длиннополый кафтан, шуба, тулуп.
(обратно)25
Василий Ярославич — князь костромской и великий князь владимирский, сын великого князя Ярослава Всеволодовича. Соперничал с Ярославом Ярославичем Тверским. Миром остановил татарскую рать, которую Ярослав вел на Новгород. После смерти Ярослава в 1272 году получил великое княжение. Воевал новгородские волости. Княжение его длилось недолго, в 1276 году он умер и погребен в своей отчине, в Костроме.
(обратно)26
Тула-Буга — хан Золотой Орды, сын Менгу-Тимура. В союзе с Ногаем и русскими князьями совершал походы в Литву и Польшу. Свергнут и убит ханом Тохтой.
(обратно)27
Баскак (тюрк.) — представитель ордынского хана в завоеванных землях, на Руси существовали примерно со второй половины XIII века до середины XIV века. Осуществляли контроль за местными властями, убийство такого представителя грозило ссорой с ордынским ханом.
(обратно)28
Мисюрка — железный полусферический шлем с кольчужной железной же сеткой-бармицей для защиты шеи.
(обратно)29
Нукерами называли дружинников на службе у монгольских князей и знати в XII–XIII веках, позже это слово употреблялось в значении вассал, слуга.
(обратно)30
Здесь: чулок.
(обратно)31
То есть половину мясной туши.
(обратно)32
Джучи (? — ок. 1227) — монгольский военачальник, старший сын Чингисхана, участник завоевания Китая и Средней Азии. С 1224 года — хан улуса Джучи, наследственного владения монгольских ханов из рода Джучи в западной части монгольской империи, с 1240 года его стали называть Золотой Ордой.
(обратно)33
Джасак (или Ясак) свод военных и гражданских законов.
(обратно)34
Иллирия — древнее государство на территории Хорватии и Славонии. Далмация — историческая область в Югославии.
(обратно)35
По современному летосчислению, 21 ноября.
(обратно)36
Тохта (? — ок. 1312) — хан Золотой Орды, значительно укрепивший ханскую власть, боролся с Ногаевой ордой и в битве победил Ногая, неоднократно организовывал татарские походы на Русь.
(обратно)37
В битве на реке Калке 31 мая 1223 года татары нанесли сокрушительное поражение русским и половецким войскам.
(обратно)38
Михаил Всеволодович (1179–1246) — князь черниговский и новгородский, сын Всеволода Святославича Чермного. С 1238 года — великий князь-киевский. Приехав к Батыю просить себе ярлык на Чернигов, никак не хотел поклониться изображению умершего Чингисхана; поддержал его в том боярин Федор, повторив князю увещевания духовника не губить души идолопоклонством. По велению хана оба приняли мучительную смерть, причем палачом князя летопись называет русского отступника путивльца Домана.
(обратно)39
Религия и мифология древнемонгольских степных кочевников складывалась под влиянием относительно устойчивых государственно-племенных шаманистских культов. Монголы поклонялись небу (Тенгри), в монгольских источниках именуемому синим или вечным, и земле. Небо почиталось как верховное божество — безначальное, несотворенное, создатель всего сущего, владыка мира. Оно определяет судьбы человека, санкционирует государственную власть. Важное место в религиозных верованиях занимали духи предков, их обожествление, наиболее ярким примером тому служит культ Чингисхана и его семьи. Чингисхан был объявлен великим предком рода монгольских каганов (великих ханов), ему было установлено святилище под названием «Восемь белых шатров», его имя упоминалось в религиозных призывах и жертвоприношениях.
(обратно)40
Колты — серьги, подвески.
(обратно)41
Повалушка — жилая комната.
(обратно)42
Кафа, или Кафф — название современной Феодосии со второй половины XIII века.
(обратно)43
Берке (1209–1266) — хан Золотой Орды, младший брат Батыя. Первый хан, принявший ислам. При Берке проведена перепись русских земель для обложения данью (1257), а Золотая Орда фактически обособилась от Монгольской империи.
(обратно)44
Александр Ярославич Невский (1220–1266) — князь новгородский в 1236–1251, великий князь владимирский с 1252 года, сын великого князя Ярослава II Всеволодовича. Один из самых знаменитых князей русской земли. Победами над шведами в 1240 году в Невской битве и над немецкими рыцарями в Ледовом побоище в 1242 году обезопасил западные границы Руси. Вел долгий политический диалог с Золотой Ордой, при нем была проведена перепись русских земель, причем деятельность князя в этом направлении сейчас оценивается неоднозначно. Умер от болезни по пути из Орды.
(обратно)45
«Число» система налогообложения в XIII–XV веках на подвластной Монгольскому государству территории, в том числе и на территории Руси. Основана на переписи (исчислении, «числе») населения. Налоги взимались поголовно, пропорционально имуществу владельца. Суммы дани колебались в зависимости от ханской милости, но были не ниже десятины. Лишь постепенно, с ослаблением Орды, сумма дани стала уменьшаться.
(обратно)46
Угедей (1186–1241) — монгольский великий хан, с 1229 года правитель Монгольской империи, третий сын Чингисхана и его преемник. При Угедее было завершено завоевание Северного Китая, завоеваны Армения, Грузия и Азербайджан, а также предприняты походы стремившегося к самостоятельности Батыя в Восточную Европу.
(обратно)47
Боголюбский Андрей Юрьевич (1111–1174) — князь суздальский, с 1157 года великий князь владимирский, сын Юрия Долгорукого. Сделал столицей город Владимир, в 1169 году завоевал Киев, стремился к единодержавию. Против него составился боярский заговор, и Андрей был убит боярами в своей резиденции в с. Боголюбово.
(обратно)48
Къл-татары, или къл-люди — рабы.
(обратно)49
Арька — крепкая монгольская водка, выгнанная из кислого молока.
(обратно)50
Черемисами до 1918 года называли марийцев.
(обратно)51
Булгары — народ тюркской языковой группы, живший на Средней Волге и Каме, столица — город Булгар (ныне развалины) близ Казани.
(обратно)52
Коротайкой называли укороченную верхнюю женскую одежду.
(обратно)53
Ряска — тверской девичий головной убор.
(обратно)54
Кортель — женская верхняя меховая одежда, понева — юбка.
(обратно)55
Ферязь — длинная верхняя одежда.
(обратно)56
Русский свадебный обряд делился на две части: церковную (венчание) и семейную «веселье».
(обратно)57
Автор имеет в виду знаменитый памятник древнерусской литературы XIII века «Моление Даниила Заточника», вопрос об авторстве этого произведения спорен. Из послания известно лишь, что некий молодой человек разгневал князя Юрия Владимировича Долгорукого, был заточен на озере Лаче и просил князя о милосердии. По сильным высказываниям в адрес женщин и приближенных к князю людей можно судить о том, кого Даниил считал виновником своего несчастья.
(обратно)58
Мовниками называли банщиков, накрачеями — музыкантов.
(обратно)59
Перепеча — печенье.
(обратно)60
Мощевиком называли узелок с чудотворными иконами, который носился вместе с нательным крестом.
(обратно)61
Издолье — подушная пошлина в «четверть хлеба».
(обратно)62
Даниил Александрович (1261–1303) — князь московский (с 1276 г.), сын Александра Ярославича Невского. Положил начало росту Московского княжества, присоединил Коломну, по завещанию Ивана Дмитриевича Переяславского получил во владение и присоединил к Москве Переяславль-Залесский.
(обратно)63
Бек-нойон — монгольский княжеский титул.
(обратно)64
Сурожское море — Азовское море, на его берегах стояла Ногайская орда.
(обратно)65
Романец был слугой князя Юрия Даниловича Московского, личность историческая, летопись упоминает его имя в связи с убийством Михаила Ярославича Тверского. По свидетельству С. М. Соловьева, некий Романец ударил Михаила в ребро и вырезал сердце.
(обратно)66
Корстами на Руси называли гробы.
(обратно)67
Алпаут — татарин благородного рода.
(обратно)68
Реальный исторический факт, зафиксированный в летописи. Имеются в виду Олег, князь рыльский и волгорский, и Святослав, князь липецкий, которые были родственниками. Сначала дело о ссоре с Ахматовой слободой решилось в пользу русских князей: хан Тула-Буга разрешил им наказать Ахмата за разбой. Но Ахмат пожаловался Ногаю, и тот вмешался в ссору. В результате князей оклеветали перед Тула-Бугой, Олег бежал в Орду, хан прислал войско, ссора усугубилась, и Олег убил Святослава. Место последнего занял брат Александр, пошел с дарами к Тула-Буге и, вернувшись с войском, убил Олега и двух его сыновей.
(обратно)69
То есть единым правителем, царем.
(обратно)70
Реки Днепр и Днестр.
(обратно)71
По современному летосчислению, 27 сентября.
(обратно)72
Огланы — военачальники.
(обратно)73
Раменьем называли лесной клин, лес, чернолесье.
(обратно)74
Обаянник — заклинатель змей, укротитель хищного зверя.
(обратно)75
То есть 11 сентября, по современному летосчислению.
(обратно)76
Юрий Данилович (конец 70-х — нач. 80-х гг. XIII века — 1325 г.), с 1303 года, после смерти отца, князь московский. Не имея на то прав по старшинству, боролся силой за великокняжеский стол с Михаилом Тверским. Женитьбой на сестре хана Золотой Орды Узбека значительно укрепил свою власть, получил ярлык на великий владимирский стол. Убит в Орде сыном Михаила Ярославича Дмитрием Тверским Грозные Очи. Иван I Данилович Калита (? — 1340) — князь московский с 1325 года, с 1328 года великий князь владимирский. Значительно усилил Московское княжество, заложил основы политического и экономического могущества Москвы. Добился у Золотой Орды права сбора монгольской дани на Руси. При Иване I резиденция русского митрополита была перенесена из Владимира в Москву.
(обратно)77
Акинф Ботрин, личность историческая, боярин московский и тверской. После ссоры с Иваном Даниловичем отъехал в Тверь. Решив отомстить московским князьям, три дня с тверским войском держал в осаде Переяславль, где заперся Иван, но на четвертый день явился на выручку Родион Несторович из Москвы, зашел тверичам в тыл. Иван Данилович сделал вылазку, и тверичи потерпели сокрушительное поражение.
Родион собственноручно убил Акинфа и преподнес его голову на копье князю Ивану.
(обратно)78
Обельными называли полных холопов в Древней Руси. Такими холопами становились в результате купли, женитьбы на рабыне или закупа в наказание за побег.
(обратно)79
То есть от хранилищ пивных и съестных припасов.
(обратно)80
Камилавка — головной убор, высокий, расширяющийся кверху цилиндр без полей, почетная награда священников; клобук — покрывало поверх камилавки. Панагия — нагрудное украшение высших иерархов Церкви.
(обратно)81
Доличье — фон иконы, все, кроме самого лика.
(обратно)82
Цитировано по Библии. Книга Пророка Аввакума, гл. 3, стих 16–19.
(обратно)83
Данила Писцов — личность историческая. Упоминается в новгородских летописях как тайный слуга Михаила Тверского. Убит новгородцами по доносу своего же слуги, которого он отправлял с поручениями.
(обратно)84
Беклерибек (князь князей) при ордынском хане распоряжался военными делами, а старший визирь — делами гражданскими.
(обратно)85
Сыновцами назывались младшие князья, вассалы, а также и племянники.
(обратно)86
То есть знаменитыми, известными воинами.
(обратно)87
Амартол — византийский летописец, автор многочисленных хроник, в которых находили себе пример для подражания русские летописцы. На его сюжеты выполнены некоторые древнетверские миниатюры.
(обратно)88
Колода — в древнерусском счете название «бесконечного числа».
(обратно)89
Имеется в виду Юрий Львович, князь галицкий и холмский, сын князя Льва Даниловича. Даниил Романович Галицкий (1201–1264), князь галицкий и волынский, — самый известный из галицких князей. Он объединил галицкие и волынские земли, поощрял строительство городов, ремесла и торговлю. В 1254 году получил от Римского Папы титул короля.
(обратно)90
Петр (? — 1326) — русский митрополит с 1308 года. Расположение к нему московских правителей способствовало неприязненному отношению к Петру Твери и ее епископа Андрея. Ставленник Михаила Ярославича Тверского на митрополичий престол не был утвержден, и тверской епископ Андрей пытался обвинить Петра в церковных нарушениях, следствием чего явился устроенный в Переяславле суд. Но при энергичной поддержке московского князя Петр был оправдан, московские князья завязали тесный союз с митрополитом, в результате этого митрополичья кафедра была переведена из Владимира в Москву. Святой Петр умер в Москве и погребен в заложенном им первом каменном московском храме Успения Богородицы.
(обратно)91
Узбек (? — 1342) — хан Золотой Орды, внук Менгу-Тимура. За время своего правления укрепил ханское владычество, ввел ислам в качестве государственной религии. По отношению к Руси проводил политику натравливания князей друг на друга, в 1327 году подавил возмущение в Твери.
(обратно)92
Ушкуйниками (от (древнерусс. ушкуй — судно с веслами) в Новгородской земле в XIV–XV веках называли членов вооруженных дружин, которых набирали бояре для захвата колоний на севере и торгово-разбойничьих экспедиций на Волгу.
(обратно)93
Имеется в виду Тит (39–81), римский император с 79 года, из династии Флавиев, сын Веспасиана Флавия. В 70 году в Иудейскую войну взял и разрушил Иерусалим.
(обратно)94
Имеется в виду Фока Каппадокиец (?—610), центурион, возглавивший восстание византийских войск и захвативший императорскую власть в Царьграде. С 602 года — византийский император. Проводил политику террора, низложен и казнен Ираклием.
(обратно)95
По современному летосчислению, 22 декабря.
(обратно)96
Веже — кибитке.
(обратно)97
Арран — область на территории современного Азербайджана.
(обратно)98
Вретище — большой мешок из грубой ткани.
(обратно)





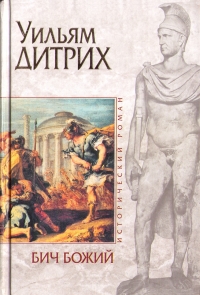

Комментарии к книге «Михаил Тверской: Крыло голубиное», Андрей Андреевич Косёнкин
Всего 0 комментариев