Обгоняя пехоту, бортовушка ефрейтора Вани Изюмова первой из всей батареи проскочила околицей только что отбитого у фрицев городка. С ходу вынесла пушку на голый бугор. Выскочив из кабины потрепанного "УралЗиса", Изюмов восторженно закричал:
— К бо-о-ою!
Солдаты рисково — прямо с машины в сугроб — побросали ящики со снарядами, толкаясь, задирая полы промерзших, задубелых шинелей, посыпались через борта в сухой поскрипывающий снег. — Живее давай! Живе-е-ее! — командовал Ваня. Орудие вмиг отцепили. — В валун… В валун упирай! Гони! — махнул он рукой водителю тягача.
Машина завязла в снегу. Ревела.
— Ну, рр-а-азом! — сипло вырвалось из застывшей Ваниной глотки. Плоской, тощей спиной он первым, за ним полдюжины занемевших от стужи солдатских плеч поддали в борта. Машина рванулась, взметая сугробы, понеслась под уклон.
Не успел Изюмов вскинуть бинокль, а уж наводчик, такой же, как и он, молоденький, но покрупнее, покрепче — Олеська Сальчук, доложил:
— Первое готово!
«Да нельзя же… Взводный… Матушкин… Он же только по танкам велел… Только по танкам! Зря орудий не обнаруживать! — Сердце у Вани сжалось. Изможденное лицо его в крапинках ржавых веснушек еще пуще вытянулось и побелело. Он замешкался было. А внизу по снежной, багряной от рассветной зари целине драпали немцы, норовя укрыться в лесопосадке. — Уйдут же… Скорее! Уйдут!» И вдруг решившись, плюнув на все, Изюмов отчаянно взвизгнул:
— Осколочным!
«Может, зарыться?.. В снег хотя бы… Сеткой, что ли, хотя бы прикрыть? — мелькнуло. Но подносчик снарядов Семен Барабанер уже кинулся к ящику. — А, что будет — то будет», — сдался охваченный лихом Изюмов. — Живе-е-ей! — опять взвизгнул он. Семен заметно хромал — на пятке его наливался волдырь. Но Изюмов совсем голову потерял, не хотел, да и не мог ничего уже замечать.
— Ну, чего там? Поворачивайся! — с раздражением вырвалось у него.
Но Семен подхватил уж осколочный, ринулся к пушке, корчась от боли, воткнул его в ствол. — Выше — семь! — Ваня голову запрокинул, вздернул кулак. — Беглым! — Съехал на затылок треух, рыжеватая пакля волос свисала на лоб, на глаза. От стужи и возбуждения они влажно блестели. В эти мгновения и Ваня Изюмов, и Олеська Сальчук, и Семен Барабанер, да и все из первого расчета первого взвода истребительной батареи капитана Лебедя действовали так, будто двигал ими сейчас только яростный и лихой азарт. Господи, да и как он мог не пьянить этих ребят? Как? Пока только враг давил, только он теснил, а тут они колотили его, ему поддавали под зад: вышибли с предгорья, загнали в котел и теперь сжимали, сжимали кулак.
— Ого-о-онь! — рассек рукой воздух Ваня Изюмов. Пушка грохнула. Резво подпрыгнув, опустилась на место. Солдаты вновь зарядили ее.
— Огонь!.. Огонь! — командовал Ваня. И каждый раз, когда под бугром в гуще немецких солдат взметался клуб дыма, снега, глины и еще чего-то, Олеська Сальчук радостно вскидывал голову. На смуглом лице его под темным пушком белели свежим штакетником зубы, горели глаза. А замковой Марат Пашуков, рыжеватенький, светленький, также крапленый веснушками, как и ефрейтор Изюмов, но не щупленький, а ладненький и литой, при каждом удачном выстреле весело присвистывал. И все остальные будто не долг выполняли, не службу несли, а тешились, сатанея от этой, казалось, не дела — игры. И не сразу понял Изюмов, весь расчет не сразу понял, что вдруг стряслось: полетели какие-то черепки, в щеку Ване брызнуло теплое, липкое. Взмахнув руками, Олеська Сальчук, только собравшийся нажать на спусковой рычаг, рот раскрывший кричать, странно дернулся, обмяк и словно подкошенный повалился под орудийный замок. — Ложи-и-сь! — захолонув от ужаса, вскрикнул ефрейтор.
Марат Пашуков не успел укрыться за щит, охнув, тоже стал оседать.
Когда отхлынул первый испуг, Ваня, ошалело тараща глаза, рот разинув, оторвался от снега. Знал, что рискованно так, что смерть за щитом гуляет сейчас. Но иначе не мог: должен был взглянуть на упавших солдат.
У наводчика Сальчука, только сейчас оравшего белозубо, восторженно трясшего чубом, не было уже ничего — ни чуба, ни рта, ни зубов. Осталась от головы лишь дымящаяся кровавая чаша — безобразная, изодранная по краям…
Тошнота подступила к Ваниной глотке, склизкие брызги гадко опалили лицо. Морщась, он зачерпнул горстью снег, бросил на щеки, на лоб, на глаза, затер лицо рукавом.
На спине Пашукова дымилась дыра. Уже дымился, краснел под ним и сугроб. Падая, Пашуков подвернул руку, и она теперь торчала неестественно жутко: как, страдая от боли, не смог бы держать ее немертвый — живой.
И, позабыв об осторожности, Ваня вскочил, потянул замкового к себе. Нет, не живой. «У-у-у!.. Я… Я это все! — так и полоснуло безмерной виной ефрейтора Ваню Изюмова. — По танкам приказано было… Только по танкам!.. А я?.. Нарушил… Ох, не выполнил я приказа!
Хотя бы зарылся, замаскировался… На голом бугре…
Ох и дурак же я, ох и дурак!»
Немецкий снайпер спешил: следующая пуля, скользнув по орудийному металлу, не хлопнула, как положено было ей, разрывной, а, тоненько, сладко запев, унеслась, чудом оставив Ваню в живых.
Обычно в позиционной войне обнаружить "кукушку" непросто. Но эта была "проходной", сидела уже не в насиженном ею "гнезде", а там, видать, где удалось ей пристроиться. И два следующих выстрела выдали ее:
Семен Барабанер по приказу ефрейтора высунул над щитом на стволе автомата ушанку, а Ваня, лежа, высматривал "кукушку" в бинокль. Бил снайпер из церквушки на погосте.
Орудие доворачивали ползком, не высовываясь из-за щита, упираясь ногами в валун.
Заряжающего тоже убило, поэтому наводчика Сальчука, как и положено, самостоятельно, без особого распоряжения командира орудия уже сменил подносчик снарядов Семен Барабанер. Болезненно бледный — волдырь на пятке давал себя знать, — он уже припал глазом к окуляру прицела. Но Ваня его оттолкнул.
— Снаряды! — гаркнул он очумело Семену. — С Огурцовым! Живей!.. Орешный, к замку! — Сам рванулся к прицелу, заработал штурвалами. — Фугасным! — выкрикнул сипло.
Яшка Огурцов, по прозванию Пацан, ящерицей юркнул к ближайшему ящику со снарядами. Напарник Степана Орешного, второй правильный Тимофей Чеверда, почти лежа, вырвал фугаску из ящика. Пацан ее подхватил. Костлявые руки Семена ему помогали. Ползком вдвоем с Пацаном Барабанер подтащил фугаску к Орешному. Степан Митрофанович, старше и крепче их обоих, один вогнал ее с лязгом в камору.
Цель — крайнее справа окно то ли церквушки, то ли часовни у ближнего края погоста — Ваня поймал в перекрестие сразу. Задохнулся на миг, хватил во все легкие воздуху. Сам себе крикнул:
— Огонь! — и сам же нажал на рычаг.
Выстрел — кто раньше?.. Они или снайпер? — так и отдался в солдатских сердцах, громом весенним прогрохотал.
А Ваня не ждал.
— Фугасным! — яростно крикнул опять. Грохнуло снова.
— Фугасным!.. Фугасным! — командовал Ваня. Орешный вгонял в камору снаряд за снарядом, Пацан с Семеном их подносили, Чеверда подавал, а Ваня, выцелив, нажимал на рычаг.
Ствол орудия раскалился, снег под ним потемнел. А над церквушкой уже поднялся столб дыма, снега и пыли — в стене зияла дыра.
«Да это же храм! — опомнился Ваня. — Кладбище… Кладбище там! Причем тут могилы, церковь причем? — Опешил. Отпрянул от "панорамы", сорвал ладонь с рычага. Схватился за голову. — Да что это я? Ведь мы же… Да первым же снарядом, наверное, этого гада с камнями смешало». Оглянулся растерянно на расчет. Семен с Пацаном тащили уже очередную фугаску. — Отставить! — приказал испуганно Ваня. Вырвался хрип из груди. Откашлялся. Выкрикнул внятней: — Конча-а-ай! Разряжа-а-ай!
Услышав приказ, Степан Митрофанович, хотя и разгоряченный, увлеченный стрельбой, сразу рванул рукоятку замка к себе. Раскаленная гильза со звоном вывалилась на утоптанный снег. Он зашипел. А Ваня, опершись о замок, стал подыматься с колена. Вырос по грудь над щитом. Все смотрел и смотрел на изрытый снарядами храм. И вдруг как садануло его. Со страхом оглянулся назад. Господи, нет, не бред это, не сон. Ой не сон! Вот они, Пашуков и Сальчук, за станиной, в снегу, накрест лежат — один на другом. Стыло, колом уже торчали руки Марата, а ноги Олеськи закоченели крючком. Левый глаз и щека у Вани так и задергались, перекосило уродливо рот. Нездоровая эта гримаса впервые поразила Ваню лет в семь. Потом постепенно прошла. Правда, с уходом на фронт левый глаз и щеку у Вани опять нет-нет да и начинало легонько подергивать. И вот вдруг снова уродливо, дико исказило Ване лицо. Номерные, кто где стрелял, так и стояли, растерянно и виновато глядя на командира, на то, как, сгорбившись, опершись о гребень щита, он корчил гримасы — угрюмые и жуткие, — будто обращенные к убитым Пашукову и Сальчуку.
— Я… Ой, я это все! — сорвалось вдруг с искривленных Ваниных губ. Дрогнул подбородок. Ваня сжался весь. Подозрительно влажно заблестели глаза. Видно было, как он изо всех сил старался, чтоб не заплакать. Но слезы, скопившись, потекли по щекам. Ваня их поспешно слизывал с губ. Еще сильнее напрягся. От натуги, от горя глаза его, все еще доверчиво-детские, чистые, как-то сразу расширились, застекленели, казалось, они вылезают из орбит. Закоченел истуканно Ваня Изюмов. — Расстреляйте меня, — попросил неожиданно он. Мутно и тупо уставился на трупы. — Прошу… Ой, прошу вас, ребята! Не мо-о-о-гу… Ой не могу! — Ваня затрясся. Голову уронил, стиснул ладонями. На колени упал — едва лицом в сугроб не уткнулся. И зарыдал. Орешный, самый старший в отделении и самый, пожалуй, крепкий и сильный, первым бросился к командиру. Подхватил его, стал подымать. Подскочили другие. — Будя, будя, — успокаивал Ваню Степан Митрофанович. Только это он и твердил, не знал, видать, что тут еще можно и нужно сказать. Рябое лицо его насупилось и побурело, горько, чуть презрительно искривились опеченные стужей губы, наморщился лоб. — Будя, будя… Вам говорят! — твердил он, гладя ефрейтора по спине.
Ваня, почти повиснув на нем, беспомощно и откровенно всхлипывал и размазывал по лицу слезы задубелым шинельным рукавом.
— Ну все, будя! — наконец потребовал Степан Митрофанович. — Нельзя так. Право слово, нельзя. Изведете себя. Да и нас… Все! Хватит! — и как следует тряхнул командира.
— Расстреляют меня. Все равно расстреляют, — выдавил Ваня. — Или в штрафбат.
— Еще чего. Расстреляют! Штрафбат! — возмутился Орешный. — Тогда зараз и нас. Мы тута все…
— Нет, не все. Командир… Кто командир? — распустил Ваня дрожащие губы. — Я… Я командир. Я нарушил. Не выполнил строгий приказ.
Орешный обтер стылой, посиневшей ладонью свое рябое лицо, уставился сочувственно на отделенного. Увидев, как тот взялся не то поправить, не то скинуть с плеча "пэпэша". Насторожился. Не думая ничего такого, просто из какого-то тайного, неосознанного опасения схватился за кожух ствола.
— Давайте… Давайте сюда, — мягко потребовал он.
— Вы что? — опешил Изюмов. — Орешный… Верните… Вы что?
— Вернем, вернем. А как же, — закидывая автомат подальше за свою широкую спину, успокоил отделенного правильный. — Вернем. Вот так, — ухватился он за ремень. — Не серчай, командир.
«Какой я теперь командир? Только назначили — и вот…» оглянулся незряче Изюмов, все еще всхлипывая. Невидящим взглядом снова уткнулся в тела. Левый глаз и щека его снова безобразно задергались. Расчет, замерев, молча ждал.
Наконец отделенный повернулся — как-то неживо, все так же тупо уставясь себе под ноги, в одну точку.
С минуту еще постоял так. Шагнул механически, отрешенно. Еще шаг. Еще… И вдруг как бы рванулся. Сорвался. И побежал. От орудия, от расчета. Под гору, прочь побежал.
— Сто-ой! — заорал пораженный Орешный. — Вы куда?
Ступив на след от машинных колес, Ваня припустил пуще.
— Стой, тебе говорят! Отбой, ребята! — обернулся к расчету рябой. — Живо отбой! Вниз, ребята, орудие! Вниз! Под бугор! А я щас, — сплюнул с досадой и кинулся за Изюмовым. — Сто-о-ой! — орал он. — Стой, командир!
Потерявший голову ефрейтор бежал проворней, чем зрелый коренастый боец.
— Пушку! Огневую бросать! Да за это… Да за это тебе на самом деле расстрел! — пытался достать, пронять его словом правильный. — Стой! Стой, тебе говорят! Да ты что?.. Дурак, что ли, ты? Очумел?
Взводный — ему доложили уже — прибежал, когда пушка и убитые были внизу, под бугром.
— Как же так? Мать твою!.. — накинулся он на сидевшего на станине отупелого ефрейтора.
— Дра-а-апали… Дду-у-умал… — залепетал Ваня.
— Думал!.. Чем? — простонал, сжав кулаки, лейтенант.
Ваня и пулю б сейчас принял… как избавление бы принял, как законную справедливую кару, а не только удар кулаком. Помертвел.
А Евтихий Маркович Матушкин уже ревел, скрежетал зубами, тряс кулаком. И так диковатый — потомственный таежник, охотник-промысловик, в последние годы, по сути, настоящий бирюк, без дома, без семьи — он сейчас совсем озверел, так и жег ненавидящим взглядом погубившего двух бойцов командира орудия. Чуть-чуть еще, на тонюсенький волосок, скажи еще Ваня хоть слово, не так скажи что-нибудь, и разъяренный, с набухшими кулаками Матушкин от угроз перешел бы наверное, к действиям.
— Какое, а? Наш взвод… Твой расчет… Какое, а, получили задание? — сверкал он темными раскосыми глазами.
Ваня совсем вобрал голову в плечи, ссутулился, сжался. Он отчаянно и с надеждой уставился на лейтенанта.
— На самый, значит, пуп, гад! На голый бугор! — отвел руки за спину Матушкин. Челюсть поджатая, лоб с боков приплюснутый, чуб из-под шапки черный и жесткий. — А в башке-то есть у тебя что? Чему я всегда вас учу? В землю, в землю! По самую шею!
Маскировка — вот что прежде всего! А приказ?.. Только по танкам! По танкам! Вот для чего нас сюда!
— Но они, — сорвалось еле слышно с Ваниных губ, — они удирали.
— И… с ними! Пускай себе удирают! — взревел лейтенант. — Та-а-анки! Наше дело — по крайности, здесь, сейчас — выжидать скрытно танки! Ты что, забыл, что такое приказ? — Мосластые грубые пальцы его сжались снова. Кулак застыл над Ваней. Потом рука нервно вцепилась в ремень, поползла по тулупчику, возбужденно оправляя его. Коснулась нечаянно кобуры. Застыла на ней. Матушкин даже покосился невольно на кобуру, будто только сейчас открыл, что она есть. Сапнул, мотнул головой. И, сам еще не зная зачем, стал расстегивать кобуру, доставать пистолет. Трофейный новенький "вальтер" с блестящей стальной накладкой на рукоятке вылез наружу, стал подыматься, зацепился стволом за Ванину грудь.
«Здесь на фронте, на передовой, за неподчинение, невыполнение приказа, за самовольный уход с огневой. Боже, — мелькнуло у Вани, — здесь командиру дано и казнить». Сердце рванулось, все опустилось внутри.
А Матушкина успело полоснуть зловещее, дедом, отцом, всей таежной промысловой жизнью в родном Приморье внушенное, прочно засевшее в нем опасение, что раз в году ружье, да и всякое другое оружие может ни с того ни с сего стрельнуть и само. Указательный палец невольно отскочил от спускового крючка, а большой уперся в предохранитель. Ствол пистолета дрогнул. На мгновение застыл. Стал уже было клониться к земле. Но тут взгляд взводного вновь уперся в тела: в дыру рваную на спине Пашукова, в кровавую чашу вместо головы Сальчука. «Чуть всех не сгубил. Всех! — ненавидяще впился он снова взглядом в Изюмова. Шрам повыше скулы, под виском, лилово набряк, кровью налились глаза. Матушкин весь задрожал, не владея больше собой. Его всего захлестнули ненависть, гнев. — Ну, запомнишь, гад, у меня!» И не зная зачем… то ли, чтобы неслуха проучить, то ли… Да, скорее всего, чтобы дать вылиться бешенству, он направил "вальтер" в землю, тронул чеку, нажал на крючок.
Неожиданный выстрел в стылом воздухе грохнул, как из пушки. Брызнул снег из-под Ваниных ног. Солдаты вздрогнули, застыли испуганно.
И подумать Ваня ничего не успел, охваченный ужасом, повалился назад. Хлынула темень в глаза.
— Вон! — гаркнул над ним лейтенант. «А куда вон? — сообразил он тут же. — Куда? Его же место здесь, у пушки».
Ваня стал подыматься. Шатаясь, встал на ноги. Ухватился за щит.
— Под трибунал! — донеслось до него. Почувствовал, как левый глаз и щека у него снова задергались.
А Матушкин… Хоть и взбешенный, ослепленный, испугался, растерялся на миг. «Довел… До чего довел! — сжал челюсть и пальцы. — А сам-то ты? Сам?»
Пистолет на морозе жег ему руку. Он брезгливо поморщился. Услышал сзади знакомый треск выхлопной трубы. Оглянулся с опаской. Так и есть, ко взводу, прошибая носом сугробы, продиралась полуторка. Матушкин стал торопливо заталкивать пистолет в кобуру.
Открываясь, лязгнула дверца кабины. С подножки в снег неуклюже слез командир батареи в каком-то помятом тулупе, под ним круглился живот. Не кадровый, сразу видно. На гражданке Леонид Илларионович Лебедь был учителем, в полк из запаса пришел, недавно ему присвоили звание капитана.
Под тяжелым, нахмуренным взглядом комбата взвод весь притих. Присмирел, подтянулся и Матушкин.
А Ваня еще больше, до предела съежился, даже слегка задрожал.
Комбат снял шапку. На широкий лоснящийся лоб его свис седеющий чуб. Рукой в грубо вязанной варежке откинул его. Стал в упор глядеть на убитых.
— Накройте, — поморщился. — Хоть шинелями, что ли, накройте. — Простуженно бухнул в кулак, надел шапку. — А теперь докладывай, лейтенант.
— А чего тут докладывать? — сдерживая еще совсем улегшийся гнев, покосился Матушкин на виновного. — Оторвался от меня. На голый бугор, гад, залез. Это же надо, прямо на выставку! У-у! — снова вскинул он на Ваню кулак.
— Ладно-ладно, кончай! — недовольно остановил его Лебедь.
— Да как тут спокойно? — вырвалось в сердцах у приморца. — Представляешь? Мало того, что залез на голый бугор, так он… Представляешь, не зарылся, не замаскировался. И давай в открытую по пехоте! Вот снайпер их и снял, — опять метнул он гневный взгляд на Изюмова. — А мог бы и всех. Всех, до единого! Как рябчиков, как куропаток!
— М-да, наворотил, — согласно прохрипел капитан. — Ему, значит, приказывают, а он… На твой, на мой приказ ему, значит, плевать! Приказ знал? — спросил он ослушника.
— А то! — вскинулся Матушкин. — Лично задачу ставил. Понимаешь, лично! — он убежденно ткнул себя в грудь. — Каждому! Всем! Два раза ему повторил: не выдавать себя, зазря не палить, только по танкам! Понимаешь, дважды! Только по танкам! Что, гад, а? Может, не так? Может, я вру? — возмущенно вонзился он взглядом в Изюмова.
Ваня стоял обмерев. Не дышал.
— Вот всегда у нас так! То заболеет кто, то на мине какой-нибудь дурак подорвется, то вот убьют, — явно сгущал сейчас в досаде и раздражении батарейные неурядицы Лебедь. — Не знаешь, где оборвется. — Раскрыл беспомощно рот, задышал сипло, прерывисто — нос был заложен. Над глазами комбата хмуро кустились брови, под глазами отвисли мешки. Простуда, бессонные ночи, эти вечные чепе даром ему не прошли. — Ладно, — выдавил он наконец. Переступил неловко своими начальническими валенками. — Что будем делать? С этим, — небрежно кивнул он головой на понуро застывшего Ваню.
— Что… Да под трибунал его! Под трибунал! Это же надо — в такой момент чуть весь расчет не сгубить! Да лучше бы сам! — оскалясь, опять окатил взводный гневом Изюмова. — Убило б тебя — не жаль. Раз ты такой. Сам виноват! А солдаты причем? Солдат вот жаль. Матерей их, отцов. "Похоронки" знаешь, как получать?
Ваня совсем уж не знал, куда девать себя.
— Ну, так что будем делать? — спросил капитан.
— Под трибунал! — отрубил с готовностью взводный. — Неподчинение — раз. Второе — приказ, четкий приказ грубо нарушил. Теперь — халатность, неоправданные потери, — страстно перечислял лейтенант. — Уже этого хватит. А важный участок обороны оголил? Чуть-чуть бы еще, убило бы всех. А подчиненных, орудие бросил? Да за это одно! Это же надо — с огневой убежать! Словом, налицо малодушие, безответственность!
— М-да, — промычал капитан. Помолчал, соображая. — Ладно, разберись сперва. Еще раз как следует разберись. Все, не только вину его, все, все учти.
Взвесь! — выразительно взглянул он на взводного. — Вот тогда и доложишь. Ясно? Тогда и решим. — Еще раз взглянул на убитых. Опять помолчал. — Могилу там и отройте. На бугре. И звезду. Как положено. Хоть с неба! Ясно? Откуда угодно. А чтобы была! — Постоял, покашлял в кулак. Снова снял шапку. Надел. И пошел. У полуторки обернулся. — Да, и домой. Родным, на родину сообщить. Геройски погибли. Ясно? Геройски! — предупреждающе вскинул руку. Откашлялся. С трудом задрал валенок на подножку кабины. Машина качнулась. Лебедь был невысок, но широк и тяжел.
«Трибунал. Боже, расстрел. Штрафной батальон, — колотило Ваню, он весь мелко, жалко трясся. — Нет, только не это! Нет, нет, нет!»
Бешенство, неожиданный выстрел взводного напомнили Ване совсем другой залп, чужой незабываемый страх, замерший строй тысяч солдат.
В полдень тогда вовсю жарил зной, море парило а степь вокруг дышала духовкой. В рот, в глотку, в само, казалось, нутро въедалась пыль. Но это было не мое страшное — совсем рядом уже рокотал фронт.
Немцы рвались тогда на Баку, на Кавказ. Навстречу им по узкой прибрежной полоске Каспийского моря гнали наш спешно сколоченный полк.
Накануне навстречу полку с переднего края увозили в тыл раненых. Каких только не было в этой колонне колес: от полуторок, "зисов" и "эмок", "фольксвагенов" и "рено", "пежо" и "фордов" до прицепленных к ним скрипучих воловьих арб и конных телег. И на этом, собранном с бору по сосенке транспорте, на полусгнившей прошлогодней соломе тряслись на ухабах в кровавых бинтах солдатские руки и ноги, груди и спины. Вдруг на старом "зиске" послышался смех, Ваня вскинул глаза. Смеялся весь забинтованный худенький бледный парнишка. «Отмучился!» — казалось, светилось в его глазах. Пока поставят на ноги, глядишь, побывает и дома, повидает родных. А для тех, кто выбрался с передовой без рук ли, без ног или любой другой части тела, без которой ты не вояка и на фронт тебя уже не вернут, но сердце твое, однако, стучит, и варит котелок, для этих окопы, страдания, кровь остались уже позади. А для Вани… Ох, Ванины раны, мучения — фронт! — все еще впереди. Возможно, даже и смерть.
«А может быть, нет? — мелькнула тогда надежда у Вани. — Господи! Зачем меня убивать? Лучше пусть ранят, как этого. Сколько смертельных точек на мне? Сердце, — ежась под хлипкой шинелькой, начал подсчитывать Ваня, — черепная коробка, точнее, мозг, печень, хребет, горло еще».
Получилась примерно четвертая часть тела. Три шанса из четырех, что не убьют.
«Неужели все уже решено? Предрешено? Кому жить, кому умереть, — думал Ваня в ту ночь перед фронтом, глядя в звездное небо. — Бог, что ли, решил? — скривил он язвительно губы. — Бог не бог, а как там, у этих, у материалистов стихийных? Цепочка… Одно из другого, одно за другим. Когда-то пошло, началось и… идет. — В эту свою, возможно, последнюю ночь каждой клеточкой своего жадного до жизни тела, всем своим потрясенным до самых основ существом Ваня ощущал себя неотъемлемой частицей вселенной и никогда так остро не чувствовал свою с нею глубинную связь. — Да, да, одно из другого, одно за другим! Так и несется, так и идет! Вертится, прет колесо и — не сделаешь уже ничего. Ничего!..
Интересно, а в принципе?.. Ну хоть в принципе… В определенных пределах… Можно проследить эту связь, эту нить? Скажем, там, где завтра мы зароемся на позициях в землю? Можно ли так все учесть, предусмотреть, чтоб избежать, одолеть свою смерть? Ну хорошо, — уняв минутную дрожь, нетерпение, Ваня постарался рассуждать поспокойнее, — рядом учтешь, а дальше? Во втором эшелоне, в третьем? Как этих немцев учтешь? А они ведь не дремлют, свою нить плетут: из дальнобойных орудий как фуганут или начнут с самолетов скидывать бомбы, и точнехонько в нашу пушку, в расчет. Как все это учтешь? Нет, человеческий ум не в состоянии все это учесть. Не учтешь. И конец тебе. Вот и ответ».
С самонадеянностью юности Ваня тогда припомнил даже то немногое, что знал о теории вероятности — по книгам отца, по его спорам с коллегами и друзьями, — нельзя ли с ее помощью предугадать, ждет его смерть или нет. Хотя бы только предугадать! Но тут же сам над собой и посмеялся.
Так в ту ночь Ваня и не решил ничего, не заснул.
* * *
А утром, как только поднялся над степью и стал пригревать людей и песок солнечный шар, круче пошла под свежим бризом волна, с одинокого скифского кургана рассыпались звуки трубы. И полк, до того, казалось, крепко спавший, сразу восстал ото сна и загалдел, задвигался, запылил. Солдаты хлынули в степь, потом отхлынули к морю, а там и достали кисеты. Степь зачадила махрой. Ждали любимый сигнал: «Бери ложку, бери бак», а труба разразилась другим: «Общий сбор». Роты стекались к кургану, выстраивались буквой «П»- просветом к морю. Последними втиснулись в строй батарейцы. И замерли, увидев то, что до этого было от них скрыто. В просвете, у самой воды, там, где накат гладил прибрежный песок, стоял одинокий солдат. Стоял он без пояса, без сапог, босой, штаны на нем висели мешком. Он и сам был как порожний мешок: обвис, руки болтались плетьми, пустыми глазами уставился тупо в пространство.
Рядом с ним темнела сырая песчаная куча. Из-под нее торчала лопата — до блеска натертый черенок.
Ваня не видел, что было за кучей, но только взглянул на нее, на солдата и угадал, что там, за кучей песка. «Кто ее рыл? — Рядом с солдатом никого не было. — Неужели сам для себя? Да как это можно?»- восстало в Ване все против этого. Выступил пот. Он побледнел. Потянулся вперед.
Теперь все хотелось узнать: кто он и что он наделал? За что его так? Хотел узнать у стоящих с ним рядом бойцов. Оглянулся. Но по лицам прочел, что никто, как и он, ничего покуда не знает.
К солдату спешил командир, похоже, штабной, с кожаной папкой под мышкой, с планшеткой на ремешке, в новенькой форме, с новенькой кобурой. Он что-то приказал солдату, когда подошел, но тот продолжал стоять.
«Неужели, — стучало у Вани в висках, — господи, неужели нельзя ничего изменить? Да упади же ты… упади на колени! Плачь, кайся, проси! Виноват?.. Конечно, наверное, виноват, раз уж так… Проси, коли уж согрешил. Повинись, поклянись. Свои же кругом. Свои, не враги же. Ну, совсем, конечно, не простят. Наверняка не простят. Не все прощается. А вот поклянешься исправить, что сотворил… Искупить… Поверят… Глядишь, и смягчат. Да, могут, могут смягчить. По крайней мере, не расстреляют, — всем своим юным, враждебным всякому тлену существом страстно верил Ванечка в это. — Ну, пошлют в штрафники. В самое пекло. Пускай! Там, говорят, до первой крови. Все-таки лучше, чем казнь. Вдруг не убьют. А убьют… В бою же, от вражьей руки. Не от своих!» Но солдат омертвело молчал. А у Вани ныло и ныло одно: «Ну, давай же, давай! Да почему же ты?.. Да про си же, проси! А я бы?.. Как я? Я бы просил? — Ваня в тот судный час все примерял к себе. — Как это можно? А? Как? Умирать от своих. По их приговору. Виноватым перед своими. — Ване стало тошно. Как ни боролся, все сильнее накатывали слабость и дрожь. — Ой, не дай бог… Не дай, чтоб и со мной когда-нибудь так. Только не это! Нет, нет! Только не так!»
Все внимание Вани было занято осужденным, и он только потом заметил, что туда, к распорядителю, шел еще один, тоже в новенькой форме, только очень высокий, осанистый, почти великан.
Завидев подходившего, штабной рванулся ему навстречу, отдал честь и что-то отрывисто доложил. Могучий и рослый, нависнув горой над невысоким и шустрым распорядителем, принял доклад и потребовал папку к себе.
Солдат оживился и весь так и потянулся к нему, по всему сразу видать, здесь, в полку, самому главному. Ваня решил, что вот теперь-то он бросится к комполка, будет просить его и тот… Тот, конечно, выслушает и как-то все по-иному, по-новому повернет.
«А как же иначе? Он же… Что, не такой он, как и все, человек? Что ему, хочется этого?.. Приказ такой сверху. Есть такой; Да и присяга… Как там, в присяге?.. — пытался вспомнить Ваня. — И если… если нарушу… пусть тогда покарает меня…»- Ваня не помнил сейчас, в каком порядке и какие точно шли там дальше слова о презрении народа, о каре смертельной, но они были в присяге. Были! И не денешься никуда. И Ваня клятву давал перед знаменем, перед строем, и этот… Все давали. И комполка, и этот штабист — все обязаны были поддерживать ее, клятвы, присяги, непререкаемый авторитет, следить за честью воина и полка, за неукоснительной их дисциплиной. Да, презрение, воля народа… Все так… Но… Ване показалось, что испеченное солнцем, как пережаренный блин, круглое и плоское лицо комполка, суровое и жесткое, беспокойно и нервно подергивалось. Он несколько раз непроизвольно вскидывал к горлу и опускал правую, свободную от папки руку, возбужденно оттягивал ворот туго сидевшей на нем гимнастерки, как-то неудобно — то вправо, то влево — покашивал головой.
— Пивень, батя наш, комполка. Наша верховная власть, — услышал Ваня подле себя приглушенный шепот Голоколосского. — Суд и закон наш, жизнь или смерть, — Вздул он ноздри тонкого длинного носа. — Так что мотайте на ус.
— По-о-олк! — чтобы слышали все, не крикнул — рявкнул в это время штабной, привскочил на носках. — Сми-и-ирр-на!
Солдат, как говорилось в приказе, был дезертиром.
Ваня вовсю пялил глаза на настоящего, живого дезертира. Прежде только слышал, читал о них. За неимением собственного опыта было это для него одним из многих книжных понятий, некой абстракцией: война, фронт, расстрел, ну и дезертир. А тут… вот он… не понятие, не абстракция — живой человек. Позади, вот до этой черты- своя судьба, своя жизнь, а впереди…
…Минута-другая, и — все…
Ваня силился понять: «Как же это он так? Да как же он мог?» И, пытаясь найти ему хоть какое-нибудь оправдание, жадно улавливал все, что шептали рядом солдаты. Будто местный он, дезертир этот, из каких-то недальних отсюда краев. Вот и не выдержал, потянуло домой. Без родного аула не выдержал, без гор своих, без снежных вершин, что маячили позади, за спиной, без лесов. По коню, наверное, затосковал, по жене, по детишкам своим, по друзьям — таким же, как он. Без воли больше не смог, без привычных простора и своеволия. Там, в горах, где чуял себя, должно быть, орлом, хозяином чуял себя, возможно, и был он самым первым джигитом, сорвиголовой, удальцом, а вот здесь, затерявшись в толпе, в бесконечной общей беде, под началом других, среди непонятных ему и чужих… Нет, не смог больше он…
Однако презрения, ненависти к смертнику Ваня, мамин сынок, книжный червь, вчерашний школьник, нет, так тогда и не ощутил. Да и как он мог к своему, пусть провинившемуся, но своему, чувствовать то, чем по-настоящему еще не проникся даже к немцам — врагам своим лютым. Да он этих немцев тогда ни разу еще и не видывал, и сам их не бил, и они его, лично его покуда не били. А за родину свою, за страну, за народ, в их незыблемости, в бесконечности их судеб он по своим еще детским цельности и наивности как-то исподволь, бездумно был абсолютно уверен и даже беспечно спокоен. И тревоги такой — что ворог родину, народ его изведет — с начала войны у него ни разу не проскользнуло. Сказались и школа, к книги, и, конечно, кино — все непременно победные. Но и не только они. Ваня Изюмов, как и все, кто жил на огромной, бескрайней российской земле, уходящей корнями куда-то в века, летящей упрямо куда-то в века, чуял, верил, каждой клеточкой, каждой жертвой, уже принесенной, предчувствием тех, что еще принесет, врем своим неимоверным потрясением, ожиданием и тоской знал, что будет, придет неизбежно победа, сгинет с родной земли супостат, непременно расколотят его в пух и прах. Это было уже и не сознание даже, и не вера, а что-то еще, куда более глубинное, исконное, что за тысячу лет всосалось, впиталось во всех россиян — от океана до океана, и малых, и старых, в их память, в их кровь и плоть. И потому, слепо уверенный во что бы то ни стало в конечной победе, Ваня до поры до времени был великодушен и добр, он даже этого дезертира и то готов был простить.
Тут как раз, вскинув руку, штабной закричал: — Для исполнения приговора… Два шага впере-е-ед!
Ваню стукнули по плечу. Он испуганно оглянулся. Из строя торопко и возбужденно продирался Пацан.
— Ну, кто со мной? — крикнул он.
Но никто из батареи за ним не пошел.
Все готовились к этому, ждали, а настало — словно умерли все на миг. Перестали дышать. Затихли. Затаился, замер и Ваня. Только на миг — и словно все начали оживать. Вздох прошелся по строю, все непреодолимо потянулись шеями вверх.
— Ко мне!.. Равня-я-яйсь!.. Заряжай!
Шеренга, больше десятка стрелков в живой оправе полка, замерла шагах в двадцати от солдата, точно напротив него.
По команде стрелки как один вскинули свои винтовки и карабины. Принялись целиться. Прижался щекой к прикладу, застыл Пацан. Щелкой глаза сквозь прорезь прицела в отступника так и вонзился.
Штабной поднял глаза на командира полка. Тот не двинулся, не шелохнулся. Тогда штабной выкрикнул сам:
— По изменнику! — привскочил, вскинул кулак. — По трусу!
«Сейчас! — зажмурился Ваня. Но тут же разжмурился. — Нет! Смотри! Нельзя пропускать».
Нет, то не было любопытство. То было скорее инстинктивное острое жесткое чувство: все, все ухватить, с каждой клеткой своей, с каждой жилкой, кровинкой слить. Смерть чужую учесть, чужую короткую жизнь. Чтобы уберечь свою потом. Свою! Свое имя, честь и достоинство. Никогда чтоб с собой такого не допустить.
«Кто-нибудь есть у него? — подумал Ваня. — А если вдруг сын? Что ему скажут потом? Неужели узнает? Как же быть ему с этим потом, как ему жить?» Ваня вскинул глаза. Поймались глаза Барабанера.
Семен Барабанер до того, как в полк попасть, мучился в гетто под Киевом. Во время бомбежки бежал, а бабушка, мать с отцом и две младшие сестренки остались за колючей проволокой. И что с ними, Барабанер не знал. Тонкие Семкины губы дрожали, огромно раскрылись черные, словно сливы, глаза. И то, как глядел Семен, Ваню тогда резануло по самому сердцу. Он проследил его трепетно-страждущий взгляд. Семка, как и все тогда, смотрел на шеренгу стрелков, на застывшего солдата. Но смотрел по-особому: вроде на них, а видел что-то свое. Память будто снова подняла в нем его собственный, пережитый не так давно страх гетто, замученных, то, как фашист пырнул его пониже спины плоским штыком. Семка выжил, удрал, а родных его давно уже, наверное, нет. И на лобном месте сейчас видел Семка, должно быть, того жирного лысого фрица, а на месте стрелков себя. Только себя одного и… он стреляет, стреляет, стреляет… Этого жаждал, должно быть, тогда Барабанер, этого искал его трепетно-страждущий взгляд. А стоял-то кто?.. Да как он, солдат-то наш, как он смел, как такое он смог? Да ведь только бы скорее увидеть фашистов и стрелять их, стрелять и стрелять! А он?.. Семен смотрел пристально, жарко, не понимая.
— Огонь!
Подкосились ноги тогда и у Вани. Тошнота накатилась, застучало в висках.
«Дико как… Господи, как жестоко. Дико, дико, — застекленели у Вани глаза и после этого уже ничего не видели. Мерзко, пусто, ох как тошно-то было ему в ту минуту. Одно каленым железом так и гвоздило тогда, так и жгло: — Чтоб и со мной когда-нибудь так? Да нет же… Нет, нет! Никогда!»
И потому, когда лейтенант сверлил его возле пушки бешеным взглядом, поднимал пистолет, стрелял и кричал, Ваня вдруг снова все это свежо и отчетливо вспомнил: солдата, штабиста, командира полка, расстрел! Глаза, страшные глаза Барабанера. И испугался: неужели и с ним так, и его заклеймят презрением и позором? Под трибунал его, в штрафники, а то еще и вот так.
* * *
Матушкин брился. На пустой бочке стоял желтый осколок зеркала, а в солдатском котелке парила подогретая на «катюше» вода.
— Тьфу! — Матушкин спешил, а старая, наполовину съеденная точилом «опаска» серпом царапнула по щеке. Показалась кровь. Матушкин попробовал зажать ранку пальцем, но ничего не выходило. Сунул руку в карман, вынул кисет. Глаза еще были сужены, но стальной блеск в них пригас: гнев — первый, слепой остался уже позади, жестокость расчетливого урока — тоже.
«Трибунал, значит… Ха, — блеснул он глазами. — Да даже если б и потянуло на трибунал… Ну, сдал бы… А дальше бы что? — Хмурясь, достал из кармана кисет, из него кусочек газеты, заготовленный под табачок, послюнявил его, наложил пластырьком на порез. — Дальше-то что? Двоих уже нет, не воротишь. Забрали бы и этого. А зачем? За битого двух небитых дают. А уж я-то его… Пуще всякого трибунала. — Сокрушенно заскреб пятерней седой заросший затылок, — И зря. Да еще этак-то… Ведь не шкуру ж свою он спасал. Напротив, и себя под удар подставлял. Понят дело? Вот так! — Опять досадливо зачухал загривок. — Эх, как мальца-то я настращал. Ладно. Дай-то бог, чтобы на пользу. — Мыльная пена, ссыхаясь на шее, на ушах, на щеках, казалось, поскрипывала и шипела, бритва подрагивала, зажатая в прокуренных пальцах, лицо, недавно еще деревянное, злое, начинало мягчеть. — Жаль солдат, — ныла и ныла душа. — Эх, да как же не жаль! Ребята совсем. Как Колька мой. — Вспомнив сына, вздохнул. Задумался, погрустнел. — Как он там? В тылу — и то хорошо. А эти… Э-эх, — вздохнул он, — эти, считай, совсем еще и не пожили. — Вдруг подумал, что, наверное, еще и не любили… Сальчук-то и Пашуков. Должно, и не изведали еще ничего. — Но им-то что?.. Им теперь ничего: смерть их настигла мгновенно, не успели и пожалеть ни о чем, слава богу, не мучились. Но отцам-то их, матерям, — снова кольнуло занозой сердце таежника, — боль, горе горькое, неизбывное, ведь на всю-то жизнь… сколько осталось… на всю! Навсегда! Ждут, поди, сынов и не ведают еще… Письма им, наверное, пишут, сынкам-то, а их уже нет». Сунул руку под полушубок. Вот оно, письмо от Кольки, на сердце лежит. Раз десять прочел, запомнил каждую строчку, каждое слово.
«Жутко я хитрый, папаня, стал, — писал ему сын, — все наперед могу угадать. Я ведь как? — хвастал Николка. — Я, папаня, завсегда помню ваш наказ. Давеча рыси двух телок заели, а осенью, я писал уже вам, кошка эта убила ивленского малыша. И у всех в затылке дыра. Так я, папаня, из старого валенка сделал себе на затылок забрало, как на картинке, помните, у богатырей? Бляшек железных на войлок наклепал, шипов. Кинется куцая — сразу не убьет, а я тем часом ее ножом.
Ружья, нам, однако, не дают, боезаряду нема. А я и ночью в тайгу хожу, до самой, считай, Уссурки, до Поросячьей косы. Сами знаете, все полета. Но не думайте, папаня, я завсегда, как вы: все наперед загадываю, рассчитываю, что и как, впросак не попасть чтобы. И письма ваши всегда помню. В толк все беру. Все, все!
Только недолго осталось мне в лесниках-то ходить. Повестка будет на днях в военкомат, дядя Фома сказал, тот, что без ноги. Лесничий он теперя, самый главный у нас в тайге. Пойдешь на фронт, говорит, отца, может, встретишь, поклон ему от меня. А еще говорит, чтобы я рогатину вашу не позабыл взять, и уж непременно прихвати, говорит, свое забрало — немец и побежит.
Нас всех вместе берут: и Луханкова Ивана, и Лешку Старцева, и младшего Сазона.
А от Екатерины Ильинишны, учителки нашей, пока ничего. Как уехала к родному брату в госпиталь, так с тех пор ничего.
А как вы, папаня? У вас как? Дядя Фома тоже вот говорит: что зверь, что фриц — все едино. Их, однако, больше хитростью надо брать, сноровкой. Кто кого.
Не оплошайте, папаня. Немец волком жадным, нахальной росомахой, а вы по-нашему его, по-таежному — рысью тихой, хитрой лисой. Берегите себя. У нас «похоронки» многим уже пришли.
Берегись, родной папочка, один ты у меня».
Сердце Матушкина снова так и заныло. И вдруг словно толкнуло его: так вот почему он сегодня сорвался так на Изюмова, так лютовал. Все дело в письме: Колька, сын, единственный сын уходит на фронт. И страх за него слился со страхом за всех, за чужих, но и своих уже, взводных сынков. Боль, тревога… Скрытые, сдержанные. Вот нервы и сдали, сорвались. Представил себе только на днях поставленного командиром орудия ефрейтора Изюмова, разгоряченного, весь его расчет на голом бугре. Внизу немчура. Ну и палят ребята по ней — за снарядом снаряд. «А Колька? — подумал Евтихий Маркович. — Да разве бы утерпел, будь он командиром орудия? А я? Сам я? Да ни в жизнь! Тоже бы так! Гады, наворотили горя-беды, а теперь утекать? Да я сам бы… Сам! Ишь… Сам бы так же, а на него — с пистолетом да кулаком. Да трибуналом еще. Да, но он же… Если б только нарушил приказ, — пытался оправдать себя Матушкин. — Он же еще… Зато сколько его расчет уложил этих зверей? Десять, двадцать? Может быть, больше? Да, но и наших двоих. Нету двоих! — Матушкин тяжело вздохнул. Метнулся на вставленном в гильзу шинельном сукне огонек, запрыгали тени по стене. Вздрогнуло в зеркальце искаженное горькой мыслью, болью лицо — гладкая синяя скула, лоб в морщинах, под ним в глубине запавшие, тлевшие мрачно глаза. «Немец волком жадным… а вы по-нашему его, по-таежному… Кто кого…» Вот то-то и оно, — грызло и грызло приморца, — кто кого!»
Не мог он, не имел права уступить немцам. И раньше не смел, долг не велел и ненависть к ним, а теперь еще не позволяла и своя, родимая кровь. Матушкин и на секунду не мог допустить, что Кольку убьют, Кольку — последнего сына. Теперь же, после письма, исполнясь за него особенной тревогой, он еще острее страшился и за своих солдат, не знающих жизни, цену не знающих ей, порой беспечных, бесшабашных ребят. Оставалось одно: в предстоящем завтра бою победить, и не любой ценой, а так изловчиться, чтобы не дать немцам убить этих детей. Даже если сперва придется унизиться, снег, землю грызть, хвост даже, может, поначалу поджать, на брюхе ползать, ловчить. Плевать. Пусть думает каждый, кому в башку что взбредет. На рогатину прет лишь спесивый, неумный медведь. А ему бы выиграть бой — без лишних потерь, без смертей.
Осторожность, терпение… Тихой сапой — поменьше торчать на глазах, поменьше шуметь, — это охотнику-промысловику было привычно. Большую часть жизни в тайге, один, только с собаками, в поисках женьшеня, птицы, зверья, Матушкин, чтобы их взять, самому чтобы в когти зверья не попасться, должен был постоянно соображать. Мысль его, словно шустрая мышка-полевка, в иных сложных обстоятельствах оборачивалась по сорок сороков раз на дню, и таких дней бывало немало, считай, что все. И в этом раздолье и плену рискового таежного одиночества, борясь с собой и дикой природой, решая бесконечное множество, порою смертельно опасных проблем, он волей-неволей, сам не зная того, становился подлинным изыскателем и творцом. И потому, соображая теперь в темном сыром погребке, как ему похитрей встретить врага, Матушкин все старался учесть, все снова и снова тщательно взвешивал. То вскакивал, прохаживаясь по погребку, то снова садился.
— Та-а-ак, — удовлетворенно бормотал он. — Понят дело? Вот так! — Наконец решительно встал. Опрокинутое вверх дном ведро, на котором он сидел, железно вздохнуло. Подхватил котелок, плеснул остывшей мутной водой на лицо, обтер его краем полотенца. Взглянул на часы. До ночи еще далеко — все еще можно успеть. Погребение, правда, последние почести. Мертвым, конечно, теперь все равно. Да нужно. Потом еще надо успеть договориться с Лебедем, дозвониться до командира полка. Убедить их оставить две пушки на кладбище. Увязать все с Зарьковым. Затем в полный профиль отрыть огневые, между взводами телефонную связь протянуть. Да и поесть, и поспать еще надо солдатам. А там не заметишь, и ночь пролетит. И рассвет. А с рассветом и бой.
«Может, последний?»- царапнуло Матушкина. Отсекли от основной вражеской группировки две-три дивизии, зажали в кулак. Теперь нечего немцу терять, вот и пойдет, конечно, завтра на все, только бы вырваться из кольца.
«Хоть всех, всю батарею мне положите… Себя положите, а фрица мне удержать!»- приказал комполка да еще кулачищем потряс.
Вспомнив приказ, Матушкин ругнулся и сплюнул. «Ишь, себя положите. Всех положите. — Нахмурился. Снова сплюнул сквозь зубы. — Вот сам себя и ложи, — мысленно бросил он. И вдруг так и пронзило его — мрачно и остро, так и скрутило. — У-у-у, — простонал он. — Коришь, да? А сам-то? Сам! Поднять пистолет! На кого? — с отвращением, с болью поморщился. — Вот так… Не кори. Пугать. Стрелять. Под пули людей подставлять. Ха! Много ли надо на это ума? Да нет… — со злостью выматерился он. — Труднее их сохранить. Верх одержать — и уцелеть. Да! Вот я и придумал. Мне здесь стоять, я и буду решать. Я! Если не я, то кто же еще о них позаботится? «Хоть всех… всех положите», — жгли приморца легкие эти слова. — Не-е-ет! — стиснул он пальцы в кулак. Возбужденно оправил тулупчик, ушанку и, как на зверя, на сезон в тайгу когда уходил, прежде чем выйти из погреба, снова присел на ведро. На минуту притих. Резко поднялся. — С богом, — сказал сам себе. В бога Матушкин, конечно, не верил, так только сидело что-то в душе: надежда, должно быть, на счастье, на случай, смутное чувство какой-то везучести, необоримости какой-то своей. Посуровел и насупился — вспомнил сыновнее письмо: «Кто кого…» — Нет уж, гад. Я, фашистская сволочь, тебя! Я! — приказал, словно внушил себе Матушкин. — Понят дело? Вот так!» И, неспешно взойдя по ступенькам, вышел на свет.
* * *
— Тебе главное что? На мне завязнут, а тут их ты. Да в бок, да под ребро. — Матушкин по-кабаньи уперся напористым взглядом в глаза командира второго взвода: понимает он его мысль, весь его план или нет?
Зарьков, невысокий, плотный, румяный и такой же, как и большинство во взводе, молокосос — только пушок под носом появился, смотрел на старшего и возрастом, и званием выжидательно и напряженно. По-детски пухленькое и скуластенькое лицо его было все внимание, а голубые глаза так и ели Матушкина, казалось, перехватывали каждое его слово.
— Под микитки, значит, их, под ребро, — внушал приморец Зарькову. — Понят дело? Вот так!
— Да, да! — с готовностью, даже вроде с горячностью поддакнул Зарьков. — Я понял! Понятно… Все, все!
Как всякий недавний курсант, командир-выпускник, он, направляясь на фронт, был уверен, что с ним, с его приходом во взвод все сразу победней пойдет, что он, хотя и молод, тотчас станет любимцем солдат, что ждут его подвиг, награды и слава, и видел себя в скором будущем чуть ли не первым в стране генералом. Но, встретившись с Матушкиным, присматриваясь к нему, а теперь уж и с восхищением глядя на его тугую, кряжистую плоть, на стиснутый будто бы раз и навеки, налитый для смертельной схватки с фашистами кулак, на горевшие лютой ненавистью глаза, слыша гневом сжатую речь, смутно чуял, что ему, новичку, далеко до того, чтобы стать таким командиром, как этот таежник. Что-то цепкое, зоркое таилось в этом уже седеющем человеке. Он на все имел свой особый, неожиданный взгляд, практический и смелый. Он и сейчас ни от кого не скрывал, что, как ни смотри, даже здесь, на передовой, а может быть, как раз именно здесь, на передовой, самое главное — это жизнь, жизни людей, и, какую б задачу взвод его ни решал, он прежде всего делал все, чтобы их сохранить, и все, что мешало, старался обойти или сломить, как вот сейчас. Но составленный им план уперся в полученный прежде приказ командира полка, а капитан Лебедь не решался его отменить, даже не отменить — на это он права не имел, — а лишь подправить его, ну хоть слегка.
— Пойми же, приказ! Пушки сюда! — палец комбата ткнулся в карту. Никто на нее особенно не смотрел — ни Лебедь, ни сам Матушкин, ни Зарьков: видать было плохо, в разбитые окна часовни, в провалы каменных стен, потолка зимний тусклый свет просачивался скупо. Но здесь было все-таки лучше, чем в погребке: рядом с позициями, светлей и просторней.
— Приказ, приказ… Пуля и то, бывает, отрикошетит, свернет. А ты? Ишь, прямой! Как оглобля, как дышло, прямой. Не словчит, не схитрит, — презрительно выцедил Матушкин. — Да не назад же предлагаю! Вперед! Всего метров триста вперед! Ну, пятьсот! Самое большее.
— Да приказ!
— Заладил: приказ, приказ. Немца нам охомутать или только ради приказа? Может, еще орать начнешь на меня: «Молчать! Выполнять! Руки по швам!»- Матушкин сплюнул. — Вот нацепят погоны, тогда и давай. Небось… Ты-то уж… Пивень твой… Заставите нас по струнке стоять, не шелохнешься.
Когда Матушкин узнал, что в Красной Армии, как и в прежней, царской, снова вводятся погоны, расстроился. Вспомнил юность, родное село, как уходили к океану беляки. Отпечатался в памяти на рыжем коне пожилой офицер. Вскинул на унтера саблю: «Молчать! Выполнять! Зарублю!» Вспомнил кино. Бой барабанов, Чапаева, Анку. Под корягой «максим». Волна за волной рядами идут офицеры — золотые погоны, аксельбанты, усы. Чей-то возглас в цепи залегших чапаевцев: «Красиво идут!» Вспомнил все это. Казалось, с погонами снова вернется то, что когда-то с ними ушло. И, не надев еще, уже испытывал к ним недоверие, как и к тем, кто видел в них непременный залог порядка и беспрекословного повиновения.
— Ну, так как ты, офици-и-ир? — окатил Евтихий Маркович таким же недоверием и Лебедя. — Может, по струночке меня вытянешь, руки держать заставишь по швам?
Комбат нахмурился. Выдавил багровея:
— Тебе легко говорить. А отвечать кто будет, а? Да я, комбат! А за что? Хоть здесь зарывайся, хоть там, все равно… Сам видишь, у них же танков там… Все, что было, собрали в кулак!
— Не-е-ет! — взорвался таежник. — Нет! Не все равно! Если по приказу станем, зароемся там, под бугром, точно, всем нам хана. Всем! — рубанул он рукой. — И фрица, вот что обидно, за глотку там не возьмешь. Открыто же, гладенько там. Во, — вырвал он из кармана, разжал кулак, — все как на ладони!
— А на кладбище лучше, думаешь? Знаешь, — усмехнулся комбат, — покойничков потревожишь — сам потом не уснешь и в гробу спокойно лежать не удастся. Есть примета такая.
Лебедь невольно высказал то, чем, принимая свой план, поначалу терзался и Матушкин. Святотатством было, конечно, устанавливать орудия на погосте, на могилах траншеи, окопы копать, тревожить чей-то вечный покой. Но что значил вечный покой по сравнению с жизнью его солдат — совсем еще ребят? Да и по сравнению с той задачей, которую им выпало завтра здесь выполнять? И, переборов в себе естественное сопротивление, Матушкин теперь решительно требовал от Лебедя оставить один взвод на кладбище. Его постоянно грызла совесть, мучила память, хотя и не он был в том виноват, что в первый же фронтовой день их не оснащенный как надо, неподготовленный полк расчехвостили «юнкерсы» и «мессера», а потом на остатки полка рванулись немецкие танки. Сменив убитого взводного, старшина Матушкин поднял тогда солдат за собой. С единственной пушкой и десятком снарядов прикрыл штаб и знамя полка. С ними, кто уцелел из взвода и батареи, и отошли. Его, Матушкина, чуть не убило — зацепило осколком пониже виска. Еще б сантиметр — и конец. Полк отправили на переформировку. Оснастив новыми пушками и машинами, влили в одну из первых артиллерийских противотанковых истребительных бригад «эргэка»- резерва главного командования. Не хватало офицеров среднего командного состава. Матушкину, еще не снявшему бинтов, отличившемуся, награжденному орденом Красной Звезды, присвоили звание младшего лейтенанта. С того разгромного дня Матушкин не терпел, не допускал ни малейшей непродуманности, неподготовленности к бою. Потому и сейчас никак не хотел примириться со скороспелым приказом командира полка. Его собственный план давал батарее больше шансов и на выигрыш в предстоящем бою, и на то, чтобы выжить. Но Лебедь не решался ни подправить приказ, ни просить об этом подполковника Пивня.
— Довольно! — не выдержал Матушкин. — Как хочешь, а я не позволю губить ребят. Не позволю! Вот он, что он успел повидать? Бабу-то щупал хоть? — спросил он внезапно Зарькова.
Олег Зарьков, слушавший спор старших с настороженным удивлением, смутился.
— Во-во, сразу видать, — еще мрачнее насупил темные брови таежник. — А ты его в гроб. — Матушкин шумно вздохнул. — Что хочешь, хоть под расстрел, а я как встал здесь, на погосте, так и останусь стоять. Понят дело? Вот так! А ну, — протянул он Зарькову спичечный коробок, — давай присвети. Представляешь, — показал он на карту комбату, когда спичка вспыхнула, — пойдут на меня. А он их с правого фланга! Если хочешь, — обернувшись, подмигнул он Зарькову, — встречай ты танки в лоб на погосте, а я в бок их тогда, с хуторка?
— Да, да! — вспыхнул Зарьков. — Я встречу в лоб! — Голос Олега чуточку дрогнул.
— Нет уж, — вмешался комбат, — раз уж ты встал здесь, здесь, милочек, и стой. Если, конечно, подполковник позволит.
— Подполковник, подполковник. Заладил, — вскипел таежник опять. — А в лоб, — обратился он снова к Зарькову, — это ты… Погоди покудова в лоб. Привыкни пока, подучись. Вот так.
— А пойдут они здесь? — спросил неуверенно юный командир.
— Должны, куда им еще? — ответил приморец. — Чай, к броду им нужно, на мост.
— Да, где-то здесь, — подтвердил и Лебедь. — Ну, пускай наша разведка ошиблась. А армейская, фронтовая? С воздуха? Да и пленные показывают.
— Значит, здесь. — Зарьков на минуту задумался. — Товарищ капитан, тогда чего нам бояться? Тогда правильно товарищ лейтенант говорит… Точно, один взвод надо оставить на кладбище. Ничего тут страшного нет. Во всяком случае, хуже не будет. Лучше может быть, а хуже не будет.
— Слыхал? — подхватил радостно Матушкин. — Верно сказал: хуже не будет. Лучше может быть, а хуже не будет. Ай да младшой, ай да стратег!
Морща детский, казалось, даже сейчас, перед схваткой, безмятежный розовый лоб, Зарьков взглянул на приморца с благодарностью и восхищением. Ему, Олежонку, как называла его в своих письмах в училище, а теперь уже на фронт мать, сыну врача и артистки, пай-мальчику с Невской стрелки, до войны посещавшему при Дворце пионеров на Фонтанке балетную школу, ему этот Матушкин казался просто каким-то фениморовским индейцем или новым Дерсу Узала. Правда, приморец этот что-то, конечно, читал. Но не то и не так, наверное, как он — коренной ленинградец, потомственный интеллигент, мечтающий стать после войны по примеру отца хирургом, а со временем, может быть, даже и звездой, знаменитостью, как, например, Пирогов или Филатов. Да и когда этому Матушкину было читать, серьезно учиться? Все время на промысле. Груб порой и суров, хотя иногда без всякой будто причины раскрывается нечто славное в нем, как в душе, родной тебе, как в отце. Третьего дня не кто иной, а именно он, узнав как-то о дне рождения Олега, собрал всех солдат, объявил, что самому молодому офицеру батареи Олегу Константиновичу Зарькову стукнуло девятнадцать. Олега качнули. А ночью одни офицеры — Лебедь, Матушкин и Зарьков — укрылись в машине. На улице звезды яростно горели, в ночной темноте отсвечивал снег, а в кабине тускло тлела панельная лампочка. Надышали в кабине — стало теплей. Таежник полез в «бардачок», достал галеты, пару банок сардин, рассыпной шоколад (все трофейное, спасибо зенитчикам — накануне ковырнули трехмоторного «юнкерса» так, что тот шлепнулся за батареей), из-за пазухи вынул согретый на груди небольшой плоский «пузырь».
— Значит, девятнадцать тебе? — прогудел Матушкин зажатому между ним и комбатом имениннику. В полумраке вгляделся в Олега. Помолчал. Разлил в железные кружки французский коньяк. — Что же тебе пожелать? — шапку сшиб на затылок, заскреб сокрушенно ручищей лоб. — Вот что. Ты мне сынок. Сынок, как и мой. Одно пожелаю: будь жив-здоров. До победы желаю дожить. И давай, брат, на «ты».
Это тогда прозвучало так неожиданно щедро, Олег смешался, что-то промямлил в ответ.
— Колька-то мой только в письмах на «вы». А так-то он меня на «ты». Как же иначе. Ну и с тобой. — Выпростав в тесноте руку, Матушкин обнял Олега за плечи. — Ну, будь жив-здоров, сынок. — И, звякнув кружкой о кружку, разом выплеснул все содержимое в широко разинутый рот.
Вспомнив сейчас это, вместе с отчей теплотой ощущая и силу приморца, Олег с особой надеждой и верой вникал в его план. А самому неудержимо хотелось коснуться его, сказать что-нибудь сыновнее, ласковое. Да что тут скажешь? С родным отцом и то, кажется, так и не нашел общего языка. С матерью проще было, та сама всегда ласкала его, по каждому поводу целовала. А вот с отцом… Дурак. Каким же он был плохим сыном, сухарем, все чего-то стеснялся, все ему что-то мешало. А теперь? Нету рядом отца. И будет ли уже когда? Тоже где-то на фронте. Не в траншее — в полевом госпитале. А тоже опасно. Наверное, тревожится за него. Конечно, тревожится. Бедный отец! А рядом чужой. Но чем-то уж как будто и свой. Что-то к нему уже затеплилось в сердце Олега. Но как ему это сказать, как показать?
— Простите, Евтихий Маркович, — Олег засмущался. — Вы говорите…
— Ты… Говори мне «ты». Ведь пили же за это? Пили! — вдруг горячо обиделся лейтенант. — Давай! Пора! Привыкай!
— Ты-ы, — выдавил с усилием Олег. Замялся. — А может быть… Не считаешь ли ты?.. — Олег запнулся снова. — В общем, — тут же справился он со смущением, — по логике, по тактике здесь, по-моему, еще бы одну батарею надо поставить. — Застеснялся, будто этим своим вмешательством обижал лейтенанта. — Вот здесь. — Чистый, еще не успевший как следует загрубеть в походах палец Олега неловко ткнулся на карте в перекресток дорог.
Лебедь нахмурился. Оборвал:
— А две не хочешь?
— Хотя бы взвод, — смешался, поправился Зарьков.
— Комполка, да и мне, комбату, милочек, видней. — Лебедю хотелось еще резче одернуть слишком ученого младшего лейтенанта. Но его такие неуместные, непривычные здесь, в армии, на передовой робость, воспитанность, вежливое обращение по имени-отчеству остановили комбата, не дали сорвать на нем злость. В глубине души он и сам сознавал, что младший-то прав: и впрямь туда бы, на перекресток, следовало поставить еще одну батарею или хотя бы взвод.
«Но мало ли что надо, — возмутился комбат, — где их взять? От полка за два месяца боев вон и двух третей не осталось. Это моей батарее повезло. Впрочем, что значит повезло? Просто грамотней, толковей сражались, — чуть раздулись от гордости ноздри у Лебедя. — А у других? Редко в какой батарее по три ствола осталось, больше все по два, а то и по одному. А он, сопляк, туда же, советы давать: батарею сюда, взвод туда… Нет, хватит! Хватит мне одного своевольного. — Лебедь метнул подозрительный взгляд на приморца. Но тот молчал, и Лебедь опять взглянул на Зарькова. — «Простите… Пожалуйста…» Смотри ты, — подивился комбат, — еще не отвык. А я уже и не помню, когда в последний-то раз говорил эти слова, когда обращался к другим по имени-отчеству. Да, — подосадовал бывший учитель, — опростился я совсем, огрубел. А ведь не просто учителем был, не только историком, но и директором школы. Все шли ко мне. Сколько детей, педагогов, техничек. А родителей? И к каждому особое слово, особый подход. Иначе нельзя. Иначе б не вышло. А теперь? Ха, теперь! Теперь сойдет и так… Всех на «ты», по фамилии всех, по шпалам, по кубикам, по треугольничкам. А погоны навесят, по погонам начну и по звездочкам. И намека нет… Ну, на это… Как это ты раньше называл: на индивидуальный подход. Хе, — хмыкнул комбат, — чего вспомнил! Ха-ха! Да зачем он здесь, в части, на фронте, этот индивидуальный подход, когда есть приказ, коли дана тебе власть. Тебе дано даже смертью карать, — подумал саркастически Лебедь. — Да вот взять хоть этот приказ — встать у бугра. Приказал комполка — и становись. Хотя и лучше позиции есть. А я своим взводным прикажу. А они отделенным. Те солдатам. Коверкаем, теряем себя. — Потер мучительно лоб, посмотрел опять на Зарькова. — Вот побудешь в армии, на фронте с мое, почуешь ее, власть, войдешь во вкус… И ты… Да, и ты станешь таким же: без «простите, пожалуйста», без имени-отчества. Да, да, и не мечтай о другом. Вон таежник, на что стержневой, трехжильный мужик и то… А что? — тотчас споткнулся на таежнике Лебедь. — Ну, горяч, одержим. Ну, упрям, как осел. Вот как сейчас. А может, как раз так и надо? Не отступать от своего, от себя. Вот как он. Ни за что не изменит себе, ни на грамм. Пойдет на рожон, напролом, нарушит приказ, а сделает так, как считает мудрей. Настоит на своем!» Лебедь давно уже понял, что Матушкин просто клад для него и не ему, бывшему учителю, прежде не бравшему в руки даже ружья, получившему звание на военной кафедре вуза, на разных офицерских сборах, тягаться с таежником в живой и тонкой, в чем-то сродни его прежней промысловой профессии военной премудрости. И потому порой, пряча самолюбие, крепясь, допускал, чтобы взводный им верховодил.
— Ну и клещ. Клещ! — сказал он досадливо Матушкину. — Отстанешь от меня или нет?
— Ты мне с фашиста дай высосать кровь. Для фрица я клещ! Для фрица! Понят дело? Вот так! А встанем там, где Петух наш велит, там фашисты высосут с нас. С нас, как пить дать!
Комбат смотрел на взводного растерянно, почти умоляюще.
— Езжай в штаб. Езжай! Или звони, — потребовал Матушкин. — Что, поджилки дрожат? Ладно, я давай. Сам! Разреши через голову!
Начальства Лебедь боялся, а батю, командира полка, непреклонного, да еще и придиру, педанта, если бы мог, обходил за версту. А Матушкин, чем выше кто над ним был, тем достойнее всегда с ними держался. И начальство словно чуяло это за ним. Но знало и то, какой он прекрасный солдат, и, похоже, терпя все строптивое в нем, доверяло ему и любило его: кто-кто, а уж он, хотя и не станет шапки ломать, но зато, если потребуется, одолеет и невозможное. Свою же власть Матушкин, как иные, не лелеял, не пестовал, не кичился ею. Она, казалось, с ним родилась, а с получением лейтенантского звания, командирской должности в служении той цели, важнее которой не было теперь ни для кого, к которой, вырвав из леса, призвали его, просто приняла новую, столь же органичную, как и все в нем, форму.
— Ну! — опять потребовал Матушкин. — Звони! Или мне?
— Ты же знаешь, что он ответит!
— Ха, ответит… Взревет! Во всю глотку взревет, как медведь.
— Вот-вот… Что, рубанет, не окопались еще?
— Окопались. Я окопался! Так и доложишь! Но не там, где он велел, а чуток впереди. Да, да, не гляди на меня так! Считай, окопались. Пушки, сам знаешь, здесь уже, между могил. И ни шагу отсель! Пусть хоть сам сюда приезжает, хоть расстреляет меня здесь, на месте, своей рукой, ни с места отсель! Понят дело? Теперь Зарькова давай. Его на место скорей!
Лебедь обтер рукавом с лица пот, возбужденно прощупал карманы, достал сигареты.
— У тебя что? — спросил он Матушкина дрогнувшим голосом.
— Наш.
— А я вот, — Лебедь показал этикетку, — Испанию начал смолить. С «юнкерса» этого. Век бы не знал, да немец, спасибо, занес. — «Чиркнул спичкой. Рука с огоньком заметно дрожала.
— Ну! — принялся опять за свое лейтенант.
— Чего ну? Чего? Ах же… твою мать, привязался, как клещ! Ну чего тебе? — не выдержал Лебедь.
Зарьков неуютно поежился. А Матушкин теперь, когда вскипел и комбат, поспокойней потребовал:
— Звони. Вот чего. Или иди. Да живее, живей. Время не ждет. День-то февральский какой? Раз-два — и хвост уже показал.
Лебедь жадно, одну за другой сделал несколько затяжек.
— Ладно, — наконец сдался он. Бросил окурок, примял его каблуком. — Не стану звонить, пойду к нему сам. — Вздохнул напряженно. Взглянул на часы. — Скоро уже. Коммунистов всех собирают, вот заодно и пойду. Но, смотри, если не оправдаешь, наколбасишь, ты ответишь за все. Ты! На тебя все свалю! Прямо тебе говорю. Так и знай!
— Валяй, валяй! Черт с тобой! Вали на меня! — охотно согласился таежник. — Ну, — уже веселей схватил он Олега за плечи, — пока не поздно еще, давай выбирай. Может, мне на хутор? Хотя, смотри, здесь, на погосте, будет погорячей.
— Нет! Хватит об этом! Все! — отрубил капитан. — Встал здесь и стой! Сказано, на хутор его, и баста!
— Есть на хутор, товарищ капитан! — повеселел и Зарьков. — Признаться, он мне пришелся. Хуторок этот. На дачу нашу похож под Вырицей. Там, правда, пруд, сосны, пристройки кругом. А все остальное — как тут, на хуторе. На зимних каникулах всей семьей ездили на дачу. На лыжах катались. Осенью грибы собирали. Мама очень любила мариновать.
На миг воцарилась неловкая тишина.
— Значит, понравился хуторок? На дачу вашу похож? — прервал его с иронией Лебедь. — Вот и давай, милочек, на хуторок. Ты и давай, — ехидно потребовал он.
— Да, да. Просто здорово… Хутор этот… Для позиции, — спохватился, виновато смутился под взглядом комбата Олег. — Деревья, кусты, кирпичный забор… Есть где укрыться. Орудия укрыть.
— Вот и давай, давай. Маскируйся. Поможешь ему, — обернулся Лебедь к приморцу. — Ну, за дело, время не ждет, — заторопился теперь и он. — Я подъеду потом, посмотрю. — Помолчал. — Ох, как подумаю, что к бате идти. Господи, пронеси!
— Пронесет. Если что, все вали на меня. Скажи, я так решил, я и отвечу за все. Так и скажи. Головой отвечу. Ну, брат, пошли, — позвал приморец Олега. — Грунт-то на метр, чай, промерз, должно, как бетон. Пупы надорвешь, пока отроешь «опэ». Но смотри, — как тисками, схватил он Олега за локоть, — солдат не жалей. Ох, не жалей! Пусть долбят. Зубами грызут. Зарывайся весь, с головой. Пушки подкрась, подбели. Маскхалаты на всех. Понят дело? Вот так! Ну, брат, пошли! Поеду сначала к тебе, посмотрю, подскажу, а потом уж вернусь к своим. Ну, присели все! — Все присели. Матушкин поднялся первым. — С богом! — и по груде камней, кирпича пошел из часовни. Зарьков и Лебедь за ним.
* * *
Это было поле с готовыми уже, заваленными снегом противотанковыми надолбами: холмиками схваченных стужей простеньких могил, бетонными и гранитными, а кое-где даже мраморными надгробиями, оградами из чугуна и камней. Как амбразура дота, мрачно темнел одинокий вход в старинный полуразрушенный склеп, сиротливо торчала уцелевшая часть небольшой, из дымчатой яшмы колонны; местами из лежалых сугробов пробивались пожухлые ветки каких-то кустов да голо стояли вдали, за церквушкой, столбы тополей.
Еще и еще раз цепко прощупывая весь этот, видно, очень древний, многовековой погост одновременно и быстрым, и пристальным взглядом, Матушкин чувствовал, как в нем поднималось нечто похожее на ликование. Он сразу поверил в свой план, а уж теперь и вовсе не хотел допускать ни малейших сомнений и последние жилы из солдат тянул, чтобы все так и вышло, как рассчитал. Солдаты вовсю махали ломами и кирками, долбили землю и маскировали «опэ», превращая их в небольшую неприступную крепость. Дойдя до кладбища, немецкие танки, считал, лейтенант, должны повернуть и обязательно повернут: этих обледенелых засугробленных надолбов никакой ползучей твари не одолеть, ни за что не одолеть, да еще когда он ударит по ним из своих «громобоек».
«Все равно, куда повернут, — с нарастающим торжеством билось в нем, — налево, по полю, или направо, к бугру. Лишь бы свернули, подставили б только бока! Мне и Малышу».
И позицией, огневыми Зарькова таежник был тоже доволен. Час провел он у Олега на хуторе, подсказал, где пушки поставить, где фальшпушки, как все лучше, похитрее прикрыть, как, если вдруг случится что-нибудь непредвиденное, вести огонь с закрытых позиций, и об этом условились. И Лебедь после короткого — на десять минут собрания коммунистов перед схваткой (здесь он и встретился с батей) прежде всего завернул к Малышу. Не стал менять ничего: лучше приморца разве придумаешь? Осмотрелся. «Пожалуй, и мне лучше здесь… Какой он еще командир? — подумал комбат о Зарькове. — Неопытный, необстрелянный. Да и чем не «энпэ?» — кинул он взгляд на чердак крепкого кирпичного дома.
Так что с Олегом и с Лебедем тоже как будто было все правильно, хорошо. А с батей… Батя, как ни странно, внимательно выслушал Лебедя. Только вцепился глазами в него.
— Прорвутся — пеняй на себя, — процедил он. — Сам… Вот этой рукой!
Так что все дело теперь было за ним самим, за Матушкиным, за его первым взводом.
Солдаты уже разгрузили застывший по самые оси в снегу разболтанный «УралЗис» и от края погоста таскали к орудиям ящики со снарядами. Матушкин помогал им. А теперь, распрямившись в пустом кузове, видел, как, сгибаясь под ношей, продирался через сугробы между могилами правильный Тимофей Чеверда — один из самых старших на батарее солдат, колхозник из Винницкой области, хозяйственный, не очень выносливый и расторопный, уж больно полный и рыхлый мужик. Из-за гибели двух номерных на нем и на втором правильном, Степане Орешном, лежали теперь и снаряды: в бою подносить их к новому замковому — Пацану, а сейчас, перед боем, заложить их на огневой, а также в запасной погребок.
Шинель на Чеверде, как всегда, пузырилась, никакой военной выправки, из раскрытого рта без передних зубов — еще дома их будто бы вышибло дышлом — валил клубами пар. Орешный, тоже грузный, но сбитый и сильный, сортируя, растаскивал ящики со снарядами по погребкам — осколочные, фугасные, бронебойные. Барабанер, Огурцов, ефрейтор Изюмов долбили ломами и кирками очищенный от снега, скованный стужей грунт. Изюмов долбил исступленно, не командуя, не подгоняя никого из своих солдат, не глядя в сторону взводного.
«Ага, — заметил Матушкин, — заглаживаешь вину? Заглаживай, заглаживай».
Звенели металлом о камень и лед солдаты и на огневой Нургалиева.
Матушкин с присущей ему зоркостью, изобретательностью и хваткой, почти вожделенно сузив глаза, еще и еще раз оценивал расставленные здесь его взводом «капканы», «кулемы», «силки» и предвкушал, как притаившейся рысью выждет здесь, подпустит поближе и вцепится в горло врагу.
— Товарищ лейтенант! Ходьте сюды! — услышал он сквозь свое напряжение. Повернулся на зов. То кричал Чеверда. Он, видно, не выдержал тяжести, сбросил с плеч ящик со снарядами в сугроб. Крикнул снова: — Товарищ лейтенант, ходьте сюды! Швыдче! Хриц! Як живий!
«Чего еще там? — недовольно нахмурился Матушкин. — Погоди, погоди… Чего он орет-то? Будто бы фриц?» Пристальней вгляделся туда, откуда кричал Чеверда.
Высвобождая что-то, правильный сапогами и руками раскидывал снег.
Спрыгнув с машины, проваливаясь по пояс в сугробах, Евтихий Маркович стал продираться к нему.
На призыв Чеверды потянулись от пушек и солдаты с личным оружием, с касками. Здесь, на передовой, Матушкин и шага не давал никому ступить без них. Надоело всем долбить землю, а так хоть повод появился распрямить спины. Один ефрейтор Изюмов не бросил кирки.
«Натворил. Давай, давай теперь искупай», — взглянув в его сторону, опять упрямо подумал Матушкин. Через завалы снега пробился к уже столпившимся вокруг Чеверды обоим расчетам. Они расступились, и то, что Матушкин увидел, сперва удивило его: из сугроба, уже развороченного и притоптанного, жирно ломя чернотою глаза, выпирала огромная, словно печной чугун, и такая же черная и округлая голова. И, как ни был таежник далек от всякого искусства, все ж уловил, что голова эта, да и туловище, на котором она держалась, в общем, весь этот памятник был высечен из какой-то ценной породы и, похоже, довольно искусно. И тем не менее показалось приморцу, да и каждому, потрясенному столь неожиданным сюрпризом, что то вечное и прекрасное, что может вложить во все что угодно — в камень, в глину, в металл — человек, воплотилось на этот раз в ставшем символом зла лице немца: надменное, челюсть массивная, такой же нос над щелью сжатого рта; вместо зрачков тускло светился в лунках лед; под шеей, похожей на шею быка, бил серебряным блеском вделанный в камень настоящий орденский крест.
— Да-а! — приморец даже рот приоткрыл: ненавистная и все-таки чем-то приманчивая голова. Вгляделся в орден, в фуражку, в петлицы. — Никак генерал? Поди ж ты, — обратился он в удивлении к солдатам, — зима, бездорожье. Лишний ящик снарядов, горючего, теплой одежды, хлеба не взяли. А этого взяли. Понят дело? Вот так!
Орешный смотрел на камень сурово. Рябое лицо его, широкое, крепкое, еще не остыло от работы, горело.
— Пудов десять, — прикинул он памятник на глазок. — С подставкой если. А то и все пятнадцать. Ишь, суки, еще с жиру бесятся, — поразила его та же, что и взводного, мысль. — Да-а, мало мы их… Мало. Больше, крепче надо их, сволочей! Чтоб каждый юшкой умылся. В хавальник, в хавальник их!
— А можа, сам Гитлер велел? — Лосев смотрел на бюст завороженно, восхищенно. Скинул варежку. Рукой, исколотой, в шрамах, бережно погладил его. — Маста-а-ак точил: Ай и маста-а-ак! Робя, ить и впрямь, можа, фюрер велел? Генерал!
— А жинка? Чоловику? Могла и вона, — предположил Чеверда.
— Могла, — протянул Орешный раздумчиво. — Где надо тряхнула мошной.
— Ха-ха-ха! — развеселился Голоколосский. — Мошной. Да у нее… Молодая, наверное. Начальнички любят таких — свеженьких, пухленьких. Ей, наверное, есть чем махнуть и без мошны. Э-эх, как подмахнет! У-ух!
— Уй би тибэ! — ожог наводчика узенькими глазками Казбек Нургалиев.
— А тебе? — огрызнулся Голоколосский. — Сам бы, а? Наверное, еще бы позлее меня.
— С кэм гаврыш? — скрипнул зубами узбек.- 3 камдыр гаврыш. Камдыр!
— Да будет вам, — вмешался Орешный, — хватит ей и без вас. В фатерлянде полно своих кобелей.
— Не хватит. Найн! Нету, — сокрушенно, подражая немке, запричитал, затряс головой Пацан. — В Смоленске они, под Москвой, под Сталинградом…
— А здесь, у нас? В предгорье? Да и в горах? — напомнил помор.
— Да и у нас. Что мы, лыком шиты? — подхватил Голоколосский. — Вон, зажали. Поплачут гансики теперь и у нас!
Пока спорили, Семен Барабанер упорно смотрел в генеральский каменный лоб. Никто во взводе и похожего ничего не испытал, что уже досталось Семену — на шкуре своей порядки немецкие познал. И то, как Семен глядел на генерала, заметили все.
— Расстрелять его, падлу! — сорвал Пацан с плеча карабин. — А ну, брысь, лопарь! Гляди, гниду фашистскую пожалел!
— Я тебе… Смотри. Он мне еще — брысь! — оскорбленно взъерошился Лосев. — Сам ты гнида!.. — так и рвалось с его языка слово «фашистская», но не решился, пробурчал его про себя. А вслух отрубил:- Головорез! Тебе бы только стрелять, совести нет — рука не отсохнет.
— Ты мою совесть не трожь. Не трожь! — Пацан неожиданно побелел, губы в струну.
— А что ж ты такой?
— Какой? Какой?
— На расправу-то… Больно уж скор. Больно прост.
— Прикажут, и тебя застрелю!
— Да ты и сам…
— Что сам? Что? Договаривай!
— Видали уже. Застрелишь и сам.
— Да, застрелю! Хоть кого. Застрелю! — вдруг почти истерично, с вызовом выкрикнул Яшка.
— Э-э, доскакался уже, — уперся проницательным взором в Яшку помор. — Эк тебя уже как.
— А что? Как, как? Ничего со мной, ничего! Вот, вот… Смотри! И сейчас как пульну по этому гаду! — Яшка вскинул, прижал к щеке карабин, вмиг с жаром передернул затвором.
— Пали! — рыбак резко, демонстративно отпрянул от бюста, ткнув в него пальцем. — Пали! Ну, пали же, пали!
Пацан весь дрожал, кусал губы, целился, но не стрелял.
— Ну, пали!
Пацан целился, целился… Вдруг скособочил башку, потерянным взглядом уставился в Лосева. «Да что это я? — мелькнуло у Яшки в мозгу. — Дурней, что ли, всех? — карабин пошатнулся в руках. — Хватит с меня!» Мгновение помедлил еще, держа приклад у плеча, и вдруг опустил его. Выматерился, обтер лицо рукавом.
— Сам!.. Сам, нерпа полярная! — выкрикнул он. — Сам и стреляй! — Огляделся трезвея. «Я что, один в батарее? На чужом… На моем… в рай? Хватит. Довольно!»- Вон, — брезгливо кивнул он на Семку, — пусть теперь Барабан.
«Смотри ты! — удивленно, как минуту назад и помор, уставился Матушкин на Пацана. — Неужто? Зацепило, значит, его. Вон оно что!»
Остальные ничего как будто бы не заметили.
— А ну всыпь ему, Барабан, — усмехнулся скептически Игорь Герасимович. — Вжарь ему, вжарь!
— Йок! — сверкнул глазками Нургалиев. — Ты давай! Другой атайды!
Семен смешался. Мигал растерянно. Стал озираться.
— Чо, гарна мишень. Ты ему в харю, — посоветовал Чеверда. — Бий прямо в хрест!
Барабанер, неуверенный в том, что это ему нужно, не двигался с места. Голоколосский его подтолкнул. Из-за Семкиной узкой спины придвинул ему ствол трофейного «шмайссера». Барабанер неохотно потянул автомат на себя.
«Ага, не я, значит, только, — насторожился; казалось, чтоб не спугнуть Семку, Пацан, даже голову в плечи втянул, стал реже, тише дышать. — Ну, — забеспокоился он, увидев, что Семен остановился, не хочет расстреливать бюст. Подождал. Семен не стрелял. — Даже в камень не может. В камень! А я?» — скорбно толкнулось в душе Пацана.
— Погодь, — услышал тут он. Услышал и Барабанер. Оба подняли головы. Увидели перед собой шинель, собранный гузкой рот, ладонь корявую. Помор, вскинув руку, еще теснее придвинулся к бюсту. — Камень, ён камень и есть! Мастак ить камень точил. Мастак! Нехай, братцы, не трожь. Семка!.. Семен! Правильно! Так! Не стреляй! — почти умоляюще взглянул он на Барабанера. — А ты, — оборотился он к Яшке. — Не стрельнул. Прости. За давешнее-то прости. Не верится. Ну и ну!
— Во, полюбуйся, расейский мужик — добрый, отходчивый, — ткнул пригвождающе пальцем в помора Голоколосский. — Фрица… Он же нас убивал! Приказывал нас убивать! Сам, может быть, убивал! Я в госпитале чуть дуба не дал от ранения в грудь. А тебе его жаль!
— Не фрица мне жаль. Камень! Сам камень! — взмолился, обращаясь к Голоколосскому, Лосев. — Он-то не может стрелять! И приказывать тоже не может. А мастерство, рукотворство в себе затаил. И не стреляй! Ой, не замай!
— Что? А ну уматывай, не мешай! — возмущенно потребовал Игорь Герасимович. Кинул взгляд на Семена, на Яшку. Нет, ясно, эти не станут стрелять. И Орешный, и Чеверда. Понял, придется ему самому. Потянулся уже было за спину, за «пэпэша», да по привычке все учитывать, прежде всего не забывать о начальстве оглянулся на взводного.
Взводный хмурый стоял. Наблюдал. Прощупал всех острым изучающим взглядом. Встретил тревожный, просящий взгляд Лосева. С любопытством зыркнул на Яшку. Огурцов впервые, кажется, сник. Молчал. «Ты смотри, — взводный опять удивился почему-то. — Кто бы подумал? И это Пацан!» Помедлил еще. Шагнул решительно к бюсту. Обошел его, осмотрел.
— Во гад! — нахмурился он еще пуще. И вдруг: — Тьфу ты! — весело сплюнул, весь просветлел. — Надо же. И мне его жаль. — Поскреб задиристо лоб. — Мм-да… Ладно, — легко, свободно выдохнул Матушкин. — Давайте скиньте. В снег его, в снег. Там покуда пускай полежит. — Измялся морщинами его лоб. — Как, не сбежит? — пошутил.
— Не-а! Нема куда деру давать, — подхватил бойко, радостно Лосев. — Сейчас мы его… Ну-ка, робя! — и сам, подавая пример, наддал бюст плечом. Но генерал стоял стойко, как, должно быть, стоял и при жизни здесь, на чужой стороне, за что и убит и теперь лежит в чужой земле. И только когда навалились все разом, а Орешный еще и ломом поддел камень, генерал дрогнул, покачнулся и покатился в сугроб.
— Ура-а! — завопили солдаты.
— А теперь присыпьте его. До победы пускай полежит, а там поглядим, — приказал лейтенант. — И к машине все, — потребовал он, когда генерал снова исчез под снегом. — К машине! Живо! За мной!
— Ефрейтор Изюмов, к машине! — крикнул своему командиру Орешный. — Лейтенант приказывает! Скорее давайте, скорее!
Разгружая тягач со снарядами, Матушкин своим пытливым, постоянно ищущим взглядом подметил из кузова сверху то, что пропустили другие. Между холмами на ровном белом поле огромные черные пауки — где реже, где гуще, где наползли один на другого. Они, только увидел их, чем-то сразу запали взводному в душу. На белом сверкающем снегу земляные воронки от мин действительно походили на грязные паучьи спины, а дорожки, проборожденные в насте осколками, на долгие лапки этих больших пауков. Но что-то еще кроме удивительного этого сходства беспокоило Евтихия Марковича, пробуждало в нем смутное ощущение, будто он что-то открыл. Очень важное что-то открыл.
То, что мины рвутся, едва коснувшись не только земли, но и снега, даже былинки, травы, на фронте знал каждый. Знал Матушкин и то, что минные осколки ложатся равномерно во все стороны, не так, как снарядные, которые сносит туда же, куда летели и сами снаряды. Знал, но, как и другим, видеть не приходилось: осколки в полете, обычные, мелкие, заметить нельзя. А тут… Словно кто-то… Да кто же?.. Наши, конечно, скорее всего стодвадцатимиллиметровые минометы, а может быть, и «катюши» пропели недавно фашистам «майне либе фатерлянд» — прощай навсегда! Словно специально продемонстрировали, для наглядности сыпанули на небольшой пятачок более сотни мин. На белом гладеньком поле, как на ватмане, отпечаталась ясная схема, четкий и точный расклад векторов. И со всей очевидностью выходило, что часть осколков от мин разлеталась горизонтально над самой землей. Те же, что улетали вверх — вертикально и под углом, — Матушкина сейчас не интересовали. Но те, что интересовали, разлетелись горизонтально и притом радиально, лучеобразно и не сплошной смертельной волной, а довольно разреженно — между лапками пауков были почти равные углы.
«Что же выходит? — насторожился сразу же Матушкин и думал, думал все это время, пока шел на зов Чеверды, пока происходила вся эта сцена у генеральского надгробия. — Если учесть, что с удалением от воронки расстояние между соседними лучами увеличивается, то тогда… Да, тогда, бросившись на землю не поперек, а вдоль потока осколков, да-да, тогда можно вполне уцелеть. Так даже в двух, трех шагах от места разрыва можно остаться живым. Оглушенным, контуженным, но живым. — Матушкин даже прикинул, что при этом вероятность остаться в живых будет равна отношению ширины человеческого тела к его длине, то есть в зависимости от комплекции в три, четыре, пять раз больше, чем при падении поперек. Но решать эту задачу и дальше чисто теоретически, отвлеченно было не в натуре таежника. Его уже заботила мысль, как подойти к ней практически. — Ладно, это ясно: бросаться на землю надо от разрыва башкой, задом к нему, вдоль полета осколков. Даже если заденет, то задницу… Все-таки не мозги. Но где он произойдет, этот разрыв, вот в чем вопрос. Где? Попробуй определи, пока мина падает вниз».
Места падения мин нередко можно предугадать по их жуткому вою. Больше того, при определенных условиях их даже можно увидеть в полете. Как-то тяжелые немецкие минометы обстреливали наш, близко стоявший второй эшелон. По звукам выстрелов и разрывов Матушкин прикинул, что немецкие мины должны переваливать где-то над батареей. Задрав голову, он стал упорно всматриваться ввысь. Наконец нашел ту точку в чистом морозном небе, где, словно черные жучки, почти невидимые мины, как бы застыв на миг в апогее, начинали с воем рушиться вниз. Матушкин всем, приказал смотреть туда же, вверх. Поймать «жучков» взглядом было непросто. Первым после него поймал их Пацан, потом помор, видно, привыкший на северных океанских просторах часами вглядываться вдаль. Поймали и Ваня, и инженер, и даже неповоротливый Чеверда. Черт побери, мины, оказывается, можно увидеть в полете!
Верный себе, Матушкин тогда немедленно попытался использовать это. Заставил Изюмова подсчитывать вместе с ним. Без бумаги, в уме да немецким ножевым штыком по насту они довольно точно вывели данные для прицельной стрельбы по вражеским минометам. Поскольку Матушкин не имел права выдавать свои позиции, предназначенные для боя с танками, да и своими истребительными орудиями с малым углом подъема стволов никак было не достать находящиеся в глубоком овраге немецкие минометы, через связистов полка он передал данные на гаубичную батарею. Та минут через двадцать где-то далеко позади грозно взревела, и глухое уханье минометов сперва попритихло, а там и исчезло совсем.
«В общем, надо знать, где шлепнутся мины, и упасть у места разрыва не как попало, а направленно. А вот тут, — понимал он, — тут понадобятся хладнокровие и мужество, мгновенный и точный расчет. Возможно, даже придется отработать приемы, до автоматизма их довести. Но зато если суметь это все, а? Если суметь! — чуть азартно, даже ликующе взвешивал Матушкин свое неожиданное открытие. — Вот было бы здорово!»
Февральский день короток, а дел еще оставалось немало. Взглянул на часы.
«Ничего, — решил он, — минут пять, десять, не больше. Все равно надо дать солдатам передых». И, когда за ним оба расчета пробились через сугробы к машине, он немножечко даже весело крикнул:
— Взвод! А ну-ка быстрее за мной! В кузов все, в кузов! — и ухватился руками за борт.
— Проворней, проворней, ушкуйнички! — подхватил приказание взводного Голоколосский. — И осторожнее с батогами. Осторожнее! На предохранители их. Проверить! Всем проверить! Не забывать! — и сам первый за взводным, заклинив затвор своего автомата чекой, вскочил на подножку кабины. Вложил как-то по-особому под свои холеные усики, в рот один указательный палец и по-разбойничьи свистнул. — Все, все на ладью!
На них, на этих «ладьях»- старых «зисах» и полуторке, — батарейцы в составе бригады, сперва затыкая собой нежданные бреши, а позже, зимой, когда немцев помалу начали жать, за танками, нередко вместе с пехотой бросаясь со своими колесами и стволами в прорыв, за несколько месяцев обороны и контратак накрутили на спидометрах около двух тысяч километров. Первыми, как и царица полей, врывались на позиции, а то и на базы и склады врага. Тут уж вертись, не зевай. Замешкаешься — все заприходуют команды трофейников. Брали, правда, только самое необходимое: оружие и боеприпасы, бензин, теплые вещи и продовольствие. Углы в тесных кузовах каждого тягача были завалены трофеями. И в той машине, куда взбирались, кроме прочего, стоял и бочонок с густо соленой черной икрой. Икры оставалось на донышке, о бочонке Матушкин велел не болтать. Узнает начальство — сразу лапу наложит. Так же под строгим командирским надзором возили с собой и канистру со спиртом — не русским, не хлебным, а немецким, химическим. Но в иную дорогую минуту и он был донельзя хорош. Фронтовые законные сто граммов на походном сквозном ветру в лютый мороз сгорали в промерзших неполных желудках, и глазом не успеешь моргнуть, не согревая и не пьяня. Матушкин и лишку подливал. Однако только в особых случаях: плеснул всем по холостой гильзе ракетницы, когда на Волге охватили котлом всю армию Паулюса, потом еще, когда сразу после дружного короткого артиллерийского налета бригада сама, без пехоты ворвалась в большую станицу да еще когда в одну метельную ночь на марше батарейцы провалились по пояс в ледяное крошево какой-то протоки. Этим спиртом Матушкин сам растирал Изюмову ноги, спину и грудь. Не хотел его, хворого, пылающего жаром, отдавать в медсанбат.
Словом, обходя, наседая и прорывая, солдаты и впрямь кое в чем вели себя, как «ушкуйнички», и по приказу взводного весело взбирались теперь на «ладью», раскачивали ее, как на волнах. Барабанер схитрил: вскочил на подножку за Голоколосским, взметнулся затем не на борт, как Игорь Герасимович, а на округлое склизкое рыло «зиса», с капота наг крышу кабины, а с нее уже первым спрыгнул в кузов. Брякнули о дно подкованные немецкие сапоги, а о борт автомат, тоже немецкий, трофейный, на коротком, искусственной кожи ремне. Барабанер прижал его к ребрам, ловко, уверенно, лихо, презрев боль в ноге и только скорчив гримасу. И все остальные полезли, бренча не только родными «пэпээсами» и «пэпэша», но и немецким оружием: за поясами у некоторых торчали «парабеллумы» и «вальтеры», сверкая нержавеющей сталью, били иных по ногам офицерские «мессеры» «аллее фюр дойч», в углу кузова стоял торчком «машиненгевер» и к нему алюминиевые коробки с двойным комплектом патронов и железный кованый ящик с ручными гранатами — нашими и немецкими с длинными деревянными ручками, вперемежку. Стояла бочка с резервным, тоже немецким бензином и всевозможный шанцевый инструмент.
Матушкин оглядел всех, не вместившихся в кузов, облепивших скаты, кабину, борта. Изюмов, бледный, поникший, стоял на передаем колесе, навалившись коленями на капот. Казалось, он ничего не воспринимал, был как не свой.
«Нехорошо, — снова, как и тогда, в погребе, кольнуло Евтихия Марковича. Поморщился, цокнул досадливо языком. — Нехорошо. — Еще раз внимательно посмотрел на Изюмова. — Ладно, потом. Сперва решим с этим».
«Пауки» были повсюду вокруг машины, особенно много воронок чернело впереди, перед ней.
— Смотрите, — приподнявшись, встав на коробку с патронами, Матушкин ткнул рукой в «пауков». — Видите? Да вот, вот. Смотрите! Разрывы! — И, экономя минуты, помогая руками, объяснил, что к чему. — Инженер что-то съязвил. Мол, бессмысленны и беспомощны все эти усилия и уроки. Чушь это все, ерунда. Пули, а тем паче осколки — их полет и вообще хаос, нелепица жизни, особенно фронтовой — неуправляемы и бесконтрольны, сильнее всех самых точных предвидений и расчетов. И, как ни падай, хоть вниз головой, кому что написано на роду, тот и получит свое. Откровенно зевнул.
Матушкин метнул в его сторону ледяной пригвождающий взгляд: он тут по крохам, из пустяков стремится слепить хоть какой-то дополнительный шансик на жизнь, а этот… Конечно, не делать ничего, зубоскалить, язвить куда проще, чем что-то придумать. Игорь Герасимович тотчас пригнулся, поспешно задвинулся за тучного Чеверду.
— Ничего себе паучки. Вот бы живые! — шало оглядел их Пацан.
— И на фрицев бы их! Зараза их подери! — понравилось это и Лосеву. — И танков не надо. Побегли бы от их — не догнать! — зареготал. Его поддержали другие.
— Кончай! — оборвал их лейтенант. Все затихли. Дальше слушали молча.
— Вопросы? — закончив, спросил отрывисто, лейтенант.
— Так это что же тогда? Не только с минами, значит? И с гранами так? — косясь чуть виновато на всех, подметил Пацан. — Тоже, выходит, можно? Между осколками. — И вдруг предложил:- Давайте, товарищ лейтенант, а, проверим? Я это… Чесану, значит. Прямо сейчас вот, по снегу. А кто-нито это… значит, гранаточку мне. Проделаем опыт?
Евтихий Маркович скорее догадался, чем понял, что предлагает Пацан, так это было безрассудно и дико — самому умышленно бросаться на смерть, под свою же родную гранату.
— А ты это… Не того? — покрутил Лосев пальцем у лба. — Гляжу я на тебя. Еще с этого… С лета? С солдата того. Чокнутый, что ли, ты? — снова коснулся он пальцем виска. — Какой-то… Пустая жестянка вроде. Сквозняк… Куда занесет. И как тебя земля только носит?
— Носит! Носит! — как и давеча, вдруг взвился Пацан. — И хватит… Хватит меня попрекать! Ну, чего я вам? Чего ты? Чего вы все на меня? — горячо, с тоской воззвал он ко всем, оглядел всех, вскинув к груди кулаки. — Кто-то должен был… Вы же никто!
Ваня Изюмов так и выпялил глаза на Пацана. И Игорь Герасимович. Да и все остальные. И неясно было, сочувствуют они Пацану, поддерживают его или нет.
— А пошли вы все! — обиделся Яшка. — Какой есть, такой есть! Мама таким родила! И… Плевать на все я хотел! А ну-ка! — И, раздвинув толчком стоявших рядом с ним Орешного и Чеверду, вскинул ногу на борт. Раз — и на нем уже. Плюхнулся в снег. Вскочил. И сугробами прочь. — Кидайте, мать вашу!.. А ну, давай-ка, помор! Может, ты прав, лишний я на земле, Кидайте! Двум смертям не бывать!
Кузов, ходивший до этого ходуном, на секунду затих.
— Наза-а-ад! — взревел яростно взводный. — Назад! Пацан продолжал продираться сугробами.
— Ах ты!.. Назад!
Пацан обернулся. Застыл. Сел беспомощно в снег.
Когда ему помогли снова взобраться в машину, он, не глядя ни на кого, бурчал что-то невнятное. А лейтенант, все еще возбужденно, недобро косясь на него, старался ему втолковать:
— Граната! — это не мина тебе. У гранаты корпус какой? — сверлил он Яшку глазами. — Слабый, жестянка. У «лимонки» чугунный. Но тоже рвется на сотни осколков. На сотни! Понят дело? Вот так! И не ударный механизм у нее. Вот что главное. А запал. Это все понимают? — спросил, подняв голос, он. — Так что может взорваться и в воздухе. Ишь, герой мне нашелся. Додумался!
— Да истерика, товарищ лейтенант, у него, — вступился Лосев за Яшку. — Совесть заела. Значит, есть.
— Чтобы больше не слышал. Не видел чтобы больше такого! И вы, — обратился к Лосеву, ко всем остальным. — Чтобы мне его больше не трогать. Кто старое помянет, тому… — пригрозил он кулаком. А сам опять покосился на Яшку. «Неужто на самом деле?.. Серьезно? Решился? — И тут же поверил:- Этот да. Этот такой. На минуту бы, а герой! Вот они, сосунки. — Вспомнил Кольку. — Нет, вроде бы сын не такой. Сумел я в нем это… Да и тайга. Она хоть кого… Нет, Колька у меня вроде другой», — утешился Матушкин этой надеждой. Оглядел снова всех. — Значит, так, — остановил он невольно опять взгляд на Яшке. — Услышите мину, не давайте ей шлепнуться сбоку. Сразу задницей к ней. На худой конец, хотя бы башкой. Все в четыре раза надежней. А уж если в башку, то уж сразу, не мучиться.
— Лучше все-таки задницей, — не преминул с удовольствием подчеркнуть инженер. — В худшем случае, что? Еще одна дырка, и только.
Взвод, еще минуту назад удрученный новой Яшкиной выходкой, разом заржал.
— Конча-а-ай! — оборвал смех лейтенант. — А теперь по местам! И закругляйся. И быстрее, быстрее. Кончай огневые! — Взглянул на часы. — Время не ждет! Побыстрее! Полчаса… Ладно, час, и чтобы закончили мне! А я пойду погляжу. С фронта пойду погляжу. Что увижу сейчас, то завтра увидят и немцы. Понят дело? Вот так!
* * *
Едва Матушкин выбрался за пределы кладбища, как под ногой что-то брякнуло. Разбросал сапогом сугроб, увидел немецкую каску. Со злобой ударил ее носком сапога, она кувыркнулась. Пока шел от кладбища в чистое поле, наткнулся еще на несколько вражеских касок и сообразил, что шел он в гуще немецких солдатских могил.
«Смотри, не пожелали лежать в голой степи, к нашим притулились. А генерал и вовсе на самом погосте. Да-а, — довольно захлопал, потер ладонями Матушкин, — несладко, чай, на чужбине лежать? А где в земле сладко?»- тут же грустно мелькнуло у Евтихия Марковича.
Надо было как можно дальше отойти от взвода и взглянуть на огневые позиции с той стороны, откуда завтра пойдут на них танки. Выйдя в чистое поле, Матушкин совсем увяз в белой каше. Покрылся испариной, распахнул тулупчик. Почти прополз еще метров сто и только тогда оглянулся на взвод. Что увидит сейчас, то завтра из танков увидят и немцы.
Евтихий Маркович знал, где зарыты в землю оба орудия, пристально вглядывался туда и то заметил их лишь потому, что рядом с ними топтались солдаты. Как и рассчитывал, огневые терялись в неровном рельефе заваленного снегом погоста. Но все-таки, вглядевшись получше, заметил у второго орудия черневшие комья земли, желтые лежалые глыбы льда, а там, где прежде стояла щетинка кустов, было подозрительно выщипано.
«Эх! — досадливо поморщился Матушкин. — Предупреждал же. Так нет, пообломали». Увидел чуть возвышавшийся над бруствером орудийный щит. Опять подосадовал. Значит, придется еще на полштыка подрывать огневые.
Семидесятишестимиллиметровые дивизионки, когда получали их, очень понравились Матушкину. Не чета той первой, единственной на всю батарею «хлопушке», что, надрываясь, тащили по песку мерин, гнедая кобыла и два заезженных жеребца. Почти вдвое мощнее и дальнобойнее. А вот щиты новеньких дивизионок Матушкину не понравились — уж больно они были высоки. «Да, с такими, — сокрушался при получении орудий Евтихий Маркович, — враз пропадешь». Долго терзался: как в бою такую колымагу укрыть? Пока, наконец, в одну из счастливых минут не смекнул: а что если побоку щиты? Даже нет, только верхушки щитов? Главный враг у артиллеристов-истребителей не осколки, не пули, а танки. И двадцать самых высоких щитов не спасут, когда танки своей броней прут на орудия, когда бьют по ним прямой наводкой. А так, без верхнего гребня щита пушки от танков легче укрыть. И, никого не послушав тогда, даже вступив поначалу в конфликт с начальством, Матушкин своего добился: нашел в какой-то технической части автоген, пообрезал пушкам щиты, они стали приземистей.
«И все же торчат, — сжал плотнее губы таежник. — Еще глубже, глубже надо в землю зарыть, стволы надо положить прямо на брустверы. — Вспомнил, что всяко бывает в бою, оглянулся. Нет, поле от взвода уходило не под уклон, а на подъем, кое-где даже холмилось. Значит, под нижним углом стрелять не придется. — Да, можно прямо на брустверы. Подкрасить. Колеса, щиты, хоботы. Подбелить. Известочка есть. Да и снежком… Все, все вокруг надо присыпать снегом».
Матушкин знал: рано ли, поздно, но, когда танки пойдут, взвод они все равно обнаружат. Этого не избежать. Но главное, не дать обнаружить себя еще до стрельбы. Самые точные залпы — это внезапные, первые, и ради них, кровь из носу, всю работу надо проделать. Потом, бешено вырвавшись из стволов, пороховые газы все равно сметут вокруг огневых весь камуфляж. Но это потом. Тогда вся надежда уже на фальшпушки.
А ими охотник остался доволен. Из дореволюционного, чудом уцелевшего склепа еще, должно быть, какой-то дворянской семьи торчало бревно. На наружный его конец солдаты напялили котелок вместо дульного тормоза. Повалили одиноко торчавшую посреди кладбища небольшую колонну, подукрасили под ствол и ее. В пылу боя из танка сойдет за орудие и она. Чуть впереди между пожухлыми кустами тамариска темнела брошенная немцами горная гаубичка, приволокли, использовали и ее. Особенно удачной показалась приморцу четвертая, сооруженная его солдатами «кукла» — из печной обгоревшей железной трубы и листа трухлявой фанеры. За ней из шинели сделали чучело. Все как бы замаскировали кучами снега и ветками.
«Хороша! Ай, молодцы! — порадовался охотник. — И в ста шагах не поймешь. На эту пойдут, клюнут. Это уж точно. И старый лосось на обманку берет».
Полюбовавшись «куклами», Евтихий Маркович даже довольно присвистнул и зашагал по своему следу назад. Когда допыхтел до своих, первым к нему подбежал сержант Нургалиев, коренастенький, по плечо командиру, упругий.
— Товарищ лейт-на-а-ат! — вытянулся он и стал чуть выше. — Первый орудий боим готов! — черные живые глаза узбека так, кажется, и обдавали взводного жаром. И такая в них, в этих, хотя и юных, но уже змеино пронзительных и каленых глазах выражалась готовность на все, столько в нем, как в сжатой стальной пружине, чувствовалось затаенной собранной силы, изворотливой непобедимости, расчетливой уверенности в себе, что, казалось, он только и ждет, когда наконец его пошлют в бой. Пойдет и сломит врага, и победит. И это было главное и самое сильное впечатление от Казбека.
«Вот бес! — восхитился таежник. — Бес! Ну и бес! Какому-то еще фрицу нынче не повезет?» Однако, уняв внезапный восторг, строго сказал:
— Готово, говоришь? А это что? — показал он рукой на темные комья земли. — Замаскировать! Снаряды все в окопчик, в основной погребок. Больше двух-трех ящиков на огневой мне не держать. И поглубже мне еще огневую, поглубже. На штык!
— Эст! — кинул к виску маленькую смуглую ладонь Нургалиев.
— Понят дело? Вот так! — заключил лейтенант и направился к первому орудию.
— Т-т-товарищ лейтенант, — спотыкаясь, начал докладывать Ваня. — Второе орудие к бою г-г-готово, — голос сорвался, взвился петушком.
«Вот черт, — уставился в испуганное Ванино лицо Матушкин. Никогда еще не видел его таким жалким, растерянным. — Сломил. Неужто сломил? — встревожился он. — И надо же, а, перед боем! Может, — мелькнуло настороженно в его голове, — сказать ему что-нибудь? Поднять дух… Э-э, — сжались невольно у него кулаки, — да как я мог? Поднять пистолет! На кого? На мальчишку. Как?.. Нет, надо подбодрить…» Но что-то мешало. А вдруг не поймет? Не так все поймет, не на пользу жалость пойдет, повредит. И не сказал. И виду не показал, что жаль ему стало провинившегося. И все-таки, оглядев огневую, заметил помягче:
— Ну что, неплохо. Но надо поглубже. Чуток. Ну хотя бы на штык. Я вот ходил, — махнул он рукой в поле, — поглядел. Да вас же завтра… Первыми же снарядами — и нет вас. Значит, так, — уже жестче потребовал Матушкин:- Хобот чтобы по брустверу. Снегом мне все присыпать. Снегом! Пушку известочкой. Не ленись. За лень сейчас одна плата — смерть. Поднови. — И вдруг, Ваня даже не поверил сперва, взводный тронул его за плечо. Тронул, застил так на миг, глядя в глаза. — Может, помочь, а?
— Нет-нет, — испугался Ваня. — Мы сами… Я сам.
— А то смотри, помогу. — Матушкин внимательно рассматривал Ваню в упор. — Как знаешь. Смотри.
— Пора на передых, — подал за своего отделенного решительный голос Орешный. С силой воткнул в бруствер лом, — Хватит. Аж круги в глазах.
— И пожрать, — поддержал Чеверда. Направляющие жили дружно: вместе ворочали станины и во всем остальном тоже всегда действовали заодно.
— Конча-а-ать! — оборвал лейтенант. — Жрать… Отдыхать… Стемнеет, тогда и будет вам жрать! Я тоже не жрал! Вот, сереет уже. Нельзя и минуты терять!
— Крутой вы больно у нас, — недовольно буркнул сквозь зубы Орешный.
— Будешь крутой, когда немец… Здесь кто кого сгреб, тот того и… А ну, бери лом. Бери, бери!
Орешный неохотно потянулся за ломом. Потянулся за лопатой и лейтенант. Стал бурно рыть снег. Он явно вызывал всех на состязание: кто так же, как он? Но он-то старался со свежими силами, а солдаты давно уже повыдохлись. И все-таки, видя, как старается командир, приободрились и оба расчета.
Минут через двадцать, взопрев без привычки, Матушкин сделал передых: скинул тулупчик, ушанку. Встретившись с Изюмовым взглядом, вдруг озорно ему подмигнул.
Ваня весь сжался. После выстрела из пистолета забота, внимание лейтенанта пугали его.
«Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь», — вдруг всплыло в памяти. И он еще упорней заработал киркой.
* * *
Сначала из-под груды камней показалась рука, потом грудь, сплющенная, как лепешка, наконец, размозженная голова — какой-то бурый ком. Рядом нашли и винтовку. Оптический прицел был разбит.
«Вот он. Этот… Этот убил, — уставился Ваня туда. Напрягся, побагровел. — Гад! У-у, гад!»- уже не мальчишка, не «мамин сынок», цедил он мстительно, злобно, как мог бы сам взводный, как Матушкин. Из-за этого фашистского снайпера погибли Пашуков и Сальчук, пришел в бешенство лейтенант, пригрозил отдать его, Ваню, под трибунал. Кажется, Ванечка впервые почувствовал ненависть. Стиснул зубы и кулаки. Но тут же и отвернулся — невозможно было смотреть на это кровавое месиво. Отвернулись и Лосев, и Орешный, и Чеверда. А Семен смотрел. Смотрел молча, упорно. Но выносить из церквушки не стал — отказался.
Когда Нургалиев и Голоколосский поволокли убитого снайпера на улицу, Пацан, как и все, сперва тоже стоял в стороне. Что-то в нем, прежнем, как будто разладилось. И все-таки вид поверженного ими врага подмывал его, и, скаля щербатые зубы, он вдруг сорвался и тоже пошел с трупом рядом. Раза два подсобил, уцепившись за свисавшую с немца полу шинели, и с удовольствием матюкнулся. А тело за часовней швырнули в сугроб.
Наваливалась ранняя зимняя ночь. Солдаты спешили. Проломы в стенах церквушки задраили плащ-палатками, одну дыру над дверьми оставили под дымоход.
О фашисте за делом забыли. Но там, где его нашли, все старательно выскребли, притрусили щебенкой.
У порога внутри уже разгорался костер. Все столпились у огня. Из города приковыляла полуторка, привезла старую мебель на дрова, пару матрасов, перину, где-то нашли и солому. Ею устлали весь пол, командиру положили перину. Кто-нибудь нет-нет да и подкинет соломки в огонь. Церквушка тогда ярко озарялась. Дым хотя и валил в «дымоход», расползался, однако, и внутри, ел глаза, першило в горле. Но после морозного тяжелого дня, после недели на колесах здесь было как у Христа за пазухой — спокойно, уютно, тепло. Хотя все измучились, всех смаривал сон, его настойчиво отгоняли. Ждали. Упревала пшенная каша в котле, в ведре вскипал чай. Сбоку на трех кирпичах к огню прижался тазик. В нем вкусно потрескивал жир. Семен собирался варить шоколад.
— Не томи, Барабанерман! Расторопней, расторопней давай! — покручивая пшеничные усы, с напускной строгостью потребовал Голоколосский. — Какой же ты одессит? Там вроде шустрые все.
Семен и сам спешил, старался вовсю. Суетился. Глотал от голода слюни. Пропустил подначку мимо ушей.
— Молчишь, Барабанович? А ведь обязан ответить. Да, да, не отмалчивайся, обязан! Я ведь… Я кто? — многозначительно ткнул себя пальцем в грудь Игорь Герасимович. — Я, как-никак, старше тебя и возрастом, и званием. Какой-никакой, а ефрейтор! Их бин, — подмигнул он, — ефрейтор! Фюрер и тот, говорят, с ефрейтора начинал. А ты вон еще рядовой.
— Чего привязался? — вступился за Семку помор. — Фюрер… Это же надоть! Нашел пример с кого брать. С бесноватого!
— Что-о? — вскинулся Игорь Герасимович. — Ты эти штучки мне брось! Я покажу тебе пример! Ишь, ловкий какой… Смотри, — обратился он за поддержкой к солдатам, — базу подвел. Я тебя, треска беломорская, быстро за жабры.
— А я тебя, каланча городская, за твою поганую пасть. Как ты с солдатом молодым обращаешься? — уперся руками в свои впалые, сухие бока расходившийся Лосев. — Вон Изюмов. Младше тебя, а умней. Тожеть ефрейтор. И не наводчик, как ты, а уже командир.
— Командир… Ха! Угробил двоих. — Инженер вдруг осекся, покосился на одиноко застывшего в темном углу вновь испеченного командира первого расчета, потом осторожно на взводного. Тот уже обернулся к нему. Инженер втянул голову в плечи.
— Ты-ы! — только и успел осечь его Лосев.
— А ну тебя, — решил отделаться от помора Игорь Герасимович. — Чего встрял? Не к тебе обращались.
— К тебе, не к тебе, а надоть это, — наседал, не сдавался помор, — Надоть того, — покрутил он заскорузлым пальцем у лба. — Смекать надо, ты, инженер. Он же как? Барабанер-то наш. Не как-нибудь там… Рецепт у него.
— Рецепт… Не смеши просвещенных, — осек помора Игорь Герасимович. — Педант он, вот он кто. Знаем мы их, шагу без системы не ступят. Все у них так. Все чтобы по логике им, по науке.
— У кого это у них? Кому это им? — уловив в словах, в голосе Голоколосского тайный намек, выступил из угла, из полутьмы ближе к костру Ваня Изюмов. Наклонился к куче изломанной мебели.
Барабанер настороженно вскинул кудрявую темную голову, уставил загустевшие сразу глаза в ухмыляющуюся рожу наводчика второго расчета.
Инженер пригладил усы, хитро прищурился.
— У кого… Да у педантов, у теоретиков этих там всяких, — помедлив, уклончиво ответил он. — Ох уж эти рецепты, системы, теории мне! Только застят глаза, засоряют мозги!
— При чем тут теории? — выпрямился Ваня со старым стулом в руках. Размахнулся им, хватил со всей силой о стену. Раздирая сиденье на части, стал бросать их в костер. — И потом… Так уж и застят? Напротив, все считают, что освещают. Теории теориям рознь. Научные…
— Гм, считают… Научные, — хмыкнул Голоколосский, тронул с усмешкой мизинцем усы. — О людях, их жизни, что ли? Э-эх! — вздохнул он презрительно. — Мальчик. Подрастешь, с губ сотрешь молоко, в настоящей жизни повертишься. Пооботрешься среди разных людей. Вот тогда и поймешь. Слишком мы человеки, наши жизни необъятны, подвижны и противоречивы, чтобы их, не греша против истины, удалось полностью охватить, включить в какие бы то ни было системы и теории, точнехонько предусмотреть и отладить. От них, этих идеалов и схем, столько же пользы, сколько и зла. Засоренье мозгов. Мертвечиной от них нередко несет за версту — от этих теорий и схем. Слепо поверишь… Уверуешь в них, того и гляди, споткнешься о череп, о кости.
Матушкин лежал на перине. Хотя и дремал, все же слушал вполуха, о чем говорили солдаты. Вдруг уловил главную мысль Голоколосского. И удивился: «Недаром инженер. Ишь, какого закрутил. — Перевернулся с бока на спину, задумался, уставившись взглядом в изуродованный взрывами свод. — Так, по-твоему, что, — восстал невольно Евтихий Маркович против неправедных слов наводчика, — ерунда это все, по-твоему: план, расчеты? — на свой лад, несколько узко понял инженера охотник. — И мой, значит, план, весь этот рубеж наш, что, тоже, значит, по-твоему, ерунда? — Матушкин сейчас воспринимал все только сквозь призму предстоящего боя и ни о чем другом думать не мог. Беспокойно заерзал на непривычно мягком и теплом ложе. — Нет, брат, — в какой уже раз, все снова прикинув в уме, успокаивал он себя, — с кем, с кем, а уж с немцем… Тут, брат, как? Тут, брат… У них, гадов, свой точный план, а я им свой. Тоже… Да еще, может быть, и получше, более точный. Я-то ведь знаю: нет им иной дорожки, только к броду, на мост. Вот и учел, вот и выстроил свой план. Какое же тут засоренье мозгов? Никакого тут засоренья нет и зла никакого. Напротив, добро одно. Ты это брось…» — мысленно пригрозил он Голоколосскому. Скинув с себя этим спором одолевавшую» его дрему, Матушкин теперь стал ловить слова инженера в полное ухо.
Голоколосский хотел, чтобы Барабанер какао и все остальное сразу вывалил в таз. Вкус, считал он, от этого не изменится, а шоколад будет готов намного быстрее.
— Эх, размаха нет у тебя, не хватает размаха. Так чтоб, знаешь… По-нашему чтоб!.. А ну-ка вали сразу все, — потребовал от Семки Голоколосский. — Слышишь, вали! Давай, давай! Дай-ка я сам!
Голоколосский, длинный, как жердь, протянул мимо него руку, схватил красивую, с золотистой этикеткой пачку.
Семен его оттолкнул.
— Ах, ты!.. — замахнулся инженер.
— Но, но! Еще чего мне! — гаркнул Матушкин. — А ну кончай! Ты что? Заработать у меня захотел?
Голоколосский застыл. Оглянулся с опаской на лейтенанта. Остальные плотней обступили его и Семена.
Вот так же, как солдаты сейчас вокруг него, бывало, стояли возле бабушки Раи Семен со своими сестренками. У сестренок жадно горели глаза. Отвлекая, шамкая ртом, бабушка им объясняла: вот, мол, глядите, масло в кастрюлю кладу, ставлю на примус, вот жир закипел, сыплю в него какао, лью мед, бросаю корицу, ваниль. Все мешаю теперь. В корявых руках бабушки Раи трудно ходила тяжелая деревянная ложка.
Корицей, ванилью даже немецкий транспортный «юнкере» не оказался богат. Ни медом, ни сливочным маслом. Только какао нашли, рафинад, маргарин. А все остальное Семен делал, как бабушка Рая. Голоколосский же лез не в свое дело, только мешал да еще на что-то там намекал. Прямо, конечно, он не смел ему сказать, да и вряд ли хотел оскорбить. А если бы и хотел, кто бы ему позволил это? Но Семену все равно было обидно: или не всем одинаково достается от этой проклятой войны? Из его семьи, наверное, уже никого нет. Ни отца, ни матери уже у него нет, ни сестренок. Нет уже и бабушки Раи. А он, может быть, для того и уцелел, чтобы отомстить душегубцам за них. И что, не так разве воюет, как все? Разве трусливей других? Конечно, бывает и ему страшно, как и всем, но не прячется же, наоборот, старается быть храбрее других. Лишь бы чего не подумали, не сказали чего о нем. Чувство такое, будто с него двойной спрос, должен быть лучше, отважнее всех. Вот и сейчас старается, варит… Все будут есть, тот же Голоколосский. А вот все равно… За что? Почему? «Ладно, — гордо склонился над тазом Семен, — увидит еще долгоногий усатик этот. Увидят! Буду… Должен быть смелее, умнее, умелее всех».
Наконец Семен стал сыпать в таз порошок. Все оживились.
— Сол, пэрц не пазабиль? — не удержался, сострил даже строгий, скупой на слова Нургалиев. — Э-э, лучше барана на таза. Баран… Бэшбармак. Ай-ай, как карош!
Маргарин в тазу от какао начал темнеть коричневым стал.
— Глянь, ребята, говно! — пораженно вскрикнул Пацан. Оживился. Словно и не было ничего — у воронок у этих, у «пауков», не он кидался с машины в сугроб. Тотчас ложку извлек из-за кирзового голенища, нырнул ею в таз. — Да-а! — восхитился Пацан, осторожно лизнув с пылу с жару жидкое варево. — В жизни такого еще не едал. Ай да Семен! Ну и даешь!
Семен, довольный, отбиваясь от ложек, потащил таз на мороз.
Пока ели кашу, он раза два выбегал из часовни, смотрел, застыл шоколад или нет. Наконец внес, поставил таз на солому в самой гуще солдатских ног.
Навалились на паривший еще, источавший дурманный дух коричневый блин, аж треск за ушами пошел. Колотили довольно в Семкину спину. Опьяненные отдыхом, насыщением и теплом, солдаты на время забыли про кровь и смерть. Посыпались подначки и шутки, вспоминали — весело, всуе, по-русски — и бога, и душу, и даже мать. Взводный не стал затыкать солдатам рты: пускай отведут души. И сам тоже немного расслабился: жевал шоколад, сладко жмурился. Но не пьянел, как солдаты, старался есть спокойно и чинно, с достоинством, ни на миг не забывая, что уже скоро загрохочет здесь, у их случайного фронтового приюта бой с немецкими танками и начнет поливать их свинцовая смерть.
В сторонке, за клиросом, снова затихнув, хлюпая носом, уплетал свою порцию шоколада из котелка Ваня Изюмов. Неяркий свет автомобильной переноски сюда не доставал. В пляшущем свете костра лицо Вани то освещалось, то расплывалось бледным пятном. С минуту Матушкин не сводил с него глаз. «Неужто еще казнится, не простил еще ни меня, ни себя? — Евтихий Маркович заерзал на перине. Еще раз-другой беспокойно, сочувственно зыркнул на Ваню. — Все, хватит. Так дальше нельзя», — вдруг проникся он к нему состраданием и, чтобы дать ему выход, спросил неожиданно для себя самого:
— Ну как? Шоколад-то? Ишь, так и метут, так и метут, — кивнул он на солдат.
Ваня, не ждавший вопроса, растерялся, перестал жевать.
— Ну, прямо экстра! — покрутил ложкой в своем котелке лейтенант. — Что тебе «Красный Октябрь». Только что не плитками, не в серебряной обертке. А так… Барабанер! Боец Барабанер! — довольно пророкотал он со своей высоты. — За выдумку, за смекалку… За праздник бойцам объявляю вам благодарность!
Барабанера похвала эта — от самого лейтенанта, считай, что официально, по службе — застала врасплох, и он растерялся, обернулся к нему, весь пылающий от костра, от удовольствия, от всеобщего признания, и от смущения опустил голову.
— Верно, товарищ лейтенант. Это вы своевременно. Заслужил! — видно, опомнившись, заглаживая свою перед Семкой вину, несколько выспренне поддержал взводного Голоколосский. — Перед строем. Приказом ему. И от нас, — обернулся он к Барабанеру, — от солдат фронтовая, боевая, сердечная тебе, товарищ Семен Барабанер, — отчеканил он точно и ясно, — всеобщая благодарность! Ура-а! — крикнул игриво и тем не менее приподнято, искренне он. Все поддержали. — Ура-а! Вот так, Семен Барабанер. От имени и по поручению крепко жму вашу… вернее, ваши умелые, золотые… прямо-таки шоколадные руки! — Голоколосский ловко, молодцевато вскочил, схватил Семкины руки — тот едва успел поставить на камень свой котелок — и стал их трясти.
Солдаты еще больше разгорячились, все повскакивали, чуть не начали Семку качать, и лишь теснота не дала им таким образом выразить свой восторг.
Не принял участия в этой бурной всеобщей признательности только Ваня Изюмов. Матушкин все тотчас отметил, и это еще более обеспокоило его и сильнее потянуло прямо теперь же, немедленно, хоть как-то, пусть самую малость, выправить положение, вновь как-нибудь вернуть подчиненному прежнее самоуважение и уверенность в себе, да и доверие к нему, Матушкину, его командиру.
— А тебе что, не нравится? — наклонившись в его сторону, спросил Евтихий Маркович как можно более примирительно. — Шоколад-то?.. По мне, лучше не бывает. Всю жизнь бы едал. — Для наглядности нырнул снова ложкой в свой котелок, а затем в рот. — А главное, сытно, питательно. Жив, цел останусь, себе в тайге стану варить…
Рот у Вани был полон. Он не мог ответить. Стал срочно глотать. Да и не ожидал такого тона — дружеского, радушного — и растерялся, опешил.
— Молчишь! — упрекнул его взводный. Ваня молчал.
— Да вас… Вас берегу ведь! Вас! — не дождавшись ответа, с горечью, страстно выпалил Матушкин.
Ваня обмер совсем. Лейтенант было, кажется, помягчел: не рычал уже, не грозил, напротив, обратился к нему так же, как прежде, как и ко всем, уважительно и с заботой. В сердце Вани шевельнулась надежда: может быть, обойдется, минует его трибунал, искупит как-нибудь завтра свою вину? И тут же от этой мысли, мысли об искуплении, побледнел, и проняла его дрожь: «А искуплю ли?.. И какой ценой? — сжался он весь. — Какой?»
Еще с утра из-за этой настигшей его беды Ваня хотел умереть, не находил оправдания себе. И ждал трибунала, и страшился его. Хотел его отдалить. Избежать. А теперь, после этих слов лейтенанта, этого его прежнего доброго тона Ваня как ожил. Снова хотел уцелеть. Хотел жить. Ване стало как будто полегче. Снова уткнулся, хоть и растерянно, но уже чуть радостно в свой котелок, глаз не решался поднять. А солдаты, заслышав сдавленный, немного даже обиженный голос взводного, насторожились.
— Смотри, однако, в другой раз не прощу, — вздыхая, нестрого пригрозил Изюмову лейтенант. — Понят дело? Вот так! Эхма! — вздохнул он еще тяжелее. — Ох, и грузна же ты, шапка Мономаха! Ох, и грузна! — Помолчал. — Дед мой так, бывало, говаривал. Ты вон самый маленький командир. В длинной цепочке-то. Всего-то-навсего отделенный. И давно ли? Без году неделя! И то хлебнул уже. А выше-то если кто? Выше! — указал ввысь, вскинув голову, взводный. — Вот так-то, брат. Пойми меня. Соберись-ка с сердцем, умом и пойми. И постарайся… Обязан… душа вон, а должен уметь все учесть, предусмотреть! Четко обязан приказ выполнять! — «А сам? — вспомнил Матушкин, как уперся супротив приказания Пивня. — Так я же, — тут же отыскал он себе оправдание. — Я же… Доказал ему, Лебедю. И для дела!..» Замолк на мгновение. — Словом, кровь из носу, а мне чтобы всех уберечь! Убер-рр-речь! — процедил яростно Матушкин.
Солдаты притихли. Слушали. Но кто-нибудь нет-нет да и зашаркает ложкой по котелку, а то начнет возить в нем пальцем, а потом его в рот.
Успокоившись малость, почувствовав облегчение — как-то все-таки разрядил обстановку с Изюмовым, — Матушкин забеспокоился и обо всех остальных, о всем своем взводе. Солдаты — кто еще прихлебывал чай, кто курил, кто рылся в сумках — все сыто покряхтывали. Видать, уже были готовы прилечь, ждали только команды. И Матушкин — все, в конце концов, от командира должно исходить, быть под его неусыпным контролем — отечески, но властно приказал:
— Отдыхать! Всем, всем отдыхать! — демонстративно взглянул на часы. — Ничего себе, десять… двадцать два семнадцать уже! Все! Пять минут, и чтобы мне все дружно храпели! Понят дело? Вот так!
Тишина, темень и стужа нависли над передовой. На фронте далеко не загадаешь, только настоящая минута твоя. Вот солдату и были довольны: в тепле, у огня, не их покуда черед стоять на часах у орудий, руками размахивать, прыгать, щелкать от стужи зубами.
— Скидывай сапоги, — стал укладываться на ночь помор. — Эк, взопрели-то, бедолаженьки. С неделю, чай, не разувался. — Старательно потер и сверху, и между пальцами, размял и подставил ноги к огню. — Дышите, дышите, родненькие. Далеко еще вам до Берлина-то топать. Ой, далеко! — потом расстелил портянки, плотные, суконные, из немецкой шинели, расстелил на соломе себе под бока. Никто их отсюда не уведет, да и просохнут быстрей от живого тепла, и ребрам помягче.
— Эх, мальчики! Чего бы сейчас! — тоже вывалив к костру голые ноги, простонал Голоколосский.
— Чего… Известно чего. Чего еще может быть у тебя на уме? — отозвался насмешливо Лосев. — Нажрался — бабу теперя тебе.
— А верно! Смотри! — наигранно поразился Голоколосский. — Мудрый, да? Народная мудрость?
— Тьфу! — сплюнул возмущенно рыбак. — Пузырь ты, вот ты кто! Лопнешь ишо.
— Это ишо отчего? — передразнил его Игорь Герасимович.
— Оттого! Спесь… Вон как она из тебя.
— Слушай, треска…
— Сам ты треска.
— Да не злись. Чего обижаешься? Хорошая рыба — треска эта ваша. Консервы из печени… Спасибо вам, рыбачкам. Пальчики, черт возьми, оближешь. Ладно, хочешь, китом тебя назову?
— Дура ты. Ох и дурак, хотя инженер.
— Злишься? Не злись. Чего тебе? Есть она, нет… А мне, — инженер чиркнул себя по горлу. — С лета уже пощусь.
— Смотри, тоже мне отыскался… — оскорбился помор.
— А что? — подмигнул ему инженер.
— Да кто бы сейчас на ей не попрыгал?
— Ай да треска! Ай да дает! Кит! Теперь вижу, кит! Ну, мальчики, представляю… Дорвемся до немок. Вот уж дадим! Что, признайся, кит, — опять лукаво подмигнул помору Игорь Герасимович, — ни одной не пропустишь, переплюнешь нас всех?
— К стенке тебя за это, за немок, — построжал помор. — Сами же наши тебя и к стене. Ишь, чего вздумал. Силком!
— А я разве сказал, что силком! Ни-ни! Я не насильник какой-нибудь, избави меня бог! — горячо, оскорбленно открестился от обвинения Игорь Герасимович. — Понимать это надо, рыбак, понимать! Мы полюбовно! Да, да! И ей хорошо, и мне, — хитро, ласково погладил рыбачка по колену Игорь Герасимович.
— Они с нашими как? Так и с ихними надо. Так с ними, с падлами, только так! — вдруг вставил с напором, с негодованием Степан Митрофанович Орешный.
— Ах, вот ты как? Товарищ лейтенант, вы только послушайте, как он запел! — обратился Лосев за помощью к взводному. — На одну доску нас… Да как ты смеешь? Они же фашисты! А ты их с нами на один аршин! — накинулся он на рябого.
Евтихий Маркович не хотел вмешиваться во вспыхнувший вдруг меж солдатами разговор. Он понимал, да просто по опыту знал, что солдаты сами, лучше него, лучше любого агитатора все, что нужно, расставят по своим законным местам и это будет и проще, и мудрее, надежнее какого бы то ни было слова сверху, со стороны. Ему даже было интересно, по-человечески, по-командирски интересно, кто что думает, кто есть кто, как, чем закончат они этот непростой, чуял он, ох, непростой спор. И был недоволен, что один из споривших обратился за поддержкой к нему. Но, коли уж обратился, он, старший здесь, не мог промолчать, но и разрушать самотечность откровенной солдатской перепалки никак не хотел. И потому, как и все, укладываясь на ночь, неторопливо мостясь и довольно покряхтывая, требовать ничего не стал от солдат, ответил им не как старший здесь, а как такой же, как и все, равный:
— Законы наши знаете? Каждый знает? Вот каждый сам и решает пускай! А баб любить… По мне, русских ли, немок, эвенок… еще там каких… Лишь бы нравилась. И ты бы нравился ей. Словом, как водится, как у людей. А вот… — тут лейтенант на минуту замялся, даже тряхнул озабоченно головой, — а вот… Как вот у них, у чужих с этим, — коснулся он легонько ладонью груди. — Могут ли эдак они, по-людски? Чтобы по-чистому? От сердца чтоб, от души? — обвел он всех пристальным изучающим взглядом. — Это нам, брат, сперва еще надо узнать. Незнаючи броду, — цыкнул он задористо языком, — не лезь-ка, брат, в воду. Не случиться бы беде. Понят дело? Вот так!
На минуту протихли все. Первым подал голос Пацан:
— А интересно все-таки, как они встретят нас? Немцы. Вообще чужие, иностранные все. Ну и немки, конечно, всякие иностраночки. Как? Какие они? — вспыхнули глазенки у Яшки. — Должны все для нас!
— Жди! — выдавил злобно Орешный. — Просить их еще!
— Вишь, вишь, чего натворил! Это ты все! Все ты! — вдруг накинулся помор на Семена. — На ночь глядючи шоколад наварил. Да его слабым прописывают, как рыбий жир, а ты жеребцам!
— Ох, рыбачок! Правильно инженер говорит, что-то ты больно добренький стал. Генерала… Пакость эту давеча пожалел. А теперя вот немок. Как бы за них не пришлось отдуваться тебе, — недобро воззрился на помора Орешный. — Ох, не завидую я тебе. Сгребет тебя нонче наш инженер.
— Нет уж, мальчики. Не оскорбляйте меня, — возразил обиженно Игорь Герасимович. — Мне свою бы, законную. Эх бы, Танюшку сейчас! — охнул азартно, мечтательно Голоколосский. — Хоть приснилась бы, что ли!
— Жди, приснится еще али нет. Законная-то… А немочка если? Чужая во сне к тебе коли придет? А наяву попадется? — спросил недоверчиво инженера рябой. — А, враз тогда позабудешь Танюшку?
— Эх, мальчики, значит, не знали, не попалась вам настоящая ваша баба. Настоящая баба — ум-м! — Голоколосский задрал в упоении к потолку свой пронырливый нос, пригладил щетинку светлых, даже здесь, на фронте, холеных усов. — Попробовал раз, и все, не надо другой. До Танюшки шатался я, как мартовский кот. А встретил Танюшку… У-ум-м! — опять простонал упоенно Игорь Герасимович. — Описать невозможно, как у меня с ней. Всю ноченьку напролет. Измаешься… Кажется, все… Ан нет…
— Бросьте! — вскочил босиком и в гимнастерке без пояса Лосев.
— А ты не встревай. Не мешай! — потянул его за полу рубахи Орешный. Дернул сильней. Лосев присел. — Давай, чего там, — поддержал рассказчика Степан Митрофанович. — Дело живое. Мужское. Давай рисуй, продолжай!
— Дура! — не унимался рыбак. — Та мы ж не одни. Вона, дети же здесь!
— Дети… Ха! Эти дети… Завтра, может, кровь прольют. Жизнь отдадут. Пусть хоть послушают, — теперь привскочил на соломе Орешный, — если, правда, и сами, без нас не знают уже. Только навряд. Нынче дети — ого-го! Моя… Шестнадцати не было. А однажды под утро пришла. А через три месяца… — не кончив, он досадливо махнул рукой.
Матушкин, как и помор, было тоже сперва возмутился, хотел уже цыкнуть: кончайте, мол, ерничать. Да сдержался вовремя, не стал прерывать все пуще и пуще разгоравшийся спор. Почему бы на самом деле и не дать солдатам хотя бы вот так… Поделиться, вспомнить о забытом, былом. Может быть, перед боем, перед возможной смертью это и нужно? Даже обычно сдержанный, солидный Степан Митрофанович и тот ишь как разошелся. Дело и впрямь мужское, живое. Никуда от него не уйти. Чего же ханжить? Пускай хоть посудачат. Молодые вот, правда. Лосев, наверное, прав. А впрочем… Что молодые? И молодые! Чего под стеклом их держать? Вон Пацан… А Изюмов? Да и Семен Барабанер. Попритихли, замерли все.
А усач продолжал…
Чеверда засопел; крякнул, сплюнул Орешный; пришибленно умолк помор. Ваня, присев, ошалело смотрел на огонь.
«Фу, дурак. О жене. Как можно так о жене?» — Ваня весь сжался, а лицо гадливо, растерянно сморщилось. Было что-то унизительное, оскорбительное в том, что и как говорил о женщине, о своей жене инженер. И что-то все-таки захватило, затомило и Ванино тело и душу ядовито-сладкой тоской. Ваня знал, читал, конечно, об этом. И Мопассана, и Бунина. Уже в десятом, готовясь в университет, прочел и Боккаччо, и Апулея. Но так, как усатик сейчас! Глазами, голосом, всем своим изнывшим нутром. Всем восторгом своим. Обнаженно, весело, зло. Так еще Ваня не слыхивал. И сквозь отвращение от всего этого откровения инженера тоненьким жальцем проклевывалось в нем еще нечто вроде щемящей обиды: за учебой, за книгами, за заботами и запретами матери и отца все это, такое странное, страшное, но и зазывное, кажется, мимо прошло. Мимо! Такое важное и решающее в судьбе каждого отдельного человека, мужчины, самое мужественное и глубинное. Неизбывное. И теперь уже все может быть — не испытать уже, не успеть. Никогда.
Только Барабанер не принял ничего из этого начисто, целиком, не испытал никаких иных чувств, кроме отвращения, даже ненависти. В сердце, в душе его все было выжжено и залито горем. Отвернувшись, Семка, так же как и Изюмов, уставился взглядом в костер. Раз-другой оторвался, враждебно покосился на Пацана. И так развязный, циничный, надрывный… А тут уже совсем обнаглел — встревает в мужской разговор прямо как равный, как свой.
— Скажи, инженер, — как раз спросил опять Яшка, — а верно, есть такие женщины, что любят, чтобы за ними как можно больше мужчин увивалось?
— Верно. Они, суки, такие все! — опередил инженера, не дал ему ответить рябой. — Бабы… Они прорвы все! И вообще… Ты за ними — они от тебя. А попробуй от них. Вот тут-то они зараз за тобой!
«Вроде и у меня с Тосей так», — показалось вдруг Яшке.
Но Лосев не дал ему проследить до конца первую незабытую любовь свою.
— А ты? Что, ты лучше баб? — навалился на Степана рыбак. — Видать, они тебя… Ишь, как ты на них. А я так на это смотрю: все мы одним миром мазаны, что бабы, что мы, мужики. Вона, гляди, — повел он вокруг востреньким носиком. — Глаза-то, глаза… У всех-то. Смотри, пуще, чем лампа, горят.
Лосев был прав: в глазах у всех так и тлел, так и светился какой-то глубинный беспокойный огонь.
«Ай да рыбак! Напрямки. Молодец! Так, брат, и надо! — почему-то понравилось это таежнику. — Чего нас, мужиков… себя то есть, сахаром мазать?»- Он давно пришел уже к этому выводу, и никто не мог его убедить, что ложь, какой бы спасительной она ни казалась, может быть полезной и нравственной. Рано ли, поздно, считал он, она непременно вылезет боком. А правда… Она сама себе — царь, лучший лекарь, сила и власть. И тут как раз, словно в подтверждение собственных мыслей, Евтихий Маркович вдруг услышал:
— Ладно, пускай! Что мы, мужики, что бабы… Ладно, не спорю, одним миром все мазаны! — опустил рябой неожиданно на колено сжатый кулак. — А мне что от этого? Легче? Вона, — показал он себе на лицо, — я всю жизнь, с детства такой. Баб, замечу тебе… Симпатичных баб от моей рваной рожи так и воротит. Да, мне досталось от них! — вдруг в сердцах выкрикнул он. — Досталось! — сплюнул отчаянно. — А-а, чего там… Не стану скрывать. Жена моя… родная жена, — подумал, должно, подбирая слова поприличнее. — Ох же и сука была! — Степан Митрофанович аж скрипнул зубами, по-бычьи на сторону голову поворотил. — Не больно уж она любила, ласкала меня. Больше других. И это при мне. А сейчас? Без меня? Представляю, сейчас… — направляющий резко склонился к напарнику своему, к Чеверде, вырвал у него изо рта «козью ножку», задымил. — Как подумаю, что она теперя там вытворяет, вот из этого карабина б ее!
— А ничего. Не с кем ей там, в тылу теперь вытворять, — успокоил рябого Голоколосский. — Весь наш брат, мужики… Стоящие, настоящие мужики — все на фронте. Одни старички, дети да бабы остались.
— А и есть, ну так что? Смотри, какой прокурор. Сразу за карабин. А то ты не такой? Хотя и рябой, — снова убежденно пришил Орешного Лосев. — Честно! Здесь жены твоей нет. Признайся: бывало? Только не ври. Отвечай!
Орешный обвел всех ускользающим взглядом.
— Ну, отвечай. Но смотри! — наседал, пытал его Лосев. — Смотри, коли встретятся… Наши ли, чужие… И позовут. Поманят. А ты поскачешь им вслед? Или упрешься? Неужто упрешься? А ну, поклянись! Обещай! А мы… Как случится, напомним. Идет?
— Вот сам и клянись. Чего захотел, — огрызнулся вдруг Степан Митрофанович. Мрачно, недобро взглянул на помора. — А ты? Что ты, не такой?
Все ждали ответа. А Лосев потер ладошкой лоб и признался:
— Виноватый я перед своею. Ох, виноватый!
— Во, слышишь, Орешный, учись! — подхватил инженер. — Себя виноватым считает. Кается человек. А ты? Сразу за карабин.
— Да, братцы, да… Виноватый я, виноватый. Как вспомню, как ее забижал, как тиранил ее без зазрения совести… А с другими ее предавал… Поверите, не нахожу себе места, — заерзал на соломе помор. — Кажется, с фронта вернусь… Ради этого б только вернуться… Дай бог, вернусь, на руках ее стану носить. За все ее от меня тягости и тиранство.
— Ну и дурак. Вот тут ты дурак, — опять изменился в лице Степан Митрофанович. — Носи! Я поносил! Не успеешь и глазом моргнуть, как она тебе в зубы уздечку. И так, дурака, тебя в гору попрет.
— Дело… Дело, Степан, говоришь, — снова подал голос Игорь Герасимович. — Треска… Ой, прости, кит. Слушай, кит, что умный мужик тебе говорит.
Орешный крякнул довольно, лыбясь, стал скручивать «козью ножку», а Лосев насупился. Что-то из услышанного не вязалось как будто бы с его собственной жизнью, его личным опытом — его отношениями с женой и другими его немногими подругами. Если все это инженер о себе говорил, то получалось, что у того была большей частью не жизнь, а скорее игра, может быть, даже маленькие войны. А Лосев игры, никакой игры, стратегии, тактики, никакой самой простейшей войны с женщинами и вообще никакой войны меж людьми не любил и не мог ее вовсе вести.
А Матушкин с любопытством, напряженно все слушал. Забыл о своей же команде «всем спать». И чутко, старательно взвешивал и примерял к говорившим их каждое слово, интонацию, жест.
— Значит, что? — Пацан восхищенно заржал. — С ними, с бабами, понахалке надо? Смелей?
— О, то самое! — опять, как давно выношенное и решенное, сразу отрубил за инженера рябой.
«А ведь чернявый, — вспомнил вдруг Яшка, — мастер тот, новый, вроде так он Тосю и взял. Говорили же… Заманил ее к себе в комнату, дверь на замок. Вроде сперва кричала, звала. А потом? Потом только с ним, только с ним и ходила».
Было это перед самой войной. Зачислили Яшку тогда в ФЗО. Работала там Тося уборщицей. Налитая, с прущей из дешевого платья фигурой, с румянцем во всю щеку. Спокойная, молчаливая, но не робкая. Деловая просто, серьезная. Яшка, как увидел ее, глаз с нее не спускал. А когда однажды почти голую застал на пляже, так и зашелся весь, голову потерял. Стал потом бегать повсюду за ней, подсматривал, когда она мыла полы. Ночами не спал, терзался, страдал, а заснет — являлась ему во сне.
Что было бы с Яковом дальше? Она ведь старше была. Он был совсем еще робким, зеленым юнцом, а она созревшей давно уже женщиной.
А Тосю он, оказывается, так и не смог позабыть. Она, с которой так и не случилось переступить заветного порога, осталась для Яшки особенной. И, слушая Голоколосского, Яшка с горечью вдруг подумал, что Тосю он, скорее всего, уже никогда не увидит. Неужто никогда? Эх, жаль, черт возьми! А здорово было бы! Не мальчишка, а взрослый уже, с усами, такими же, как у инженера, плечистый, в новенькой форме. Вся грудь в медалях и орденах. И тут вдруг она… Смело бы вышел Тосе навстречу. Не то что прежде, не бледнея, не прячась. И она бы сразу к нему. «Ошиблась я, Яшенька. С мастером этим, с чернявым связалась. Ох, как тогда я ошиблась! Один только ты нужен, Яшечка, мне. Только ты!» И бросилась бы Яшке на шею, стала б его обнимать, целовать.
Воспоминаниям, спорам не было видно конца, а надо было поспать солдатам. Хотя бы немного отдохнуть перед боем. Приподнялся Матушкин на локте, достал из кармана кисет. Не торопясь, основательно скрутил самокрутку. Душистых иноземных сигарет сейчас ему не хотелось, хотелось покрепче, привычного, своего, и, чиркнув ловко огнивом, он с наслаждением задымил горькой махрой.
Барабанер сидел у костра и, упорно уставясь в огонь, меланхолично подкидывал в пламя костра щепку за щепкой. Он старался не слушать взрослых солдат. Ушел весь в себя, когда вдруг услышал слова лейтенанта:
— Не спишь? И ты не спишь! Эх, Барабанер, — и лейтенант пустил клуб пахучего едкого дыма. — А напрасно. Надо, брат, надо поспать. Отдыхай.
— Да, товарищ лейтенант, сейчас, — очнулся от дум своих Барабанер. — Не спится. Не хочется спать.
— Ну, как так не спится? Надо. Сам знаешь, завтра некогда будет спать.
— А вот вы тоже не спите, — заметил бесцеремонно Пацан.
— Сравнил, — заступился за взводного Лосев. — Тебе, рядовому, что тебе? Да еще жестянке такой. Свернулся в калач, да и в храп. Аль на тебе что висит?
Пацан окрысился на рыбака, сразу напружинившись и ощетинясь.
— Но, но! Я уже, кажется, говорил, — вмешался вовремя Матушкин. — Вам что, Лосев, мало? Хватит мне Огурцова щипать. И вообще, — приподнимаясь, поднял он и голос, — хватит мне этих всяких подначек. — Закашлялся. Смял самокрутку, швырнул ее резко в костер. — Спорить — спорьте. Дело другое. А зачем же людей обижать? — «Да и я вот, — все еще не утешившись, зыркнул он на Изюмова, — тоже хорош». — Спать! Всем спать! — приказал. — Отдыхать!
— Товарищ лейтенант, колись мы спивали в остатний-то раз? — протирая слипавшиеся глаза, тем не менее закинул удочку Тимофей Афанасьевич.
— А ить верно, давно чтой-то глоток не драли, — поддержал его и помор. — Чтой-то я не припомню.
— Товарищ взводный, а правда, — подбодренный командирской опекой, горячо подхватил и Пацан. — Напоследок! Позвольте!
Это его «напоследок» теперь, перед боем не понравилось Матушкину.
— Перед сном? Это, что ли, ты хочешь сказать? — уточнил подчеркнуто он.
— Да, да! — подоспел Чеверда. — Тильки разочек заспиваем, та и спать.
— Распрягайте, хлопцы, кони, та и лягайте спа-а-ачивать, — затянул шутливо кто-то из полутьмы.
Но тут и Лосев как раз на свой, на северный лад, в частушечном ритме, с задорной гримаской вдруг горласто и исступленно залился:
Танк танкетку полюбил,
На свиданье в лес ходил.
От такого романа
Вся роща переломана…
Ии-и-их! Ха, ха!..-
ударив в ладоши, вскочил, смешно заскакал, завертелся босиком на соломе.
— Не вой! Смотри, кузнечик. Запрыгал, — осек солиста Голоколосский. — Петь, видишь, ему захотелось. А спать?
— Ну и спи! Что, с Танюшкой схлестнуться не терпится? — кончив сразу паясничать, подкузьмил инженера рыбак.
— Заткнись! Дрыхать! Всем немедленно дрыхать! — потребовал Игорь Герасимович. — Приказал же вам лейтенант!
— Пошел ты… Слышь, Семка! — отвернулся от Голоколосского Лосев. — Давай зачинай!
— Точно! Ну-ка, дуй, вжарь веселую, Семка! — опять поддержал его Яшка. — Та, братва! Ну, Семка, давай!
Как-то на марше пехотинцы подбросили в машину гитару. Так она и осталась во взводе. Обклеенная по измятому и избитому телу газетами, со струнами на одну четверть длины из телефонного провода, она тем не менее в чутких руках Барабанера становилась живой. В школе Семен был вездесущим и разбитным. Учился, правда, неровно, но легко, без зубрежки. Мечтал о славе Утесова, на всех инструментах играл. Создал ученический оркестр, и по субботам в спортивном зале старшеклассники под него танцевали.
Семену, видать, играть и петь сейчас не хотелось. Но он все же внял просьбам солдат, почувствовал их настроение. Другие, кроме Голоколосского, не возражали, да и сам лейтенант как будто не возражал. И Семен потянулся к гитаре. Но Пацан опередил его, метнулся в угол. Там в пирамиде из карабинов и автоматов стоял, как равный, и инструмент.
— Лови! — крикнул Яшка и швырнул его Барабанеру. Пацан был снова в ударе, опять готовый что-нибудь отчебучить. Однажды вот также швырнул Орешному со взведенным затвором заряженный «пэпэша». Орешный тогда съездил ему по зубам и правильно сделал, и только тогда, после этого Яшка, кажется, понял, чем это все грозило. Он и сейчас спохватился, но шалость его обошлась — Семен не дал гитаре упасть, поймал. Треснув легонько в его длинных тонких кистях, она расхлестанно звякнула, а Семен охнул, припав на правую ногу: гнойник на пятке, натертой кирзовым сапогом, болезненно дергало, особенно к ночи.
Усевшись на соломе, Семен, кривясь, выждал, пока боль поутихла, склонился над гитарой, разок-другой брякнул по расхлябанным струнам. Стал их подтягивать. Колки держали их плохо, настроить гитару было невозможно, но это, по всей вероятности, замечал лишь сам музыкант, его тонкий тренированный слух, А остальным медведь на ухо наступил. Только Голоколосский, бывавший, по его словам, и в Одесском оперном, и в Кировском, и даже в Большом, как и остальные, уже почти сморенный сытостью, сном и усталостью, высокомерно покосился на Барабанера. Семен от него отвернулся: знал, что не виноват, такой инструмент. Взглянул вопрошающе на лейтенанта. Матушкин скупо кивнул ему и улыбнулся. Семен просветлел.
И тут Барабанер задумался: что же спеть? Он мысленно перебрал несколько песен. Поколебался еще немного. Вначале, как бы настраиваясь, еще ниже, склонился над гитарой черной взлохмаченной головой, длинные, иглами пальцы осторожно тронули струны, сначала чуть-чуть и только затем ударили по ним так, что гитара с первым же аккордом ожила. И в разбитой дымной церквушке, что одиноко торчала посреди заваленных снегом могил, в безбрежии ночной студеной степи, у немцев под носом зазвучала совсем нехитрая мелодия и такие же, казалось, совсем нехитрые слова:
Ты жива еще, моя старушка,
Жив и я, привет тебе, привет…
* * *
Ваня едва сдерживал слезы, вспоминая свою мать. Смотрел и смотрел во все глаза на Семена и ждал, что вот-вот сейчас что-то случится. Но хотя и Ваня, и каждый знал, о ком пел Семен, и сейчас особенно остро чувствовал, как это страшно, то, что с ним случилось — с его родными, его семьей, да и с каждым, оторванным от близких, своих, — ничего, однако, не происходило: своды храма не рушились, гитара не раскалывалась, а он, Ваня, да и Семен, да и никто не умирал и продолжали все жить. И война не кончалась, даже не откладывался уже совсем близкий бой. Семен продолжал петь. И было странно, что у этого с костлявыми руками, с впалой грудью и измученным лицом мальчишки точно и твердо ходили по струнам искусные пальцы, неподвижно нависла над шейкой гитары жесткая шапка волос и голос был недетский, мужской: густой, сильный и мудрый. И, когда чуть уже громче и гуще он пропел последний куплет, бросил до этого ходившие пальцы неподвижно на струны, откровенно, теперь уже снова по-детски вздохнул и замолк, некоторое время все тоже молчали. Первым очнулся Голоколосский.
— Да гасите же, черт бы вас побрал! Свет! — гаркнул он. — Гасите! — И, так как никто не гасил, не шелохнулся даже никто, он сам сорвался с места и дернул за проводок. Опять упал на солому, повернулся спиной к костру и, как и все, снова затих. Затих уж слишком для него напряженно и подозрительно.
Засыпая, Матушкин слышал, как кто-то стонал, а во сне ему привиделось, что это стонет, зовет его Катенька, Екатерина Ильинична — Николкина школьная учительница по немецкому. Она взялась подготовить по иностранному языку и его на заочное в лесотехнический. За учебой, взаимными услугами и заботой не заметили, как привязались друг к другу. Не мог он уже без нее. И Катеньке он, хотя и был старше лет на пятнадцать, показался, возможно, как раз потому. А она молода, красива и образованна. Это все — и строгость, серьезность ее, профессия и интеллигентность — поначалу чуть не вогнало охотника в робость, а затем и в слепое, упорное сопротивление ей. И если бы при всей своей сдержанности она с чисто женскими чутьем и прозорливостью не отважилась на отчаянный шаг — не напросилась бы сама к нему на делянку, в тайгу, в зимовье якобы после трудного учебного года перед экзаменами хоть на несколько дней отдохнуть, неизвестно еще, сошлись бы они или нет, терзаемые, как это часто бывает, подозрениями, недосказанностями, неуверенностью. А так, оставшись впервые одни, с глазу на глаз… На полсотни верст никого, ни души, он, да она, да тайга… И свободные от всего… Вот только так все и решилось. Уж и свадебный день был назначен — первый же день длинного учительского отпуска. И не только жена была бы что надо. Жена, друг, любовница — все радости сразу. Но и мать настоящая сыну, хотя и сама еще девочка. Одно уже то, что образованная и культурная, как помогло бы ему поставить на ноги сына, да и ему самому хоть с грехом пополам закончить когда-нибудь лесотехнический. А уж какая она, Катенька, ладная, мягкая, добрая. Но и крепкая, твердая, когда это надо. В школе класс ее был самый собранный. Словом, лучше и быть никто не может, чем Катенька. Да все та же война помешала, проклятая. Вернулись в село из тайги, словно пьяные, в радужных планах. Месяц медовый!.. Неузаконенный пусть… В самом разгаре! Только бы жить. А тут вот она — война окаянная. Катенька о чем-то просит, шепчет в его сегодняшнем сне:
«Ох, как некстати, Евтихьюшка! Война-то, война». Заплакала, жмется к нему. А рядом пыхтит паровоз — умчать его от Николки, от Катеньки на эту на самую, проклятую. А его толкают, толкают в вагон.
* * *
Проснулся Матушкин сразу, лишь только Лосев коснулся его плеча.
— Ва-а-алят! — доложил в испуге помор.
— Где? — вскинулся Матушкин на перине.
— Тама… За холмами ревут. У себя.
— И давно?
— Только зарыкали, зараз и прибег.
— Свет, — приказал Матушкин поспокойнее. Лосев ринулся в угол. Споткнулся о кого-то впотьмах. На полу, на соломе со сна в куче тел матюкнулись. А Лосев нащупал вслепую проводок, накинул его на клемму аккумулятора. От направленного света автомобильной переноски и он, и взводный зажмурились, а Семен, спавший прямо под лампочкой, перевернулся, не просыпаясь, кверху спиной. Его заскорузлую от застарелого пота рубашку чуть не вспарывали острые кости лопаток. От перенесенного на ногах простудного жара губы Семена еще шелушились, растрескались руки от стужи, желтела нарывом натертая пятка.
Матушкин вспомнил, что будто видел, как Барабанер накануне прихрамывал, а вот не придал этому значения. А должен был бы придать, такие вещи нередко кончаются плохо. Да и просто было жалко Семена. Парень, конечно, все эти дни молча крепился, страдал, и Матушкин от бессилия что-нибудь сделать сейчас, отправить его в медсанбат испытал неприятное чувство досады.
«Ладно, — решил он, — вот закончится бой, сразу отправлю. Если, — подумал, — останется жив. Если и я доживу». Эта мысль, как он заметил, со вчерашнего утра мелькала у него в голове уже несколько раз. Это ему начинало не нравиться. Он снова вгляделся с опаской в набухшую пятку Семена. И вдруг вспомнил, как вчера при нем нахально пытался обидеть Семена Голоколосский. Хама одернули сами солдаты. И он, взводный, тоже одернул. А надо бы было как следует наказать.
«Ну ладно, посмей мне только еще, — запоздало пригрозил Голоколосскому Матушкин, — шею сверну. Ишь, чего надумал… Еще чего не хватало!»
Застегнув полушубок, ремень с пистолетом. Матушкин поднял сползшую с Семена шинель и накинул ему на плечи. И вдруг испытал знакомое, — и нежное, вместе с тем слегка надрывное — чувство. Так после потери младшего сына и жены прикрывал он нередко Николку. И горько стало: кто его прикрывает сейчас? Ни матери, ни отца. Катя уехала. Один Николка совсем. Мужиком совсем стал. Работяга. Вечно в тайге. А скоро вот так же, как его солдаты, как он сам, будет лежать вместе со всеми вповалку, и хорошо еще, если не просто в траншеях, в снегу, а под крышей, хотя бы такой продырявленной, как эта, и хотя бы у такого нехитрого костра, как их догоравший. Оглядел сострадательно всех. Нургалиев спал, как джигит — только свистни, и, будь конь у него, сразу бы в седло, — в шинели и сапогах, с трофейным немецким ножом на ремне, между колен «пэпэша». Укрывшись шинелью с головой, спал Чеверда. Выдавал его храп: вдох — с придушенным хрипом, а выдох — как из сиплой трубы. Так храпеть умел только он. В углу на соломе свернулся калачиком «мамин сынок». Хорошо спал Изюмов, спокойно. «Ну, молодец», — похвалил его мысленно Матушкин. А рядом разбросался Орешный: руки и ноги в стороны, вверх животом. Как убитый, лежит.
«Фу ты, черт, нехорошо», — суеверно передернулся Матушкин.
Прежде чем выйти, он взглянул на часы. Не было еще и шести. Не осознанная со сна, но уже было сдавившая его тревога отлегла: фашистские танки не отваживались больше ходить на наши позиции по ночам, как было сперва. До рассвета же еще далеко, и Матушкин решил не подымать пока взвод: «Подожду, пусть еще покуда поспят. Сперва послушаю сам». Вырвав из-под чьих-то ног большой клок соломы, бросил его на тлевшие угли. Обдав Матушкина жаром, почти к своду метнулся огонь. Сунул в него пару каких-то досок.
— Пошли, — шепнул он помору. — Гаси свет.
Лосев шустро присел, рванул проводок. После ровного света лампы полумрак по углам, казалось, вдруг заплясал от живого света костра.
Только Матушкин откинул палатку, ступил за порог, в лицо словно кто сыпанул пушисто-холодным. Матушкин не поверил сперва — стеной валил снег.
«Вот это да! Ну и снежок! Да он теперь все заметет. Все, все! Спрячет от немца всякий наш промах». Обрадовался, весело зачерпнул горстью белый студеный пух, кинул себе на лицо. Стал его растирать. Щеки, лоб, руки запылали, с сонных глаз словно смыло песок.
— Кто идет? — услышал Евтихий Маркович, когда вместе с Лосевым мимо запасного снарядного погребка, мимо первого орудия пробрался к своему «энпе» — крохотному, с телефоном окопчику между и чуть позади огневых. Окопчик наполовину был занесен снегом, и он, не унимаясь, продолжал сыпать. Сердце взводного опять окатило счастливой волной: «Вот бы так до самого боя. Да и во время него. Орудиям… Нам в снегопад куда сподручнее, выгодней, чем танкам. Не сразу заметишь нас». — Стой! — не дождавшись ответа, уже грозно потребовал часовой и передернул затвор.
— Свои, свои! — поспешил отозваться Матушкин. «Еще пристрелит», — вспомнил он, как в соседнем полку чрезмерно старательный и бдительный часовой пристрелил своего командира. По этому случаю по полкам читали приказ, требовали четкого соблюдения всех караульных формальностей. — Свои, — повторил Матушкин и подумал: «Правильно. Так и надо. Есть караульный устав, и требуй. Передовая… Не хрена рассуждать».
— Товарищ лейтенант, — услышал Матушкин из темноты резкий голос Голоколосского, — часовой ефрейтор…
— Ладно, ладно, — досадливо оборвал он доклад. — Чего слышно-то?
Голоколосский охотно покончил с формальностью и уже иначе, по-живому сообщил:
— Гудят, черти полосатые. — Но тут же, почувствовав, что это слишком уж не по-военному и неопределенно, прибавил поточней и построже:- Где-то вдоль дороги. Поближе к нам, к краю. Не в глубине окружения. Во, во! — вскинул голову он. — Слышите? — насторожился.
— Километров пять, шесть не больше, — как будто и не напрягаясь, так, походя, определил лейтенант. Помолчал с минуту, вслушиваясь. — Подходят. С марша. Накапливаются поди. — Он прежде на слух определял и не такое: белочка ль цокнула где, прошел соболек, шелохнулась ли мышь или тигр хрустнул веткой. Различал в тайге каждый шорох и звук. А вот теперь по рокоту двигателей пытался разгадать, что затевает против них враг. — Капитану доложили? — спросил он.
— Никак нет, — ответил помор.
— Звоните.
Опять бросился Лосев. Спрыгнул в окопчик, примял снег, выгреб его из ниши, где стоял телефон. Вовсю закрутил рукоять. Протянул трубку склонившемуся над окопчиком, взводному.
Лебедь ответил сразу. Тоже, значит, не спал.
— Слышу, милок, слышу, — отозвался он на доклад командира первого взвода. — Сколько, думаешь, их?
— Вам сверху видней, товарищ седьмой, — намекнул Матушкин на более высокое звание Лебедя и на расположение его наблюдательного пункта — на чердаке каменного здания хутора.
— Не видней. Ох, не видней!
— Из части-то не мне звонят, а тебе.
— А толку-то? Новенького пока ничего. Так что жди, милок. Отдыхать сегодня, это уже точно, нам с тобой не придется, — пошутил капитан.
— Спасибо, утешил, данке шон, — поблагодарил лейтенант.
— Битте. Так что готовься. Сколько их у тебя на счету?
— Сегодня приплюсуешь еще. С пяток — это уж… Поверь мне, как пить дать. А то и поболе. Если… — Комбат замялся.
— Вот то-то, если, — вздохнул в трубку Матушкин. — Не берись, брат, плесть лапти, не надравши лык.
— Это ты-то… не надравши? Смотри, скромняга какой, а я и не знал. А еще хвастался, мол, древних… Кого там? Может, Ювенала, Плутарха, Тацита. Кого там читал? — Не дождавшись ответа, Лебедь стал сам вспоминать:- Кто там из них. Цезарь… Нет… Вот черт. Война все… стал забывать. Словом, из них вроде кто-то, из древних сказал: скромность украшает девушку. Понял? А ты, милочек, не девушка, а солдат. Так что давай дотягивай до звезды. Глядишь, и мне кое-что перепадет.
— Пока солнце взойдет, роса очи выест, — опять вздохнул лейтенант. — И давай кончай шкуру неубитого медведя делить. Не надо. Понят дело? Вот так!
Помолчав, шумно вздохнув во все меха легких, комбат высказал опасение:
— Не двинули бы сейчас.
— Сейчас, досветла-то? Нет, не пойдут.
— А ты не утешай. Ишь, утешитель какой нашелся. Не пойдут, не пойдут.
-
Ну.
-
Чего «ну»?
-
Да не пойдут, говорю! Досветла-то. Кишка тонка,
товарищ седьмой.
— Заладил: не пойдут, не пойдут. А вдруг?
— Никаких вдруг. — «А жаль», — пожалел тут же Матушкин. Нургалиев, Изюмов, Барабанер, Голоколосский, да и другие отлично наловчились бить по ползучей твари и в кромешных потемках, ориентируясь по реву двигателей, по вспышкам пламени из выхлопных труб и орудийных стволов. Матушкин и сам не раз становился ночью у окуляра прицела, именно стрельбу вслепую считая наивысшим классом. Отдаленно она чем-то напоминала ему охоту на поздней вечерней тяге, когда темно уже, зорька сошла на нет. Вскинув ружье бьешь уже бекаса, вальдшнепа или чирка по свисту крыльев, секущих воздух.
Договорившись обо всем с капитаном, Матушкин связался по телефону с Зарьковым.
— Олег, слушай, сынок! — обрадовался приморец, услышав в трубке его мягкий вежливый голос. — Ну как тебе твой хуторок?
— Спасибо. Он мне нравится. Честное слово, лучше и не надо, — отозвался бойко Олег.
— На кладбище не захотел? И правильно сделал. Эх, паря, никто не хочет сюда. И тебе не советую. Не желаю, — грустно сыронизировал Матушкин. — Ладно, слушай меня. Первым не бей. Тебе главное что? От меня отвернут, а тут ты их… Да в бок, под дыхло их, под ребро!
— Есть! — возбужденно, казалось, восторженно отозвался Зарьков.
— Смотри, — не понравилось это Матушкину, — не горячись.
— Постараюсь.
— Не постараюсь… Приказ это, понял? Я еще пока заместитель комбата или не я?
— Вы.
— Не вы, а ты.
— Ты, — как и прежде, нетвердо выдавил из себя это «ты» Олег.
— Ну, давай, сосед. Счастливо тебе, — пожелал ему Матушкин.
— Давай. И тебе счастливо, — наконец, кажется, более или менее свободно ответил ему на «ты» Зарьков.
— Да, да… Счастливо, сынок. Держись. Ну, давай!
Матушкин подержал еще трубку. Олега уже не было на том конце провода. Нехотя положил трубку и он.
Огромные снежные хлопья валили густо, сплошной стеной. Даже в темноте было видно, как прямо на глазах, словно мыльная пена, росла на земле пушистая пелена. Тонули в снегу пушки, склепы, кресты.
— Все, все заметет, — не унималась, разрасталась в сердце таежника радость. — Да сам господь-бог вроде за нас? — не выдержал, поделился он ею с Голоколосским и Лосевым.
— А что же ему, богу-то, за фашистов, что ли? Ясно, за нас, — удивился помор.
Матушкин был весь поглощен снегопадом.
— Красота-то, а! Ну, красотища! — Ощущение радости на миг, видать, вытеснило из его сердца тревогу. Привиделось метельное, особенно как раз в эту, февральскую пору родное Приморье. И вдруг дикой показалась ему мысль, что это, возможно, последний снег, последний снегопад в его жизни. Взглянул на серебряные с серебряной же цепочкой «анкеры», специально для него снятые солдатами с гауптмана, того, что нашли в разбившемся «юнкерсе». Если верить холодному блеску светящихся стрелок, через час, через два кто-то из взвода должен и помереть, вполне может быть, что и он. И, как уже стало обычным для него, тотчас же принялся отгонять эту мысль. За всю войну Матушкин ни на миг, ни разу не дал завладеть собой самому легкому в бою чувству: а, помирать, так помирать! Ему очень понравилось, как однажды в споре с солдатами и особенно с Пацаном Лосев запальчиво припечатал: «Кто смерти не боится — невелика птица, а вот кто жизнь полюбил — тот и смерть загубил». Матушкин и сам это знал, даже не знал, а чувствовал в этом какую-то глубинную неистребимую правду и потому не только не позволял себе думать о смерти, но, напротив, словно внушал себе, что при любых обстоятельствах обязан отчаянно противостоять ей и тогда само собой появляется больше шансов на жизнь.
Ужаса, слепого страха перед смертью Матушкин никогда не испытывал. Поначалу, правда, когда сыпались сверху бомбы, завывали, падая, мины или пули свистели над головой, так невольно и втискивался в землю. А после привык, научился моментально угадывать, когда надо кланяться, а когда и не нужно. Берег себя подсознательно и осознанно, как это и присуще всему живому, но больше, конечно, заботясь о Кольке: что будет с ним, если совершенно один останется, без матери и без отца? Вспомнил, как сын провожал его на войну: молча, без слез и без слов. Будто и не на фронт. Хлеб в кулаке мял, вкусный поджаристый край от испеченного Катей ему на дорогу пшеничного каравая. Матушкин отпанахал краюху Николке. И, прижав ее к боку, сын с нетерпением ждал, как только отец уйдет, сразу вцепиться в нее зубами. Матушкин подумал, что сын и теперь, наверное, ходит все время впроголодь, а то и голодный.
И вдруг Евтихий Маркович уловил, что там, у немцев, урчание машин стало иным. Рокотали они теперь отрывисто, коротко. «Кончили маршировать. Разворачиваются, становятся в боевой…» — сообразил он.
— Голоколосский! Отставить… Лосев! В часовню! Бегом! Всех в ружье! Голоколосский! Звоните комбату. Живо! Доложите: считаю, скоро, со светом пойдут. Ну! Живо, живо! Бегом!
Занервничала и наша пехота в передних окопах. Небо там, над ними, озарилось всполохами ракет.
А оба расчета выбегали уже из часовни. На ходу одевались, втискивали в магазины карабинов патроны, диски в автоматы вгоняли. После обогретой часовенки солдаты ежились, выплясывали на лютом утреннем морозе. Немец, гад, опять не дал поспать, помешал.
Чуток разогрелись, поразмялись, когда по команде «к бою» высвобождали из-под снега ящики со снарядами и осторожно, чтобы не сбить со стволов, с колес, со щитов белые пушистые шапки, расчехляли орудия. Обнаженные хоботы побеленных «семидесятишестимиллиметровок» неприметно лежали на брустверах, готовые расколоть громом ночь, полыхнуть смертоносным огнем.
Неожиданно, как заслонку вдруг кто закрыл, перестал валить снег. Матушкин и пожалеть не успел, и сразу, словно в нем, в этом снеге, и была вся помеха, началось. Заскрипел «ванюша» на той, на вражеской стороне. Скрип ракет перешел в раздирающий душу вой. Дружно затявкали и забухали у немцев орудия. Небо там, на востоке, полыхнуло огнем. Еще минут двадцать после этого громыхал и вспыхивал фронт, когда далеко-далеко, где-то на юге ответила наша, должно, корпусная тяжелая артиллерия. И куда там фрицам до нас! У немцев от наших разрывов все тряслось и гудело. Потом все сразу притихло в «котле». Уже успел зарумяниться и засветлеть там, над ними небосвод, а танки не шли.
— Порядочек, — нервно, потер ладонями инженер. — Видать, в самое яблочко их. Вот он, наш «бог войны»!
Вытянув из своего окопчика голову, Матушкин вслушивался.
И тут в нишке окопчика зазвонил телефон.
— Идут! — хрипел в трубке голос комбата. — Сзади, с тыла идут!
— Как? — не сразу сообразил Матушкин.
— А так!.. Да, да, милок, за спину смотри!
— Да откуда же им взяться там, за спиной?
— Фюрер… Он, наверно, на помощь прислал. Матушкин замолчал. Как ни привык он к передрягам войны, сердце заколотилось сильно и больно.
— Ты чего? — вновь захрипел в трубке голос комбата. — Примолк чего?
— Это точно, что ты сказал? Кто сообщил?
— Разведчики, кто же еще. Евтихий Маркович выругался.
— Так что держись. Сам держись, — посоветовал капитан. — Поздно менять. Подмоги не будет.
Матушкин знал: развернуть орудия, да еще на таких огневых, какие сейчас у него и у Зарькова, дело минутное. Но кто его знает, может быть, как раз этого там, в «котле», только и ждут и как двинут сразу с обеих сторон?
От новой этой заботы стало на душе у приморца неуверенно и смятенно. Наблюдая теперь за тем, что творилось и сзади, и спереди, Матушкин лихорадочно соображал, что же ему тогда делать, если с обеих сторон сразу пойдут. «Одну пушку на запад, одну на восток? Неужели все прахом пойдет: маскировка, фальшпушки, вся моя западня? Голоколосский… умник… неужели он прав: нельзя полагаться на заранее продуманный план, на точный расчёт? Как это он?.. Чем стройнее, логичнее продумано все наперед, тем скорее все придет в противоречие с подлинной жизнью. Накаркал, вот гад!»
Что-то обеспокоило выползшее из-под шапки и уже малость застывшее ухо приморца. Он прислушался и различил вкрадчивый, словно шмелиный гуд, рокот машин. Надвигался он сзади.
«Вот оно, начинается. А может, — подумал он, унимая волнение, — преждевременно, отвернут, может, еще?» Но гул за спиной нарастал. Вгляделся в «котел». Там тихо. Там, наверное, ждут. И еще до того, как танки выползли на вершину хребта, закричал:
— Танки с тыла!
Неожиданность смещения фронта и того, что сейчас начнут тебя колотить с обеих сторон, придавила солдат. У Вани, бывшего наводчика, к этому чувству подмешивалось еще одно, словно сдирающее с него кожу: что сейчас вовсю попрут на него танки, того и гляди, влепят прямо в пушку фугаской или болванкой. Но только, бывало, станины вразлет, только щелкнет в гнезде панорама, только гаркнет сержант: «Бронебойным! Прицел!»- тут уж Ваня впивался глазом в окуляр, пальцы сами вертели штурвалы, рука искала рычаг. Весь мир для него умещался тогда в перекрестии панорамы. Все, все забывал. И страх тоже. А сейчас?.. Почти неделю уже командует Ваня расчетом, а не сумел привыкнуть к своему положению. Куда вот теперь себя деть? По уставу командир должен быть там, где для победы нужней. А где это место? Кто сейчас ему точно укажет? Взводный! «Постой, а может быть, на самом деле, как и взводному, из окопа огнем управлять? — заколебался Ваня. — И безопасней, и видно… Вполне. Прекрасный обзор. А если как прежде — взять да и встать самому за прицел?» И пожалел тут Ваня, в какой уже раз пожалел, что больше нету сержанта. Зачем он в санчасть ночью самовольно к медсестрам поперся? Заблудился, напоролся на мину. Поставили Ваню вместо него, а вместо Вани Семена.
От наводчика, от Барабанера сегодня зависело многое, если не все. До недавнего времени, когда он, Ваня, сидел за прицелом, все, в конце концов, зависело от него и от наводчика второго расчета — Голоколосского: командиры командовали, а стреляли-то все же они. И неплохо, в общем, стреляли: девять звезд уже на стволах, расчеты и пушки целы. Но только Ваня подумал так, тотчас вспомнил Пашукова и Сальчука. «Что ж получается? Был наводчиком — все шло нормально, стал командиром — и сразу беда? Как же мне после этого командовать боем?» Ваня взглянул на солдат. Он знал по себе, в такие минуты солдаты целиком вверяются командиру, с надеждой и верой глядят на него, ждут его приказаний.
Пацан, припав на колено, как младенца, прижал к груди обтертый им ветошью от масла блестящий холодный снаряд. Позабыл все обиды свои, и не до выходок. Чеверда и Орешный примостились на обледенелых станинах. О чем они думают? О чем, сидя вот так, думают они всегда? О доме, о женах, о детях? Или, возможно, о том, какой неумелый, неудачливый у них командир и что с таким скорее всего пропадешь? Не очень, правда, сноровисты… особенно Чеверда. Однако невозмутимы, спокойны. Или так только кажется, а на самом деле тоже, наверное, как и все, таят в сердце страх?
Оглядывал из своего окопчика расчеты и Матушкин. Разверстые жерла орудий с надульными тормозами, казалось ему, торчали, как лопоухие морды собак. Припав к снегу, таясь, они будто нервно вынюхивали в воздухе, привычно ловили знакомый и терпкий запах зверья. Солдаты в белых маскировочных халатах застыли, как снежные бабы, только пар изо рта валил.
Даже с этой, вроде бы тыльной стороны огневые терялись за несколькими рядами могил. Матушкин слегка успокоился. Повел дальше взглядом, теперь уж назад, к «котлу», и даже слегка задохнулся. Потянул из окопчика шею, привстал. Сердце так и заныло, да так сладко, что досадное, все время точившее его беспокойство пусть на миг, но все ж отпустило его.
Там, сзади, где край несжатого кукурузного поля, как бы выгибаясь над лощиной, отделял небо от земли, лежала желто-лимонная полоса. Чуть выше она розовела. А уж дальше и вовсе была до слез, до тоски несказанная красота: горизонт весь пылал, а в зимнем матовом небе откуда-то из-за холмистой снежной степи, не признавая обкладов, траншей, огневых, плыли белые кудлатые облака. Солнце, еще невидимое, но уже вот-вот готовое выплыть из-за края земли, щедро обливало их снизу алым.
«Ого! — Матушкин глаз не мог отвести от этого чуда — и вечного, и каждый раз нового. — Как же я это так? Ведь мог проглядеть. Такое-то, а! Может, в последний-то раз!»
Только на миг отвлекся Матушкин, а слабый рокот по ту сторону холма вдруг перерос в рев. Матушкин стремительно обернулся. Из-за торчавших там из снега сухих кукурузных стеблей выплеснулся снежный клубящийся вихрь. Что-то там шевельнулось в этой снежной вздыбленной пене, ревущее, неясное, грозное. И хотя ждали этого Матушкин, и Изюмов, и Нургалиев, и Пацан — все солдаты ждали, возник танк в вихревом снежном столбе неожиданно, словно какая-то сила враждебная из-под земли. Рев мотора, ударив по ушам, тотчас оборвался, снежный смерч вокруг танка стал опадать, и огромное рыжее пятно не сразу начало выставлять себя русским солдатам напоказ. Сначала открылась приплюснутая тупая плита, затем что-то чудовищно узкое, длинное, как жуткий уродливый клюв, как таран, и лишь потом показался сам корпус здоровенных размеров и веса — просто колоссальный замшелый валун.
Такого железного чудища взводный и никто из обоих расчетов еще никогда не встречали. Матушкин знал немецкие танки, все их «тэшки» — «тройки», «четверки» — и их самоходки. Прямым выстрелом наши орудия легко брали их в лоб. А вот этот? По силам ли он даже самым новейшим нашим «зисам»? Даже хоть бы в упор? Где вот у этого чудища самое слабое место, куда его, проклятого, бить? Говорили, будто немцы пускали уже какие-то экспериментальные танки. В лоб их наши пушки вроде не брали. Не они ли это?
«Семидесятипятка» или «восьмидесятивосьми»… А то, может, и «стопятимиллиметровая»? — прикидывал Матушкин, изучая в бинокль торчавший из башни огромный уродливый клюв. — Да-а, брат, такая как долбанет!»
Пока было ясно одно: себя, насколько удастся, нужно не выдавать. Выжидать. В овраге рокотали еще. Вот-вот вынырнут и тогда уж точно пойдут на «котел». Затем и пришли. И погоста им, стало быть, не миновать, должны рядом пройти. Глядишь, и подставят бока. «Лишь бы, — молил бога Матушкин, — не помешали нам, не двинули бы сейчас из «котла», дали бы сначала здесь расправиться».
Как ни был Евтихий Маркович занят всем этим, все же уловил краем сознания иной смысл своих же собственных слов: не миновать им погоста.
«Они-то минуют еще или нет, а ты уже здесь, — мелькнуло даже чуть весело у него в мозгу. — Окопчик-то твой — только присыпать, и все, та же могила. — Но тут же упрямо тряхнул головой. — Нет уж… Окопчик — это «энпэ», а не могила! Понят дело? Вот так! Мы еще поживем!»
Матушкин уже давно исподволь усвоил, что как думает и чувствует, на что настроил себя человек, так оно в конечном итоге и получается, будто мысли и чувства, глубинный душевный настрой сами, помимо воли людей властно влекут их дорогами судеб. Хочешь, стремишься жить, в какой-то решительный миг каждой фиброй души цепляешься жадно за жизнь — и живешь, а сдался- и прощай, и погиб. И только Матушкин внушил себе, что пусть лучше фашисты подохнут, а он еще покажет, как над краем оврага взметнулось еще два новых смерча.
Он снова вскинул бинокль, уставился в снежные вихри. Все повторилось опять: рыжие пятна увидел сперва, рыла тупые, клювы, крутые бока. И вот она, троица вся: застыла, готовясь, осматриваясь глазницами щелей, утробно урча.
Отработанных газов не было видно. «На бензине, значит, как и все у них. Не дизеля. Ух ты! — обрадовался Матушкин. — В баках, чай, с полтонны бензина, не меньше. Да-а! Уж этот, коль вспыхнет, так вспыхнет».
Вцепившись в незваных гостей двенадцатикратно усиленным взглядом, Матушкин спешно их изучал: где баки, где люки, где щели, какая у них ходовая, какой под днищем просвет, где и какой пулемет. Снег не успел осесть, да и лихорадило, нервничал, но наметанный глаз тем не менее все это схватывал довольно быстро и четко. Получше бы надо еще рассмотреть, но машины взревели и не спеша, осторожно, гуськом — если уж мины, то подорвется один, только передний — покатили вниз, под уклон.
— Ну, робя, дюжай! — придушенно выдохнул Лосев, Голоколосский враз побелел. Что-то по-своему, по-узбекски злобно выцедил Нургалиев.
Вот когда, не думая, сразу нашел свое место и Ваня, юркнул в ячейку на левом крыле огневой, поближе к наводчику; Чеверда и Орешный сползли со станин, прижались к земле; еще ниже пригнулся Пацан. А Семен как приник правым глазом к прицелу, так и сидел, лишь глубже вжал голову в плечи.
Танки шли к погосту, ко взводу под острым углом.
«Так, так идите, — надвинув на лоб капюшон маскхалата, шептал, почти заклинал Матушкин. — Так… Ну, побыстрее же, побыстрей». Из «котла» могли двинуться в любую минуту, а танки, казалось, ползли. В их чревах, в цилиндрах взрывался бензин, скрежетало железо, траки бесконечно били о снег, вздымая метель. Надвигалось все это на взвод неотвратимо, как горный снежный обвал.
Танки уже были на расстоянии прямого выстрела, уже можно было стрелять, обычно уже и стреляли, но сейчас Матушкин ждал: «Рано, рано еще. Ближе, ближе давайте». И, выждав, когда уже было рукой подать, во весь голос — грохот машин позволял — закричал:
— Бронебо-о-ойными! — Снова вдохнул всей грудью студеный обжигающий воздух. — Пе-е-р-вое — по среднему!
«Нам», — Ваня услышал приказ словно сквозь какой-то туман. Как и положено, дублируя, прокричал:
— Бронебойными! — Вчуже услышал свой собственный сдавленный голос. Услышал, как звякнул на морозе металл: то Пацан загнал в камору снаряд. — По среднему!..
— Вто-о-орое! По замыкающему! — Это снова командовал взводный, но уже командиру второго — Нургалиеву. А потом уже всем: — Под башни! Упреждение… — Но решил еще подождать. Лучше, чем по сетке бинокля, взводный умел определять упреждение на глазок. Все говорило за то, что можно, а значит, и нужно еще подождать. «За распадком, — решил, — только в гору полезут». Выждал. Перевалив седловину, подминая под себя «пауков», танки поползли на угор. Надрывней сразу взревели. Сеткой бинокля Матушкин мерять так и не стал. — По переднему сразу! — рассчитав на глазок, рявкнул он.
А Ваню трясло. «Да что же он? — Еще плотнее прижался к снегу, к комьям льда и земли. — Пора же, пора! Погубит всех нас».
Семен в свой окуляр из-за близости цели не видел уже ничего постороннего: ни горки, ни распадка, ни неба. Видел один только танк, свой только — средний. Танк давно уже полз под крестом. Почти не дыша, вращая штурвалы, Семен неотступно держал этот крест на ярко сверкавших в первых лучах солнца отполированных траках, на той их самой верхней и передней точке, от которой они падали с лязгом и гулом вниз, подминая под себя кукурузные стебли, молодой снег и слежавшийся наст, мерзлые комья земли. Поглощенный этим, наиважнейшим для него сейчас делом, Семен и секунды не мог подумать о чем-то другом. Он даже распухшей пятки, режущей боли не чуял. Ему, глядевшему в увеличительные стекла, чудилось, что танк уже рядом, еще мгновение, другое, и он навалится всей своей громадой на пушку, на расчет, на него самого, и рука, не дожидаясь команды, уже готова была нажать на спусковой рычаг. И тут как раз Матушкин крикнул:
— Огонь!
Бронебойный снаряд Семена проломил-таки у танка боковую броню, угодил прямо в боезаряд. Танк и остановиться еще не успел, еще, должно, по инерции катился вперед, как в его утробе глухо ухнуло. Боекомплект, видать, взорвался, правда, не весь, башню не вынесло, так и осталась в гнезде, сорвало лишь крышку верхнего люка. Из него, из щелей потек желтый толовый дым, заметались первые языки пламени.
Наблюдать, как танк разгорается, времени не было, и, когда огонь наконец добрался до баков с горючим и с бешеным гудом, вулканно рванулся вверх, солдаты на танк уже не глядели.
Досталось и заднему танку, по которому бил Голоколосский. Запнулся, отчаянно взвизгнул, начал было башней, пушкой вертеть, ища цель, но не успел — и его охватил огненный смерч.
Все это заняло не более минуты, но и того хватило, чтобы в первой, командирской машине во всем разобрались. Матушкин успел только скомандовать:
— По головному! Бронебойными! — а уж танк то прямо, гад, шел, а тут как крутанет лобовой броней на взвод, на погост и вперед. Гигантский ствол с ушастым, увесистым набалдашником дульного тормоза дрогнул и пошел, пошел… Ниже, правей… Вот-вот, казалось, жерлом упрется в пушку Казбека, как фуганет, и конец. — В корпус! — отчаянно гаркнул Матушкин. Но командиры орудий, наводчики и сами уже… Быстрее его… Стихийный залп, поспешный, недружный, потряс стальную махину все-таки раньше, чем успела плюнуть сталью она. Лба не прошибли ей, но что-то там, за броней, от такого удара все же стряслось. Танк, словно взбесясь, не владея больше собой, с ходу с грохотом, с ревом врезался в первый, крайний ряд заваленных снегом могил, проутюжил еще рядов пять или шесть и вдруг полез на дыбы, и сразу осел, крутанулся на месте волчком, клюнул орудием, повалился всем телом вперед. Видно, сел брюхом на плоский и скользкий могильный камень. Застыл, показав «громобоям» свой хвост. Тут же бешено, злобно взревел, пытаясь сняться с плиты. Но гусеницы не доставали твердой земли. Яростно скрежеща, разбрызгивая снег, они вертелись вхолостую.
Оба расчета уже подводили стволы зверю под хвост.
— Стой! — взревел Матушкин. — Стой, не стрелять!
Наметанным взглядом Матушкин уже определил, что взвод теперь в недоступной мертвой зоне и, как ни верти фрицы своей пушкой, расчетов им теперь не достать; не достать и пулеметом, разве что автоматами через люк и щели.
— Живьем… Живьем надо взять! — кричал лейтенант.
А танк тщетно пытался сняться с плиты, ревел, раскидывал снег. Словно устав, наконец присмирел.
Такого на фронте с Матушкиным не случалось еще никогда. И впрямь, словно настоящий зверь, задетый уже и поэтому разъяренный, танк попался в капкан. Притаился, чего-то будто бы ждал. Но чего? И долго ли будет он так? Выжидать бесконечно нельзя, вот-вот пойдут из «котла». Конечно, там уже слышали залпы и взрывы, уже, наверное, видят и дым, и это для них может быть сигналом к началу. Возможно, уже и пошли. Матушкин оглянулся. Но там пока, казалось, было спокойно. Но, конечно, ненадолго, и Матушкин лихорадочно соображал: что, черт возьми, можно тут предпринять? Разное мелькало в мозгу: заклинить танку башню, гусеницы рассадить? Чтоб не стрелял, не утек. Но мужицкое, хозяйское нутро таежника не могло согласиться с такой расточительностью. «Погоди, погоди, — осенило его. — А если?.. Вот это было бы здорово! — Он понимал… И они, в танке, должны понимать: плохи у них дела, выхода нет. — А вдруг да пройдет номер, вдруг согласятся?» И, сложив ладони у рта, забрав в легкие воздух, Матушкин крикнул:
— Фриц! Капут! Хенде хох!
Немецкий, считалось, Евтихий Маркович знал, в школе его изучал, и Катя еще помогла. И все-таки самое главное из чужого языка, что требовалось знать русскому солдату, Матушкин узнал здесь, на фронте уже доучился.
— Капут! Ком хир! — еще раз, даже чуть лихо выкрикнул он. — Хенде хох!
И только выкрикнул, как стальной зверь — не понравилось, видно, это ему — огрызнулся: глухо, как дятел по пустому стволу, застучало за толстой броней, по снегу, по могильным плитам, над головой задзыкали пули. Матушкин в окопчике даже пригнулся. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — усмехнулся с ехидцей он. — А чего ты, собственно, ждал от них, свиней, вепрей этих вонючих? Руками голыми думал взять? Да настоящего секача, косолапого, тигра, наверно, легче взять, чем этих».
— Люк… Граната, граната кидай! — со своей огневой посоветовал Нургалиев.
— Я! Дайте я! — сразу забыв все уроки, опять всполошился Пацан, как в классе, задергал нетерпеливо рукой.
«А что? Может, его и послать? — задумался взводный. — Или узбека, черта этого, беса. «Лимонку», другую… Этот закинет». И додумать, решить еще не успел, когда сзади, в «котле», кажись, началось: после подозрительной тишины, воцарившейся там вслед за нашим ответным артиллерийским налетом, оттуда снова послышались рев моторов, пальба, скрип «ванюши». Стальная махина, притихшая перед взводом, видно, тоже что-то почуяла, взревела, траки дрогнули, быстрее, быстрее пошли, из-под них снова плеснулась снежная пыль. Танк вдруг качнулся и на бок, на правую гусеницу. Борт сразу стал брать круто влево. Дрогнула, шевельнулась и пушка. Ждать ни мгновения больше было нельзя.
— Огонь! — гаркнул таежник.
Пламя взметнулось сразу, фонтаном. Взрыв был такой, что, казалось, заплясали могилы, заходила под ногами земля. От меткого залпа в упор, просадившего танку бортовую броню, в нем, должно быть, сработало сразу все: гранаты, снаряды, патроны, бензин и масло, порох и тол. Воя, пылая, дымя, рванулась в стороны, ввысь туча обломков. И пошло рваться, трещать и полыхать. А Матушкин, стараясь перекричать этот ад, делал знаки руками, приказывал развернуть орудия стволами к «котлу».
Развернув их, прячась за щитами, солдаты оглядывались, молча смотрели на горящие танки, как в люки без крышек, в разрывы щелей, в проломы брони незримая сила вышвыривала жженые гильзы, обломки приборов, клочья тряпья. Дым, уже черный, густой, валил, будто весь мир хотел закоптить; пламя, беспощадное, жадное, злое, рвалось в пространство, растекалось по сторонам. Пылали не только танки — огонь пожирал все вокруг: камни могил, мрамор крестов, железо оград, землю и снег.
— Э-эхма, — глядя на это необоримое буйство, на этот жестокий и мрачный шабаш огня, вздохнул с сожалением Матушкин. Загородил ладонями лицо. — Гады! Такую машину сгубили. Не вышли.
А Ваня глядел и не верил своим глазам: правда ли это или во сне? Вроде особенного ничего и не делали. Действовали все как в чаду, боялись, жались к земле. А вот они… Вся троица — груда металла, пепел, дым и огонь.
Перебарывая топливно-толовую и резиновую гарь, начал уже забираться в носы и выворачивать всех наизнанку кисло-сладкий тошнотворный смрад.
— Бэшбармак! — улыбнулся щелками глазок довольный узбек. — Уй, карош!
— Тьфу, — сплюнул Матушкин с отвращением. Осуждающе взглянул на него. И все-таки узбек его восхищал.
* * *
Матушкин схватил трубку. Для начала комбат обложил его в три этажа: они тут с Зарьковым как на угольях, звонили, звонили… А он… Куда он пропал? Но, узнав, чем закончился бой, все равно опять его обложил, но уже радостно, с нескрываемым восторгом:
— Во, три уже есть! Я говорил! — И поспокойней добавил:- Слышишь? Из «котла»-то… Нам уже слышно. Минут через десять — пятнадцать будут у вас. Поддерживай связь. — И замолчал.
Подозрительно вглядываясь из окопчика в сторону гула, Евтихий Маркович снова, как и на рассвете, увидел над собой по-зимнему матовый, почти серый простор; так же медленно плыли в небе белые кудлатые облака, стояла, казалось, такая же тишина, нарушаемая только далеким гулом да воем и треском огня. Но уже не было ни желто-лимонной полосы, ни заревой алости, ни свежей ясности раннего, не тронутого схваткой утра, Лишь на юго-востоке, куда переместилось теперь невысокое февральское солнце, чуть проглядывало сквозь серую мглу светлое живое пятно. Сзади, догорая, чадили немецкие танки. Столбы дыма сливались в одну черную грозную тучу. Ветер сносил ее. Тяжелая, она ползла над оврагом, цепляясь за щетину нескошенной кукурузы.
Но и эта картина первой нынче победы, одновременно и мрачная и торжественная, радость, что все во взводе покуда остались целы, не заглушали в Матушкине новой тревоги. Точила она и солдат, но этого не было видно. Чеверда лениво жевал смерзшуюся камнем кукурузно-ржаную горбушку. О горячей пище нечего было и мечтать, вот направляющий и замаривал червячка. Но, учуяв подозрительный гул, зажевал быстрее, обтер рукавицей рот, сунул краюху в свой вещмешок, накинул петлю, затянул. Пробурчал недовольно:
— Не дастэ и поисты, — завертел беспокойно головой, забил каблуками о притоптанный снег. В полуразбитых сапогах, надетых без вязаных жинкой из овечьей шерсти носков, на одну портянку из немецкой шинели, даже с газетой ноги не согревались.
Матюкнул негромко фашистов и рядом сидевший Орешный: только решил закурить, достал уже и кисет, а тут этот гуд. Сунул все снова в карман, под шинель.
— Э-эх, — вздохнул он, — лихо не лежит тихо. Покурить, падла, и то не дает. — И, кажется, вовремя спрятал: откуда-то с той стороны, где за снежным простором степей и предгорья плескалось Каспийское море, тоже донесся рев, сверлящий, стремительно нарастающий.
«Самолеты, — сразу отличил его Матушкин от всех других шумов. И тут же на сердце тоскливо заныло: — Чьи? Наши или не наши?» Матушкин знал, взвод его непросто увидеть и сверху — пушки подбелены, комья земли присыпаны снегом, все в маскхалатах. Надо только слиться с сугробами, не шевелиться, застыть.
— Воздух! Ложись! — крикнул он.
Все рухнули наземь. Косились глазами на небо. Уставился ввысь из окопчика и Матушкин. Из солнечного пятна, словно из светлого окна в тусклом матовом небе, с ревом выметнулись звеньями «Илы».
— Наши! Ура-а! — вскочил, задрав кверху голову, Лосев.
— За щит! За щит, мать твою! — закричал лейтенант. — Не демаскироваться!
А немецкие танки с пехотой, должно, уже ударили по нашим передним траншеям. Матушкин догадывался об этом по тому, как вместе с «пэтээрами» дружно заработали и пулеметы, как волна за волной, бросаясь в пике, «Илы» не только сыпали бомбы и палили из пушек, но и вовсю поливали сверху свинцом. А немцы, наверно, все лезли и лезли. Небо там, над передними нашими траншеями, так и вскипало зенитными кудрявыми облачками. Один штурмовик задымил. Как бы нехотя, наклоняясь все ниже и ниже к земле, круто взял в сторону, откуда пришел. За ним, все густея, чертил небо шлейф.
«Дотянет? — за ним, наверное, следила вся передовая. Матушкин увидел, как стрела черного дыма метнулась за холм. Всплеска дыма, снега, земли за ним не последовало, не услышал и грохота взрыва. — Уф, — облегченно вздохнул он, — значит, сел, не сгорел. Молодец! Долетел до своих. Не выпрыгнул!»
Отбомбившись и отстрелявшись, штурмовики потянулись назад. А гул из «котла» все нарастал… Не сумели, значит, соколики всех гадов ползучих переклевать. Еще больше усилились треск «пэтээров», разрывы противотанковых и ручных гранат, нарастал автоматный и пулеметный огонь. Наши, должно, отбиваясь от танков, в основном старались отсечь от них пехоту. Рокот моторов, пальба будто бы стали смещаться к хутору» А вот там грохнул и залп. Больше там некому было — значит, ударили пушки Зарькова. Эхо выстрела, отдаваясь между холмами, понеслось по снежной равнине. Ухнул второй залп, третий, четвертый. И пушки Зарькова стали бить вразнобой. Их пальба тотчас смешалась с пальбой немецких орудий. Что-то рвалось там. Возможно, то рвались подбитые фашистские танки. Там, у хутора, уже показался и дым.
Вслушиваясь в пальбу, вглядываясь в дым, Матушкин едва не грыз сжатые в кулаки пальцы. Не достать пока, не помочь. Видно, напуганные мрачной тучей от догоравших возле погоста трех танков, эти, что шли из «котла», взяли не прямо на брод и на мост, как рассчитывал Матушкин, а приняли немного левее, прямо на Зарькова, на хуторок.
«А, черт. Ну, ничего, деваться им некуда, — попытался утешить себя таежник, — сейчас ко мне отвернут. Сейчас. Должны отвернуть!» И тут, да так, что даже притихла возле хуторка стрельба, раскатился над полями, оврагами и холмами отчетливо выделившийся среди остальных, все вокруг придавивший собой взрыв. И тотчас там, перед взводом Зарькова, взвился ввысь множеством остроконечных стреловидных хвостов желто-коричневый столб, а через миг повалили и клубы какого-то особенно черного жирного дыма.
— Подже-о-ог! — заорал таежник. — Ай да Олежка! Самоходку поджег! Тяжелую самоходку! Понят дело? Вот так! — Матушкин вцепился в рукоять аппарата, завертел ее. — Седьмой! Седьмой! — кричал он. Наконец комбат отозвался. — Что там у вас? — надеясь услышать приятное, возбужденно кричал в трубку приморец.
— Дали им жару! — хрипел капитан, — Твой черед, повернули к тебе!
— Я готов! — отозвался немедленно Матушкин.
— Вышло-то… На нас навалились сперва. Стратег, — упрекнул мрачно Лебедь. Но Матушкин терзался этим и сам.
— Как там Зарьков? — не дослушав, поспешил узнать он.
— Ты давай свою задачу решай. Вот так, — и голос в трубке пропал.
— Алло, алло!.. Вот черт! — ледком кольнуло сердце приморца. Опять закрутил рукоять.
— Приказ слыхал? И готовься! — отрезал и слушать не стал капитан. Бросил трубку опять.
— Я спрашиваю! — снова вызвав комбата, взревел лейтенант. — С Зарьковым что? Отвечай!
— Чего орешь? — возмутился и Лебедь. — Я-то почем знаю? Молчит. Уже с минуту молчит. И пушка не бьет. Он у второй.
— Как же не знаешь? Да ты же рядом!
— Рядом, рядом… Говорю тебе, он у второй. Сейчас сам туда побегу. Живой вернусь, сообщу. — И Лебедь снова пропал.
Матушкин, сникший вдруг от тревоги, но налившийся кровью от гнева на Лебедя, было снова схватился за рукоять аппарата, да на пригорке, что слегка выпирал между ним и Зарьковым, неестественно вдруг поднялся, заметелился снег. Все сразу забыл, даже Зарькова. Отчаянно уставился взглядом в снежную пелену.
Первыми, как бы неся ее на себе, показались шустрые легкие танки, кажется, даже танкетки. В дозор, в разведку их, разумеется, бросили. За ними увидел в бинокль штук восемь средних и тяжелых танков и две или три брюхатые полосатые самоходки. Эти, последние, отстали, конечно, чтобы давить своим метким и мощным огнем все, что будет мешать танкам продвигаться вперед. Вся эта лавина, вздыбив снег, лязгая и ревя, время от времени на всякий случай вслепую паля из орудий и пулеметов, казалось, довольная тем, что вырвалась наконец из кольца, как шальная катила к броду, к мосту, к шоссейной дороге — к своим.
Вот теперь, как и предполагал Матушкин еще вчера, и встали на ее пути засыпанные снегом погост и две его, вкопавшиеся средь могил в землю «семидесятишестимиллиметровки». Выходит, не зря солдаты попотели вчера, поломали хребты, понатерли на пальцах мозоли, с утра и до темноты хитроумно, изощренно оборудовали и маскировали фальшивые и настоящие огневые позиции. Здесь, так и не тронутая с утра, вся маскировка осталась цела. Если с тыла оправдала себя — вплотную почти подошли к огневым три теперь уже догоравших чудовища, — то спереди и вовсе должна себя оправдать. К тому же с этой, основной стороны перед взводом во всю ширь кладбища тянулись скрытые под снегом могильные ограды и плиты, щетина пожухлых кустов и цветочных стеблей и, что тоже очень важно, кроме действующих орудий пряталась батарея «кукол». А это редко каким истребителям удается — поставить фальшпушки, основные позиции и то не всегда успевают отрыть. Но, уж коли сумели установить фальшпушки, они на себя примут первый удар, а первый удар — наш ли, врага ли — всегда самый страшный.
— Ох, робя, дюжай! — завороженно глядя на танки, опять, не то других подбадривая, не то себя, простонал глухо Лосев. Уцепился рукой за щит, с надеждой оглянулся на взводного.
— Слушай меня! — сухо потребовал Матушкин. — Бить мне только под башни! Точно бить! В боезаряд, в двигатель, в баки с бензином. Только в корпус, под башни! И не спешить. Не спеши-и-ить! — прорычал он. — И без команды… Убью! Без команды моей не стрелять! Подпускать! К самому краю погоста мне подпускать! Понят дело? Вот так!
Все-таки немцы, видно, не знали о кладбище, возможно, оно не было обозначено на их картах или, скорее всего, они еще не сориентировались, «потеряли» его в бесконечных снежных завалах. Три дозорных легких танка из тех, что остались после встречи со взводом Зарькова, в разных концах с ходу врезались в первые ряды могил.
— Не стреля-а-ать! — кричал лейтенант, а беспокойно заметавшемуся возле Семена Изюмову показал молча кулак.
Ближайшая танкетка, пятнистая, плосконькая, с задранным носом, уродливая, словно жаба, выбралась из плена могил и сугробов сразу и, паля куда попало из обоих своих пулеметов, таща пенноснежный шлейф за собой, покатилась теперь вдоль погоста не только и не столько потому, что не могла взять правей, а чтобы, наверное, обозначить для остальных его край. Ее бы следовало остановить, и это можно было бы сделать первым же выстрелом — кладбище в этом месте было шириной метров двести, не больше, да и танкетка, увязая в снегу, шла медленно. Но первые внезапные залпы Матушкин берег для тяжелых танков, ползших тоже в сплошном снежном тумане чуть поодаль и позади этой высвободившейся легкой машины.
Два других легких танка в самом начале кладбища засели прочно между гранитными плитами и бились, жужжали, как мухи в паутине, целиком поглощенные своим собственным спасением.
С лицом злобным, перекошенным, все также угрюмо грозя кулаком, Матушкин сдерживал солдат. Подкатывал первый, ревущий и громыхающий вал стальных тяжелых машин. Их было, казалось Матушкину, не менее десяти. Подсчитать их точно в той снежной метели, в том почти гипнотическом окостенении, которое на время невольно сковало всех, было невозможно, не было времени, да и нужно ли было считать, все равно все были твои, никто их за тебя не возьмет. Похоже, дозорники уже успели предупредить по рации тяжелые танки, хотя последние и сами могли заметить, как бьются на месте их меньшие собратья, и решить, что те нарвались на минные поля; тем более могли так решить, что дальше, за взводом, за кладбищем, которых они покуда не видели, на чистом, открытом поле ни с того ни с сего почему-то догорали три танка, с утра спешившие им на помощь.
Матушкин выжидал: вот-вот и тяжелые врежутся в первые ряды могил или начнут отворачивать, резко сбавляя ход, подставляя бока и хвосты.
Ждали команд взводного и Нургалиев, и Изюмов, ждали их, замерев, и расчеты. Ощущение времени, места, самих себя совершенно пропало, даже пропали скрежет и грохот танков и остались только гул сердца, отдававшийся громом в ушах и висках, и бесконтрольное напряжение, и с трудом преодолеваемое стремление спрятаться, втиснуться в землю, в снег или очертя голову, обеспамятев, чтобы не чувствовать страха, пока не расстреляли тебя, самому стрелять, стрелять и стрелять.
— Первое! — наконец крикнул Матушкин. — По головному! Второе — по левому! Бронебойными! В корпус! Под башни! — И, вскинув правую руку, застыл. Вот-вот начнут разворачиваться. Танкетка, указывая им путь, спешила наперерез. Покачивая громадными стылыми телами, пятнистыми и грязными от пестрого набора камуфляжной краски, головные, грозно рыкнув, плюнув из выхлопных труб сизой гарью и искрами, притормозив, стали круто забирать влево. Тут-то Матушкин и рявкнул:- Огонь!
Что было дальше, и походило и не походило на нынешний утренний бой: танки за спинами передних, уже подбитых, горевших и взрывавшихся, не видя ничего перед собой, разворачивались и тут же, вспоротые с подреберья или с хвостов, загорались. Трещали. Грохая, рвались. В огне, чаду и дыму.
Первой ответила самоходка. Приотстав, спрятавшись за бугорком, она била прицельно. Склеп с фальшпушкой так и разнесло восьмидесятивосьми- или стопятимиллиметровой фугаской. Взмыли осколки, тучей взметнулся снег. Еще раз, еще… Приотстав, прикрывая отходившие в сторону брода уцелевшие танки, рявкнула еще одна самоходка. Еще две ложные огневые — трофейную гаубичку и под ствол подделанную колонну — мрамор и гранит соседних могил подняло с землей. Рухнул и едва державшийся после вчерашнего обстрела продырявленный фасад часовенки. И в это время Матушкину показалось, будто со стороны хутора громыхнуло опять, наверное, по тем, что свернули туда. Матушкин не мог оторвать бинокля от самоходок, вот-вот готовых ударить и по расчетам, если они нащупают их, и на мгновение не решался повернуть оглушенной, гудевшей от грохота головы в сторону уползавших от кладбища опять к хутору или напрямик к броду нескольких уцелевших машин, но всем своим существом чуял, что это снова ударила одна из пушек Зарькова. И даже в эту минуту величайшего напряжения, невероятнейшей сосредоточенности, а может быть, как раз из-за них Матушкина как-то вдруг, без всякого к этому усилия осенила короткая острая мысль, которая в другое время, при других обстоятельствах, возможно бы, ему и не пришла. Мысль была сложной, но предстала вдруг в неожиданной простоте, будто кем-то специально для него отчетливо выявленная. Поначалу памятное утверждение Голоколосского о бессмыслии в жизни, в человечьих делах точных расчетов, планов, систем как будто бы полностью подтверждалось: немецкие танки неожиданно ударили с тыла; из-за этого те, что пошли из «котла», ударили сперва по Зарькову, а не по нему, как ожидал он, Матушкин, и взводу Зарькова оказалось трудней, чем его. Словом, все, казалось, пошло кувырком, не так, как он рассчитывал. И сердце приморца обливалось кровью, начинали вскипать гнев и месть, особенно из-за Зарькова, из-за того, что так и не было до сих пор известно, что же с ним — живой он или уже нет. И вот, оказывается, все в конце концов повернулось опять по его, что-то самое важное и существенное было задумано им все-таки правильно. И Матушкина в этот смертельный миг, целиком занятого как будто другим, тут-то как раз и осенило. «Да, да, — мелькнуло в мозгу, — в этом, наверное, и заключается истина, что не все наши планы, расчеты всегда и во всем обязательно точно и полностью воплощаются. Но и без них — без планов, расчетов, систем — тоже никак нельзя: мы превратились бы в совершенно беспомощных и слепых. Всего человек не может, конечно, предусмотреть, но стремиться к этому должен». И, подсознательно ощущая радость от своей, как снова казалось ему, правоты и неправоты наводчика второго расчета, как он его понял во вчерашнем споре с Изюмовым и Семеном, Матушкин еще упрямее ухватился за уцелевшую часть, за удачную концовку своего изуродованного фашистами плана. Все-таки своим упорством и капелькой, пусть только капелькой давешней своей прозорливости он сейчас скреплял, сводил к одной точке начавшие было расползаться, уходить из-под контроля вихри стихий.
Ждать, молчать, не высовываться из огневых. Не дать обнаружить себя самоходкам. Один только нетерпеливый выстрел — и они, замеревшие, настороженные, чутко следящие за погостом, тотчас же обнаружат и накроют метким огнем его взвод. Фальшпушки их уже не обманут — их уже нет.
И тут снова ударил Зарьков, точнее, какая-то одна, вновь ожившая пушка зарьковского взвода.
— Второй бьет! Робя! Ура-а-а! — громко зашептал Лосев, едва не срываясь на вопль.
Ухнули уже первые орудия и у реки — батареи соседей; гремело и за рекой (может, немцы и там уже спешили извне на помощь «котлу»). Гремело, казалось, кругом. И в этом общем хоре Ваня, до этого командовавший как в чаду, а теперь трясшийся мелко, вдруг ошалел. Не чуя больше риска, губя, может быть, дело, солдат, самого себя, он, как и вчера на холме, с которого так ясно видел на розовом от зари снегу драпавших немцев, снова был готов потерять голову и закричать: «Огонь!» В какой-то момент и сам Матушкин тоже чуть не поддался охватывавшему всех стремлению попытаться достать снарядами уходившие остатки разгромленной ими и взводом Зарькова колонны. Но где-то глубоко-глубоко в разрывавшемся этим неумным порывом сердце охотника стержнем стояла, гвоздила его давняя, привычная, цепкая, сильнее нервов его, выше азарта, злая, упорная мысль: «Ждать. Не обнаружить себя. Не обнаружить!»
— Жда-а-ать! — сдерживая и солдат, и себя, почти зловеще прохрипел обоим расчетам Матушкин. — Ждать! — И, должно быть, боясь окончательно отстать от танков, на всякий случай сыпанув еще парою залпов фугасных в сторону уже уничтоженных ими ложных «опэ», немецкие самоходки стали осторожно выползать из-за бугра. — Первое — по правому! Второе — по левому! — словно боясь, что его услышат и там, в чревах вражьих машин, негромко отдал приказание Матушкин.
Выслеживать, таиться, терпеливо, по-рысьи выжидать Матушкин учился годами. И, поборов было охватившее его опьянение, он еще лучше теперь знал: хватит у них мужества, выдержки выждать, когда самоходки полностью выползут из-за бугра, выцелят их точно наводчики, выберет он нужный момент для последнего победного залпа, когда они, разворачиваясь, подставят полосатые, словно матрасы, крутые бока или горбатые спины, и решится все. Кому, решится, остаться здесь. Навсегда!
И только когда вторая самоходка показалась целиком и начала разворачиваться, а первая уже развернулась, Матушкин яростно, упоенно рявкнул:
— Огонь!
* * *
Прежде чем распечатать письмо, Матушкин, крякнув, присел на еще холодную майскую землю. Повертел треугольничек письма перед глазами. И вдруг резко склонился к нему. За цифрами номера полевой почты прочел: «К. 3. Зарьков».
Короткие обкуренные пальцы не подчинялись, треугольничек сопротивлялся, Евтихий Маркович нетерпеливо рванул его. Он раскрылся. Жадно разгладил на коленке ладонью тетрадный листок. Вцепился глазами в первую строчку.
«Пишет вам, — читал Матушкин, отец Олега — Олега Константиновича Зарькова, Вашего бывшего коллеги, соратника по батарее. Я в Свердловске, в госпитале. Ранило меня во время бомбежки нашего полевого госпиталя. Лежу вот и думаю, почему не наоборот: сына лучше бы, даже так тяжело, как меня — в руки, в ноги, в живот, поправился, пожил бы еще, а меня б как его — наповал. Как это страшно, Евтихий Маркович, переживать своих детей. Нет ничего страшней, несправедливей, чем это. Ничего! В мирное время я бы такого, наверное, не вынес, не пережил. Он ведь единственный у нас. Простите, не могу об этом писать, не могу, хоть и знаю — не я один такой несчастный отец, многие сейчас теряют своих детей.
Прошу Вас, Евтихий Маркович, напишите нам о сыне. Все, все напишите. Поймите, сейчас каждая подробность, каждая деталь об Олежке необходима нам. Жена теперь со мной. С ней вообще плохо. Боюсь за нее. Прошу Вас, все, все напишите: как он воевал, о чем говорил с Вами, с солдатами, может быть, думал вслух. Где, как похоронили Вы нашего сына? Как нам найти его? Может быть, остались какие-нибудь бумаги, письма, а может быть, и фотографии после него остались? Умоляем Вас, ради бога, пришлите. Все до последней ниточки, что от Олежки осталось, пришлите. А фотографии мы переснимем и все, все Вам вернем. Пожалуйста…»
Матушкин смотрел в письмо, но дальше не получалось читать — буквы стали расплываться. И вдруг огромной заскорузлой ладонью сжал, скомкал письмо. Вязкая волна чужой, своей собственной боли накатилась вдруг на него. Слезы выступили. И поползли, поползли по обветренным, шершавым щекам. Боясь слез, еще больше боясь их вытирать, показать, Матушкин склонился к самой земле. Так и сидел. Письмо в кулаке. «Эх, Олег, Олег… — хлюпнул носом он. — А Колька?.. Боже, что будет с Колькой? Такой же не обстрелянный сосунок. — В памяти всплыл Олег, каким нашли его у орудия: болванкой, как топором, перерубленный пополам. — Неужто не уцелеть и Николке? Тоже куда-то сюда, — вспомнил он письмо от него. — Всех сейчас гонят сюда. Что-то здесь затевается. — Стиснул ладонями лоб. — Рядом совсем. Рукой подать. А не свидеться. Нет, не свидеться. И собой… Ох, собой не прикрыть».
Подбежал Нургалиев. Матушкин еще ниже пригнулся. Будто подтягивал голенища сапог, а сам прятал лицо. Медленно встал. Покачивало немного, в глазах стоял влажный туман.
— Товарищ старший лейтена-а-ат, второй орудий…
Что-то, видимо, заметил узбек на командирском лице, замолчал. Подбегали, докладывали остальные командиры расчетов. Матушкин безучастно выслушивал их, не глядя ни на кого, и тупо, отрешенно молчал. Разжав кулак, теребил, расправлял письмо пальцами.
Все молчали, косясь на письмо. Матушкин все никак не мог собой овладеть. Наконец махнул вдоль колонны рукой.
— По маши-и-инам! Заводи! — догадался, закричал во всю глотку за батарейного Ваня Изюмов. Матушкин кивнул ему, устало махнул рукой.
— Поехали.
— Есть! — кинул Ваня руку к виску. И, прихрамывая — зацепило пулей тогда, в феврале, слегка и его, — последним побежал к своему «студебеккеру».
«А если бы не я, а Олег встал тогда на погосте? А я в хуторке? Кто бы погиб? Он или я? Или никто? — снова затерзала Матушкина проклятая эта мысль. Вспомнил опять тот короткий шальной миг, когда мог погибнуть и он, и весь его взвод. Как едва удержался сам и солдат сумел удержать. Осилил минутный пьяный восторг. Как выдержка, хитрость, расчет взяли верх. И все-таки промазал тогда. Скосило Орешного и Чеверду. Да и Изюмова вот зацепило. Все, казалось, учел. А забыл про вторую танкетку. А она, сука, вырвалась из плена могил и давай свинцом поливать. Самоходки выждал, спалил, а она тут как тут. И давай… Очередь, очередь… Вот когда полный щит бы помог. А он-то щиты посрубил. — Вот и знай, где соломку, сенца подстелить. Всего не учтешь. Нет, не учтешь. Не вся, значит, правда моя. Но и он, — все равно недовольно подумал об Игоре Герасимовиче Матушкин. — Других же сберег? Сберег! И пушки остались целы. А танков набили тогда — не верится до сих пор. Помог и Зарьков. — Вспомнив Олежку, Матушкин снова потемнел: нет больше Олежки. И Лебедя нет, кровью истек — оторвало обе руки. И Орешного, и Чеверды. Тяжко вздохнул. — А если бы я и там, и там? И на кладбище я, и на хуторе? — мелькнула совсем уж дикая, нелепая мысль. — А-а, чертовщина какая-то. — Но тут же вновь кольнула прежняя горечь. — Да, опыта, сметки, видать, не хватило у Малыша. — Не хватило чего-то такого, что за войну, да и до нее выработала в нем, таежнике, промысловая жизнь. И, наверное, окажись тогда и в хуторке такой же, как он, кто его знает, возможно бы, все обошлось, остался б Олежка живой, не жгло бы пальцы, всю душу горькое это письмо. Ну что он тогда успел передать только-только пришедшему из училища юному офицеру, мальчишке еще? За две-три недели… Почти ничего. Только то, что вынес из училища, то, считай, и было при нем. А жизненного, кровного, из опыта своего — ничего. — Этим бы, живым все передать, — думал Матушкин, наблюдая прояснившимися уже глазами, как резко, четко командовал Нургалиев, как проворно заглядывал в кузова тягачей, проверяя готовность к маршу, Изюмов, как держали на случай команды «воздух» трофейные «машиненгеверы» Лосев и Яшка. — Этим вроде уже передал. Схватили уже кое-что. Закрепили в боях. Доказали». Командирами, солдатами своими, почти всеми, даже новенькими, из пополнения, Евтихий Маркович Матушкин был доволен. И техникой новой, полученной буквально на днях, но уже неплохо освоенной, новенькими «пятидесятисемимиллиметровками» и неведомыми дотоле подкалиберными снарядами к ним и могучими заокеанскими тягачами Матушкин тоже был доволен.
Сменив убитого Лебедя, еще жестче, еще беспощаднее к себе и другим стал вновь испеченный командир батареи.
«Ну, чего он там?»- чуть было раздражился таежник. Но тут взревел «студебеккер» и командира четвертого расчета младшего сержанта Барабанера. И вся колонна ждала теперь только его, комбата, последней команды.
— Колонной! Дистанция — двести метров! За мной! За командирской машиной! Ма-а-арш! — крикнул Матушкин и, еще раз окинув взглядом орудия и тягачи, шагнул к своему «шевроле».
В кабине его тряхнуло. Тронулась следом машина и Нургалиева; дернулся, качнулся красивый длинный и тонкий, словно игла, пушечный ствол, и на нем свежие белые звезды — по числу подбитых узбеком танков. Взревев, двинулись остальные три «студебеккера» и прицепленные к ним орудия сержантов Изюмова и Голоколосского, а Барабанер замыкал весь строй. Орудия, мягко и легко подрессоривая на еще несработавшихся амортизаторах, высоко и покуда мирно задирали стволы в небесный майский простор.
Всю бригаду в полночь подняли. Рассредоточили. И по непросохшим еще весенним дорогам спешно погнали под Белгород, на Обоянь.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


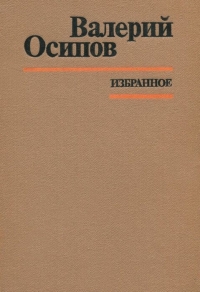
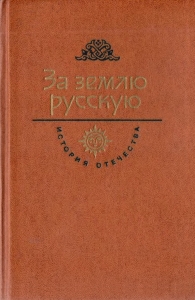
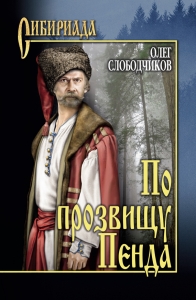

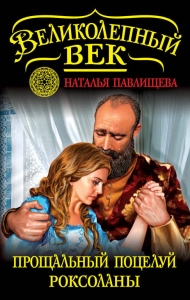
Комментарии к книге «Отец», Александр Георгиевич Круглов
Всего 0 комментариев