Маргарет, моей жене, Кеннету, моему сыну, Рут, моей дочери, Биллу, ее мужу, и их сынишке, Уильяму Маккинли
Автор выражает благодарность
Биллу Пэйджету, доктору Альберто Массимо, Рою Эллису и Барбаре Хэйли — за неоценимую помощь в поисках информации в Интернете, а также Хелен Симпсон — за прекрасное редактирование. Особую признательность хотел бы выразить моим издателям Хью Эндрю (посеявшему семя и сделавшему все возможное для того, чтобы оно взросло) и Невилу Мойру — за неизменную поддержку и ободрение
Историческая справка
В 376 году, ровно за сто лет до конца Западной Римской империи, случилось нечто из ряда вон выходящее. Целая германская нация, визиготы, собралась у берегов реки Дунай и отправила послов к римскому императору Валенту со смиренной просьбой принять ее, обещав, что будет вести себя спокойно и поставлять, если того потребуют обстоятельства, вспомогательные отряды. На то у визиготов имелась веская причина: с востока на них внезапно напало ужасное племя кочевников-воителей, гуннов, столь жестокое и многочисленное, что германцы в страхе бежали к римской границе. Римляне отнеслись к незваным гостям благосклонно, и все, казалось бы, шло хорошо — готы мирно возделывали землю или рекрутировались в легионы, — но лишь до тех пор, пока нещадная эксплуатация визиготов коррумпированными римскими[1] чиновниками (доходило до того, что умиравшие от голода готы вынуждены были продавать своих сыновей в рабство в обмен на жалкие подачки) не подвигла гордое германское племя на восстание. В августе 378 года в окрестностях фракийского Адрианополя они наголову разгромили огромное римское войско восточного императора Валента, встретившего на поле боя свою смерть (к тому времени империя уже разделилась на две части, со столицами в Милане и Константинополе). Столь серьезных поражений Рим не терпел с 216 года до н. э., когда грозная римская армия была в пух и прах разбита при Каннах значительно уступавшим ей в численности карфагенским войском Ганнибала.
Приструнить визиготов удалось жесткому, но дипломатичному Феодосию I Флавию, последнему великому римскому солдату-императору. Заключив с готами мир, он поселил их в Мезии в качестве федератов. Империя, вновь, казалось бы, обретшая силу и спокойствие, на какое-то время (в последние годы правления Феодосия I) вернула себе прежнюю целостность, но стоило ему умереть в 395 году, как юные и слабовольные сыновья императора Гонорий и Аркадий опять позволили ей разделиться на две части, на сей раз — окончательно (первый стал править на западе, второй — на востоке).
Мягкотелому Гонорию было далеко до лавров усопшего отца, и Западная Римская империя погрузилась в кризис. В 395 году визиготы под предводительством Алариха покинули Мезию и двинулись сначала на Балканы, а затем и в Италию, куда, начиная с 401 года, вторгались неоднократно. Возглавляемым выдающимся полководцем Стилихоном (фактически правившим на Западе в качестве опекуна малолетнего императора Гонория) римлянам несколько раз удавалось победить варварское войско Алариха, но тот всегда благополучно избегал пленения или смерти, возможно, из-за того, что Стилихон испытывал к предводителю готов определенное уважение. В последние дни 406 года разразилась катастрофа. Собравшиеся воедино германские племена — вандалы, свевы, бургунды и прочие — пересекли замерзший Рейн и вторглись в Галлию, а затем поселились в Испании. Стилихон, вынашивавший в то время грандиозные планы по отъему Балкан у Восточной Римской империи, допустил роковую ошибку, не сочтя нужным пойти на конфликт с германцами; в результате же потерял власть и был казнен. Визиготы вновь заполонили Италию; кульминацией их нашествия стало разграбление Рима в 410 году, но триумфом Аларих упивался недолго — спустя несколько месяцев он умер своей смертью. Вскоре готы ушли из Италии, увезя с собой сестру Гонория, Галлу Плацидию, плененную во время падения Рима (в конечном счете римляне выкупили ее за полмиллиона мер зерна). Британия, лишенная узурпатором войск, получила от Гонория совет защищаться от набегов саксов, пиктов и скоттов (из Ирландии) собственными силами.
Столь критически складывавшуюся для Запада ситуацию удалось стабилизировать и в какой-то мере изменить выдающемуся римскому полководцу Констанцию. Его мирная политика убеждения привела к тому, что визиготы вернулись в Римскую империю и поселились в ряде имперских провинций. Гонорий оценил усилия своего полководца по заслугам, назначив его в 421 году соправителем Западной Римской империи (под именем Констанция III) и санкционировав его женитьбу на Плацидии, которая родила Констанцию сына, будущего императора Валентиниана III, и дочь, Гонорию, чья скандальная связь с вождем гуннов, Аттилой, привела Западную империю к преждевременному концу. (Планы по возврату Британии пришлось отложить на неопределенное время.)
К несчастью, Констанций умер уже через несколько месяцев после получения императорского сана. Но проделанная им большая работа, направленная на то, чтобы римляне и их германские «гости» (как эвфемистически называли федератов) гармонично сосуществовали в пределах Римской империи, стала делом жизни другого римского полководца, Флавия Аэция. Задача его осложнялась религиозной проблемой. К тому времени официальной религией римского государства уже было признано католическое христианство. Обосновавшиеся в империи германцы тоже являлись христианами, но считали себя арийцами. Согласно их убеждениям, Бог Сын стоял в небесной иерархии ниже Бога Отца, что полностью укладывалось в традиции германского патерналистского общества. В глазах же римлян сей факт превращал визиготов в еретиков, перешедших все границы приличия.
В 423 году от Рождества Христова — а именно с этого времени начинается наше повествование — Гонорий умер, не оставив после себя никакого потомства, что немедленно создало вакуум власти. Восточный император, Феодосий II, сын Аркадия, отказался от претензий на западный трон в пользу следующего легитимного наследника, Валентиниана, несовершеннолетнего сына Констанция III и Галлы Плацидии (императрица и ее маленький сын гостили в то время у Феодосия в Константинополе). Тем временем всю власть на Западе узурпировал Иоанн, провозгласившей себя императором в Равенне, бывшей тогда столицей Западной Римской империи. Тут же из Константинополя в Равенну была отправлена экспедиция (в числе прочих в нее входили Плацидия и Валентиниан), в задачу которой вменялось низложить Иоанна. С мольбами о помощи узурпатор обратился к Аэцию. Желая предотвратить приход Плацидии к власти в качестве регента Валентиниана — что, по его мнению, имело бы катастрофические последствия для Запада, — Аэций согласился оказать Иоанну поддержку. С собранным на другом берегу Дуная огромным войском, основную часть которого составляли его друзья и союзники гунны (среди них он жил заложником в свои детские годы), Аэций отправился в Италию. В последние весенние дни судьбоносного 425 года две армии сошлись лицом к лицу у Равенны.
Часть первая Равенна 423 — 433 гг
История Флавия Аэция, последнего римского полководца, и его друга, ставшего впоследствии врагом, Аттилы, предводителя гуннов
Пролог
Выругавшись, Тит Валерий Руфин пришлепнул укусившего его в шею комара. Даже здесь, в тридцати метрах от земли, на крыше равеннской базилики Урсиана, нового собора епископа Урсия, эти паразиты не знали покоя. Взор его вновь обратился к востоку: поднимавшееся над Адриатическим морем воспаленно-красное солнце предвещало очередной невыносимо жаркий день. Мгновение — и засверкали под ранними лучами башни императорского дворца, озарились зубчатые городские стены, засияли верхние своды акведука, построенного по приказу императора Траяна триста лет тому назад, заискрились золотом купола церквей, пришедших на смену языческим храмам. Застилавшая Равенну легкая дымка постепенно расползалась: при желании уже можно было различить очертания огромной насыпи, соединявшей город с расположенным в четырех с половиной километрах к юго-западу портом Классис; дорога туда шла через неимоверно разросшуюся Цезарею, предместье западной столицы. Прошло еще немного времени, и Титу открылся весь этот, столь знакомый, но оттого не менее унылый, пейзаж: болота и лагуны, чьё однообразие нарушали лишь редкие заросли ивняка да сверкающая рябь Фосса Аугусты, громадного канала, связывавшего Равенну с рекой Пад.
Вскоре по отбрасываемому вражескими доспехами и оружием тусклому мерцанию, тонким струйкам дыма, исходившим от разожженных костров, и слабым звукам труб Тит понял, что противник, разбивший в Цезарее лагерь, приходит в движение. Следующий час ожидания показался ему целой вечностью. Вражеское войско — прибывшая из Восточной империи конница, во главе которой стоял Аспар, сын Ардавура, бывалого солдата и полководца, — рассредоточилось по насыпной дороге. Прищурившись и вытянув вперед сжатую в кулак руку, Тит принялся считать всадников: пятьдесят — между двумя суставами пальцев; десять, двадцать, тридцать рядов… Наиболее отдаленные от Тита конные отряды сливались в расплывшиеся светящиеся пятна, что делало точный подсчет невозможным; тем не менее, по его прикидкам, всадников было никак не меньше пяти тысяч, возможно — около десяти.
Прошло еще несколько минут, и до Тита донесся приглушенный резкий звук — то заиграли трубы. Словно гигантская гусеница, огромная колонна поползла по насыпи в направлении города. Когда она оказалась в пяти или шести сотнях шагов от городской стены, Титу удалось рассмотреть различные типы конницы, составлявшие авангард вражеского войска: catafractarii, с головы до пят закованные в доспехи и выглядевшие удивительно безжалостными; clibanarii в кольчугах и шлемах; легкая конница, вооруженная копьями, небольшими круглыми щитами и касками; конные лучники и прочие вспомогательные формирования. Увиденное Тит постарался сохранить в голове, используя старый цицероновский метод — так называемые «дворцы памяти», воображаемую анфиладу комнат, каждая из которых содержит определенный сегмент информации, легко припоминаемой при прогулке по «залам».
Нужно поторапливаться. При входе в город через Авреанские ворота, как и при выходе через Ариминские, колонне, конечно же, придется замедлить ход, но любая секунда, выигранная им во время возвращения в штаб с донесением, позволит командующему — полководцу Аэцию — лучше подготовиться к сражению, которое, похоже, уже неизбежно. Передвигаясь ползком, Тит добрался до выходившего на крышу люка и по приставной лестнице спустился на поддерживаемую лесами платформу — работавшие там мастера еще не закончили укладывать стенную мозаику, на которой восседавший на земном шаре Христос отделял овец от козлищ в Судный день. Великолепно прорисованное лицо Иисуса выражало несовместимые, казалось бы, чувства — доброту и силу, сострадание и мощь. Преисполненный эмоций, Тит преклонил колени перед образом и осенил его крестным знамением. (Недавно он, язычник в молодости, обратился в новую веру.) Умиротворенный и окрыленный, продолжил он свое нисхождение. Иподиакон, тайно впустивший Тита в собор, дожидался его у подножия лесов. Вместе они поспешили прочь из этого впечатляющего — пять нефов, пятьдесят шесть мраморных колонн, восхитительная мозаика, переливающаяся в сумерках голубым и желтым цветом, — строения.
— Прощай, сын мой, — прошептал клирик, заперев массивные двойные двери. Подойдя к Титу, он вложил в его руку крошечный амулет: выбитые на нем греческие литеры «Хи — Ро» символизировали христианскую веру. — Храни тебя Господь и ниспошли тебе благо.
* * *
С небольшой возвышенности, где, рядом с лагерем гуннов, находился штаб Аэция, Тит наблюдал за тем, как — примерно в километре от них — развертывает свои силы неприятель. От возбуждения и страха у него свело живот. Войско Аспара расположилось довольно-таки удачно: окружить рассыпавшихся тройной цепью на сравнительно твердом участке земли между болотами всадников не представлялось возможным. Фланги защищала тяжелая конница — catafractarii и clibanarii, в центре выстроились легкая конница и конные лучники. В тылу, на приличном расстоянии, противник поставил вспомогательные обозы. Тит бросил мимолетный взгляд на сбившихся в кучу у подножия холма гуннов — кружившая на одном месте орда, казалось, вот-вот была готова сгореть от нетерпения.
Нас ждет исключительно конное сражение, думал он, такого в долгой истории Рима еще не бывало. Вплоть до последнего времени победы добывались лишь за счет хорошо вооруженных легионеров. Но корабли, которые должны были доставить пехоту Восточной империи из Константинополя, попали в шторм, разбросавший их по всему побережью, а командующий, Ардавур, угодил в плен. Аэцию же, здесь, на Западе, не удалось собрать сильную армию, что заставило его искать союзников на другом берегу Данубия. И такие нашлись — гунны, превосходные лучники и, возможно, лучшие на земле наездники.
Гунны Аэция, с коими мало кто мог сравниться в умении держаться в седле, численностью своей значительно превосходили восточную конницу. Но, в отличие от вымуштрованных и дисциплинированных солдат Аспара, они мало походили на армию в прямом смысле этого слова. Ни одно из гуннских племен не клялось в верности другим. Любой отдельно взятый гунн был очень силен как воин, но в бою редко приходил на помощь соплеменнику, думаю лишь о добыче и трофеях. Тем не менее немногие желали видеть гуннов не на своей стороне. Даже готам, одному из самых воинственных германских племен, пришлось — лет так пятьдесят тому назад — просить прибежища на территории Римской империи после того, как внушающие ужас полчища этих до дикости безобразных кровожадных кочевников смерчем прошлись по их селениям.
Выслушав донесение Тита о силе и передвижениях восточной армии, Аэций, чье войско тогда стояло лагерем в восьми километрах от Равенны, решил дать Аспару бой. Отлично осознавая всю тщетность попыток навязать противнику ожесточенное сражение в окружавших город топях, он отдал приказ выдвигаться к северо-востоку, на менее подтопленные территории.
В сопровождении полудюжины офицеров и трибунов, и, как обычно, не забыв надеть свою вогнутую кирасу и небрежно накинуть перевязь, Аэций стремительно выскочил из командного штаба и направился к группе курьеров, разведчиков и младших офицеров, куда входил и Тит. Полководец, достаточно молодой еще человек среднего роста, просто-таки излучал энергию и уверенность. Яркое солнце, прошедшее лишь четверть ежедневного своего пути, заставило Аэция прищуриться и криво ухмыльнуться.
— Ничего бы не имел против того, чтобы повременить со сражением часов этак до девяти[2], — громко произнес он. — Тогда солнце оказалось бы позади нас, и этим глупцам несладко пришлось бы в их-то доспехах. Не уверен, правда, что удастся так долго сдерживать гуннов. — Улыбнувшись, он обвел взглядом своих офицеров. — Поэтому, если ни у кого нет возражений, объявляю игры открытыми. Трубить наступление!
Приложив губы к мундштуку своего музыкального инструмента конической формы, трубач протрубил серию звучных нот. В ту же секунду рванулись вперед всадники-гунны: приземистые, крепко сбитые воины с плоскими азиатскими лицами, в грязных, сшитых из шкурок лесных мышей, одеждах, пронеслись они мимо Тита на своих уродливых, но крепких с виду конях подобно стрелам, пущенным искусной рукой, и имел каждый из них из оружия лишь изогнутый лук да полный стрел с наконечниками из кости колчан. В благоговейном трепете наблюдал Тит за тем, как в доли секунды наводнили они все пространство вокруг холма, где стояли римляне, и волной накатились на вражескую армию, скрыв за собой линию горизонта.
Хотя и не хватало гуннам четкой организации, действовали они так, словно вела их за собой коллективная воля. Идеально исполненный конный маневр — такие не всегда удаются даже знаменитому римскому ala, и первые ряды всадников разлетелись направо и налево — тогда, когда до войска Восточной империи оставалось не более сотни стадий, и галопом пронеслись параллельно вражеской коннице, осыпая ее градом стрел. Так, волнами, напоминавшими скорее огромный водоворот, и накатывали лучники-гунны на замершую в статичном положении конницу Аспара. Ранее выражение «небо стало темным от стрел» Тит воспринимал с недоверчивой улыбкой. Теперь-то он знал, что возможно и такое.
Так продолжалось около часа. Затем гунны увели загнанных лошадей на прежние позиции, и стоявший на пригорке Тит получил возможность оценить результаты их вылазки. К немалому его удивлению, впечатляющими они не оказались. Судя по всему, стрелы гуннов отскакивали от доспехов конников Аспара, не причиняя последним никакого вреда. Основной удар на себя приняла центральная часть восточного войска — с усеянными десятками стрел щитами эти воины походили сейчас на стадо дикобразов. Потери восточная армия понесла незначительные: несколько лошадей и пара-тройка всадников — убитыми, да дюжины полторы воинов — ранеными. Для гуннов же, не имевших ни кольчуг, ни щитов, ни какой-либо другой защитной амуниции, все сложилось гораздо хуже: поле боя было усеяно рядами трупов в кожаных накидках, что явилось лучшим свидетельством силы и эффективных действий конных лучников Восточной империи. К тому же сейчас, в начале мая, лошади гуннов находились еще не в лучших своих кондициях, особенно в силу того, что на тяжелых, вязких почвах у реки Пад не росли те травы, которыми они привыкли питаться. В отличие от гуннов, восточные римляне привезли с собой в походных обозах достаточно зерна для того, чтобы их боевые лошади были готовы переносить тяжелые испытания на протяжении долгих и долгих дней, недель, а то и месяцев.
— Ну что ж, как видно, так мы ничего не добьемся, — невозмутимо произнес Аэций. — Если Аспару удастся и далее сохранять подобное боевое построение, мы можем атаковать его хоть сутки напролет — и все без толку. — В притворной мольбе он вскинул вверх руки. — Идеи, мне нужны свежие идеи! Давайте, думайте — я жду.
— Продолжим наступление, господин, — выступил вперед один из трибунов. — Так мы их непременно измотаем, пусть даже ценой значительных потерь с нашей стороны. Гуннов так много, что мы этого даже не заметим.
— Превосходно, Марк, просто превосходно, — в голосе Аэция звучал мягкий сарказм. Он похлопал ветерана по плечу. — Гунны — это тебе не римляне, глупая ты башка. Им не скажешь: сделайте-ка это, а потом — то-то. Им нужен немедленный результат, и если они понимают, что не могут его добиться, моментально теряют к делу интерес. Да и как ты будешь ими командовать? Мы, римляне, можем считать их расходным материалом, обычной солдатской массой, посылаемой на убой, но, думаю, что сами они имеют на этот счет другое мнение. Видел, какие у них лошади? Не знаю, надолго ли их хватит; полагаю, максимум — еще на две-три такие вылазки… Будут еще какие-то предложения?
Повисла оглушительная тишина, грозившая перерасти в просто-таки совсем неловкую паузу, как вдруг Тит услышал собственный голос:
— А что, если попробовать зайти к ним с тыла, господин? Да, знаю — с флангов они защищены непроходимыми с виду болотами, но что, если нам все же удастся найти какую-нибудь тропу?.. — Он на секунду прервался, осознав внезапно, что из присутствующих он, наверное, самый молодой и не имеет права встревать в разговор без разрешения более опытных офицеров. — Моему отцу удалось нечто подобное, — храбро выпалил Тит, — в Полленции, где мы сражались против готов Алариха.
— Что и решило исход боя в пользу Флавия Стилихона. Как же, как же, припоминаю, — одобрительно произнес Аэций. — Ты делаешь успехи, юный Тит. Я сам уже об этом подумал. Если гуннам удастся обойти противника с фланга, их уже ничто не остановит. Что ж, попробовать стоит. А не провести ли нам разведку? Конюший, седлать Буцефала! Тит, Виктор — со мной! А ты, Марк, до моего возвращения держи гуннов на коротком поводке.
* * *
— Возвращаемся, — сказал Аэций спутникам, вытирая пот со лба. — Всё, что могли, мы сделали.
Огибая правый фланг неприятеля — для чего пришлось сделать значительный крюк, — они сумели, хотя и не без труда, обнаружить узенький проход через кишащую москитами топь, выведший их на твердую почву в нескольких километрах от того места, где стояли походные обозы Аспара. Проблема же заключалась в том, что по дороге, где могла пройти небольшая конная группа, совершенно невозможно было провести целый отряд.
— Господин, смотрите! — воскликнул Виктор, обычно невозмутимый батавианец. В нескольких десятках стадий от них внезапно, словно из-под земли, возникли четыре всадника, по всей вероятности — разведгруппа восточной армии. Трое, судя по их копьям и маленьким круглым щитам, принадлежали к полку легкой конницы, у четвертого же щита не было, что заставляло полагать его тяжелым конником, призванным усилить патруль. Заметив западных римлян, все четверо пришпорили коней, устремившись им наперерез.
— Уходим, — скомандовал Аэций.
Пустив лошадей галопом, они столкнулись с дилеммой. Держать преследователей на расстоянии можно было лишь в том случае, если бы под ногами их скакунов оставался твердый грунт, но эта дорога выводила их непосредственно к лагерю Аспара. Проблема разрешилась неожиданно.
Погоня длилась уже несколько минут, и западные римляне начали отрываться, когда крик скакавшего в арьергарде Виктора вынудил его товарищей остановиться. Приняв чуть в сторону, он вылетел с дороги и завяз в трясине. Спешившись, он отчаянно пытался обуздать коня, но испуганное животное его не слушалось и неотвратимо погружалось в безжалостную топь.
— Оставь его! — прокричал Аэций. Развернув лошадей, они с Титом скакали на помощь товарищу. Взнуздав коня у самого края покрытого тиной болота, полководец припал к земле и протянул руку Виктору, которого тянуло вслед за лошадью.
— Оставьте меня, господин, — попросил Виктор. — Вы не должны подвергать себя такому риску. Пусть схватят меня, зато спасетесь вы.
— Не будь глупцом, — оборвал его полководец. — Тебя убьют; конные не берут пленных.
Схватившись за руку командира, Виктор позволил вытянуть его из трясины.
— Садись позади меня, — приказал Аэций и вскочил в седло. Молодой батавианец уже занес ногу над лошадью, но тут раздался легкий свист, и в спину ему вонзилась стрела. Виктор приглушенно вскрикнул, кровь хлынула у него из горла, и он рухнул наземь.
Преследователи приближались. Первые трое были уже в нескольких десятков стадий, четвертый, более тяжеловесный, отставал от них, но не намного.
— Твой тот, что справа! — прокричал Аэций Титу, развернув Буцефала и устремившись навстречу двум другим.
На какие-то доли секунды время, казалось, остановилось для Тита. Как во сне, отложились в его голове несущественные детали: застывшая в воздухе рука его противника — та, что выпустила стрелу, убившую Виктора; шлем с длинным гребнем, защитной носовой стрелкой и кожаными наушами с железными чешуйками, придававший всаднику древний, почти гомерический вид; щит с изображенными на нем волками, стоящими на задних лапах; копыта лошади, поднимающиеся и опускающиеся не быстрее галерных весел…
Усилием воли Титу удалось взять себя в руки. Всадник мчался на него со скоростью молнии, на ходу пытаясь вытащить из прикрепленного к седлу кожаного колчана новую стрелу. Выхватив из ножен меч, длинную spatha, Тит успел отмахнуться им от атаковавшего его лучника, но промазал и лишь чудом не вылетел из седла. Столкновения, правда, удалось избежать, но пролетевший мимо него противник развернул скакуна и готовился к новому выпаду. Как опытный наездник, Тит заметил, что конь неприятеля выказывает признаки беспокойства: животное рвануло в сторону и натянуло удила. В какой-то момент либо всадник, либо лошадь потеряет самообладание, решил он. Скорее всего — всадник, чья неуверенность в себе передалась коню. Восточная конница еще не успела прийти в себя после жарких боев на персидском фронте; и те, кому пришлось отражать натиск бывших превосходными наездниками персов, вполне могли растерять боевой дух. Уповая на то, что лошадь его противника начнет дергаться и так или иначе подведет своего хозяина, Тит направил коня на врага, постаравшись слиться с животным в единое целое.
Все произошло так, как он и предполагал. Когда неприятель выпустил в его направлении стрелу — она со свистом пролетела рядом со щекой Тита, — испуганная стремительным приближением вооруженного мечом всадника лошадь заржала и встала на дыбы. Когда стальное лезвие, пробив кость, вошло в тело лучника, Тит едва удержался в седле. Краем глаза он успел заметить, как, выронив лук, его противник схватился за грудь и плашмя свалился на землю. Несколько мгновений он еще бился в конвульсиях, затем затих.
Обернувшись в сторону Аэция, Тит, к ужасу своему, увидел, что дела у того обстоят гораздо хуже. Одного из двух нападавших полководцу удалось убить, и теперь он на мечах сражался со вторым конником. Воспользоваться луком последний уже не мог, но главная опасность исходила не от него, а от четвертого конника, закованного в броню catafractarius, который вот-вот должен был прийти на помощь товарищу.
Времени на раздумья не оставалось, и, пришпорив коня, Тит устремился навстречу этому гиганту. Одним своим видом тот кого угодно мог привести в смятение: руки и ноги опоясаны многослойными металлическими ободами; все тело защищено соединенными между собой чешуйчатыми железными пластинами; лицо и голова целиком скрыты за сферической формы шлемом, что делало его мало похожим на человека. Покрыта броней была и его лошадь, голова и круп которой спрятались за прессованными стальными листами. В руке уже готовый к атаке catafractarius держал тяжелое длинное копье, смертоносный kontos, которым можно было пронзить человека, словно кролика.
Глядя на эту, казавшуюся практически неуязвимой, машину смерти, Тит все же заметил у catafractarius одно-единственное незащищенное место: узкую щель между шлемом и скрывавшими туловище латами. «Второго шанса у меня не будет», — подумал Тит, вкладывая в удар всю свою мощь. К его счастью, сила движения мчавшегося на всех порах навстречу противника помогла ему не промахнуться. Тит с трудом удержал равновесие, когда сраженный его мечом catafractarius прогрохотал мимо; из горла железного монстра фонтанами била кровь.
Оставшийся в одиночестве лучник счел за благо прекратить сражение с Аэцием и ускакал прочь — благоразумие взяло верх над храбростью. Тем временем лошадь catafractarius замедлила свой ход и, наконец, в нерешительности замерла на месте; ее хозяин безжизненно болтался в седле.
— Ты спас мне жизнь, — произнес Аэций, пожимая Титу руку. — И я этого никогда не забуду.
Мысленно Тит перенесся на полтора года назад. Тогда-то все и началось…
Глава 1
Дурно пахнущие, семифутовые великаны со спутанными волосами.
Сидоний Аполлинарий. Письма. 460 г.Несмотря на то что на улице стоял лишь только октябрь, ветер, пришедший с альпийских перевалов, а теперь рябивший серую гладь озера Бриганция и с ревом пролетавший мимо казарм Сполицина, был столь сильным, что наводил на мысль о скорых снегах. Часовые-римляне, расхаживавшие вдоль разрушавшихся от старости стен форта в легких плащах, дрожали от холода и то и дело дули на сжимавшие древки копий покрасневшие руки, пытаясь хоть как-то согреться. В отличие от непокорных наемников-германцев, расквартированных несколькими сотнями шагов ниже, у озера, не всем из этих солдат предстояло пережить грядущую зиму — все более и более германизированная армия если и пополнялась римлянами, то лишь теми из них, кто оказывался ненужен хозяевам крупных имений. Как правило, в их число попадали те, которые — в силу своей слабости или дряхлости — уже не могли плодотворно трудиться на земле, либо были не в состоянии платить землевладельцу арендную плату.
Сидя за столом в своей маленькой комнате, Тит Валерий Руфин, старший писарь форта, отложил в сторону абак и вписал в кодекс сведения о последней поставке — только что в Сполицин прибыла телега с железными чушками и рогами горных баранов, которые должны были пойти на изготовление арочных планок. Перед тем как возвратить громоздкую учетную книгу на место, он вытащил из оборудованного в стене, позади бесчисленных полок, тайника свиток, на котором красовалась надпись: «Liber Rufinorum». Раскрутив чистый папирус на полметра, Тит закрепил его на столе при помощи масляной лампы и бронзовой чернильницы. Затем, выглянув из окна — вдруг где-то неподалеку слоняется дежурный трибун? — обмакнул сделанное из тростника перо в чернила и принялся писать:
«Форт Сполицин, провинция Вторая Реция, диоцез Италии. Год консулов Асклепиодота и Мариниана, IV окт. иды[3].
После ужасной ссоры с отцом, Гаем Валерием Руфином, отставным офицером, ветераном Адрианопольской и Готской войн, я решил продолжить начатое им дело, а именно — ведение “Книги рода Руфинов”. Сознавая, что для Рима наступают критические времена, мой отец захотел оставить будущим поколениям письменное свидетельство тех событий, участником которых ему довелось быть, и высказал пожелание, чтобы после его смерти занятие это стало семейной традицией. Теперь, когда сердце старика разбито, я чувствую, что пришла моя очередь взяться за перо — может быть, этим мне удастся искупить свою перед ним вину. Отцу, боюсь, вряд ли уже когда-либо захочется взять “Книгу” в руки.
Поссорились мы по двум причинам: из-за принятого мной решения а) стать христианином и б) взять в жены девушку германского происхождения. Теперь Гай, убежденный язычник и римлянин старой закваски, обе эти вещи — германцев и христианство — считает анафемой: германцев потому, что для него они — неуправляемые дикари, представляющие собой угрозу социальному устройству империи; христианство же из-за того, что уводя людские умы от мирских дел к загробной жизни, оно подрывает волю Рима к борьбе за выживание. (По мне, так вера есть не что иное, как любовь к Богу, спустившемуся к людям в облике Иисуса, и она несоизмеримо более значима, чем верование в пантеон людей, которые — если вообще существуют — ведут себя как мелкие преступники или злые дети. Кроме того, — буду честен, — христианин получает и практическую выгоду: язычникам крайне сложно добиться продвижения по армейской или служебной лестнице.)
Я же был столь глуп (теперь и сам это понимаю), что убедил себя в том, что легко сумею заставить Гая войти в мое положение. Когда я приехал на виллу Фортуната, где, неподалеку от Медиолана, проживает моя семья, для того, чтобы представить отцу Клотильду, девушку, на которой собирался жениться, разразилась следующая, крайне ужасная, сцена…»
* * *
— А с виду — совсем не страшные, — рассмеялась Клотильда, указывая на маленькие бронзовые статуэтки, выстроенные в ряд на небольшом столике, стоявшем у края имплювия, четырехугольного бассейна, разбитого посреди атрия. То были боги-хранители домашнего очага, lares et penates, коих еще недавно можно было обнаружить практически в любом римском доме. Вот так, открыто, выставляя их напоказ, объяснил девушке Тит, Гай рисковал навлечь на себя суровое наказание.
— Если только с виду. А так, эти вещицы могут причинить нам кучу неприятностей. Последний императорский указ строго-настрого предписывает отказаться от всех языческих обычаев, пусть даже и таких незначительных, как этот.
— Так, может, стоит их куда-нибудь спрятать?
— Вполне здравая мысль, не правда ли? Да вот только отец на это никогда не пойдет. Для него это — дело принципа. Будь он христианином ранее, во времена Диоклетиана, из него вышел бы превосходный мученик. А вот и он.
Раздались шаркающие шаги, и в атрий, опираясь на деревянную трость, вошел Гай Валерий Руфин; за ним семенил посланный сообщить о прибытии гостей невольник. Отцу Тита шел лишь шестьдесят шестой год, но из-за преждевременной лысины, морщинистой кожи и сильной сутулости выглядел он на все восемьдесят. Да и вряд ли мог лучше выглядеть человек, всю свою жизнь положивший на участие в бесчисленных военных кампаниях и уход за немалых размеров имением, содержание которого в порядке в тяжелые для всей империи времена требовало огромных усилий.
Лицо старика осветилось радостью.
— Тит! Рад видеть тебя, сын мой, — произнес Гай слабым, дрожащим голосом. — Тебе следовало сообщить нам о своем приезде заранее. — Прислонив трость к стене, отец заключил сына в теплые объятия, после чего окинул любящим взглядом. — Эта форма тебе к лицу. Жаль только, что, состоя на гражданской службе, ты не можешь носить доспехи. В кирасе и шлеме с гребнем ты бы выглядел просто блестяще… Видел бы ты меня на параде в честь победы в битве на реке Фригид… Да, когда-то и я был таким… — Гай замолчал, на лице его блуждала рассеянная улыбка.
Тит опасался, что отец вот-вот бросится в сбивчивые воспоминания о днях своей бурной молодости, но Руфин-старший взял себя в руки и отрывисто произнес:
— Впрочем, я тебе об этом уже рассказывал. Выпьем-ка лучше вина. Парочка амфор фалернского у меня всегда наготове. — Лишь тут он, казалось, впервые заметил Клотильду, и бросил в сторону сына недоуменный взгляд, в котором читалось легкое неодобрение. — Твоя спутница? — Вопрос отца повис в воздухе, словно лишь хорошие манеры не позволяли ему выразить словами то, что его интересовало: кто эта девушка — наложница сына либо же его сожительница? (Для Гая она могла быть либо той, либо другой; других отношений между римлянином и германкой он не признавал. А все в Клотильде — от одежд до цвета глаз и формы губ — говорило о ее тевтонском происхождении.)
Тит взял девушку за руку.
— Отец, это Клотильда; она из знатной бургундской семьи. Мы надеемся, что ты дашь свое согласие и благословение на наш брак.
Гай побледнел и уставился на сына с недоверием — слова Тита повергли его в глубокий шок.
— Но…ты не можешь, — промямлил он наконец. — Она — германка. Это противозаконно.
— Строго говоря, так оно и есть, — признал Тит. — Но ты не хуже меня знаешь, что закон всегда можно обойти — было бы желание. В конце концов, Гонорий и сам женат на дочери Стилихона, который был вандалом. Если ты замолвишь за нас словечко перед епископом, уверен, что префект претория…
— Никогда, слышишь, никогда! — перебил сына Гай; щеки его горели от возмущения. — Чтобы мой сын взял в жены германку? Даже думать об этом забудь! Хочешь покрыть род Руфинов вечным позором?
Все шло кувырком — такого развития событий Тит и предположить не мог.
— Мне очень жаль, — пробормотал он Клотильде, стараясь не встречаться с ней взглядом, и знаком приказал нерешительно топтавшемуся на месте рабу увести ее из атрия, где вот-вот должна была разразиться буря.
— Такого обращения, отец, она не заслуживает, — осуждающе произнес Тит, когда они остались вдвоем. — Клотильда — замечательная девушка. Лучшей невестки тебе не найти. Только потому, что она германка… — Тут юноша запнулся, от душившего гнева речь его сделалась бессвязной.
— Германцы — враги Рима, — в голосе Гая звучало раздражение. — Они — раковая опухоль, которая разъедает империю изнутри. Если мы не вышвырнем их с наших земель, наш конец не за горами. — Немного помолчав, он продолжил, уже более спокойно. — Ты же, сын мой, и сам все отлично понимаешь, правда? Послушай, мы не можем обсуждать это здесь; наш разговор могут подслушать рабы. Продолжим беседу в tablinum.
Понурив голову и слегка прихрамывая, юноша проследовал за отцом в комнату, отведенную под хранение, чтение и переписывание древних свитков. (В детстве Тит упал с лошади, сильно повредив ногу, и сопровождавшая его с тех пор хромота позволила избежать призыва в армию, которого ему, сыну солдата, иначе избежать бы не удалось. Тем не менее должность приписанного к одному из полков писаря придала ему почти военный статус, вследствие чего он получил право на ношение военной формы.) Окна комнаты выходили на перистиль, прямоугольный двор с садом, фонтанами, покрытыми зеленью галереями и аллеей классических статуй. Сквозь открытые ставни до Тита доносилась целая смесь ласкающих ухо звуков: плеск падающей воды, отдаленное мычание домашнего скота, мягкое кудахтанье кур. На развешенных вдоль стен полках можно было обнаружить произведения не только всех старых классиков — Вергилия, Горация, Овидия, Цезаря, Светония и прочих, — но и некоторых современных авторов, вроде Клавдиана Клавдия и Аммиана Марцеллина. Отец и сын присели на складные стулья, лицом друг к другу.
— Мы не должны общаться с этими людьми, сын мой. С этими невежественными варварами. У них отталкивающие манеры, они воняют, носят длинные волосы, облачаются в шкуры животных и брюки вместо пристойных одежд, питают отвращение к культуре… Мне продолжать?
— Возможно, им и присуще все то, что ты перечислил, отец. Но я сталкивался с ними и знаю, что они могут быть смелыми и честными — в отличие от многих сегодняшних римлян. А уж преданнее друзей, чем германцы, еще надо поискать. Как бы то ни было, нравятся они нам или нет — все это пустое. Они живут здесь, и никуда от этого не денешься. Вышвырнуть их отсюда мы не в силах, они нужны нам в армии; и лучшее, что мы можем сделать — попытаться найти с ними общий язык. Ты же и сам знаешь, что они искренне восхищаются многим из того, что есть у римлян, и хотят, действительно хотят, мирно сосуществовать с нами в пределах одной империи. С нашей стороны было бы полным безрассудством этим не воспользоваться. Констанций это понимал, поэтому и старался подружиться со всеми германскими племенами. Сейчас, после его смерти, у нас новый полководец, Аэций, и, кажется, он стоит на тех же позициях.
— Твой Аэций предал интересы своего народа, — произнес Гай внезапно окрепшим голосом. — Мы уже побеждали кимвров и тевтонов — под водительством Гая Мария. Сможем проделать это и еще раз.
— То было пять веков тому назад, — раздраженно бросил Тит. — Согласись, с тех пор многое изменилось. Вспомни лучше об Адрианополе! Или забыл, чему сам был свидетелем? Говорят, столь жестокого поражения Рим не видел со времен Канн.
— После Канн мы смогли оправиться, — возразил Гай, — и разбили-таки Ганнибала.
— И от кого я это слышу — от тебя, моего отца? — Тит издал вздох разочарования. Поднявшись со стула, он вытащил из тайника «Liber Rufinorum», развернул свиток и начал читать: «Причинив готам огромные потери — впрочем, вполне сопоставимые с нашими, — мы вынуждены были предпринять тактический уход в город — для перегруппировки сил». — Вновь скрутив свиток, Тит отложил его в сторону. — Ты убедил себя в том, что в Адрианополе так все и было. Знаешь, в чем твоя проблема, отец — ты не можешь прямо смотреть в лицо фактам, не можешь смириться с тем, что все это случилось с Римом. Ты во всем винишь германцев, хотя должен винить самих римлян.
— Поясни-ка, что ты хочешь этим сказать? — Гай старался сохранять спокойствие, хотя заметно было, что грубоватая критика сына возмутила его до глубины души.
— Если Рим действительно хочет избавиться от германцев, ему нужно будет где-то поискать главное: патриотизм. А вот его-то уже почти и не осталось — «благодаря» порочной налоговой политике римских чиновников. «Варваров» же, как ты их называешь, оставшиеся без средств к существованию бедняки везде приветствуют как освободителей. Людей мало интересует, выживет ли Рим или падет. Что ж ты этого не пишешь, а? Об этом в твоей книге нет ни строчки. Если ты не переменил своего мнения о моей женитьбе на Клотильде, я, пожалуй, заберу «Liber Rufinorum» с собой. Что скажешь?
— Решив что-либо, настоящий римлянин своей позиции не меняет.
— Ничего более напыщенного и глупого никогда не слышал! — в сердцах воскликнул Тит. Он отдавал себе полный отчет в том, что лишь расширяет разверзнувшуюся между ним и отцом бездну, но ничего не мог с собой поделать. — Что ж, у меня есть для тебя еще одна новость, которая вряд ли тебе понравится. Хотел сообщить ее в более спокойной обстановке, да уж какие тут теперь любезности! Я решил стать христианином.
Повисла мертвая тишина. Когда же Гай поднялся на ноги и заговорил, голос его не выражал никаких эмоций:
— Уходи. И не забудь свою германскую шлюшку. Ты мне больше не сын.
После того как разорвались — окончательно и безвозвратно — узы, связывавшие его с родным домом и семьей, в душе Тита поселились печаль и чувство невосполнимой утраты. Вместе с тем теперь он чувствовал себя свободным. Тит Валерий Руфин понимал, что, как и Юлий Цезарь пятьсот лет назад, он перешел свой Рубикон и обратно дороги нет. Интуитивно знал он и то, какими будут его следующие шаги. Первым делом он отошлет Клотильду к ее народу и займется урегулированием вопросов, связанных с собственным крещением и их женитьбой. (Возможно, придется преодолеть некие племенные препятствия, но уж точно — не религиозного толка; в отличие от большинства его знакомых-германцев, считавших себя арианами, Клотильда была убежденной католичкой.) Затем он попытается — так или иначе — поступить на службу к Аэцию, чья политика интеграции германских племен в структуру империи кажется ему лучшим — а возможно, и единственным — путем, по которому Рим сможет двигаться вперед. «Точно, именно так я и поступлю», — решил Тит и почувствовал, как, вперемешку с облегчением, его охватило волнение. Выбор был сделан.
Глава 2
Да здравствует Валентиниан, Август Запада!
Патриций Гелион, представляя семилетнего Валентиниана Римскому сенату. 425 г.Флавий Плацидий Валентиниан, Император Западной Римской империи — под третьим из своих имен он и примерил пурпурную мантию, — сын Императрицы-Матери Галлы Плацидии, Благороднейший из Живущих, Консул, Защитник Никейской Доктрины и т. д. и т. п., умирал со скуки. Чуть ранее ему удалось ускользнуть от литератора-грека (чего не сделаешь во избежание очередного урока истории, посвященного Пуническим войнам!), и теперь, спрятавшись в одном из наиболее укромных уголков дворцового сада, Валентиниан сидел у края небольшого озера и ловил лягушек-быков — сегодня их у него набралось уже шесть штук. Особенно нравилось ему надувать лягушек через соломинку и наблюдать за тем, как они лопаются. Лягушки раздувались, словно пузыри, а перед тем, как взорваться, мигали своими выпученными глазами. В этот момент Валентиниан ощущал себя сильным и могущественным — непередаваемое чувство! С нетерпением он ждал того дня, когда станет взрослым, и матери придется передать ему бразды правления империей. Уж тогда-то он будет властвовать не над лягушками — над всем римским миром. Сможет распоряжаться судьбами людей по своему усмотрению, убивать просто так, из прихоти. Будут ли его жертвы мигать перед своей смертью? Одна лишь мысль об этом приводила Валентиниана в неописуемый трепет.
Он слышал, как рыщет по садовым зарослям вольноотпущенник-грек, его наставник, призывая вернуться к занятиям. Лицо Валентиниана озарила злорадная ухмылка. В голосе грека звучало не беспокойство — страх. Еще бы: не найдет своего августейшего ученика, будет жестоко выпорот, а может, — вновь попадет в рабство. Эксперименты с лягушками-быками лишь пробудили в Валентиниане интерес к новым опытам подобного рода, и теперь его неугомонная душа требовала продолжения. О кошках можно и не думать; рыскавшие по дворцовым землям бездомные животные разбегались во все стороны, лишь завидев его. Тут мальчик расплылся в широкой улыбке: до его ушей долетели далекие, но оттого не менее знакомые звуки — то кудахтали куры, коих разводили в императорском курятнике. Дядя Гонорий, покойный император, до безумия любил возиться с домашней птицей; кормить петухов и кур с рук он был готов в любое время суток. Несмотря на то что птиц во дворце наблюдался явный избыток, подходящей отговорки для того, чтобы отказаться от них, никто так и не нашел. Предвкушая приятное времяпрепровождение, император направился к курятнику.
— Я хочу, чтобы ты доставил донесение Галле Плацидии, — сказал Аэций Титу. Разговор их проходил на той самой вилле в предместье Равенны, которую полководец превратил в свой штаб. (После столкновения с catafractarius Тит пользовался глубоким доверием Аэция.) — Передай ей, что мои условия таковы: от гуннов она откупается золотом; я распускаю их сразу же после того, как они получают Паннонию, а я, — тут на лице Аэция заиграла мечтательная улыбка, напоминавшая скорее волчий оскал, — становлюсь комитом Галлии.
— Вы это серьезно, господин? — воскликнул Тит, шокированный откровенной дерзостью требований полководца. — В том ли мы положении, чтобы торговаться? Битва с Аспаром зашла в тупик. А с учетом того, что за три дня до нашего прибытия сюда Иоанн был предан и казнен, мне, если позволите выразить свое мнение, вообще не понятно, зачем мы в нее ввязались. И вы действительно хотите отдать гуннам Паннонию? Использовать римскую провинцию в качестве разменной монеты?
— Мой дорогой Тит, — произнес Аэций тоном терпеливого школьного учителя, объясняющего предмет медленно соображающему ученику, — должен заметить, что картина происходящего видится тебе не совсем в верном свете. Реальность же такова, что вряд ли у нас будет более благоприятная возможность слегка надавить на всеми нами любимую императрицу. Аспар не будет стоять здесь вечно; он нужен там, на Востоке. В Галлии же давно поигрывают мышцами франки и бургунды, поэтому не думаю, что Галла Плацидия рискнет отвести войска сейчас — откуда ей знать, чего можно от меня ожидать? Полагаю, и с гуннами ей сражаться — совсем не с руки. Что же до Паннонии, то ей давно пришел конец; готские войны полностью ее опустошили, и вряд ли она когда-то оправится. Отдадим же эти земли гуннам — воздвигнем полезный барьер против дальнейшего вторжения германских племен. Иоанн? Он всегда был лишь куклой в моих руках, и никем более. Теперь, когда его не стало, я могу играть в открытую.
— Могу я спросить вас кое о чем, господин?
— Можешь, юный Тит, конечно, можешь.
— Одна вещь, господин, давно не выходит у меня из головы, — Тит на секунду замялся, но затем продолжил: — Почему вы так не хотите, чтобы Плацидия правила империей от имени своего сына? В конце концов, Валентиниан — законный престолонаследник. Некоторые рассматривают вашу позицию не иначе как государственную измену.
— Осторожнее, Тит, — гаркнул Аэций. — «Государственная измена» — слова опасные, особенно среди людей военных. Будем считать, что я их не слышал — ты явно произнес их по неведению. Отвечу тебе следующее. Если Плацидия получит полный контроль над государством, Запад ждет неизбежная катастрофа. Своим нынешним положением она обязана целой серии ярких авантюр. Началось все с того, что после разграбления Рима готы увезли ее с собой в качестве пленницы. Там ее взял в жены шурин Алариха, Атаульф, после убийства которого ее какое-то время держали закованной в цепи, а затем вернули римлянам за немалое вознаграждение. Здесь ей повезло: она вышла замуж за великого полководца, Констанция, которого Гонорий к тому же сделал своим соправителем… Это самовлюбленная, упрямая, глупая и властолюбивая женщина. К несчастью, Галла Плацидия красива и обаятельна, что позволяет ей очаровывать и использовать в своих целях самых могущественных мужей империи. Ее же заверения, что Валентиниан будет обучаться управлению государством и впоследствии станет править сам, — тут Аэций криво улыбнулся, — не более чем пустые слова. Она ему во всем потакает, уступает всем его прихотям и капризам. В конце концов получится так, что вся власть на Западе окажется в руках избалованного, плохо воспитанного ребенка. Нужен ли нам новый Нерон или Комод? Не думаю. Вот почему, ради Рима, их стремление к безграничной власти следует слегка обуздать. Ну как, удовлетворил я твое любопытство?
— Да, господин, всецело, — произнес Тит, сокрушенно качая головой. — Мне следовало и самому догадаться…
— Да, юный Тит, конечно, следовало, — резко оборвал его Аэций. — Вижу, тебя беспокоит еще что-то?
— Тот факт, господин, что вы решили послать к императрице именно меня, разумеется, огромная честь для меня. Но зачем вообще кого-то посылать? Вы и сами могли бы нанести визит во дворец — пользы от этого, полагаю, было бы гораздо больше.
— Тебе нужно понаблюдать за поведением животных, Тит. Видел когда-нибудь, как ведут себя коты на улицах? Вожак никогда не идет первым на контакт с остальными, это они перед ним заискивают. Так вот, посылая тебя, я показываю Плацидии, что не признаю ее главенствующего положения. — Пожав плечами, Аэций наградил Тита обезоруживающей улыбкой. — Знаю — все это звучит немного по-детски. Маленькие мальчики бьются за очки. Но игра-то — важная.
Заставив Тита повторить по пунктам то, что тот должен был передать императрице, полководец взмахом руки показал юноше, что он может идти.
— Все верно, отправляйся. Вернешься — доложишь.
* * *
Облачившись в лучшую свою форменную одежду — красного цвета тунику с длинными рукавами, короткий плащ, широкий военный пояс и pilleus pannonicus — круглый повседневный головной убор, который носили солдаты всех званий и прикомандированные к армии писари, — Тит отправился в императорский дворец. Огромное прямоугольное строение, с толстыми внешними стенами и защитными башнями, в каждой из которых имелись собственные арочные ворота, скорее походило на крепость, нежели на императорскую резиденцию. У западных ворот Тита остановили двое караульных из дворцового войска. Такие длинные копья, громадные круглые щиты и шлемы с высокими гребнями, наверное, были в обиходе еще во времена Горация Коклеса, который, в составе небольшой группы воинов, не позволил этрускам пройти на Рим по Свайному мосту через Тибр, подумал юноша. Тит протянул им написанный нотарием Аэция от имени самого полководца свиток, в котором говорилось, что податель оного должен быть немедленно удостоен аудиенции у императрицы.
— Тебе нужно разыскать магистра оффиций, — сказал один из схолариев, внимательно изучив документ. — Пройдешь по саду до галереи, расположенной между четырьмя основными зданиями. Тебе — во второе по левой стороне. Спросишь кубикулария. Смотри не заблудись.
Но Тит все же заблудился. Покоренный красотой садового пейзажа с его фонтанами, перголами, цветочными клумбами и скульптурами, юноша решил, что другой возможности побродить по дворцовым аллеям, поражавшим воображение своим великолепием, у него уже, возможно, не будет, а возложенное на него поручение может немного и подождать. Какое-то время спустя, после нескольких бесплодных попыток самостоятельно отыскать нужную тропу среди десятков пешеходных дорожек, огороженных с обеих сторон пышной живой изгородью, Тит уже подумывал обратиться за помощью к одному из садовников, как вдруг услышал довольные вопли — кричали где-то рядом. Любопытство заставило юношу повернуть за угол, где его взору предстало омерзительнейшее зрелище.
В конце аллеи, сидя на корточках в небольшом, обнесенном со всех сторон невысокой стеной, загоне, мальчик лет шести-семи методично, одно за другим, выщипывал перья из яростно бившейся в его руках курицы. Кудахча во все горло, до смерти запуганные птицы — многие из них уже лишились оперенья — суматошно носились по усеянному перьями загону, ударяясь о стены в тщетном стремлении их преодолеть. Мальчик был так поглощен своим делом, что даже не заметил, как через ограду перепрыгнул незнакомец.
— Ах ты, распущенное маленькое чудовище! — закричал Тит. Два больших шага — и он уже был рядом с мальчиком. Вырвав из его рук замученную птицу, Тит перекинул ребенка через колено и отвесил ему пару звонких шлепков.
Извиваясь что есть силы, мальчик завертел головой, пытаясь рассмотреть своего истязателя. На какие-то доли секунды его побелевшее от изумления и ярости лицо напоминало застывшую маску, но затем детское возмущение потоком хлынуло наружу: «Да — как — ты — смеешь — как — ты — смеешь — как — ты — смеешь!» С трудом поймав воздух, он добавил: «Ты пожалеешь, что сделал это». Последние слова мальчик выплюнул с такой злобой, что у Тита возникло нехорошее предчувствие. И тут же ребенок рванулся в сторону и, дотянувшись до висевшего у него на шее свистка, издал пронзительную трель.
Далее события развивались с калейдоскопической быстротой. Из-за живой изгороди, словно получившие сигнал о выступлении актеры, игравшие одну из комедий Теренция, тут же повыскакивали схоларии; некоторые из них уже бежали в направлении птичьего двора.
— Убейте, убейте его! — завизжал мальчик, когда в загон влетели двое стражников. — Он на меня напал!
Прожужжавшее рядом с головой Тита копье с лязгом ударилось о металлическую сетку курятника. Как ни странно, но, едва не попрощавшись с жизнью, юноша лишь успокоился; ему удалось сконцентрироваться и начать действовать быстро и уверенно. В отличие от пограничных полков или мобильных действующих армий, дворцовая стража формировалась за счет тех, кто скорее был фанатично предан императору, нежели отличался выдающимися боевыми качествами. Тит был уверен, что, доведись ему сойтись лицом к лицу с любым из схолариев, перевес окажется на его стороне.
После того как в детстве Тит неудачно упал с лошади, его отец купил раба, бывшего гладиатора, в задачу которого вменялось научить парня искусству самообороны. (За несколько лет до этого гладиаторские школы были закрыты императорским указом, и рынки наводнили бойцы-невольники, поэтому Гай мог выбирать среди самых лучших.) Тит оказался способным учеником; многие часы ежедневной практики в избиении деревянным мечом столба, битвы на шестах, рукопашных боях — все это сделало его настоящим мастером единоборств, заставив позабыть о физическом недостатке. «Давай, шевелись, ты, мешок с костями», — подначивал его во время занятий инструктор, повторяя любимую фразу собственного lanista. В тот день, когда Титу впервые удалось на лету поймать муху, старый гладиатор перестал ее говорить.
Когда стражник выхватил меч и рванулся вперед, Тит правой рукой схватил упавшее на землю копье и сделал обманный выпад. Этот удар схоларий отразил, но, моментально перекинув копье в левую руку, Тит нанес косящий удар по голеням противника. Потеряв равновесие, стражник взмыл в воздух, его щит и шлем полетели в разные стороны. Не давая сопернику опомниться, Тит сильно ткнул тыльной стороной копья в его уже ничем не защищенную голову, и нападавший потерял сознание. Затем, молниеносно вращая копьем над головой, он заставил отступить к задней стене загона еще двух ворвавшихся в курятник стражников. Жестокий удар в пах — и вот один из них уже катается от боли по земле; еще один выпад — и второй хватается за ушибленную руку, лишь взглядом провожая летящий в угол загона меч.
Минус три. Тит обернулся — и понял безнадежность своего положения. Со всех направлений к нему бежали стражники. Шансов на спасение — ноль. Подобрав потерянный первым из поверженных схолариев щит, Тит отступил вглубь курятника. «Заберу с собой на тот свет столько человек, сколько смогу», — подумал юноша.
— Остановитесь!
Приказ исходил от высокой, привлекательной женщины лет тридцати с небольшим. Все замерли — все, за исключением ребенка, с воплем «Мама!» рванувшего ей навстречу.
— Валентиниан, расскажи нам, что здесь произошло. — Сквозь величественные нотки голоса проскальзывала озабоченность.
Валентиниан? Тита бросило в жар, затем — в холод, до него начала доходить вся чудовищность происходящего. Он имел неосторожность поднять руку на самого императора.
* * *
— Я был уверен, господин, что пришел мой последний час, — рассказывал Тит Аэцию, вернувшись в штаб. — Когда мне связали руки, подумал: «Сейчас поведут к месту казни». Но потом, когда я сказал Галле Плацидии, что послан вами, она приказала освободить меня, хотя видно было, что она с радостью бы посмотрела на то, как лишится головы тот, кто посмел отшлепать ее сына. Меня провели по длинному перистилю, затем — по портику в императорские комнаты, где в приемном покое я и был выслушан. — Он бросил на Аэция взгляд, полный восхищения. — Похоже, вы имеете очень сильное влияние на императрицу, господин. Я передал ей ваши требования; по-моему, они ей очень не понравились, по крайней мере, вид у нее был глубоко оскорбленный, тем не менее она на все согласилась — письменно. — Тит вручил полководцу свиток. — Я лично его заверил. Но то, как все происходило, слегка меня позабавило. Привели Валентиниана, в пурпурной мантии и с диадемой на голове, и мне пришлось приложить палец ко лбу этого маленького изверга — полагаю, для того, чтобы договор вступил в силу. Вот, пожалуй, и все, господин. Данное мне поручение я едва не провалил, — горько продолжил Тит, — вас поставил в неудобное положение, сам свалял дурака, поэтому, господин, готов подать прошение об отставке.
Аэций окинул юношу долгим, непроницаемым взглядом. Затем, к глубочайшему изумлению Тита, разразился смехом.
— Мой дорогой Тит, — выдохнул он наконец, утирая выступившие на глазах слезы, — как же ты все-таки наивен! Об отставке не может быть и речи — с тобой я не расстанусь за весь песок Африки. То, что ты сделал, превзошло все мои ожидания. Помнишь, мы говорили о том, как ведут себя животные? Так вот, отшлепав императора по заднему месту, ты укрепил, причем крайне убедительно, мой доминирующий — над Плацидией и Валентинианом — статус. К несчастью, да ты и сам это знаешь, императрица не успокоится, пока не расквитается с тобой. — Словно извиняясь, полководец развел руками и криво улыбнулся. — Так что отныне ты — человек меченый.
«Иначе говоря, почти труп», — мрачно подумал Тит.
Глава 3
По внешнему виду низкорослый, с широкой грудью, с крупной головой и маленькими глазами, с редкой бородой, тронутой сединою, с приплюснутым носом, с отвратительным цветом [кожи], он являл все признаки своего происхождения.
Описание Аттилы: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica. 551 г.Неладное медведь заподозрил еще тогда, когда по опушке, на которой он отдыхал, стрелой пронеслась серна — животное, обычно не встречающееся у подножия гор. Переменился и ветер; втянув носом воздух, он уловил столь ненавистный ему людской запах. Инстинкт подсказывал, что нужно уходить к склону возвышенности, но смышленость, помноженная на немалый жизненный опыт, говорила о том, что там его ждет смерть. Если он хочет выжить, следует найти убежище и обождать, пока охотники пройдут мимо, либо же прорываться сквозь их ряды в более безопасное место, ближе к вершине горы.
Медведь был огромным, немолодым — далеко за двадцать, — но все еще мощным, проворным и очень хитрым. Все эти черты он унаследовал от своих родителей. Возможно, лишь эти сила и сообразительность позволили его дальним предкам выжить во времена римских venatores, вплоть до последнего времени целыми шайками рыскавших по местным лесам в надежде поймать диких животных, которых затем можно бы было выгодно продать тем, кто занимался их поставками для всевозможных игр и гладиаторских боев. Долгие века продолжалось это разграбление лесов, степей и пустынь от балтийского побережья до Сахары, приведшее в итоге к тому, что число крупных животных сократилось там в разы.
Передвигаясь с удивительной живостью, медведь начал карабкаться по склону, выискивая укромное место, где бы он мог спрятать свое громадное тело.
* * *
— Выдерживай линию, римский пес.
— За собой следи, варвар, — свой ответ Карпилион сопроводил самым оскорбительным из известных ему жестов — комбинацией из вытянутых в направлении ехавшего справа от него Барсиха указательного и малого пальцев левой руки. Тем не менее он послушно придержал лошадь до тех пор, пока полученный сигнал не дал ему понять, что он вновь оказался в одном ряду с остальными загонщиками.
С Барсихом, ровесником-гунном, за время длившейся несколько дней, а теперь подходившей к концу охоты Карпилион успел крепко сдружиться. По вечерам, в лагере, мальчики сидели у костра рядом со взрослыми охотниками, делясь друг с другом пищей, ломтями баранины, поджариваемой на прутьях над горячей золой, и обмениваясь выдуманными историями о юношеских подвигах. Днем, оставшись вне присмотра старших товарищей, демонстрировали друг другу умение искусно держаться в седле, пуская лошадей караколью или заставляя их танцевать у самого края крутого утеса.
Таким счастливым, как сейчас, Карпилион не чувствовал себя никогда. Его отец, Аэций, взял сына с собой в дипломатическую поездку на другой берег Данубия, где обитали давние друзья полководца, гунны. При мысли о том, что его равеннские товарищи корпят сейчас за партами, старательно копируя древние тексты на свои вощеные таблички и ежеминутно рискуя получить розгами от наставника, Карпилиона переполняло ликование. Даже этому маленькому, вечно хнычущему зверенышу Валентиниану вряд ли удалось избежать занятий! Над тем, что произошло с императором на птичьем дворе, смеялся весь город; слышал Карпилион и о том, что вместо литератора-грека у Валентиниана был теперь новый, гораздо более строгий учитель, приглашенный из Рима. Он же в это время, сменив строгий римский далматик на мешковатые брюки и свободную тунику, вовсю упивался свободой, сутки напролет катаясь на лошадях, плавая, стреляя и борясь со своими сверстниками. Особо же Карпилион был рад тому, что теперь он имел возможность объезжать прекрасного арабского скакуна, подаренного Аттилой, давним другом его отца и племянником Руа, вождя гуннов. Конь этот был не только не менее выносливым, чем крепкие, но непослушные лошади гуннов, но и отличался завидными характером и понятливостью — бесценные качества для животного, позволяющие ездоку установить с ним полное взаимопонимание.
Охота была кульминацией поездки. Пятью днями ранее гунны и их римские гости покинули лагерь, образовав огромное, растянувшееся на многие километры в лесистых предгорьях Сарматских гор, постепенно сужавшееся кольцо. В результате у попавших в эту западню животных практически не оставалось шансов уйти из нее живыми. Секрет удачной охоты заключался в обеспечении того, чтобы сдерживающий кордон постоянно сохранял свою цельность, не позволяя образовываться дырам, через которые могли бы прошмыгнуть загнанные животные. Карпилион не скрывал восхищения той сноровкой и дисциплиной, с которыми загонщикам — как убеленным сединами ветеранам, так и совсем молодым парням — удавалось держать линию в условиях труднопроходимой местности: в ущельях, у рек, в густых кустарниках и диких зарослях.
Их строй вновь пришел в движение. Погоняя коня с помощью колен, Карпилион направил его вниз, по покрытому щебнем скату. Вдали, в нескольких сотнях шагов, солнечные зайчики играли на водной поверхности продолжавшей размеренный ход своего течения Тисы. За рекой растянулась степь, травянистое море, уходящее далеко за горизонт; гулявший на ее просторах ветер создавал опасную иллюзию огромных волн. Там, внизу, в трехстах метрах от склона, и находился тот естественный, природный амфитеатр, которому предстояло стать местом массового убоя животных. Впереди, в зарослях, бурлила жизнь; то тут, то там проносился по опушке опрометчиво покинувший свое укрытие олень или горный козел. Невероятное возбуждение охватило Карпилиона. Ему, как и другим мальчикам, не дозволялось трогать крупных или опасных животных вроде бизонов, рысей или волков; право убить их сохранялось за взрослыми. Но и молодежи было чем поживиться: сурков, зайцев и небольших копытных животных в этих местах водилось предостаточно.
— Карпилион!
Юный римлянин оглянулся. Наверху, на самом склоне, появился Аэций на любимом своем скакуне, Буцефале. Вслед за ним ехал Аттила, невысокий, но крепко сбитый мужчина с большой головой и невероятно широкими плечами.
— Удачной охоты, отец, — Карпилион приветственно помахал полководцу рукой.
— Надеюсь, тебе тоже повезет, сын.
Спустившись по откосу, загонщики слегка замедлили свой ход, что позволило Аэцию и Аттиле сократить отставание. Впереди был густой подлесок.
Внезапно из кустов, куда уже собирался направить коня Карпилион, вылез огромный мохнатый медведь — более крупного животного парень в жизни не видел. Горы мышц перекатывались под его косматой шкурой, маленькие красные глаза светились яростью, за разжатыми челюстями вырисовывались ужасные клыки. Дикий испуг обуял Карпилиона, внутренности его, казалось, вот-вот готовы были превратиться в воду. Задрожал от страха и его конь. Краем глаза мальчик заметил, как встала на дыбы лошадь двигавшегося по левую от него руку молодого гунна. Карпилион знал, что, столкнувшись с опасностью, конь испытывает инстинктивное желание бежать; в то же время понимал он и то, что в сложившейся ситуации это вряд ли будет лучшим выходом, поэтому, пытаясь хоть как-то успокоить своего арабского скакуна, юный римлянин ободряюще похлопал его по крупу. К удивлению его, лошадь моментально успокоилась.
— Всем оставаться на местах! — проревел мощный голос по-гуннски — кое-что из сказанного на этом языке Карпилион уже понимал. Понукая коня, Аттила мчался на помощь впавшим в панику молодым загонщикам. — Выставить копья, на них медведь не полезет!
Но совет его услышан не был. Цепь дрогнула и рассыпалась; один за другим вонзали шпоры в бока своих лошадей юные гунны, давая деру. Пара секунд — и Карпилион остался наедине с медведем. Последним унесся прочь Барсих; на его перекошенном от страха лице Карпилион успел прочитать мучительное выражение вины. К счастью для мальчика, не успел он опомниться, как рядом оказались его отец, Аттила и пожилой загонщик-гунн, державший на цепи трех охотничьих собак.
Не теряя ни секунды, старик спустил этих огромных волкоподобных животных, с обитыми шипами ошейниками, с привязи, и они налетели на пришедшего в ярость, стоявшего на задних лапах медведя. Щелкнули серпообразные когти — и первый из псов взмыл в воздух, со спиной, сломанной наподобие сухой ветки. Двух других собак это не остановило; вонзив острые зубы в бока медведя, они принялись терзать добычу. Взревев от боли и гнева, тот вновь пустил в ход свои ужасные когти, расшвыряв мучителей по сторонам. Упав на землю, один из псов жалобно завыл; из разорванного брюха красными кольцами лезли наружу кишки. Вторая собака вообще не подавала признаков жизни; череп напоминал разбитую яичную скорлупу.
— Не шевелись, сынок, — прошептал Карпилиону отец, заметив, что медведь переключил внимание на своих двуногих противников.
Нацелив пику в грудь разъяренного зверя, Аттила рванул ему навстречу. В тот самый момент, когда острие насквозь прошило животное, медвежья лапа снесла полморды коню гунна. От удара Аттила вылетел из седла и, упав на землю, оказался придавленным забившейся в предсмертной агонии лошадью. Умирающий, но определенно настроенный забрать жизнь у напавшего на него человека медведь поднял лапы и, издав устрашающий рев, двинулся по направлению к беспомощно распростертому на траве Аттиле. Но нанести смертельный удар зверь так и не успел — мозг его пронзило копье Аэция, пришедшего на выручку другу. Какое-то мгновение медведь еще оставался на ногах, затем закачался и упал с грохотом, потрясшим землю.
* * *
В полной тишине стояли собравшиеся на Совет гунны. Все они — верхом, как и требовали того традиции, — были из того же племени, что и покрывшие себя позором загонщики. Ведомые Руа, многоуважаемым правителем гуннов, в центр большого круга, на место специально для них отведенное, въехали те, кому предстояло решить участь преступников: Аттила, его брат Бледа, Аэций и пятеро старейшин. Обвиняемые — их было десять, — съежившиеся и испуганные, сидели на земле. Разрешено было присутствовать на Совете и Карпилиону — как загонщику, принимавшему непосредственное участие в происшествии и не оставившему свой пост, и потому считавшемуся важным свидетелем.
— Мы здесь не для того, чтобы обсуждать, виновны ли эти парни, — начал Руа, говоривший на удивление громким и чистым голосом для человека столь почтенного возраста. — Всем нам известно, что они проявили трусость и убежали, поставив в опасность жизни наших римских гостей и моего племянника Аттилы. Они покрыли бесславием не только себя, но и свои семьи, свой клан, весь наш народ. Нам остается лишь выбрать для них наказание. — Он повернулся к Аэцию. — Полководец, будучи нашим гостем — гостем, чье доверие мы предали, — именно ты должен предложить подходящее наказание.
— Друзья мои, — Аэций говорил по-гуннски. — Чувствую, что, прожив еще мальчиком долгие годы у вас в заложниках, могу так к вам обращаться. Как нам поступить с этими юношами? Конечно же, мы можем проявить милосердие; многие из вас, вероятно, считают их проступок не таким уж и ужасным. Что удивительного в том, что, столкнувшись лицом к лицу с приближающейся опасностью, неподготовленные парни дали деру? Разве не можем мы простить им это прегрешение? Конечно же, можем. Конечно, мы можем и проявить милосердие, и все им простить — в конце концов, наши сердца — не из камня. Но, — тут Аэций сделал паузу, — считаю, что и наказать их мы тоже должны. И говорю я это не из мелочного желания поквитаться за то, что из-за их малодушия едва не расстался с жизнью мой сын, а потому, что, не наказав их, вы ослабите свое племя. Подумайте, что будет, если мы простим их сейчас. В следующий раз, когда на ваше стадо нападет росомаха, мальчик-пастух, столкнувшись лицом к лицу с этим страшным животным, тоже может убежать, зная, что будет в итоге прощен. Повсюду, с быстротой бегущего по сухой траве огня, распространится гниение. Отвага и храбрость — вот на чем держится ваше племя. Не будет их — не будет и вас. Вот почему вы должны понять, что милосердие приведет к трагическим последствиям.
— И какое наказание ты сочтешь подходящим? — спросил Руа.
— Нарыв, если его не устранить, вырастет и распространится по всему племени, поэтому наказание может быть только одно.
Ропот, смешанный с ржанием лошадей, пронесся по рядам собравшихся, пронесся — и постепенно стих. Руа вопросительно взглянул на тех, кому предстояло вершить суд.
— Если кто-то из вас имеет что сказать, пусть выступит сейчас.
— Флавий, друг мой, — пророкотал Аттила, обращаясь скорее к Аэцию, нежели к остальным членам Совета, — мы многое пережили вместе. Мы оба, ты и я, много раз совершали такое, чего, казалось бы, делать не стоило, — и в итоге оказывались правы. Дело это крайне специфическое, и поэтому, полагаю, мы можем проявить милосердие. Не сомневаюсь, урок эти парни усвоили. Клянусь тебе, клянусь своей честью и Священным Скимитаром, — подобного больше не повторится. — Его широкое монголоидное лицо сморщилось, брови насупились. — В конце концов, — продолжил Аттила, и в голосе его проскользнули просящие нотки, — они всего лишь дети.
В ответ Аэций лишь бесстрастно пожал плечами.
— Ответь мне, действительно ли ты хочешь, чтобы все из них были приговорены к смерти? Возможно ли, что ты, мой друг и гость, согласишься на то, чтобы был брошен жребий? — Аттила с мольбой заглянул в глаза полководца. — Вчера, Флавий, ты спас мне жизнь. Прошу тебя, не делай мой долг большим, чем он есть, заставляя умолять тебя.
— Пусть будет так, как ты просишь, друг, — произнес Аэций, отведя глаза в сторону.
Судьбу виновных решал жребий. Подсудимым развязали руки, в большой глиняный кувшин бросили десять камней — семь черных и три белых, и пустили его по кругу. Белый голыш означал смерть. Когда пришел черед Барсиха, он отыскал глазами Карпилиона, и лишь затем вытащил сжатую в кулак руку из кувшина. Несколько секунд, словно прощаясь, пожирали они друг друга полными слез глазами, затем Барсих разжал кулак. Предчувствие их не обмануло — камень был белым.
* * *
Молча собравшиеся на вершине утеса, где и должны были привести в исполнение приговор, гунны наблюдали за тем, как вели троих приговоренных к стапятидесятиметровой пропасти. Уже стоя на краю обрыва, двое юношей принялись умолять о пощаде и плакать, взывая к матерям. Их крики не стихали все то время, что они летели в бездну. Барсих же попросил сопровождавших его стражников лишь об одном: развязать ему руки, чтобы он смог умереть достойно. Когда же его просьба была исполнена, невозмутимо подошел к выступу и решительно шагнул в пучину…
— Кому была нужна его смерть, отец? — в глазах Карпилиона стояли слезы.
— Когда-нибудь ты и сам это поймешь, — тихо произнес Аэций, приобняв сына за плечи. — Пока тот или иной народ силен и отважен, у него есть шанс выжить. Именно так — и никак иначе. Нам, римлянам, следовало бы об этом помнить.
К любви и восхищению, которые Карпилион всегда испытывал к своему отцу, добавилось еще одно, незваное, чувство. Страх.
Глава 4
Сам же Атаульф был тяжело ранен в бою [у Марселя, в 413. — Примеч. авт.] доблестным Бонифацием.
Олимпиадор Фивский. Воспоминания. 427 г.Возвращаясь домой из императорского дворца, полководец Флавий Аэций, магистр конницы в Галлии, заместитель командующего армией в Италии, а теперь (благодаря данной ему гуннами власти над Плацидией) еще и комит, пребывал в прекрасном расположении духа. Его кампания против Бонифация проходила даже лучше, чем он рассчитывал. Не более часу назад Плацидия заверила его, что тотчас же, с самым быстрым курьером, в Африку уйдет императорский приказ, отзывающий Бонифация в Италию. Подумать только: Бонифация — фактического правителя Африки и командующего всеми ее военными силами, грозу варваров; друга духовенства, особенно — Августина, праведного епископа Гиппона; преданного сторонника Плацидии, остававшегося ей верным во время ее ссылки в Константинополь и недолгого нахождения на престоле узурпатора Иоанна! Комит Африки являлся сейчас единственным препятствием, стоявшим на пути Аэция к верховной власти на Западе. Так всегда было в римском мире (или в любом из двух существовавших теперь римских миров), подумал полководец. В империи никогда не находилось места для двух соперников: Сципион пытался выжить Катона, Октавиан — Марка Антония, Константин — Максенция, Плацидия с Валентинианом противостояли Иоанну. И вот теперь он, Аэций, конкурирует с Бонифацием. И тому, кто выйдет из этой борьбы победителем, достанется либо пурпур императора, либо должность командующего армией. Проигравшего же ждет смерть. (Побежденного противника, потенциальное средоточие нелояльности и недовольства, оставлять в живых крайне опасно.)
К тому же то, что стоит на кону, гораздо более значимо, нежели личная вендетта, подумал Аэций, — тяжелый ритм лошадиных копыт способствовал свободному ходу его мыслей. На кону — правильное управление Западной империей, а возможно — и вовсе ее выживание. Обладающему множеством достоинств (самые выдающиеся из которых — храбрость и благородство) Бонифацию недостает железной воли и четкости мышления, столь необходимых правителю — кто бы он ни был — Запада. Его непоколебимая верность Плацидии выльется лишь в то, что, приди к власти он, а не Аэций, Бонифаций непременно будет ее, власть, делить с Августой, как некогда делил ее с Клеопатрой Марк Антоний. А это будет иметь трагические последствия для Рима. Приоритеты Плацидии — исключительно династические: она во всем потакает Валентиниану, не раз проявлявшему признаки слабой, но порочной натуры, что вполне может привести к тому, что со временем власть может оказаться в руках психически неуравновешенного дегенерата.
— Когда же, друг мой старинный, все в Риме пошло наперекосяк? — прошептал он на ухо Буцефалу, ощущая, как, по мере того, как конь стремительно преодолевал один километр за другим, сжимались и разжимались мышцы животного. — Ты тогда, похоже, еще не родился, да и я был совсем мальчишкой. — Мысленно он перенесся на двадцать лет назад, к фатальному переходу Рейна германскими племенами, заставившему Рим пойти на компромисс с варварами.
Последствия того массового нашествия были катастрофическими. После вывода в Галлию расквартированных в Британии частей регулярной армии, она — Британия — постоянно подвергалась набегам обитавших в Ирландии саксов, скоттов и пиктов; Испания, наводненная свевами и вандалами, тоже, по крайней мере — на данный момент, формально уже не принадлежала империи. В безопасности были лишь Африка, Италия и большая часть Галлии, где, впрочем, римляне чувствовали себя уже не так уверенно, как раньше. Вот почему крайне важно было, чтобы император — кто бы то ни был — Запада строил свою стратегию в соответствии с нынешними реалиями. Констанций, соправитель Гонория, справлялся с этой задачей просто блестяще: умиротворил могущественных визиготов, позволив этому, многие годы скитавшемуся по миру, племени поселиться в Аквитании; остановил проникновение на имперские — к западу от Рейна — территории бургундов. Но после того как шесть лет назад Констанция не стало, «гости» Рима, федераты, вновь начали показывать свой норов. Старая северо-южная ось власти, простиравшаяся от Медиолана до Аугуста-Треверора, осталась — «благодаря» вторжениям франков в провинции Белгики — в далеком прошлом. Ось нынешняя, восточно-западная, тянулась от Равенны до Арелата в Провинции, что давало Аэцию возможность в немалой степени влиять на решения правительства.
— Кого бы ты выбрал в правители Запада, красавчик, — спросил, улыбнувшись, Аэций у Буцефала, — меня или Бонифация? — В ответ, словно выражая свое ему сочувствие, лошадь навострила уши. — Я бы, на твоем месте, остановил свой выбор на Бонифации. Потому что если победит твой хозяин, коннице придется потрудиться — это я тебе обещаю.
Бонифаций был последним человеком, которому бы он доверил бразды правления государством. Его, Бонифация, методы обращения с варварами вели к конфронтации — устарелая, не имеющая шансов на успех стратегия. Насильственно изгнать поселившиеся на имперских землях племена не представлялось возможным ввиду их многочисленности — разве что Запад получил бы сильную поддержку Востока. Но рассчитывать на нее не приходилось; те дни закончились со смертью Феодосия. С другой стороны, он, Аэций, проведший детство в заложниках сначала у Алариха, а затем — у гуннов, знал варваров. Он как никто другой чувствовал, когда необходимо было пойти им на уступки, а когда — надавить, когда следовало быть дипломатом, а когда — занять твердую позицию. Главным, что он вынес из общения с ними, являлось то, что зачастую силу варваров можно было нейтрализовать, настроив их друг против друга: гуннов против визиготов, визиготов против свевов и так далее. А для этого требовались искусство и хитрость, основывавшиеся на знании мышления варваров, чего у Аэция, в отличие от его соперника, имелось в избытке. Бонифаций был силен в истреблении варваров; управляться с ними он не умел, да и не сильно к этому стремился.
Словно играя в ludus latrunculorum или «солдатиков», Аэций снова и снова взвешивал сильные и слабые стороны — свои и своего противника. На первый взгляд Бонифаций имел одно, но крайне важное, перед ним преимущество — доверие Плацидии. Но Бонифаций был в Африке, в то время как он, Аэций, находился в Равенне, и, пустив в ход все свое обаяние и силу убеждения, мог спокойно настраивать императрицу против ее фаворита. Притворяясь преданным другом и союзником Плацидии (ему даже приходилось любезничать с ее капризным сыном), в последние несколько недель он сумел существенно ослабить ее, по отношении к нему, Аэцию, враждебность и завоевать ее доверие, что дало ему возможность, при помощи намеков и инсинуаций, распространяя «слухи» о том, что Бонифаций вынашивает заговор против императрицы и сеет смуту среди придворных и армейских офицеров, чернить комита в глазах Августы.
Бонифаций слишком благороден и доверчив, подумал Аэций, почувствовав угрызения совести. Будучи человеком совершенно лояльным и неподкупным, комит Африки наивно приписывал подобные качества всем, кому доверял. Он никак не мог понять — и в этом была его главная слабость, — что мужчины (как, впрочем, и женщины) в большинстве своем не обладают сильным характером и легко поддаются чужому влиянию. Да, политика была грязной игрой; время от времени Аэций сам себе становился противен за то, что участвовал в подобных махинациях. Но цель всегда оправдывала средства, даже тогда, когда достигалась с помощью обмана или предательства. К тому же, сказать по правде, Аэцию нравилось все это: возбуждение, которое он испытывал, бросая на борьбу с достойным противником все свое коварство и средства; приводящее в трепет единоборство; пьянящая радость победы.
По прибытии на виллу Аэций бросил поводья Буцефала конюху и по веренице залов проследовал в tablinum — в его случае, скорее канцелярию, нежели читальню. В комнате царил обычный хаос: повсюду валялись книги, документы и личное снаряжение полководца. Винить в этом рабов он не мог; всем им строго-настрого запрещалось входить в tablinum ради сохранения целостности его «системы». Находившиеся там книги преимущественно представляли собой научные труды на военную тему: Вегеций (тупица, смешавший тактику времен Траяна и Адриана с нынешней); «О методах ведения войны», интересный трактат безымянного автора о реформировании армии, пропагандирующий более широкое использование различных машин и механизмов, которое, по мнению автора, привело бы к экономии людских ресурсов; ценная копия (обновленная) «Notitia Dignitatum», правительственного перечня всех ключевых государственных должностей обеих империй (в том числе и военных).
Пришло время начать вторую часть развернутой им против Бонифация кампании. Набросив пояс с мечом на бюст комита (Аэций придерживался принципа «Знай своего врага в лицо»), он уже собирался вызвать нотария, но в последнюю секунду передумал. То, что он собирался доверить папирусу, представлялось ему столь опасным, что не должно было попасть на глаза никому, кроме него самого и адресата. Покопавшись в куче нагроможденного на столе хлама, Аэций не без труда обнаружил перо, чернила, чистый свиток — и принялся писать.
Покончив с письмом, Аэций задумался над тем, кому бы доверить его доставку. То должен был быть человек надежный, рассудительный, уверенно чувствовавший себя в седле. И что, конечно же, было гораздо более важным, послание это Бонифаций должен был получить раньше, чем письмо Плацидии. Такой человек у Аэция имелся — Тит. Парень был прекрасным наездником, никогда не задавал лишних вопросов, да и верность его Аэцию сомнений не вызывала. Полководец приказал рабу разыскать юношу.
— А, Тит Валерий! У меня для тебя есть одна работенка. Бывал когда-нибудь в Африке?
— Нет, господин.
— Тебе там понравится. Прекрасные люди, отличный климат, никаких варваров. Доставишь письмо Бонифацию. Передашь ему строго в руки — это крайне важно. Найдешь его либо в Булла-Регии, либо в Суфетуле.
— Бонифацию? А кто это?
— Комит Африки. Один из лучших полководцев в истории Рима — про себя я, конечно же, молчу. Вместе, надеюсь, мы сможем вернуть Западу былую славу. А теперь — о деталях. Вот выписанное магистром оффиций разрешение на проезд — действительно как в Италии, так и в Африке. С ним ты сможешь менять лошадей на имперских почтовых станциях. Маршрут следующий: Аримин — Рим — Капуя — Регий — Мессана — Лилибей — Карфаген. Через море переправишься на самом быстроходном судне, какое сумеешь найти. Чем раньше окажешься в Африке, тем будет лучше, сам понимаешь. Деньги: в этой бурсе столько solidi, что тебе их хватило бы на несколько таких поездок. Вопросы есть?
* * *
Обведя взглядом последнюю партию рекрутов, вышедших на утреннее построение вместе с их лошадьми, старший ducenariuis отряда африканской конницы тяжело вздохнул. «Жалкие, случайные люди», — подумал Проксимон, бывший центурионом старого Двадцатого легиона еще в то время, когда тот вывели из Британии для защиты Италии. По мнению Проксимона, эти новые подразделения — vexillationes (конница) и auxilia (пехота) — не выдерживали никакого сравнения с прежними легионами, половина которых полегла в Пунических войнах и которые теперь находились в стадии расформирования. Его нынешняя часть набиралась главным образом из второсортных пограничных войск и получила статус действующей армии в Африке. Хорошо хоть лошади были неплохими — лучше, чем люди. Этих крупных парфянских скакунов армия получала из римских конюшен, что, на его взгляд, являлось ошибкой: гораздо более здравым Проксимону виделось использование местных, африканских жеребцов, которые, пусть и были низкорослыми и жилистыми, лучше переносили жару. Он покачал головой: похоже, армия не желала учиться на своих же ошибках.
Поднимаясь над восточной стеной Кастелл-Нигра — одного из цепочки фортов, возведенных Диоклетианом для сдерживания набегов мавров и берберов, — солнце заливало смотровую площадку все более и более ярким светом, заставляя потеть людей и животных. Створки южных ворот со скрипом распахнулись, для того чтобы впустить в форт первый в тот день продовольственный обоз, и открыли вид на орошаемые виноградники и оливковые рощи, растянувшиеся на многие километры в направлении покрытых снегом вершин раскинувшейся над казавшимися голубыми Малыми Атласскими горами Джурджуры. Завораживающее, яркое зрелище — с этим Проксимон был согласен, — и все же оно не шло ни в какое сравнение с милой его сердцу мягкой красотой британского ландшафта. Многое бы он отдал за один лишь взгляд на извивающуюся меж зеленых лугов и застланных туманом камбрийских холмов серебристую Деву!
Проксимон медленно прошествовал вдоль шеренги молодых парней, многие из которых заметно нервничали: он выискивал малейший признак неряшливости в одежде либо оружии.
— Ржавчина, — заявил ветеран с мрачным удовлетворением, указав на несколько коричневатых крапинок, невесть как очутившихся на сияющем клинке spatha одного из рекрутов. Он наклонился вперед, — так, что его лицо оказалось в считаных сантиметрах от лица новобранца. — В армии, парень, проступком считаются три вещи: сон в карауле, пьянство на дежурстве и ржавая spatha. А вы сотрите эти глупые ухмылки с ваших физиономий, — рявкнул он на соседей провинившегося солдата по строю, которые за недолгое время пребывания в форте слышали эту литанию многократно. Проксимон схватил свинцовую идентификационную пластину, висевшую на шее у провинившегося солдата. — Чтобы к дежурству меч был очищен, — подмигнув новобранцу, он резко потянул пластину на себя. — Ты меня понял?
— Д-да, дуценарий, — пробормотал сбитый с толку солдат.
Закончив осмотр, Проксимон доверил рекрутов заботам campidoctores, обучавшим новобранцев дисциплине. Внезапно он почувствовал симпатию к испуганному парню, которого только что отчитал; кто знает, может тот и поймет его завуалированный намек. (Потерев свинцом о сталь, можно удалить даже самые трудновыводимые пятна.) Ограниченная в средствах армия вынуждена была выдавать солдатам древнее, обветшалое обмундирование. Эта покрытая ржавчиной spatha, мрачно подумал Проксимон, должно быть, застала еще сражение у Милвианского моста. В отличие от своего предшественника (солдаты звали его Cedo Alteram, «Дайте мне другую» — из-за привычки требовать новую дубинку после того, как прежняя ломалась о спину провинившегося солдата), Проксимон глубоко верил в то, что получить необходимую отдачу от людей (и лошадей) помогает терпение, помноженное на строгость, а никак не жестокое обращение.
* * *
— Молодец, парень, — усмехнулся Проксимон на следующем построении, осмотрев клинок меча: теперь тот был однородно серебристым. — Похоже, нам все-таки удастся вылепить из тебя настоящего солдата.
Позднее, совершая обход, он зашел в новые казармы, где поселили новобранцев. Неформальный, по душам, разговор с подчиненными всегда стоил потраченного на него времени. Таким образом можно было узнать, кто является сильным и слабым звеном в цепи, выявить армейских всезнаек, вероятных смутьянов и стукачей. Кроме того, выслушав солдатские жалобы (зачастую касавшиеся вещей тривиальных, каким, к примеру, было недельной давности урезание дневного рациона хлеба с трех до двух фунтов, — потерю государство возместило печеньем), можно было вовремя предпринять меры, необходимые для предотвращения потенциального кризиса.
— Все в порядке, парни? — поинтересовался Проксимон, оглядев длинное помещение. Из двадцати рекрутов, большинство, сидя на своих койках, приводили в порядок свое обмундирование; остальные, сбившись в кучу, играли в ludus duodecim scriptorium, «игру двенадцати линий».
— Теперь, когда — благодаря тебе, дуценарий, — мы вновь получаем полный рацион хлеба, — откликнулся один из новобранцев, — жаловаться не на что.
— Отлично, — сказал Проксимон. — Получается, все всем довольны?
Двадцать голов дружно кивнули в ответ.
— Лгуны, — бодро проговорил Проксимон. — Дотронься-ка до пальцев ноги, солдат, — приказал он ответившему на его вопрос рекруту. Слегка озадаченный, новобранец повиновался, и в ту же секунду получил увесистый удар дубинкой по заднице. Юноша приглушенно вскрикнул.
— А жопа-то болит, — удовлетворенно сказал Проксимон. Многие рекруты на ранних стадиях обучения верховой езде натирали себе болезненные раны о седла. — Да ладно, парни, признайтесь — болит у всех. — Возражений не последовало, и он продолжил. — Советую смазать дегтем. Кроме того, достаньте себе femenalia — рейтузы, — хозяйство надо держать на должном месте. Любая берберка из тех, что ошиваются у форта, с удовольствием одолжит вам пару-другую. Не волнуйтесь, надолго они вам не понадобятся — поносите, пока яйца не затвердеют.
— Но… носить рейтузы, — с беспокойством возразил один их рекрутов, — это ведь не по уставу.
— Так точно — не по уставу. И на ком из вас я их увижу, мало тому не покажется. Но я, в отличие от Cedo Alteram, о котором вы, несомненно, слышали, не хожу по плацу с привязанным к концу дубинки зеркалом, так что вряд ли я о чем-то узнаю, не так ли?
Немного разредив последними своими словами атмосферу, ducenarius стал отвечать на посыпавшиеся со всех сторон вопросы об условиях службы, бенефициях и легендарном главнокомандующем, комите Африки, известном как беспристрастностью, так и ратными подвигами.
— Правда ли, что он убил Атаульфа, первого мужа Галлы Плацидии?
— Убить — не убил, но ранил тяжело — когда готы пытались овладеть Массилией. Атаульф, кстати, от раны своей быстро оправился, чему Августа была сильно рада.
— Слышал, Бонифаций убил солдата, переспавшего с женой одного из местных жителей?[4] — с надеждой спросил один из новобранцев.
— А вот это — истинная правда, — подтвердил Проксимон. — Что, рассказать вам эту историю?
* * *
Лагеря — аккуратного прямоугольника кожаных палаток, известных как papiliones, «бабочки», каждая из которых вмещала восемь солдат, — они достигли в полдень. На многие километры вокруг растянулся унылый пейзаж: однообразные холмистые равнины, лишь кое-где покрытые травой эспарто, чертополохом и асфоделью; к северу — голая стена горы Гафса, к югу — мерцающие миражи, проплывающие над искрящейся солевой поверхностью Шотт-эль-Гарсы, одного из цепочки соленых озер, по которым проходила граница Римской империи. Озера эти обрамляли Великое песочное море, пересекаемое лишь караванами, привозившими из земель, где за пять сотен лиг[5] пустыни жили темнокожие люди, золото, рабов и слоновую кость.
Лагерь представлял собой временное мобильное поселение, возведенное на месте одного из остановочных пунктов, через которые Бонифаций совершал ежегодный объезд того, что являлось скорее его личным феодом, нежели провинциями проконсульской Африки и Бизацена. Эти путешествия комит считал необходимым напоминанием местному населению о том, что Рим все еще могуществен и готов использовать свою силу для поддержания на этих землях порядка и отправления правосудия — римского правосудия, а не примитивного кодекса «око за око», распространенного за пределами империи. Последние двести лет туземцы, номинально бывшие «римлянами», в душе по-прежнему оставались племенным народом, при отсутствии должного контроля — недисциплинированным и неуправляемым, о чем свидетельствовал и недавний мятеж донатистов, членов воинственной антикатолической секты, призывавших крестьян (у многих из которых в жилах текла пуническая кровь) не повиноваться их римским хозяевам.
Бонифаций мечтал об ожидавших его ванне, чистых одеждах и горячем обеде, сдобренном бокалом морнага, превосходного местного красного вина, — в последние три дня комиту и сопровождавшим его людям приходилось довольствоваться лишь сухим печеньем, кислым винцом и солониной. Расположенные по соседству с Шотт-эль-Джеридом, огромным соленым озером у римской границы, деревни подверглись нападению со стороны группы вооруженных берберов, но предпринятая комитом карательная экспедиция закончилась успешно, — понеся тяжелые потери, налетчики вынуждены были скрыться за границей империи. К несчастью, несколько устремившихся в погоню римских солдат случайно сбились с дороги и, провалившись под солевой пласт, утонули.
По прибытии в лагерь Бонифаций выразил благодарность участвовавшим в экспедиции подразделениям «Equites Mauri Alites» и «Equites Feroces» и распустил солдат, после чего, спешившись, передал поводья конюху и быстрым шагом направился к украшенной штандартами части палатке командующего. У закрывавшего вход в палатку откидного полотнища сидел какой-то юноша в поношенном джелаба. Судя по племенной расцветке, то был блемми; лицо его показалось Бонифацию смутно знакомым.
— Господин Бонифаций, — обратился молодой человек к комиту тоном, не оставлявшим сомнений в том, что говоривший пребывает в состоянии крайнего отчаяния, — я подавал прошение — помните?
Вышедший секундой позже из палатки трибун вручил комиту бокал вина.
— Извините, господин, — сказал он, указав на туземца. — Ничего не могу с ним поделать. Настаивает, что вы обещали переговорить с ним. Я уже устал прогонять его; он все время возвращается и твердит одно и то же. Выглядит вполне безобидным, поэтому я имел смелость позволить ему дождаться вас здесь. Но если что не так — ноги его здесь не будет.
— Да нет же, пусть остается, — Бонифаций внезапно вспомнил суть дела. Оно должно было рассматриваться на утреннем трибунале, но тут пришли вести о нападении берберов, и, прервав разбирательство, он вынужден был отправиться на юг. То было три дня назад; бедняга ждал его все это время! Должно быть, дело его действительно не терпит отлагательств.
— Ты ел что-нибудь за то время, что сидишь здесь? — спросил комит у блемми.
Туземец покачал головой.
— И ты даже не подумал о том, чтобы покормить его? — рявкнул Бонифаций на трибуна.
Мгновенно побледнев, тот нервно сглотнул слюну.
— Ему… ему давали воду, господин.
— Какая забота! — фыркнул Бонифаций. — Ничего: пороешь во время дежурства отхожую яму — тут же вспомнишь о гуманности. Принеси же наконец человеку поесть.
История блемми, рассказанная им за миской кускуса, приправленного овощами и мясом молодого барашка, оказалась печальной. Он выращивал финики близ Тузуроса, но налетевшая песчаная буря — одна из страшнейших за последнюю сотню лет — уничтожила всю пальмовую рощицу, унаследованную юношей после смерти отца. (В том, что рассказ парня правдив, Бонифаций не сомневался. В этих краях все знали о том, что один из легионов едва не погиб в бушевавшем самуме. Спасло людей лишь чудо. Когда ветер стих, они обнаружили себя стоящими на песчаной насыпи, возвышавшейся над верхушками пальм на сорок метров.) Для того чтобы добыть денег на пропитание их малыша, жена блемми согласилась переспать с одним из квартировавших в их доме солдат. Когда тот переехал на другое место постоя, она вынуждена была сопровождать солдата в качестве его сожительницы, — не согласись женщина на это, легионер не заплатил бы арендную плату.
— Она пошла на это исключительно ради ребенка, — на лице молодого блемми отразились все его душевные страдания. — Моя жена — хорошая женщина, но… — На какое-то мгновенье он замолчал, но затем продолжил дрожащим голосом: — Она любит нашего мальчика, господин. Мы оба его любим. Я не мог ее остановить.
Внезапно Бонифацию стало жаль юношу. Открыв отделанный резьбой сундук, комит вынул из него небольшую бурсу с монетами и вручил ее блемми.
— Этого тебе хватит на то, чтобы вновь начать собственное дело и прокормить семью. Если то, что ты рассказал, — правда, мой друг, значит, с тобой поступили крайне подло. Но не беспокойся, я прослежу за тем, чтобы правосудие свершилось. Трибунал состоится завтра утром, приходи. — Выпроводив рассыпавшегося в благодарностях блемми за порог, Бонифаций послал за primicerius, — нужно было установить новое место постоя провинившегося солдата.
* * *
Не стоило давать опрометчивых обещаний, криво усмехнулся Бонифаций, скача во весь опор на север, к горе Гафса. Велев блемми явиться следующим утром на трибунал, он поставил себя в тяжелое положение: на то, чтобы разобрать жалобу юноши, оставалось совсем мало времени, а сделать это было совершенно необходимо — как ради того, чтобы сдержать данное слово, так и для поддержания репутации человека решительного, вершителя скорого и ужасного правосудия. Бонифаций улыбнулся: заботиться о своей репутации ему приходилось ежечасно, что было очень непросто, но крайне важно — не для того, чтобы потешить собственное самолюбие, а для поддержания высокого боевого духа и верности войск.
Комит выяснил, что нужный ему солдат квартировал теперь в одной из деревушек к северу от Гафсы. Деревня эта находилась в пятнадцати километрах соколиного лета от лагеря, но летать Бонифаций не умел. Обычная же дорога, огибавшая горную цепь с западной стороны, была в несколько раз длиннее, что делало ее использование нецелесообразным. Существовал и другой путь — через шедшее посреди гор ущелье Сельджа, но этим маршрутом пользовались лишь безрассудные смельчаки, к которым пришлось причислить себя и Бонифацию: необходимость сдержать данное обещание не оставила ему другого выхода.
Следуя инструкциям, полученным в лагере от одного из разведчиков-берберов, Бонифаций проскакал вдоль подножия гор до реки Сельджа, которая привела его к невидимому снаружи каменистому входу в ущелье. За этими — природными — воротами обнаружилась осыпавшаяся скала, пройти мимо которой можно было, лишь придерживаясь поросшего колким тростником и тамариском русла реки. С трудом пробираясь по усыпанному галькой берегу, конь Бонифация потревожил целые стайки сидевших на камнях перевозчиков и трясогузок, но в конце концов вынес полководца в фантастический каньон, извилистые отвесные стены которого отходили друг от друга на расстояние примерно в тридцать метров. Над головой полководца, носясь за жучками и мошками, порхали воронки и ласточки.
Далее дорога шла уже не вдоль реки, а по правой стороне ущелья. Никогда еще нервы Бонифация (и его лошади) не подвергались столь серьезному испытанию: продвигаться приходилось по узкой, шириной в полмерта, тропе, слева от которой зияла пропасть. Тем более велика была опасность оттого, что ущелье кишело змеями. Несколько раз полководец ощущал исходившее от скал их злое шипение, а однажды на его пути возникла свернувшаяся кольцом кобра. Отступать было некуда: остановив задрожавшего от страха коня, Бонифаций постарался успокоить животное, в то время как шипение приподнявшейся и расширившей шею огромной змеи переросло в злобное крещендо, — так шипит холодная вода, выливаемая на раскаленную сковородку. Но уже через несколько показавшихся Бонифацию вечностью секунд, по-видимому, решив, что встретившиеся ей создания не представляют угрозы, аспид уполз прочь.
Через несколько километров, к огромному облегчению комита, каньон расширился, и его отвесные стены уступили место пологим откосам. Вскоре Бонифаций уже спускался по северному склону горной гряды, а ближе к вечеру он достиг и деревни, состоявшей из пары дюжин одноэтажных кирпичных построек, рядом с которыми, то тут, то там, стояли сшитые из черных козлиных шкур шатры кочевников. В военном отношении место это представляло собой аванпост Телепта, более крупного поселения, расположенного чуть севернее, где временно квартировали два numeri или подразделения пехоты — Fortenses и Cimbriani.
Несколько вопросов селянам — и Бонифаций получил всю интересовавшую его информацию. Комит постучал в окрашенную в повсеместный синий цвет дверь одного из строений, и возникший на пороге домовладелец проводил его к пристроенному к задней части здания флигелю. Сорвав скрывавшую вход шкуру, Бонифаций шагнул внутрь. Пробивавшийся сквозь небольшое неостекленное окно тусклый свет позволил ему различить среди беспорядочно расставленной домашней утвари свисавшее с крючков солдатское обмундирование, колыбель со спящим младенцем и кровать, в которой лежали двое, женщина-туземка и крупный светловолосый мужчина. Приход нежданного гостя их, казалось, разбудил.
— Солдат, признаешь ли ты, что она пошла с тобой не по доброй воле, а по принуждению? — гаркнул Бонифаций. Блондин вздрогнул, но отрицать ничего не стал. Повернувшись к женщине, полководец мягко сказал: — Завтра ты с ребенком вернешься в свою деревню, к мужу. Я позабочусь о том, чтобы тебя проводили. — Он смерил солдата брезгливым взглядом: — Оденься и попрощайся. Я буду ждать снаружи.
Не произнося ни слова, Бонифаций и солдат прошли в росшую рядом с деревней кипарисовую рощицу. Восхищенный мужеством легионера, шедшего навстречу смерти безропотно и смиренно, полководец обнажил меч…
* * *
Возвращаться через ущелье Сельджа в спустившихся сумерках Бонифаций не рискнул, избрав безопасный, но гораздо более длинный путь в обход гор. В лагерь он вернулся с зарей, когда над бледными бескрайними просторами Шотта уже мерцало призрачное сияние. Едва солнечный диск поднялся над горизонтом, как изумленный комит стал свидетелем необычного природного явления: видимое второе солнце медленно отделялось от первого. Две сферы разъединились: верхняя ушла ввысь, нижняя задрожала, опустилась и исчезла в Шотте.
Час спустя принявший ванну, гладко выбритый и облачившийся в парадные доспехи (это великолепное, хотя и древнее одеяние — подобные носили во времена Александра Севера — Бонифаций получил от отца спустя семь поколений) комит уже восседал за столом в палатке командующего, готовый проводить трибунал.
Первым в веренице просителей стоял уже знакомый ему юноша.
— Сегодня твои жена и ребенок вернутся домой, — заявил полководец крестьянину.
— А… тот человек, господин?
— Не бойся, мой друг, он больше не доставит тебе неприятностей, — мрачно улыбнувшись, Бонифаций вытряхнул к ногам блемми содержимое сумы — отрубленную человеческую голову.
* * *
Корабль Тита вошел в док торговой гавани Карфагена (у военных судов имелся собственный порт), откуда открывался чудесный вид на разместившийся на холме Бирса капитолий. Сожалея о том, что время не позволяет ему осмотреть великий город, Тит отправился с выданным ему Аэцием разрешительным документом на центральную почтовую станцию, откуда, согласно полученной инструкции, галопом поскакал в Булла-Регию. Ведшая на юго-запад дорога проходила через красивейшую долину реки Маджерда; на протяжении первых сорока километров все ее пространство, вдоль и поперек, занимали огромные виноградники; далее местность становилась все более и более холмистой, виноградники постепенно сменялись оливковыми рощицами, а поросшие ракитником и терпентинными деревьями склоны казались малопригодными для разведения растений.
Тит родился и вырос у границы с Галлией, в краю, который некогда являлся не входившей в состав Римской империи областью Цизальпинская Галлия и где его семья поселилась более четырехсот лет назад. Италия — в узком смысле этого слова — всегда казалась Титу в какой-то степени чужой, незнакомой страной. Да что там говорить: он и в Риме-то никогда не бывал, если не считать расположенных за пределами города почтовых станций, на которых он менял лошадей во время своего путешествия в Африку!
После слабо пересеченных, туманных земель и небольших провинциальных городов бассейна реки Пад, Африка стала для него настоящим откровением. Яркое солнце, в котором даже далекие предметы сохраняли отчетливые и определенные очертания; бурлящий, космополитический Карфаген с его внушительными монументами и огромными публичными строениями, построить которые, как казалось Титу, человеку было просто не под силу; ошеломляюще плодородные почвы, пшеничные поля, виноградники и оливковые рощи — все это произвело на юношу неизгладимое впечатление. Такое свидетельство могущества Рима и его обширного влияния почти убедило Тита в том, что серьезная опасность Западной империи совсем не грозит. Варварам никогда не удастся совладать с нацией, способной создавать столь впечатляющие творения, подумалось ему.
Проведя ночь в Тичилле, небольшом городке с почтовым mansio для обслуживания путешественников, Тит с первыми же лучами солнца вновь отправился в путь, довольный тем, что накануне сумел преодолеть сто двадцать километров — половину расстояния до Булла-Регии. Миновал лесок, состоявший из пробковых деревьев, над верхушками которых парили краснохвостые ястребы, проскакал мимо дубовой, сосновой и лавровой рощиц и — благодаря cursus velox, экспресс-почте, дававшей ему возможность менять лошадей через каждые пятнадцать километров, — оказался в Булла-Регии уже после полудня.
Въехав в город, Тит оставил позади себя театр (судя по всему — недавней постройки) и повернул направо, на главную улицу — cardo. Оставив лошадь на почтовой станции, он пешком проследовал мимо оживленного рынка к форуму, «зажатому» между древним (заколоченным) храмом и огромной базиликой. Зайдя в последнюю, Тит поинтересовался, где он может найти председателя decemprimi, внутреннего комитета городского совета, и был препровожден на одну из расположившихся в северной части города вилл. Дорога, по которой вели Тита, пролегала мимо старой церкви, фронтон которой украшали статуи отцов-основателей города, и монументального фонтана, окружавшего Источник Буллы, — именно вокруг него и был заложен город. Место это просто совершенно очаровало Тита: мерцающий мрамор его публичных строений резко контрастировал с темным покровом сосен и кипарисов, защищавших фонтан от жаркого солнца. Не это ли место, подумалось Титу, Августин, великий глашатай церковной морали, выступая с речью перед карфагенянами, объявил клоакой греха и логовом беззакония?
Оказавшись на вилле, Тит был проведен рабом по перистилю, а затем — к великому изумлению юноши — вниз по ступеням в сводчатый коридор. В конце прохода обнаружился просторный triclinium, обеденный зал, украшенный колоннами и великолепным мозаичным полом, на котором была изображена скачущая верхом на морском коньке Венера. Мягкий свет масляных ламп слепил глаза не так сильно, как палящее дневное солнце. Дом этот во всех отношениях походил на пышно обставленную римскую виллу, — за тем лишь исключением, что был построен под землей.
— Здесь прохладно даже в самые жаркие дни, — услышал Тит чей-то вялый голос. — Летом в Африке не знаешь, куда и деться от зноя. — Голос принадлежал сидевшему в кресле пожилому мужчине в свободном белом платье, которое имело мало общего с туземными одеждами. — Эти подземные жилища — отличительная черта Буллы. Жители Рима делают вид, что презирают нас, называя пещерными жителями. Ну и пусть; в полдень они обливаются потом, мы же чувствуем себя вполне комфортно. Что ж, молодой человек, раз уж вы потревожили мой полуденный сон, давайте выкладывайте, чего вы хотите.
Тит повиновался.
— Комит Бонифаций сейчас в отъезде, проводит ежегодную инспекцию центральных провинций, — сказал глава decemprimi, — что нас, декурионов, вполне устраивает: мы можем немного передохнуть, работая не по двенадцать часов в день, а вдвое меньше. — Он криво улыбнулся. — Не поймите меня неправильно: комита здесь все очень любят. Просто человек он настолько неугомонный, что не все выдерживают заданного им темпа. В присутствии Бонифация — можете быть уверены — никто никогда не позволит себе никаких вольностей. В прошлом году один из его солдат соблазнил жену какого-то местного, — так комит ему голову отрубил. Не человек — человечище!
Спрашиваете, где он может быть сейчас? Дайте-ка подумать. Вскоре он должен вернуться в Карфаген, так что уже, наверное, закончил очистку границ от всякого рода бандитов и держит путь на север. Советовал бы вам направиться по главной дороге на юг, к Суфетуле. Если повезет, возможно, где-нибудь вы с ним и пересечетесь.
Предложенные председателем decemprimi ванна и обед были с благодарностью приняты, и в путь Тит отправился уже ближе к вечеру. Там, где Маджерда соединялась с какой-то крупной рекой, он пересек широкую равнину, и к заходу солнца достиг подножия Дорсальских гор, чей гребень служил границей между провинциями Африка и Бизацена. Там, в уединенном mansio, Тит и переночевал. На следующий день, по петляющей горной дороге, по бокам которой росли каменные дубы и аллепские сосны, забрался на вершину горной гряды, перейдя которую обнаружил себя в совершенно ином мире. К южному горизонту простиралось бескрайнее пространство сухих и желтых, словно покрытых увядшими листьями, лугов и пастбищ. В лицо Титу подул горячий, как из печи, ветер. Именно здесь, понял юноша, и начинается настоящая Африка — континент, а не провинция. Уже спускались скорые тропические сумерки, когда он добрался до небольшого городка Суфес, глухого захолустья, отличавшегося от других подобных лишь тем, что селение это было одним из немногих мест, удостоившихся порицания Августина. Здесь, впервые за несколько дней путешествия, Тит узнал достоверные новости о Бонифации; поговаривали, что комит находится в трех днях пути[6], в Телепте, и направляется на север.
Воодушевленный, Тит выехал из Суфеса с первыми лучами солнца и, преодолев тридцать километров несложной дороги, оказался в Суфетуле, красивом, совершенно римском, несмотря на свое пуническое имя, городе. Он поразил Тита не только своими домами из удивительного коричневато-желтого камня, но и тем, что располагал театром, амфитеатром, акведуком, публичными термами, кафедральным собором и как минимум тремя триумфальными арками. Передовой отряд Бонифация уже находился в городе и был занят тем, что реквизировал квартиры и занимался сбором корма для скота. Разумно предположив, что сам он может ехать гораздо быстрее, нежели идущая походным шагом конница, Тит устремился вперед, надеясь застать основное войско Бонифация в расположенной в шестидесяти километрах от Суфетулы крепости Циллиум. Прибыв туда, он обнаружил армию полководца разбивающей лагерь вне крепостных стен, — судя по всему, поселение то было недостаточно большим для того, чтобы обеспечить помещением для постоя всех солдат. Один из трибунов проводил Тита в небольшой лесок, где, между фиговыми деревьями, с задумчивым видом прогуливался комит.
— Курьер из Равенны с посланием для вас, господин, — доложил офицер. — Говорит, что дело срочное.
— Все они так говорят, — пробормотал Бонифаций, но остановился. — Несрочных посланий не бывает — особенно теперь, в наше неспокойное время. Что ж, давай взглянем, что за вести ты нам принес. — С этими словами комит протянул руку Титу.
Бонифаций всей своей наружностью походил на одного из солдат, рельефные изображения которых украшали знаменитую Арку Константина. Он был великаном (рост комита чуть-чуть не достигал двух метров), так что внешний вид полководца не мог не привлечь внимания. На нем были парадные доспехи, которые, наверно, носили еще во времена Галлиена или Аврелиана: кираса с изображенной на груди головой Горгоны и аттический шлем старого типа, вышедший из употребления на Западе еще при Диоклетиане; кроме того, на перевязи у полководца висела не современная spatha, а короткий gladius. Даже волосы его, — как лицо, так и кожу головы комита покрывала жесткая щетина, — были подрезаны по моде давно ушедших эпох.
— Что, нравится моя униформа? — приветливо спросил полководец, когда Тит передал ему письмо Аэция. — Она, конечно, слегка устаревшая, но передается в моей семье от отца к сыну на протяжении вот уже семи поколений, так что я чувствую себя обязанным носить ее. Как бы то ни было, столь дальний путь тебя, должно быть, прилично измотал. Мой трибун проследит за тем, чтобы ты смог принять ванну, переодеться и сытно откушать. А позднее, за бокалом вина, расскажешь мне о том, что происходит в Равенне.
Когда Тит и приведший его офицер удалились, комит развернул свиток и принялся читать:
«Написано в Равенне, провинция Фламиния и Пицен, диоцез Италии, в год консулов Иерия и Ардавура, в VII июльские календы[7]. Флавий Аэций, Магистр Конницы всея Галлии, Комит, приветствует Бонифация, Комита Африки и командующего всеми расквартированными там войсками.
Благороднейший и наисветлейший комит! Будучи вашим другом, пишу это письмо в спешке и тайне, исключительно из беспокойства о вашем и Рима благоденствии. Из надежных источников мне стало известно, что в скором времени вы получите приказ, подписанный императрицей-матерью Элией Галлой Плацидией от имени императора, немедленно вернуться из Африки в Равенну. Что вынудило ее решиться на подобный шаг, я не знаю; могу лишь сказать, что дворец в последнее время превратился в настоящий рассадник интриг и козней, куда не взглянешь — повсюду евнухи и придворные, заботящиеся лишь о собственном благополучии. Я располагаю информацией, что некоторые из них, завидуя вашим успехам и власти, неустанно настраивают Августу против вас. Против вас, одного из самых преданных ей слуг! Какая несправедливость! Заклинаю вас, друг мой: не подчиняйтесь приказу, который получите. Повиновение приведет вас к краху. Вспомните Стилихона, который, впав в немилость, явился в Равенну без вооруженных сторонников и немедленно был казнен. Рим не может позволить себе потерять одного из вернейших своих слуг. Я же тем временем осмелюсь ходатайствовать за вас перед Августой; лжецы будут разоблачены, обещаю. Прощайте.
Отослано с моим верным агентом Титом Валерием Руфином».
С растущим недоверием Бонифаций перечитал письмо. Чтобы императрица поверила в подобное вероломство — возможно ли такое? Плацидия, которую он поддерживал и в печали, и в радости? Что ж, по крайней мере, он предупрежден — благодаря Аэцию. Похоже, есть еще честные люди в Римской империи. Как же быть? Если верить Аэцию, возвращение в Равенну — если такой приказ действительно придет — равносильно собственноручному подписанию смертного приговора. Отказ же, несомненно, будет воспринят как мятеж, и тогда в Африку, для того чтобы арестовать его, почти наверняка прибудет вооруженный отряд.
Как бы то ни было, если враги рассчитывают на то, что он поведет себя смиренно, они глубоко заблуждаются. Он приведет войска в состояние боевой готовности и приготовится оказать сопротивление. В преданности своих солдат Бонифаций не сомневался, но в том, что они смогут дать достойный отпор силам имперской армии, он был не столь уверен. Его римское войско и призванные ему помогать наемники-берберы находились в Африке для подавления случавшихся время от времени локальных восстаний. Что ж, пусть это решают боги (виноват — Бог, поправил себя комит, мрачно усмехнувшись).
* * *
Едва лишь заметив далекое, но быстро приближающееся облако пыли, Бонифаций понял, что грядут неприятности. С дюжину точек в центре облака быстро материализовались в группу тяжело скачущих солдат. Они рассредоточились по периметру лагеря; два декуриона в полном обмундировании спешились и, решительно подойдя к комиту, отдали честь.
Один из офицеров вручил Бонифацию свиток. Разворачивать его полководец не стал: он и так знал, что содержит в себе пергамент — написанное пурпурными чернилами предписание возвращаться в Равенну.
— Вам придется отправиться с нами, господин, — уважительно, но твердо сказал офицер.
Какие-то доли секунды лицо Бонифация выражало сомнение: комит понимал, что игнорирование императорского приказа будет иметь тяжелые последствия.
— Это невозможно, — вежливо ответил наконец полководец. — Сожалею, господа, но, приехав сюда, вы зря потратили время.
Глава 5
И безусловно, на правах хозяина, Господь требует наши сердца, наши уста, наше время.
Павлин, епископ Нолы. Письмо Авсонию. 395 г.Нервно расхаживавший по дворцу своего друга, епископа Карфагена, Августин Аврелий, благочестивый и набожный епископ Гиппона (диоцез Африки), повсеместно известный и почитаемый автор «Исповеди» и «О граде Божьем», имел вид озабоченный и испуганный. Наступило первое января, день назначения консулов и празднования наиболее популярного и, безусловно, самого ожидаемого ежегодного торжества, с незапамятных времен отмечаемого во всем римском мире — Календ. И он, Августин, собирался отправиться в карфагенский форум для того, чтобы осудить этот праздник.
Решиться на такое оказалось совсем не легко. В известном смысле, к этому решению он шел всю жизнь.
Мир, в котором Августин родился, — а случилось сие событие через семнадцать лет после смерти великого императора Константина, — значительно отличался от того, в котором он жил теперь. В то время христианство, вера, провозглашенная — после многих лет жестоких преследований — Константином официальной религией Римской империи, стала объединяющей силой в государстве, разрываемом на части многочисленными разногласиями и противоречиями.
Но не успело вырасти следующее поколение римлян, как казавшаяся сильной и крепкой империя вновь погрузилась в глубочайший кризис. Бедствия и несчастья следовали одно за другим: Адрианополь, нашествия готов, переход Рейна полчищами германских племен, разграбление Рима. Вместо стабильности и уверенности — хаос и ощущение опасности. Тем не менее, в то время как государство становилось все более и более слабым, его детище, Церковь, набирало силу и влияние. Вынужден ведь был могущественный Феодосий преклонить колени перед Амвросием, епископом Медиолана, и просить прощения за свои грехи! Но согласие, еще недавно существовавшее между Церковью и государством, осталось в прошлом: христианские лидеры все чаще и чаще подчеркивали бесполезность земных материй, начав размышлять над тем, что ранее казалось непостижимым, — выживании Церкви в мире, не имеющем ничего общего с Римской империей.
Происходя на глазах Августина, все это самым удивительным образом отображало события его личного жизненного пути. В те годы, когда христианство беззаботно сосуществовало с прочими религиозными направлениями, он, еще не будучи христианином, вел праздную юношескую жизнь, находя удовлетворение в сладостных объятиях женщин и посещении соблазнительно притягательных арен. Затем пришел тот слепящий момент прозрения, когда — во сне — послышался Августину детский голос, убедивший его поискать вдохновение в христианской Библии: «Tolle, lege — Возьми, читай». С той самой минуты, даже несмотря на то, что над империей сгустились штормовые тучи, а Церковь фактически объявила войну ереси, он старался всего себя отдавать служению Господу, избегать мирских занятий и удовольствий. Далось это ему нелегко. «Дай мне безгрешности и умеренности — но не сейчас», — просил Августин в «Исповеди»; столь ожесточенной была его борьба. Мучительный личный выбор пришлось сделать многим. Входил в их число и приятель Августина, Павлин, епископ Нолы, которому ради служения Богу пришлось порвать отношения с ближайшим другом, образованным и мудрым поэтом Авсонием.
Ужасная травма, вызванная разграблением Рима, окончательно оформила стремления Августина, подтолкнув его к написанию magnum opus «О граде божьем». Не следует больше людям беспокоиться о Земном Граде, убеждал он; вместо этого они должны стремиться к Новому Иерусалиму, Небесному Граду, где их ждет единение с Господом. Вместе с тем с каждым днем все больше и больше росло его убеждение в том, что войти в Град Божий за счет одного лишь своего стремления люди не смогут. Грехи — вот их преграда на этом пути. Все люди — грешники, но одной лишь их воли и желания для искупления вины недостаточно. Для попадания на небеса нужна праведность, благодать Господня. Тем же, кому был ниспослан этот дар — Избранным, — получить его было назначено судьбой. На все — воля Божья, и никто без нее избавления от грехов получить не может — в этом Августин был уверен. «Праведность, предопределение, Божья воля» — таким стало его теологическое кредо.
И вот момент истины настал. В день, когда все будут отмечать Календы — предаваться пьянству, чревоугодию и распутству, обмениваться подарками и демонстративно похваляться собственным богатством, — безмолвным он оставаться не должен. Праздник этот являлся ужасающим празднованием всего того, что олицетворял собой старый языческий Рим. Остаться в стороне и ничего не сказать — значит постыдно простить его. С тяжелым сердцем, но с твердым намерением осуществить задуманное Августин покинул дворец и направился в форум.
От того, старого, Карфагена, величественного финикийского города, что знал Ганнибал, ничего уже не осталось. Завоеватели его, с поистине римской целенаправленностью, превратили его в руины для того, чтобы затем перестроить по собственному образцу. Второй город Запада, город с его форумом, базиликами, театром и университетом, по улицам которого шел сейчас Августин, — практически ничем теперь не отличался от прочих крупных городских центров Римской империи.
Поднимаясь на холм Бирса, где располагался форум, Августин на минуту остановился — перевести дыхание. «Годы дают о себе знать, — печально подумал он, — скоро мне стукнет семьдесят пять». Вдыхая потоки холодного зимнего воздуха, он окинул взглядом город. На севере, далеко за городской чертой, вырисовывались неясные очертания Карфагенского мыса; на востоке, прямо под ним, простиралась широкая двойная гавань: эллипсовидная — для торговых судов, округлая — для военных. На западе, за секуляризированным ныне Храмом Нептуна, тянулись предместья Карфагена — Мегара, на фоне которых выделялись грандиозное здание цирка, огромный овал амфитеатра и гигантский акведук Адриана, уверенно шагавший вдаль, на девяносто километров от моря, к Загуану, источнику, снабжавшему город водой.
Августин вошел в форум. С виду — все безвредно и радостно, подумал он, глядя на тихо кружащие толпы, счастливые, возбужденные лица, яркие цвета лучших нарядов, вытаскиваемых из сундуков лишь по случаю крупных празднеств. Но за этой улыбающейся маской пряталась уродливая и опасная реальность. И его, Августина, святая обязанность — сорвать эту маску и разоблачить скрывающиеся за ней вожделение и порочность. Внезапно епископ почувствовал уверенность и спокойствие, словно сошла на него благодать Господня; сердце его перестало стучать. Он вскинул вверх руки, и — вот сколь великим был его авторитет! — приглушенное ликование в форуме стихло; люди признали его высокую, тощую фигуру. То тут, то там зашептали: «Епископ Гиппона… Августин собственной персоной… Пришел благословить нас…».
— Карфагеняне… Друзья… Христиане, — начал Августин. — Рад видеть, что вы собрались здесь сегодня; рад так, как радуется отец, наблюдающий за тем, как играют его дети. Но представьте себе, что эти детские игры могли бы завести их в вади, в вади, где скрываются ядовитые змеи и скорпионы? Разве он не предостерег бы их от этого? Уберегать детей своих от неверных поступков — не в этом ли заключается отцовский долг?
Толпа одобрительно загалдела. Многие из пришедших в форум помнили, как беспокойные родители не позволяли им играть в лесных районах или заброшенных строениях.
«Хорошее начало», — подумал Августин. Секрет правильного обращения с аудиторией заключался в том, что слушателей всегда следовало ругать, а не хвалить; этому он научился у «златоустого» архиепископа Константинополя, Хризостома, автора незабвенных «Наставлений».
— Господь, Отец ваш Небесный, любит вас и предостерегает — через меня, своего недостойного слугу, — от опасностей, которым вы подвергаете себя, принимая участие в этом празднике. Вы ослеплены его великолепием и роскошью, оглушены шумом его обольстительной музыки, и не замечаете спрятавшихся за камнем василисков, не слышите злого шипения змей. От всего своего сердца советую я вам отказаться от искушений этого нечестивого фестиваля. Подумайте лучше о любви Божьей, спросите себя: «Стоит ли мне отвергать эту любовь и ставить тем самым душу свою под угрозу?» Ведь отмечая этот греховный праздник, именно так вы и поступаете.
Августин остановился, внезапно осознав, что, увлекшись силой собственного красноречия, он совершенно забыл о своих слушателях, времени и месте — обо всем, за исключением крайней необходимости предупредить пришедших в форум карфагенян о неблаговидности их поведения. Он взглянул на небо: солнце уже прошло свой меридиан. Он начал свою речь в четвертом часу, то есть… говорил больше двух часов! Августин обвел взглядом слушавших его людей. Уважая его авторитет, они не разошлись, но стали беспокойными и невнимательными. У многих на лицах читалось недоумение; большая же часть собравшихся выглядела уставшей и сердитой, возмущенной таким вторжением в их веселье. Будучи реалистом, Августин понял, что не сумел завоевать их расположение и что, продолжая выступление, он рискует еще больше восстановить их против себя, и решил закругляться.
— Вот почему, друзья мои, хочу я закончить словами…
— Ох, избавьте нас от своих поучений — вы и так сказали достаточно, — прервал его невысокий, полный мужчина, лицо которого показалось Августину смутно знакомым. «Макробий, автор трактата «Сатурналии», — вспомнил он, — rhetor в университете, том самом учреждении, где я выиграл приз в риторике». Пребывая в смятении, Августин услышал, что острота молодого ученого была встречена приветственными смешками. Почувствовав назревающий конфликт, толпа оживилась. Сдавать ситуацию без боя Августин не собирался.
— Если из всего моего скромного выступления вам запомнится лишь одно, пусть — пусть это будет… — Тут Августин запнулся; он чувствовал, что голос его звучит слабо, примирительно. Не так все должно было закончиться. Он продолжил. — Запомните лишь одно, друзья. Без милости Божьей мы — никто. Сами мы ничего…
— Не можем сделать? — Макробий превратил утверждение Августина в вопрос. — Ваше высокопреосвященство, — формально правильное обращение было произнесено с едва уловимой иронией, — вы все время вспоминаете о милости Божьей. А как же воля самого человека? Вы что, считаете, мы ничего не можем добиться сами?
— Так вы утверждаете, что люди могут прийти к добродетели сами, без Божьей помощи? — пылко возразил епископ. Самообладание, увещевал он себя, сохраняй самообладание; стоит лишь дать выход гневу — и все будет потеряно.
— Не совсем так, — легко парировал его оппонент. — Похоже, вы не настроены отвечать на мой вопрос. Что ж, тогда я отвечу на ваш. Возможно, милость Божья и существует; отрицать не буду. Но лишь в качестве божественной помощи. Небеса помогают тем, кто сам творит свою жизнь.
Слова Макробия потрясли Августина до глубины души. Отрицание верховенства Божьей воли было равнозначно ереси. Этот человек опасен, подумал епископ, очевидно, он является последователем того шотландского монаха, Пелагия, который утверждал, что к избавлению люди могут прийти лишь через собственные старания и стремления.
— По сути же, из вашей теории праведности и предопределения можно сделать безрадостные выводы, — продолжал Макробий. — Согласно вашей философии, все, что происходит, предопределено заранее, из чего мы можем заключить, что варвары в любом случае опустошат Римскую империю — ваш Град Земной, — и ничего с этим поделать мы не в силах.
Приглушенный гул одобрения пронесся по форуму. Номинально будучи христианами, многие из собравшихся все еще сохраняли языческий, мирской склад ума; в качестве гарантии личной безопасности вопрос продолжения существования империи являлся для них крайне значимым.
— Римская империя и Земной Город — не одно и то же, — возразил Августин, вынужденно переходя в наступление. Епископ был на грани паники — ситуация ускользала из-под его контроля. В отчаянии он огляделся по сторонам. Где же defensores, церковная стража, которая имеет право арестовать религиозных агитаторов? «Попрятались по углам», — подумал он с горечью. Естественно — в этот день народного ликования любые попытки арестов легко могли вызвать массовые беспорядки.
— Земной Город — это государство нечестивцев — падших ангелов, душ грешников, живущих в этом мире, — прокричал Августин, но его уже никто не слушал. Впервые в жизни епископ потерял внимание аудитории.
В форуме вдруг стало темно; небо заволокло огромными грозовыми облаками, задул типичный для этих мест северо-западный зимний шквалистый ветер. Застучавший по брусчатке и крытым черепицей крышам домов град вмиг разогнал толпу. Макробий иронично помахал Августину рукой:
— Своевременное вмешательство, вы не находите, епископ? Уж не по божьей ли милости?
Потрясенный и униженный, возвращался Августин во дворец по опустевшим улицам. Затея его потерпела полный крах. Ничего, битва еще не закончена, сказал он себе. Пусть враги Господа нашего сильны и вездесущи, я до конца дней моих буду давать им отпор. Будет на то воля Божья — придет и победа.
Глава 6
О поступках судят по их результатам.
Августин Аврелий. Письма. 400 г.К толстой стопке листов папируса, помеченной «Бонифаций», Аэций добавил последнее донесение из Африки, только что присланное одним из agentes in rebus, тайных агентов, постоянно державших его в курсе всех изменений политической ситуации в этом регионе. В своем личном дневнике полководец написал: «Еще немного — и Бонифаций попадет в расставленные мною сети. Поступив так, как я ему советовал, он нарушил указания императора, что, само по себе, уже является довольно-таки серьезным проступком, но — в его случае — не тем, что карается смертной казнью. Вряд ли Плацидия согласится казнить героя прежних лет за такую мелочь. Тем не менее, оказав вооруженное сопротивление тем, кто был послан его арестовать, Бонифаций перешел Рубикон и должен быть объявлен врагом государства».
Жаль, что ради благого дела приходится жертвовать таким прекрасным воином и человеком, искренне жаль, подумал Аэций, вновь завязывая ремешки, коими был перетянут кодекс, представлявший собой набор тонких вощеных дощечек, заключенных в изысканный, искусно вырезанный из слоновой кости футляр — подарок Плацидии «преданному другу». Собственные мысли папирусу он старался не доверять. «Всегда пиши на воске, — советовал ему отец, бывший, как и сам Аэций, магистром конницы и непревзойденным политическим интриганом, — чернила — союзник палача». И совету этому Аэций следовал усердно и неукоснительно. Конечно, он, бывало, писал и противоречащие друг другу письма Бонифацию и Плацидии, но они попадали в категорию государственных тайн и фактически не могли стать объектом расследования. Досье же, заведенное на Бонифация, содержало бесстрастные и фактические донесения, никоим образом не свидетельствующие о неком злом умысле. Все же то, что писалось на парафинированных табличках, легко стиралось тупым концом пера. И пока Аэций продолжал сохранять осторожность, руки его оставались незамаранными — по крайней мере, в глазах окружающих. А не это ли — главное? В конце концов, разве не этот принцип лежит в основе теологической позиции, занятой самим Августином в отношении нравственного поведения тех, кто совершает те или иные деяния? «О поступках судят по их результатам», — успокоил епископ своего друга Консенция, когда тот признался, что солгал для того, чтобы спасти обвиненного в разовой растрате чужих денег, во всех же прочих отношениях — совершенно безупречного, чиновника.
Да, план хорош, почти совершенен, как годами выдерживаемое в холодном погребе фалернское вино, усмехнулся Аэций. И пока все складывается как нельзя лучше — главным образом потому, что Бонифаций, славный, но простоватый Бонифаций, доверяет ему, Аэцию, приближая тем самым собственную погибель. Последние его действия и вовсе граничат с изменой. Если собранных Бонифацием войск окажется недостаточно для того, чтобы организовать полномасштабное наступление на империю, его уже в самом скором времени доставят в кандалах в Равенну. Последует короткий суд — и городские стены станут свидетелями того, как топор палача отделит голову комита Африки от его туловища. Самое время окончательно решить проблему, постановил Аэций и взялся за перо. Через пару часов он уже перечитывал очередное свое послание попавшему в передрягу военачальнику; вознаградив открытое неповиновение Бонифация властям самыми лестными эпитетами, Аэций призывал его проявить твердость и пойти до конца. При одной лишь мысли о том, что его соперник попадется на эту удочку, Аэция охватило необычайное возбуждение; и все же на душе у великого полководца скребли кошки — как если бы он собственноручно толкнул Бонифация в пропасть.
* * *
В состоянии глубокого отчаяния, заложив руки за спину и вперив взгляд в землю, расхаживал Бонифаций взад и вперед по саду, разбитому рядом со штабом его войск в Карфагене. Место это все больше и больше походило на убежище, где он мог привести в порядок свои расстроенные мысли и попытаться выработать ту схему действий, благодаря которой ему удалось бы справиться с растущим кризисом, грозившим его уничтожить.
Уловив едва заметное движение под ногами, Бонифаций остановился. Замер в выжидательной позе и пробегавший мимо грызун — песчанка, неосмотрительно покинувшая свою нору. Улыбнувшись, полководец высыпал перед зверьком его обычное вознаграждение — горстку зерен пшеницы.
— Хоть ты, дружок, на моей стороне, — прошептал Бонифаций.
Он был благодарен Аэцию за одобрение и моральную поддержку, высказанную в последнем письме. Но Аэций находился за тысячу с лишним километров от Карфагена и материальной помощи предоставить не мог. Суровая же реальность заключалась в том, что без поддержки со стороны какого-нибудь могущественного союзника Бонифаций был обречен. А вот союзников-то у него как раз и нет.
Или же есть? Комит резко остановился, словно наткнувшись на невидимое препятствие. На лице Бонифация заиграла улыбка — господь ниспослал ему озарение. Все его природные инстинкты и воспитание тут же восстали против посетившей его мысли, побуждая от нее отказаться. Она была бредовой, она была предательской… Но то была единственная его надежда. Будь что будет, решил Бонифаций — и по возвращении в лагерь вызвал к себе нотария.
Глава 7
Среднего роста, хромой из-за падения с лошади, скрытный, немногоречивый, презиравший роскошь, бурный в гневе, жадный до богатства, крайне дальновидный, когда надо было возмутить племена, готовый сеять семена раздора и возбуждать ненависть.
Описание Гейзериха: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica. 551 г.Деревня была взята в плотное кольцо окружения. С трех сторон ее опоясывали крутые каменистые возвышенности, вдоль гребня которых и рассредоточились вандалы, а последний выход, из гавани к морю, в любую минуту могли блокировать захваченные в Картаго Нова римские галеры, стоявшие на приколе в соседней бухточке.
Далеко на востоке меркнул и исчез сумрак — ложный рассвет. Но над Балеарскими островами уже вставало солнце, и вскоре окружавшие деревушку горные хребты вспыхнули под его ранними лучами; склоны залило ярким светом, открывшим вожделенную цель налетчиков — беспорядочно разбросанные вокруг чистого, прямоугольной формы участка земли, в одном из углов которого примостилась небольшая церквушка. Едва пропели петухи, из-за ближайшего мыса появился нос первой галеры, и Гейзерих протрубил в рог.
Гейзерих, единокровный брат Гундериха, короля вандалов, был зол, ожесточен и расстроен. Впрочем, ничего странного в этом не было: в таком состоянии он пребывал практически всегда. Но тем утром эти эмоции проявились гораздо острее, нежели обычно. Дурное его настроение было вызвано несколькими причинами: изобилующая и густонаселенная — как следовало из донесений разведчиков — деревня представляла собой печальное зрелище, что сводило все его надежды на богатый улов к нулю; во время короткого путешествия вдоль южного побережья Испании он жутко страдал морской болезнью; в самый последний момент — уже собирались бросить якорь — его превосходное римское судно налетело на скалу. (Неповоротливому рулевому отрубили руку, что немного облегчило страдания Гейзериха.)
Истинные же причины его холерического темперамента были гораздо более глубокими и сложными. Гейзерих был мал ростом и хром, тогда как его брат выделялся статью и отменным здоровьем. Он был незаконнорожденным сыном своего отца, брата же его родили в браке, и в жилах его текла настоящая королевская кровь. Но больше всего Гейзериха раздражало то, что, обладая острым умом и непревзойденными лидерскими качествами, он был никем, тогда как его ничтожество-брат являлся королем.
Когда, двадцать один год назад, его народ вместе со свевами, аланами и бургундами пересек замерзший Рейн и обрушился на Галлию[8], он был еще ребенком. Вместе с все теми же свевами вандалы продвинулись в глубь Испании и, разгромив посланную для их сдерживания римскую армию, поселились на юге полуострова, существуя главным образом за счет грабежей и разбоев. Так что положение его племени, окруженного враждебно настроенным коренным населением и жившего в постоянной угрозе новых карательных экспедиций, являлось, мягко говоря, шатким.
Едва эхо разнесло громкий трубный призыв по скалам, застывшие в ожидании вандалы высыпали из своих убежищ, заполонив дворы и огороды обреченной деревушки. Та, за исключением трех направлявшихся к роднику женщин и ведшего коров на выгон мальчугана, еще спала. В соответствии с полученным приказом вооруженные налетчики врывались в дома, выводя их заспанных и испуганных обитателей, многие из которых не успевали даже одеться и вынуждены были прикрывать свою наготу руками, на улицу. Не прошло и десяти минут, как все население деревни — три с небольшим сотни человек, выделявшихся оливкового цвета кожей на фоне светловолосых и голубоглазых захватчиков, — собралось у дверей церкви. Гнетущую, пронизанную страхом и дурными предчувствиями тишину нарушал лишь плач покоившихся на руках матерей младенцев.
Шло время, отбрасываемая церквушкой тень уже отступила далеко за площадь, но люди продолжали молчать. На расстеленное перед Гейзерихом одеяло мародеры бросали жалкие кучки того, что удалось обнаружить: кольца, монеты, булавки, броши, кухонную утварь. Большей частью то были изделия из бронзы и железа, золотые или серебряные украшения встречались крайне редко. Один из вандалов вынес из церкви миссорий и потир, мгновенно засверкавший на утреннем солнце.
— Серебро, — провозгласил он гордо.
— Ну да, серебро бедняков, — прорычал Гейзерих; глаза его пылали яростью и разочарованием. — Это олово, глупец.
Злобным взглядом обвел он толпившихся перед ним испанцев.
— Кто тут священник? — спросил Гейзерих на ломаной латыни. Говорил он медленно, взвешивая каждое слово, но голос его, сиплый и низкий, был слышен в каждом из углов площади.
Ответом ему была тишина, лишь подчеркиваемая приглушенными всхлипываниями и детским плачем. Гейзерих обнажил зубы в мрачной улыбке. Легкий кивок головой стал для его людей сигналом к действию, и вот уже двое из них выдернули из толпы какого-то мужчину. Один из вандалов взмахнул рукой — и, издав булькающий звук, тот упал с перерезанным горлом. Вздох ужаса пронесся по рядам крестьян.
— Кто тут священник? — повторил Гейзерих все тем же монотонным голосом. На сей раз вопрос его был услышан; высокий, средних лет мужчина шагнул из толпы.
— Священник здесь я, варвар. И я возражаю против подобного обращения с моей паствой, против убийства ни в чем не повинного человека. Требую, чтобы… — Тут он был вынужден замолкнуть, так как губы его в кровь разбила рукоять копья.
Гейзерих отдал несколько отрывистых приказаний, и его люди начали заталкивать крестьян в церковь, подгоняя особо медлительных при помощи окриков и ударов тыльными концами копий. Ничего хорошего их действия не предвещали: перед тем как запереть двери, вандалы покидали в строение мебель, тележки, портьеры и прочие легко воспламеняющиеся материалы.
Гейзерих обернулся к священнику.
— Где ваши церковные богатства — усыпанные драгоценными камнями раки, серебряные кувшины и тому подобное? Знаю — вы, римляне, скорее станете прозябать в нищете, чем оставите свои алтари неукрашенными.
— Мы не можем позволить себе дорогую посуду, — прошамкал священник, выплевывая из окровавленного рта выбитые зубы. — Мы — всего лишь бедные рыбаки и крестьяне. Это все, что есть ценного в нашей церкви, — он указал на оловянные чаши.
— Что ж, тогда мы будем великодушными и оставим их вам. Скажи мне, священник, веришь ли ты в то, что Христос Сын равен Богу Отцу?
— Он и есть истинный Бог, из той же материи, что и Отец, и ни в чем ему не уступает.
— Заблуждающийся еретик, — прорычал Гейзерих. — Как может быть сын равным своему отцу? Он моложе, а потому и стоит ниже в небесной иерархии. — Будучи фанатичным арианцем, Гейзерих относился к никейскому католицизму с не меньшим презрением, чем к самим римлянам. — Что ж, пей кровь своего Спасителя, да не вино, а саму чашу.
Принесли котел, разожгли огонь — и уже через несколько минут миссорий и потир превратились в кипящую жидкость. Двое вандалов держали священника за руки, третий же вогнал в его разбитый рот воронку и влил в нее расплавленный металл. Пару мгновений бедняга бился в молчаливой агонии в руках истязателей, затем, высвободившись, еще какое-то время катался по земле, корчась от боли, и наконец затих.
— Король, король плывет! — вскричал вдруг один из вандалов, указывая на море. В гавань входила огромная галера, на парусе которой был вышит личный символ Гундериха — ощетинившийся вепрь; блокировавшие вход суда поспешно разлетались по сторонам, освобождая проход.
Совершенно игнорируя прибытие брата, Гейзерих приказал зажечь факелы и бросить их в церковь. Люди его уже готовы были выполнить приказание, когда на площади, в сопровождении многочисленной свиты, появился Гундерих; длинные его белокурые волосы волнами спускались на широкие плечи.
— Остановитесь! — проревел он. — Разве я не говорил тебе, брат, что с римлянами мы должны жить в мире, что мы не должны давать им повода воспылать к нам ненавистью? Если мы хотим и впредь оставаться на этих землях, нам придется помнить об этом.
— Пусть уж лучше они нас боятся, брат, — нарочито дерзко отвечал ему Гейзерих. Взяв из рук стоявшего рядом вандала горящий факел, он с силой швырнул его в не прикрытое ставнями окно. Не прошло и нескольких секунд, как из заколоченной церкви клубнями повалил дым, раздались крики и громкий треск дерева.
Лицо Гундериха побелило от гнева.
— Я пришел сказать тебе, брат, — для того чтобы оказаться услышанным в шуме пожара и посреди криков заживо сжигаемых крестьян, ему пришлось повысить голос, — что эти самые римляне обратились к нам с просьбой о помощи. Комит Африки прислал посланника. Он хочет, чтобы мы вместе с ним выступили против императора.
Вихрь мыслей пронесся в изощренном мозгу Гейзериха. Африка. Заполучив ее, он сможет удовлетворить все свои прихоти, да и люди его в накладе не останутся.
Ночью, когда лагерь вандалов погрузился в сон, он разыскал древнюю старуху, искусную в приготовлении целебных мазей. И ядов.
Глава 8
Существует ли какое-либо другое имя, подходящее им [вандалам] столь же хорошо, как варвар, что означает дикость, жестокость и страх?
Виктор из Виты. История гонений в африканской провинции. После 484 г.— Темнеет, мой друг, а ведь нет еще и восьми. — Августин, епископ Гиппона, гроза еретиков, умнейший человек и самый влиятельный священник Запада, попытавшись оторвать голову от подушки, одарил комита Африки озадаченной улыбкой.
Выглянув из окна верхней комнаты, Бонифаций сделал вид, что изучает небо: на нем не было ни облачка. По ту сторону крепостной стены Гиппон-Регия (названного так потому, что некогда этот город был столицей нумидийских царьков), изнемогавшие от августовского зноя вандалы пытались соорудить очередную версию осадной башни. Как и ее предшественницы, конструкция эта выглядела абсолютно безнадежной — несколько точных выстрелов одной из поднятых на крепостной вал ballistae, и от нее останутся одни лишь щепки.
— Это песчаный ветер, Аврелий, — ответил Бонифаций; время от времени солнце скрывалось за кружащей завесой песка, приносимого горячим южным ветром. Сердце полководца трепетало от страха. Вот и все, конец уж близок. Смерть все настойчивее и настойчивее стучалась в двери, горя желанием отнять у него ближайшего друга, единственный источник тепла и успокоения в эту чудовищную пору. «Вот к чему привело мое обращение за помощью к Гундериху, королю вандалов», — с ужасом и виной подумал Бонифаций.
В самый разгар приготовлений к отплытию в Африку Гундерих внезапно умер от загадочной болезни. Во главе вандалов встал его единокровный брат, Гейзерих, который погрузил все свое племя на захваченные римские суда и корабли, любезно предоставленные испанскими «хозяевами», и по узкому проливу перевез его по ту сторону Геркулесовых Столпов. Однако, оказавшись в Африке, вандалы не пришли на помощь Бонифацию, а под предводительством своего кровожадного вожака устремились на восток, оставляя за собой разрушение и разорение. Ряды их то и дело пополнялись за счет мятежников-мавров, рабов и донатистов — членов многочисленной и беспощадно преследуемой секты, во главе которой стояли ненавидевшие Рим головорезы.
Парализованный раскаянием, утративший то решительное великолепие, что позволило ему некогда разбить мавров, комит Африки попытался оказать сопротивление захватчикам, но руководил своей армией как-то вяло и нерешительно, что и привело к ужасающим последствиям — войско его не устояло под напором вошедшего в раж противника и бросилось врассыпную. Бонифаций тяжело вздохнул; из-за его исключительного безрассудства Запад потерял самый богатый свой диоцез, дававший империи половину всех ее зерновых культур.
С какой бы радостью положил он сейчас конец своей жизни! При схожих обстоятельствах его предок — тот, кто первым облачился в латы, которые он и сам теперь носил, — ни секунды не раздумывая, вонзил бы в себя свой меч — тот, что висел теперь на боку Бонифация. Но сам комит этого достойного уважения выбора был лишен. Христианство считало самоубийство смертным грехом, как не переставал напоминать ему, возможно, догадываясь о терзаниях друга, Августин: жизнь его теперь мог забрать только Бог.
То, что его конфликт с имперским правительством удалось урегулировать, являлось для Бонифация слабым утешением. Произошло это во многом благодаря посредничеству Августина, друг которого, некто Дарий, человек, пользовавшийся определенным влиянием при дворе, инициировал тщательное расследование причин, побудивших Плацидию отозвать Бонифация и подтолкнувших комита Африки к открытому неповиновению императрице-матери. В силу того, что Аэций какое-то время отсутствовал в Галлии, следственной комиссии удалось убедить Плацидию выдать те его письма к ней, в которых полководец оговаривал Бонифация, и сравнить их с письмами Аэция самому Бонифацию. После того как было выявлено вероломство Аэция, Плацидия и Бонифаций уладили свою ссору.
Предательство Аэция глубоко потрясло и расстроило Бонифация. Он верил полководцу как другу, надеялся на то, что вместе им удастся восстановить былое могущество Рима на Западе. Объединив усилия мощных военных группировок, расквартированных в Италии и Африке, они, безусловно, смогли бы обуздать либо же — в случае необходимости — сокрушить варваров в Галлии и Испании, а затем и вернуть Римской империи прежние, пролегавшие у берегов Рейна и Данубия, границы. Такое римская история уже знавала: полтора века тому назад Аврелиан смог добиться подобного в обстоятельствах более чем безнадежных. Что ж, обреченно вздохнул Бонифаций, видно, этой прекрасной во всех отношениях мечте сбыться уже не суждено. Но что будет с Римом?
Августин слабо пошевелился на своем ложе, вырвав Бонифация из печальных раздумий.
— Свет тускнеет — становится темнее, гораздо темнее. Я едва тебя вижу.
Устремившись к постели, Бонифаций упал на колени и схватил Августина за руку.
— Не скрывай от меня правду, друг мой, — прошептал епископ. — Скажи мне, это — конец?
— Не конец, Аврелий, — проговорил комит, с трудом сдерживая рыдания, — блистательное начало. Скоро ты будешь с Христом и его ангелами.
Так они и оставались, держа друг друга за руки — непокорный солдат и праведный ученый, — до тех пор, пока, немногим позднее, епископ не испустил дух.
«Жаль, что моему дорогому другу суждено было уйти из жизни именно сейчас», — подумал Бонифаций, смахивая слезу. Осада города, длящаяся уже почти три месяца, вскоре будет снята; из Италии вот-вот выйдет подкрепление, должен подойти сюда и Аспар с его Восточной армией — тот самый Аспар, который помешал Аэцию усадить на западный престол Иоанна. Гейзериху и его дикарям придется отсюда убраться. Возможно, будущее Запада будет не таким уж и мрачным.
* * *
Римская армия выстроилась на небольшой возвышенности, протянувшейся к востоку от Гиппона. Войско, составленное из крепких контингентов обеих империй и дополненное остатками африканской армии Бонифация, выглядело мощным и отважным. В центре стояла пехота (некоторые из старых легионов все так же гордо демонстрировали свои орлы и знамена), ряды ее были расширены за счет германских наемников; основная же часть войска состояла из новых малочисленных подразделений, auxilia и cunei, причем последние представляли собой атакующие колонны, в задачу которых входило прорвать фронт противника. Справа и слева (то есть к северу и югу) от центра расположилась конница: Аспар с его испытанными в боях восточными солдатами — справа, итальянцы — слева. (Для полного счастья не хватало лишь галльской конницы Аэция.)
Напротив римских позиций, на холме примерно в трех километрах к югу от города, собирали свое войско вандалы. Беспорядочные толпы одетых в брюки воинов вооружены были лишь копьями и метательными дротиками, а из защитного снаряжения имели при себе только круглые щиты с железными бобышками. Некоторые — по всей видимости, богачи или вожаки кланов — носили мечи; попадались среди них и всадники, но таковых можно было пересчитать по пальцам.
Плодородные холмы, распростершиеся между готовыми сойтись в решающей схватке противниками, являли собой идиллическое зрелище. Виноградники и поля, засеянные овсом и пшеницей, дубовые и кедровые рощи — вот что окружало небольшой чистый город, в громадной гавани которого нашли пристанище оба имперских флота. Вдали, вдоль южного горизонта, растянулись казавшиеся голубыми Малые Атласские горы, предгорья которых были отмечены длинным пунктиром лесных массивов. Между двумя армиями (ближе к римлянам) протекал Себус, берега которого были усеяны деревьями и кустарниками.
Окруженный старшими офицерами, префектами леги-онов и praepositi — командирами небольших подразделений, Бонифаций обозревал место предстоящего сражения. Как на главнокомандующем объединенной группировкой войск, на нем лежала ответственность по разработке такого плана ведения боя, который гарантировал бы римлянам полную победу над зарвавшимися вандалами. Впервые за долгие месяцы полководец выглядел энергичным и излучал непоколебимую уверенность в триумфе. Как и всем варварам, вандалам недоставало умения и терпения для того, чтобы взять город в плотное кольцо и держать его в осаде на протяжении продолжительного периода времени. Да, вандалы были храбры и отважны, но при этом чрезвычайно недисциплинированны, и знали лишь одну тактику — оголтелое наступление. Удастся нам отразить их первый натиск, говорил себе Бонифаций, и победа, в принципе, уже обеспечена, так как в случае рукопашной вандалы без шлемов и лат окажутся крайне уязвимыми. Их король — вот единственный сплачивающий и направляющий это племя фактор. Бесстрашный воин и искусный правитель — как правило, функции эти редко сочетались у германских королей, — Гейзерих вселял в своих воинов благоговейное уважение, заставлявшее их слушаться своего вождя беспрекословно. И шло оно не от страха — такая эмоция вандалам, как и прочим германцам, была просто незнакома. Племя во всем повиновалось своему предводителю лишь до тех пор, пока принятые им решения приводили к победам; случись ему где-то ошибиться — и его место тут же занимал другой.
Разглядывая стоявшую на дальнем холме вражескую армию, Бонифаций чувствовал, как постепенно растет его уверенность в своей победе. Численно римляне превосходили вандалов в разы. Тянуть время — вот и все, что ему нужно было делать. Его отлично вымуштрованные войска могли держать боевой строй бесконечно долго. Германцы же, по натуре своей, были людьми совсем иного толка; уже вскоре они станут проявлять беспокойство и нетерпение, и даже Гейзерих с его железной волей не сможет их удержать. Не пройдет и пары часов, как, сорвавшись со своих позиций, они попытаются вклиниться в передние ряды римской армии.
Повернувшись к командующему восточной армией, Бонифаций улыбнулся.
— Ну, Аспар, думаю, на этот раз победа будет за нами.
— Возможно. В любом случае, нам следует быть крайне осторожными, господин. Гейзерих — тот еще хитрец. Что-то мне подсказывает, что какой-нибудь неожиданный ход он для нас наверняка уж приготовил.
Подозрения Аспара подтвердились уже через несколько минут, когда к группе офицеров подлетел на взмыленном коне один из разведчиков.
— Господин, вандалы в лесу, — тяжело дыша, он указал на небольшую сосновую рощу, растянувшуюся вдоль дальнего берега реки. — Хорошо замаскированы. Я спешился и подошел так близко, как только смог. Пересчитать их, господин, мне не удалось, но, с виду, их там не так уж и мало. Мне удалось уйти незамеченным — в этом я уверен.
Эйфория, едва не вскружившая комиту голову, мгновенно улетучилась. Если разведчик был прав, ситуация выглядела уже не столь однозначной. Если он станет придерживаться своего плана и ждать атаки германцев, то попадет между двух огней — вандалы, расположившиеся на холме, нападут спереди, а те, что в лесу, ударят с фланга. Если же он возьмет инициативу в свои руки и сам перейдет в наступление, засевшие в лесу успеют присоединиться к своим товарищам еще до того, как он сумеет их отсечь, а объединенные силы противника вполне могут навязать римлянам ожесточенный бой.
Внезапно Бонифаций почувствовал себя вконец истощенным и обессиленным. Он знал, что должен принять решение — и быстро, — но мозг его никак не хотел включаться в работу на полную мощность. Ужасное чувство вины, терзавшее полководца с тех самых пор, как призванные им на помощь вандалы расползлись по Африке, грабя и опустошая города и деревни, депрессия, накатившая на него после смерти дорогого друга, Августина, — вместе они разъедали его веру в себя, разрушали его волю. Все еще пребывая в мрачных раздумьях, Бонифаций заметил, что Аспар пытается ему что-то объяснить, и, сделав над собой усилие, обратился во внимание.
— Господин, — настойчиво повторил Аспар, — разве вы не видите? Мы можем этим воспользоваться. Разделив войско, Гейзерих допустил ошибку. Предположим, нашего разведчика вандалы не видели. Что это значит? Да то, что Гейзерих и не подозревает о том, что мы раскрыли его диспозиции. Если наша лучшая конница зайдет к залегшим в лесу вандалам с тыла, мы сможем их оттуда выкурить. Если наши парни продвинутся вдоль реки, они будут скрыты деревьями и застигнут неприятеля врасплох, а когда уж вандалы окажутся на ровной местности, наши всадники без труда их перебьют. Реки не видно из-за небольшого склона, поэтому стоящее на холме войско противника не сразу поймет, что происходит, а когда поймет, будет уже слишком поздно. А с теми мы уж как-нибудь справимся. Потеряв половину своей армии, они будут уже не в силах что-либо предпринять. — Аспар взял паузу, ожидая реакции комита. Когда же ее не последовало, он почти закричал: — Это сработает, господин, непременно сработает, только мы не должны ждать — неужели вы не понимаете? Умоляю вас, господин, отдайте приказ! — С этими словами он протянул полководцу собственный диптих — пару соединенных петлями вощеных дощечек, используемых полевыми командирами для передачи донесений.
План Аспара дерзок, прост и вполне выполним, признался себе Бонифаций. Но его смущала мысль о том, что придется оголить центр, оставив головное войско без лучших сил конницы, пусть даже и на непродолжительный период времени. Он уже открыл рот для того, чтобы подозвать к себе всадников, которые бы передали нужные указания, но так и не смог вымолвить ни слова. Страх и нерешительность сковали Бонифация, и подходящий момент был упущен.
Ошибочно приняв молчание полководца за неуважение, Аспар пришел в ярость:
— Понимаю. Раз уж я алан — а значит, тот же варвар, — то моим мнением можно и пренебречь! — Его утонченные, изысканные черты лица — а в жилах представителей его расы всегда текла персидская кровь — потемнели от гнева. — Что ж, сражайся с Гейзерихом один, римлянин. Вы стоите друг друга. — Пришпорив коня, Аспар умчался туда, где стояла восточная конница.
Оцепенев от ужаса — какой приходит в кошмарных снах, когда безопасность твоя зависит от быстроты реакции, а конечности отказываются тебе повиноваться, — Бонифаций взирал на то, как вандалы спускаются по своему холму и карабкаются на тот, где стоял римский фронт. Оглушающе брякнули мечи и копья, когда две армии сошлись лицом к лицу. Та дикость и свирепость, с которой ринулись в бой германцы, заставила римлян покачнуться и отойти на пару шагов назад. Линия их дрогнула, но выстояла, и уже через несколько секунд ряды их выровнялись вновь. Защищенные латами, дисциплинированные, превратившиеся за долгие годы муштры и тренировок в мощную, сплоченную боевую машину, римляне постепенно начали теснить вандалов назад. Германцы, сражавшиеся на римских флангах, ни в чем не уступали самим римлянам. В отличие от ненадежных федератов, целыми племенами поселившихся на территории империи в обмен на обещание защищать — если то будет необходимо — Рим под предводительством собственных вождей, германцы пополняли ряды римской армии, руководствуясь личным выбором, на правах рекрутов-добровольцев, и давали Риму лучших и самых отважных его солдат. Присягнув империи на верность, они никогда не изменяли данному слову, пусть им даже и приходилось сражаться против таких же, как и они сами, германцев.
Внезапно, когда уже казалось, что римлянам вот-вот удастся дожать противника, их правый фланг начал сыпаться на мелкие, разрозненные группки солдат — то выскочили из леса сидевшие там в засаде вандалы. Дестабилизирующая шоковая волна прошла по всему римскому войску. Сплоченные ряды распались; одни замирали в нерешительности, другие налетали на первых и уже не в состоянии были как следует держать мечи и выставлять копья. Никаких указаний от командира не поступало, и римская армия впала сначала в ступор, а затем и в самую настоящую панику. С диким боевым кличем, который, казалось, придавал им сверхчеловеческую силу, вандалы ринулись в атаку; их выставленные вперед копья зачастую пробивали даже самые прочные доспехи. Словно оставленные у огня восковые фигурки, теряли свою стройность римские ряды, один за другим. В считаные мгновения еще недавно выглядевшая крепкой и неуязвимой армия рассыпалась на части, превратившись в бегущую толпу, задавшуюся одной-единственной целью: спастись любой ценой.
Конница преуспела в этом больше. Пеший воин всегда испытывает определенную робость перед конным противником; за счет мощи и скорости большинству римских всадников, в том числе и офицеров, удалось пробиться сквозь плотные, но неорганизованные ряды вандалов. Пехотинцы были не столь удачливы. Почти все они полегли на поле боя или же попали в плен; до стен Гиппона добралось столь малое их количество, что решено было, наряду с солдатами, забрать с собой, на отплывавшие к берегам Италии суда, и простых горожан. С великой тяжестью на сердце и слезами на глазах наблюдал стоявший на палубе своего корабля Бонифаций за тем, как медленно исчезало из виду африканское побережье. Всего за несколько месяцев он умудрился проиграть два сражения, потерять цвет римских армий и богатейшую часть Западной империи.
Глава 9
Если Бог, Отец и Сын, примет эту праведную просьбу, моя молитва может снова вернуть тебя мне.
Авсоний. Письмо Павлину. 390 г.«Вилла Базилиана, Равенна, провинция Фламиния и Пицен, диоцез Италии [написал Тит в «Liber Rufinorum»]. Год консулов Басса и Антиоха, pridie сент. календ[9].
В столице вовсю судачат о Аэции — он сейчас в Галлии; строят догадки насчет того, какими будут теперь его отношения с Плацидией. Ситуация такова: из Африки вернулся Бонифаций, и вернувшись, не попал, как можно было предположить, в немилость за то, что обратился за помощью к вандалам и потерял диоцез, а даже стал своего рода триумфатором: Плацидия приветствовала его как героя, возвела в ранг патриция, сделала главнокомандующим всеми римскими армиями и одарила всевозможными почестями! Можно ли было еще недавно в такое поверить? Аэция, напротив, при дворе чернят и поносят, называют главным виновником африканского поражения и уже объявили persona non grata. Поговаривают, именно он подтолкнул Бонифация к заключению альянса с вандалами, оговорив его перед Плацидией. Так что я сейчас нахожусь в затруднительном положении: одно лишь то, что я вынужден слушать эти слухи, кажется мне предательством по отношению к Аэцию, который всегда был добр ко мне. С другой стороны, не обращать на них внимания — по крайней мере, до тех пор, пока не удостоверюсь, что они беспочвенны, — я тоже не могу: это было бы безответственно. Но вдруг эти обвинения окажутся обоснованными, что тогда? Смогу ли я, зная об этом, продолжить служение хозяину, чьи происки принесли Риму столько вреда? Возможно, обращение к моему новому Богу поможет мне определиться с тем, как жить дальше.
А пока что я занимаюсь тем, что, в соответствии с указаниями Аэция, остаюсь в нашем равеннском штабе и тщательно отслеживаю все изменения политической ситуации. По возвращении полководца из Галлии я должен представить полный отчет. Задание совсем не простое; если кто помнит, после злосчастного происшествия с курицами особой благосклонностью Плацидии я не пользуюсь. А теперь, когда еще и Аэций не в фаворе, вход во дворец для меня и вовсе заказан, так что брожу пока по рынкам и винным лавкам — собираю обрывки сплетен, которые затем приходится анализировать и оценивать.
Если же говорить о личном, то здесь новости хорошие. Я стал отцом! Недавно Клотильда родила мальчика. При крещении мы нарекли его Марком — крепкий, улыбчивый ребенок. Пока что они с матерью живут у родных Клотильды, бургундов по национальности, в той части Восточной Галлии, которую им уступил узурпатор Иоанн (законный император, Гонорий, подтвердил затем их право на проживание там своим указом). Какое-то время — по крайней мере, до тех пор, пока я не буду в состоянии приобрести небольшой домик в Италии, — Марк будет воспитываться как германец. И я этому только рад. Вырастет сильным и здоровым, научится ценить преданность и отвагу — качества, которых нынешним римлянам как раз и не хватает. Потом, со временем, приобретет и знаменитый римский лоск. Стараюсь их навещать, когда выдается свободная минута, а это бывает — точнее, было до отъезда Аэция в Галлию — не так уж и редко. Полководец, конечно, человек жесткий и сложный, но скупым его я назвать не могу.
Беспокоюсь я насчет отца. На письма мои он не отвечает, но друзья семьи стараются держать меня в курсе. Бедный упрямец Гай! Похоже, он сильно сдал, да и материальное положение сейчас, судя по всему, уже не то, что было раньше. Здесь, правда, кроме самого себя, винить ему некого. Не выражал бы так демонстративно свою языческую позицию, сделал бы вид, что служит службу в соответствии с новыми, христианскими обычаями — глядишь, и власти закрыли бы на все глаза. Нет же, принципы для него — дело чести. Вот так и вышло, что на старости лет Гая оштрафовали и лишили гражданского статуса декуриона и армейской пенсии. Живет теперь за счет великодушия друзей и доброты местных coloni. Если бы я только знал, как положить конец нашей бессмысленной ссоре!»
Мрак и прохлада царили в большом равеннском соборе, где пытался собраться с мыслями Тит. Он не отрывал глаз от большой, лишь недавно законченной мозаики, на которой возведенный на трон Христос вершил суд Божий, выявляя праведников и грешников. Казалось Титу, что Спаситель тоже смотрит на него, смотрит спокойным взглядом, полным не только любви и сострадания, но и безжалостной решимости, взглядом внушающего страх судьи. В молитве растворил перед ним Тит дверцы своего сердца, в безмолвной речи поведав о своей дилемме. Не помогло; не возникло у Тита ощущения заботливого, слушающего Присутствия. Возможно, образ на стене, сложенный из крошечных кусочков стекла и камня, был всего лишь образом. Возможно, в конце концов, не воскрес еще Христос, оставаясь лишь грудой рассыпавшихся костей, покоившихся в забытом гробу в Палестине. Тит продолжал молиться, но появившееся у него в какой-то момент чувство, что молитва напрасна, уже не покидало его.
Человека в плаще с капюшоном, некоторое время наблюдавшего за ним из-за колонны, а затем бесшумно выскользнувшего из храма, он не заметил.
Опустошенным и унылым покидал Тит собор. Увидев, какими длинными стали тени, он удивился; попытки обратиться к Богу заняли гораздо больше времени, чем он планировал. «Следует поторапливаться, — подумал юноша, — городские ворота скоро закроются, а лошадь моя осталась в платной конюшне, снаружи, у крепостной стены». И тут, уже ускорив шаг, Тит заметил одноногого нищего, сидевшего на каменной мостовой у больших двойных дверей собора; за спиной его виднелся грубо вырезанный из дерева костыль, на земле стояли оловянная миска и вощеная табличка, на которой было нацарапано: «Проксимон, солдат, потерял ногу в африканскую кампанию».
Тит всегда с симпатией относился к бывшим солдатам, после службы попадавшим, как правило, в затруднительное положение — нередко случалось, что коррумпированные чиновники тянули с выплатой назначенных им пенсий, а то и вовсе пытались их прикарманить.
— Какие войска? — поинтересовался он.
— Африканская конница, — гордо ответил нищий, — а перед этим — Двадцатый легион; раньше он назывался «Валерия Виктрикс» и стоял в Кастра Дева, в Британии, на протяжении почти сорока лет. — Он указал на обрубок ноги. — Недавно отрезали, после битвы с вандалами. Вот уж бойня была — всем бойням бойня.
Позабыв о времени, Тит принялся расспрашивать инвалида о деталях — вдруг удастся узнать что-то новое.
— Все шло неплохо, пока вандалы не атаковали нас с фланга. И тут наш полководец, комит Бонифаций, словно застыл на месте. Вот так, без приказов, никто не знал, что делать — начался хаос. В конце мы дрогнули, побежали, и вандалы давили нас, как крыс. То, что так все случилось, меня не удивило. Бонифаций, бедняга, был сам не свой после того, как из Испании пришли вандалы — не мог себе простить, что обратился к ним за помощью. Видели бы вы его раньше, господин! Настоящий солдат! Свевы, готы, мавры — кого только под его руководством мы не били!
— Говоришь, он обратился к вандалам за помощью? Против кого же он хотел выступить?
Ветеран недоверчиво покачал головой.
— В какой же империи вы живете, господин? Известное дело, против кого, — против имперской римской армии, конечно. Я думал, все об этом знают. Но Бонифация тут винить не в чем. Если кто и виноват, то это — полководец Аэций, настроивший императрицу против Бонифация. Вот она и прислала за ним, потребовала, чтобы возвращался, а он покидать Африку не пожелал. Не могу сказать, что виню его за это.
У Тита голова пошла кругом. Придворным слухам он старался не доверять; как правило, на девять десятых то всегда была пустая болтовня. К рассказам же солдат он относился совершенно иначе — возможно потому, что в них звучали реальные факты: вознаграждение, провизии, невзгоды и лишения, смерть. Словам Проксимона, прямым и безжалостным, он склонен был верить.
Тит полез в мешочек, где хранил монеты, — за подаянием. У него все еще оставалась треть той суммы, которую Аэций вручил ему на покрытие расходов его африканской миссии. Когда он попытался вернуть полководцу излишек, Аэций лишь рассмеялся: «Ради бога, оставь себе. Ты слишком честен, Тит. Запомни первое правило пребывания в армии или на гражданской службе: ''Всегда заявляй двойные требования и никогда не возвращай того, на что не имеешь права''». Но Тит так и не смог потратить деньги, которые, по его мнению, достались ему незаслуженно, поэтому изрядная толика монет все еще звенела у него за пазухой. Сейчас же юноша чувствовал, что имеет полное право расстаться хотя бы с малой их долей.
— Да благословит вас Господь, господин. Вполне хватило бы нескольких nummi, — произнес потрясенный Проксимон, когда Тит протянул ему solidus — двухмесячный заработок мелкого ремесленника.
— Тебе не за что меня благодарить, Проксимон. Ты и не знаешь, как помог мне. — Пожелав ветерану всего хорошего, Тит нырнул в узкую аллею — то был кратчайший путь до Авреанских ворот.
Не успел он сделать и нескольких шагов, как почувствовал, как что-то обхватило его шею и в ту же секунду утянуло в вечернюю мглу. Руками Тит нащупал толстую веревку, сжимавшую его горло все сильнее и сильнее; в глазах у него помутилось, и он начал задыхаться. Попытался применить пару-тройку приемов из тех, что разучивал в детстве с бойцом-невольником — не помогло; душивший его незнакомец был силен и крепок. «Все, я — труп, — в отчаянии подумал Тит, — мне с ним никогда не справиться».
Вдруг он услышал, как что-то просвистело в воздухе, и — о чудо! — давление на горло ослабло. Закашлявшись, Тит упал на колени. Обернувшись, он увидел прислонившегося к стене Проксимона; на мостовой, между ними, неестественно скрючившись, лежал человек в темном плаще, из виска у него тонкой струйкой сочилась кровь.
— Мертв, господин, — Проксимон помахал костылем, который держал за основание. — Если как следует раскрутить, бьет не хуже кузнечного молота. Хорошо, я заметил, что вы пошли этой дорогой. Когда вдруг вас не стало видно, заподозрил неладное и решил проверить.
— Слава богу, что ты здесь оказался, — произнес Тит, потирая шею. Ноги его еще держали плохо, но самое главное — он был жив.
— Воришка. Наверное, видел, как вы доставали деньги. Сами знаете, какие сейчас времена — всегда нужно быть начеку.
«Нет, — подумал Тит, — не воришка. Это Плацидия, горевшая желанием поквитаться за унижение сына, послала одного из своих подручных по моему следу, приказав при первой же возможности убить. Пока Аэций в Галлии, мне следует быть как никогда бдительным».
Удостоверившись в том, что свидетелей убийства не было, они привязали к трупу громадный булыжник, а затем сбросили тело в один из многочисленных равеннских каналов. Отдав же своему спасителю мешочек с монетами, Тит решил и другую мучившую его проблему. Теперь старому солдату больше не нужно было побираться; на полученные деньги он вполне мог открыть собственное дело. «Не самое большое вознаграждение за спасенную жизнь», — оборвал Тит бросившегося его благодарить Проксимона.
У ворот он оказался перед самым их закрытием. Пустив лошадь быстрым галопом по дороге, ведшей к вилле Аэция, Тит задумался о происшедшем с ним за день. Два обстоятельства терзали его душу. Что то было — случай или же судьба, — то, что позволило состояться его встрече с Проксимоном, встрече, которая подтвердила имевшиеся у него подозрения в отношении Аэция и закончилась его чудесным спасением? И потом, легион, в котором служил старый вояка, назывался «Валерия Виктрикс». Валерия — Валерий: такое имя носил род, из которого происходил его отец. Следует ли из этого, что он должен обратиться за советом о том, как ему быть дальше, к отцу? Многовековая языческая семейная традиция — в действительности всего лишь вежливый скептицизм, помноженный на стоические принципы, — давила на Тита, советуя отбросить столь абсурдные мысли. И все же часть его, новая христианская часть, настаивала на том, что встреча с Проксимоном произошла совсем не случайно.
Может быть, его молитвы в соборе не остались без ответа и Господь все-таки соизволил подать ему знак?
Глава 10
Твое [Рима] могущество ощущается даже на самом дальнем краю света.
Рутилий Намациан. О моем возвращении. 416 г.«Написано на вилле Фортуната, провинция Эмилия, диоцез Италии, в год консулов Басса и Антиоха, сент. календы[10]. Гай Валерий Руфин, некогда легат Первого легиона, бывший декурион Тремерата, приветствует своего друга Магна Аниция Феликса, некогда трибуна Первого легиона, сенатора.
Магн, дорогой мой старый друг, потеряв много лет назад связь с тобой, рад был услышать (от общих знакомых), что ты пребываешь в добром здравии и проживаешь в своем родовом имении в Аквитании — теперь, увы, занятой визиготами. Прими по этому поводу мои соболезнования: жить в одной провинции со смердящими дикарями вряд ли приятно. Ты обязательно должен приехать ко мне в гости, хотя, боюсь, мое гостеприимство покажется тебе слегка банальным — я сейчас испытываю некоторые материальные затруднения. Не буду утомлять тебя подробностями; скажу лишь, что власти не сошлись со мной кое в каких вопросах, в результате чего я для них теперь — persona non grata. Тем не менее, погреб мой еще не совсем опустел; посидели бы, вспомнили бы былые кампании, а чаша-другая фалернского освежила бы нашу память.
Помнишь, как тридцать семь лет тому назад, в один из первых сентябрьских вечеров, гадали мы, сидя в палатке у реки Фригид, отзовет ли Феодосий войска?..»
* * *
Обходя получивших передышку легионеров, подбадривая то одного, то другого раненого солдата, Гай Валерий Руфин, легат Первого легиона, внимательно наблюдал за тем, как вдали, в нижней части долины, располагалась лагерем на ночь армия Арбогаста. Вдоль северного горизонта тянулась цепочка низких холмов, предвестников Юлианских Альп; белой лентой сквозь них прорывалась дорога на Аквинк. На стороне противника наряды солдат рыли длинные траншеи, по которым уносили с поля боя тела убитых, коими была усыпана вся долина. Феодосий тоже потерял немало бойцов; в основном то были воины Алариха, что лишний раз подтверждало обоснованность претензий готов, открыто выражавших недовольство тем, что, когда доходило до настоящей битвы, римляне предпочитали проливать кровь своих союзников-федератов, нежели собственную.
Арбогаст, командующий войсками Западной империи, франк по национальности, предательски убил юного западного императора Валентиниана II и усадил на вакантный трон своего друга Евгения. Эта последняя, на тот момент, из казавшейся бесконечной серии попыток узурпации власти, сотрясла империю до основания. Но претензии германца (желавшего править через христианина Евгения) на власть — тот, в чьих жилах текла тевтонская кровь, не мог примерить пурпур императора — поставил под вопрос восточный император Феодосий. Соперничающие армии сошлись лицом к лицу у реки Фригид, там, где, обогнув холмы, выходит к Аквилее дорога из Паннонии.
Первые дни сражения выдались чрезвычайно кровавыми, но победителя не выявили, хотя перевес, пожалуй, был на стороне Арбогаста — даже несмотря на то, что один из его полководцев дезертировал к Феодосию.
— Плохо дело, господин, — заметил один из находившихся в подчинении Гая офицеров, молодой трибун, происходивший из знатного римского рода Анициев. — На месте Феодосия я бы, под покровом ночи, отвел войска для перегруппировки к следующей битве.
— Здравая мысль, — неохотно признал Гай. — Только ничего такой отход не изменит. Пока жив этот змееныш Арбогаст… — Он не договорил, внезапно насторожившись. — Чувствуешь, Магн — дуновение ветра?
— Похоже на то, господин… Точно — холодный бриз, со стороны холмов.
— Это bora! — вскричал Гай.
— Bora, господин?
— Сезонный северный ветер, который налетает с ужасной силой, и как раз в это время года, — разрушает строения, с корнем вырывает деревья; градины — с воробьиные яйца. По опыту знаю: попали под него шесть лет назад, и именно в этих местах — когда шли свергать узурпатора Максима… Завтра будет настоящий ураган, и дуть он будет прямо в лицо противнику. Скачи к Феодосию, Магн, и передай императору то, что я тебе поведал.
Переварив полученную информацию, Феодосий, уже собиравшийся командовать отступление, остался на прежних позициях. Все случилось так, как и предсказывал Гай Валерий, и на следующий день Феодосий торжествовал победу. Евгений был взят в плен и впоследствии казнен, Арбогаст счел за благо покончить жизнь самоубийством, Феодосий взошел на престол воссоединенной империи. А Гай Валерий Руфин обзавелся неофициальным agnomen, прозвищем, данным ему офицерами Первого легиона: «Боран».
* * *
«…По наивности своей, Магн, мы полагали, что великая победа Феодосия ознаменует собой новую эру, эру мира, стабильности и процветания. Как же мы ошибались! Уже на следующий год могущественного императора не стало, а с его смертью рассыпались и наши надежды, так как Западная империя дрогнула под бешеным натиском варваров: в ужасных Пунических войнах мы потеряли половину всех наших армий; полчища германских племен обосновались на нашей земле, перейдя Рейн; а теперь еще и Африка оказалась в руках вандалов.
Но и эти беды мы переживем. Рим еще рано хоронить! Уверен, нас ждут еще более великие победы. Говорит ведь о нем Рутилий:
Забыв тебя, никто вовек не обретет покоя;
Превозносить тебя не устаю и в пасмурные дни.
Числом своим триумфы Рима не уступают
Звезд россыпи на лунном небе[11].
Я разделяю убеждение Симмаха, что и дальше наша империя должна стремиться к завоеванию новых территорий, так как у меня нет сомнений в том, что именно Риму предопределено судьбой дать остальному миру возможность разделить с нами блага цивилизации. Но для того чтобы ordo renascendi — возрождение Рима — состоялось, должны произойти две вещи. Запад должен очиститься от германцев, этих невежественных варваров, которые никогда не смогут прижиться в Риме. И, второе, мы должны вернуть культ прежних богов. Мы не должны забывать, что все нынешние беды Рима начались тогда, когда были закрыты храмы, а из сената убрали Алтарь Победы. Кроме того, принуждая людей думать, в первую очередь о загробной жизни, христианство заставляет их забыть главное свое обязательство — защищать и оберегать империю.
С божьей помощью мне удалось сохранить мою библиотеку, и я еще пока не столь стеснен в средствах, чтобы не купить, при случае, понравившуюся книгу. Предпочитаю старых авторов (неудивительно, наверное, подумал ты, читая эти строки!): Цезаря, Саллюстия, Тацита et. al., но не отрицаю, что и сегодня есть такие, с кем стоит ознакомиться: Авсоний, Аммиан Марцеллин, Клавдий Клавдиан, Рутилий Намациан (об уныло разглагольствующих Иерониме, Августине и прочей христианской братии мне сказать нечего.)
Вот как, Магн, друг мой старинный, я провожу, если не считать ежедневные ковыряния в огороде, свой otium — так, наверное, жил бы в наши дни обнищавший Гораций. Если бы ты только знал, как не хватает присутствия рядом родственной души! Передаю сие послание с другом, у которого есть кое-какие дела в Арелате. Он великодушно предложил завезти его тебе в Толозу (хотя для этого ему и придется преодолеть несколько сотен лишних миль[12]), предположив, что римлянина визиготы задерживать не станут, и, надеюсь, вернется уже с твоим ответом. Прощай».
* * *
«Написано в Толозе, визиготском поселении в Аквитании, в год консулов Басса и Антиоха, V окт. календы. Магн Аниций Феликс, некогда трибун Первого легиона, сенатор приветствует Гая Валерия Руфина “Борана”, некогда легата Первого легиона, декуриона.
Честно признаюсь: твое письмо стало для меня большой неожиданностью, но неожиданностью приятной, хотя я и сильно расстроился, узнав, что Фортуна тебе не благоволит. Какими бы ни были твои разногласия с властями, не могу поверить, что они могли подвергнуть гонениям человека, столь много сделавшего для нашего государства. У меня — хоть и проживаю я сейчас вне сферы римской юрисдикции — осталось много друзей в сенате (членом которого я по-прежнему номинально являюсь), и я охотно напишу им от твоего лица. Твой старый трибун почтет за честь протянуть тебе руку помощи в столь нелегкое для тебя время.
Здесь все обстоит не так страшно, как ты это себе представляешь. Не успел я, уйдя с армейской службы, поселиться в родовом имении в Аквитании, как эти территории захватили готы. Тем более приятно я был удивлен, обнаружив, что новые хозяева — далеко не те неотесанные дикари, какими мы, римские галлы, их себе представляли; в большинстве случаев это люди обходительные и справедливые во всех своих деловых с нами отношениях. Что касается лично меня, то за реквизированную у меня виллу я получил от вселившегося в нее гота, человека, по их понятиям, знатного и состоятельного, вполне разумную сумму, хотя он мог выгнать меня из дома вообще без компенсации. Полагаю, за то довольно уже длительное время, что они живут на территории Римской империи, получив к тому же гарантированное на это право, они вполне здесь ассимилировались. Многие из их вождей носят римские одежды; они переняли наши манеры и хотят, чтобы их сыновья изучали латынь. Мне это очень подходит: обманным путем я втерся в доверие к Теодориду и теперь вбиваю amo, amas, amat в белокурые головы юных придворных готов.
Скажу больше: король Теодорид крайне ко мне благоволит. Когда король обнаружил, что из всего его окружения лишь я один умею играть в tabula (которую он обожает), радость его не знала предела. Так что теперь, по нескольку раз в неделю, мы с ним обязательно садимся за стол — я всегда проявляю осмотрительность и проигрываю. Этой хитрости, Гай Валерий, я научился у тебя, человека, в совершенстве владевшего искусством обращения с людьми и лошадьми. “Всегда води дружбу с вожаком”, — любил повторять ты. Дельный совет. А на досуге подумай над тем, что мне как-то сказал этот “варвар”, Теодорид: “Способный гот желает во всем походить на римлянина, и только бедный римлянин хочет быть похожим на гота”. Принимая во внимание все обстоятельства, скажу откровенно: живу я не так уж и плохо. По крайней мере, намного лучше большинства жителей Римской Галлии, доведенных сборщиками налогов до полной нищеты.
Ты бы удивился, увидев каким “римским” все осталось в Аквитании. Когда прошел первый шок от осознания того, что теперь мы должны привыкать к чужим правилам, возбуждение улеглось, и теперь римляне и готы живут в относительной гармонии. И это несмотря на то, что римляне, как правило, предпочитают смотреть свысока на своих “гостей”, необразованных, по их мнению, хамов и невежд. Готы, которые составляют лишь малую часть от общего населения, живут по своим собственным законам, позволяя нам придерживаться наших. Торговля как шла, так и идет, единственно — в меньших объемах; мозаичные мастерские процветают, гончары из Бурдигалы — так те, наверное, просто озолотились (к сожалению), — все рынки завалены их отвратительными серо-оранжевыми горшками.
Несмотря на то что многие, как правило, небольшие имения — в том числе, увы, и мое — были конфискованы, крупные, укрепленные виллы готы не тронули (и поступили мудро). Видел бы ты Бург, огромное поместье Понтия Леонтия, главы одной из знатнейших аквитанских фамилий. Купальни, собственные водные источники, великолепная мозаика, даже своя часовня с фресками, на которых изображены сцены из Книги Бытия. Всяк в Аквитании, кто считает себя важным — в том числе и готы, — на все бы пошел ради возможности побывать в гостях у Леонтия. Так что видишь, Гай, добрый старый римский снобизм жив — да как жив! — и здесь.
Ну а теперь, мой старый и глубокоуважаемый легат, позволь мне выразить свое мнение по поводу некоторых вопросов, поднятых тобой в письме. Отлично понимаю, что, сказав то, что я собираюсь сказать, я рискую навсегда разрушить ту amicitia — какая бы она ни была, — которая между нами существует. Движут мной лишь глубокое уважение, которое я к тебе питаю, и забота о твоем благополучии. Если это звучит бесцеремонно из уст человека, служившего когда-то у тебя в подчинении, приношу свои извинения. Просто помню твой совет молодым трибунам, докладывающим о боевой ситуации: “Говорите то, что есть, а не то, что, как вы думаете, я хотел бы услышать”. Этим принципом я и постараюсь руководствоваться.
Первое. Что касается твоих чувств по отношению к германцам и твоих слов о том, что мы должны от них избавиться. Как ты себе представляешь проведение подобной политики — даже если предположить, что она желательна? Репатриировать их? Истребить? Очевидно ведь, что римское правительство на Западе слишком слабо для того, чтобы попытаться привести в исполнение любое из этих “решений”. Германцы пришли сюда для того, чтобы здесь остаться, и Риму лучше с этим примириться. Правильно будем с ними обходиться — империи будет только польза. Да, им не хватает утонченности манер, изысканности вкуса, зато они, за некоторыми исключениями, храбры и благородны; они восхищаются Romanitas и, если помочь им ассимилироваться, со временем — в этом я убежден — превратятся в образцовых римских граждан. А как ведет себя Рим по отношению к ним? Враждебно и оскорбительно. Браки между римлянами и германками запрещены; ношение мехов и брюк в Риме объявлено противозаконным; германцев считают еретиками только потому, что их арианская форма христианства немного отличается от нашей. Глупо и недальновидно все это. Сейчас они хотят лишь одного — жить с нами в дружбе и согласии; мы же, при таком своем к ним отношении, добьемся того, что они станут опасными врагами. Я знаю, что говорю — все-таки живу среди германцев уже почти тринадцать лет.
Ты хочешь, чтобы Рим вернулся к старым богам, намекая на то, что отказавшись от них, мы навлекли их гнев, и набеги варваров — наказание нам за отступничество. Если это так, почему же они пощадили Восточную империю, где христиан, пожалуй, еще больше, чем на Западе? Как бы то ни было, пытаться возродить Пантеон уже поздно. Ты что, серьезно думаешь, что кто-то верит в Юпитера, Юнону и прочих? Помнишь, что вышло у Юлиана семьдесят лет тому назад? Правильно, ничего. Какова вероятность того, что что-то получится сейчас?
Ты говоришь, что веришь в возрождение Рима. Как бы мне хотелось, чтобы ты оказался прав! Но произойдет это лишь в том случае, если люди поймут для себя, откуда идут все их беды, и, вместо того чтобы искать от них спасения в утешительных иллюзиях, начнут предпринимать радикальные шаги, которые помогут справиться с этими невзгодами раз и навсегда. Тот, кто думает иначе, обманывает самого себя и уже за это заслуживает порицания. Что касается твоего заявления о том, что Риму следует подумать о присоединении новых территорий, в то время как мы и свои-то удержать не можем!.. Только тактичность, Гай, не позволяет мне высказать то, что я думаю… Скажу лишь, что такое убеждение тебя недостойно.
Ну вот и все — полагаю, свою позицию я выразил предельно четко. Боюсь только, что, объяснившись, я мог смертельно обидеть того, добрые отношения с кем значат для меня очень много.
Спасибо за приглашение. Если, после прочтения моего письма, ты по-прежнему рад будешь видеть меня у себя в гостях, ничто не доставит твоему бывшему трибуну большего удовольствия, чем поездка на виллу Фортуната. Было бы неплохо поделиться воспоминаниями о битве у Фригида. Кстати, фалернское я не пил уже, наверное, тысячу лет. Здесь, увы, из напитков — лишь германское пиво да массильский уксус. Прощай.
Посылаю письмо с тем же человеком, что доставил твое».
Глава 11
На все языческие обычаи, как публичные, так и частные, налагается запрет.
Указ Феодосия I Флавия. 391 г.Остановив лошадь у виллы Фортуната, Тит испытал самое настоящее потрясение. Входные ворота болтались на одной петле, почти всю растительность на полях задушили сорняки. Медленно ведя коня по поросшей травой тропинке, Тит заметил вдали маленькую фигуру человека, склонившегося над плугом, который тянули за собой два мула. Привязав лошадь к дереву, Тит направился к пахарю. На вид тому было лет восемьдесят; одет он был в грязную, рваную тунику, из-под которой выглядывали тощие ноги. Плуг останавливался всякий раз, как натыкался на камень, и старику приходилось нагибаться и устранять помеху. Посадка его головы показалась Титу смутно знакомой… То был его отец — как и Цинциннат много веков назад, Гай сам вспахивал свою землю.
Тит подошел к выбившемуся из сил старику, мягко отнял от плуга его испещренные синими венами, избитые в кровь руки. Схватившись за валун, рывком вытащил его из земли.
Гай — щеки его покрывала трехдневная щетина — уставился на сына водянистыми глазами.
— Тит! — воскликнул он слабым голосом. — Я… я надеялся, что ты приедешь. Но…
— Но ты был слишком горд для того, чтобы просить меня об этом, — закончил за отца Тит. Сердце его, казалось, вот-вот готово было вырваться из груди. — Ох, отец, что мне с тобой делать? Иди же сюда. — Он протянул руки навстречу Гаю, и отец и сын крепко обнялись.
Когда они наконец отступили друг от друга на пару шагов, в глазах каждого предательски блестели слезы.
— Тебе приходится самому ходить за мулами, — к горлу Тита подкатил комок. — Дай-ка я встану за рассоху; закончим борозду и пойдем домой. Мне о многом с тобой нужно переговорить.
* * *
— …. если так империя вознаграждает верных ее сынов, значит, что-то подгнило в сердце Рима, — сказал Руфин-старший. Рассказывая о невзгодах и лишениях, которые ему пришлось претерпеть со времени их последней встречи — а состоялась она почти восемь лет тому назад, — Гай Валерий лишь подтвердил все то, что Тит слышал от друзей семьи. Со смешанным чувством гнева и сожаления обвел он взглядом хорошо знакомый tablinum: свитки покрылись толстым слоем пыли, углы комнаты заросли паутиной. Слуг отец вынужден был продать, и всем домашним хозяйством теперь занималась одна-единственная вольноотпущенница. В столь стесненных обстоятельствах Гай вынужден был жить «благодаря» преследованиям недалеких местных чиновников, в частности — епископа и городского префекта.
— Я много размышлял над тем, что ты говорил о германцах, — продолжал Гай, — и решил, что, возможно, какое-то рациональное зерно в твоих словах и имеется. Похоже, они действительно обладают теми добродетелями, что были свойственны нашим предкам и которых так недостает большинству современных римлян. Как тебе, должно быть, известно, я по-прежнему веду переписку с узким кругом друзей из той курии, к которой и сам когда-то принадлежал. Один из них живет в Аквитании, той части Галлии, в которой поселились визиготы. Так вот, они его не выгнали, как можно было бы предположить, из дома без компенсации — нет: гот, занявший его виллу, выплатил моему товарищу немалую сумму денег. Многие бы из римлян поступили так же в схожих обстоятельствах? И его случай, по всей видимости, отнюдь не единственный в своем роде. Наверное, его бог, Христос, которому и ты теперь поклоняешься, заслуживает большего почитания, чем все прежние римские боги. — Тут Гай ненадолго замолчал. Впервые на памяти Тита его отец выглядел таким смущенным. — А теперь, — продолжил Руфин-старший, — касательно твоей женитьбы на Клотильде: если еще не очень поздно, прими благословение и извинения глупого старика.
— Охотно, отец, — ответил Тит, ощутив прилив огромного облегчения и радости. — Вот только глупцом тебя я совсем не считаю, так что и ты себя таковым, пожалуйста, не называй. Вскоре, надеюсь, ты и сам сможешь увидеть своего внука.
— Выпьем за это, сынок. Если б ты только знал, как я этого желаю. — С этими словами старик наполнил их чаши фалернским, распечатав последнюю остававшуюся в его погребе амфору. — А насчет Аэция я тебе вот что скажу. — В голосе Гая зазвучали прежние стальные нотки, когда он встретился взглядом с сыном. — Заканчивай-ка свою ему службу. Из самых низменных побуждений он предал Рим, причинив империи непоправимый вред. Ты переживаешь, что, уйдя от него, нарушишь свое обещание? Не думай об этом: таким, кто поступает, как он, ты и не должен хранить верность. Ты должен быть предан Риму, а не человеку, стремящемуся к ослаблению нашего великого государства. Если же все-таки желаешь кому-то служить, то пусть это будет Бонифаций.
— Но Бонифаций позвал в империю вандалов. Несомненно…
— Да, и то была его огромная ошибка, — оборвал Тита отец. — Но он — человек благородный, и, ко всему прочему, желает все исправить. Когда-то, да будет тебе известно, он служил под моим началом — будучи еще совсем юным трибуном — и по праву считался одним из храбрейших и честнейших офицеров. Полагаю, если кому и по силам спасти Рим в это кризисное время, то лишь ему одному.
* * *
Скача к Тремерату, на базарах которого продавалась вся выращенная на вилле Фортуната продукция, Тит перебирал в голове предпринятые им в последние дни меры, направленные для наведения порядка в имении. Созвав общее собрание арендаторов земельных участков, coloni, он озвучил на нем радикальное предложение, предварительно обсужденное и согласованное с отцом. Заключалось оно в следующем: почему бы всем не объединиться и не начать вести хозяйство на египетский манер, — тогда бы каждый из совладельцев, в том числе и Гай, получал бы равную долю прибыли, а часть заработанных средств вкладывалась бы в общее дело. (Прежде, наняв нескольких coloni, Тит полностью отчистил и подновил имение, в том числе и подземную печь для отопления комнат, что оказалось занятием не из приятных.) План его был встречен с энтузиазмом, и, после выбора conductor, проще говоря — смотрящего, принят официально.
Теперь же, думал Тит, въезжая в город, самое время поквитаться с епископом. Тремерат, хотя и не считался городом в обычном понимании этого слова, имел, как и многие прочие небольшие поселения, собственную епархию. Во главе ее стоял епископ Пертинакс, не пользовавшийся уважением большинства curiales, или наиболее достопочтенных граждан Тремерата, но, тем не менее, поставленный на это место епископом Медиолана в последние годы правления императора Гонория. Согласно заведенному обычаю — очень неудачному, — получив назначение, тот или иной епископ уже не мог быть переведен в другую епархию, поэтому жители Тремерата вынуждены были терпеть своего крайне непопулярного епископа. Пертинакс же, оказавшись человеком честолюбивым и энергичным, тотчас же решил взять под полный свой контроль это небольшое селение, которое, судя по всему, полагал глухим захолустьем. Озаботившись непременным проведением в жизнь последних реформ Феодосия, епископ счел своим призванием абсолютное искоренение язычества во всех его проявлениях и демонстрировал в этом излишнюю старательность — во многом, наверное, подумал Тит, из-за того, что считал свою карьеру несостоявшейся.
Предпринятая Пертинаксом кампания привела к тому, что все языческие обычаи — даже столь безобидные с виду поступки, как подношения старым богам, воскурение фимиама или украшение гирляндами — быстро исчезли; по крайней мере, люди перестали практиковать их в открытую. Все, за исключением Гая, на которого и пал гнев епископа. Привлек же Руфина-старшего к ответственности перед законом префект, добродушный неженка, когда-то называвший себя другом Гая, но вмиг забывший о добропорядочности, едва речь зашла о сохранности его собственной спокойной жизни.
Долгий стук Тита в дверь сторожевого домика, пристроенного к дворцу епископа, не остался неуслышанным — не прошло и пары минут, как из него выскочил коренастый и мускулистый служка.
— Вам назначено? — спросил он после того, как Тит объяснил, что хотел бы повидаться с епископом.
— Просто скажите ему, что его хочет видеть сын легата Руфина.
— Сначала следует договориться о встрече, — с этими словами привратник попытался закрыть ворота.
Выкинув руку вперед, Тит схватил слугу за локоть и сильно на него надавил. От боли у привратника приоткрылся рот, лицо его побелело.
Оттолкнув его в сторону, Тит устремился по длинной галерее в направлении атрия; за ним, протестуя, семенил слуга. Донесшийся из-за закрытой двери громкий голос заставил Тита ускорить шаги:
— … я б на твоем месте поставил свечку перед образом Сераписа. — Епископ говорил резко и отрывисто. — На сей раз ты отделался легким испугом. Продолжишь в том же духе — закончишь жизнь за решеткой.
Тит ворвался в комнату. Перед сидевшим за массивным дубовым столом богато одетым священнослужителем стоял, понурив голову, пообтрепавшийся горожанин — судя по покрытой опилками тунике, плотник.
— Я пытался его остановить, ваша светлость, — промямлил привратник, — но он… — Обернувшись, Тит наградил слугу столь грозным взглядом, что тот счел за благо замолчать.
— Вон отсюда, — прошипел Тит. — Боюсь, вам тоже придется удалиться, — обратился он к ремесленнику. С округлившимися от изумления глазами тот выскочил за дверь вслед за привратником.
— Да что вы себе позволяете! — вскричал епископ; лицо его покраснело от гнева. — Будьте любезны объяснить причину столь возмутительного вторжения!
Пертинакс совсем не походил на того худощавого аскета с горящими глазами, коим представлял себе епископа Тит. То был полный, средних лет мужчина, одетый скорее на светский римский манер, нежели в простые церковные одежды.
— Знаете Гая Валерия Руфина, бывшего легата Первого легиона? Я — его сын.
— Если желаете переговорить со мной, договоритесь о встрече с моим нотарием. А теперь я просил бы вас уйти.
— Уйду, когда сочту это нужным, ты, жирный кусок сала, — пророкотал Тит. Шагнув вперед, он притянул к себе епископа за край дорогого далматика. — И произойдет это не ранее, чем ты ответишь на мои вопросы. Благодаря тебе мой отец вынужден жить в нищете. Я хочу, чтобы ты объяснил мне, в чем он провинился? — С этими словами Тит разжал пальцы, и епископ шумно опустился на стул.
Пертинакс нервно облизал губы — по всей видимости, его собеседник был настроен крайне решительно.
— Он… он сам во всем виноват. Я лишь исполнил свой долг — проследил за тем, как соблюдается закон. — Говоря это, епископ попытался дотянуться своей толстой рукой до установленного на краю стола колокольчика, но, заметив, что гость внимательно следит за его манипуляциями, предпочел отказаться от своих намерений.
— Так вот в чем заключается твой долг? В преследовании беззащитного старика за поклонение старым богам? Это что — страшное преступление?
— Указ Августа Феодосия Первого, принятый двадцать четвертого февраля в тринадцатый год его правления, не имеет двойного прочтения. «На все языческие обычаи, как публичные, так и частные, налагается запрет». Что еще мне оставалось делать?
— Проявить хоть немного человечности и сострадания, вот что. Говорится же в Библии, что Иисусом двигало сострадание к людям, потому что были они подобны овцам, не имевшим пастыря. Хорош пастырь! Если в чем и виновен мой отец, то лишь в том, что не пожелал идти на поводу у мелких бюрократов. А тебе это не понравилось — верно? И ты решил преподать ему урок?
— Нарушители закона должны быть наказаны.
— От таких, как ты, меня тошнит! Прикрываетесь письменами для того, чтобы оправдать преследование тех, кто не в силах дать сдачи! Гай Валерий стоит дюжины тебе подобных. Он спасал Италию еще тогда, когда твой педагог за руку водил тебя в школу.
Тит оглядел богато обставленную, полную церковной утвари и дорогой металлической посуды комнату. Взгляд его остановился на прекрасной порфирной миниатюрной группе, на которой был изображен Орфей, играющий на лире для льва и волка.
— Не тронь! — в ужасе закричал епископ. — Она бесценна!
— А вещица-то языческая, — ответил Тит. — Кому как не тебе знать об этом. Хоп! — И миниатюра вдребезги разбилась об украшенный мозаикой пол. Тит же уже подходил к выстроившемуся на маленьком столике столовому серебру. — Так-так! Нехорошо! — изобразил он мнимый испуг, внимательно присмотревшись к одному из кубков. — Гляди-ка: Диана со своим луком, а вот и Аполлон. А это, должно быть, Венера? А это еще кто? Неужели прячущийся в кустах Купидон? — Зажав кубок в руке, Тит неодобрительно покачал головой. — Не стоило их здесь держать. — Не обращая никакого внимания на мольбы едва не плачущего Пертинакса, он продолжил обход комнаты, круша кубком резные фигурки, бросая на пол золотую и серебряную посуду — все, что хоть как-то несло в себе языческую мысль.
Закончив осмотр помещения, Тит подошел к укрывшемуся за столом Пертинаксу.
— Хорошо чувствовать себя хозяином положения, не правда ли? — Тит угрожающе склонился над съежившимся епископом. — А теперь слушай меня внимательно, жирный лицемер. Отныне ты оставишь моего отца в покое. Если я когда-нибудь узнаю, что ты причинил ему хоть малейшее неудобство, я вернусь, обещаю. И тогда вот это, — он обвел глазами разгромленную комнату, — покажется тебе лишь легкой забавой, вроде игры в harpastum, столь любимой посетителями терм. Ты все понял?
Епископ кивнул.
— Отлично. Рад, что нам в конце концов удалось достичь взаимопонимания. — В качестве прощального жеста Тит вылил на голову епископа содержимое стоявшего на столе кувшина и, круто повернувшись, вышел из комнаты.
В атрии он столкнулся с кучкой вооруженных палками слуг. Что-то, однако, во взгляде незнакомца и его манере держаться заставило их посторониться, и Тит покинул дворец без приключений.
Возвращаясь на отцовскую виллу, он, все же, уже не чувствовал прежнего воодушевления. Мысль о том, что теперь его ждут серьезные неприятности, не давала Титу покоя. Если он послушается совета отца касательно Аэция — а он уже решил, что так и сделает, — то лишится протекции самого влиятельного человека в Западной империи. Вдобавок к этому он и так уже сумел настроить против себя императрицу. А ведь вскоре к ней должен присоединиться папа Целестин, чьим благосклонным влиянием, по слухам, пользуется Пертинакс. Ничего, Давиду удалось победить Голиафа при помощи одной лишь пращи, попытался успокоить себя Тит.
Глава 12
Никогда не расценивай как полезное тебе нечто такое, что вынудит тебя когда-нибудь нарушить верность.
Марк Аврелий. Размышления. 170 г.«Мансио Феликс, недалеко от Арелата, Виеннская провинция, диоцез Семи провинций. Год консулов Басса и Антиоха, III окт. ноны[13]. [Здесь Тит сделал паузу, убрал прилепившийся к заостренному концу тростникового пера волос, а затем продолжил.] При свете угасающей масляной лампы я продолжаю вести семейный архив, сидя в маленькой комнате постоялого двора, почему-то названного “Счастливым”, убогой, неоправданно дорогой лачуги с безвкусной едой и несвежим бельем.
После состоявшегося у меня короткого “разговора”, я был абсолютно уверен, что епископ Пертинакс больше не будет тревожить моего отца, по крайней мере, в ближайшем будущем. И все же полагаться на судьбу я не стал. Больше, чем в чем-либо другом, Гай нуждался в заботе и хорошем отдыхе; когда я намекнул, что неплохо было бы с его стороны съездить повидать внука, он тотчас же на это согласился. Таким образом, я сопроводил его в расположенную между Базилией и Аргенторатом Стратисбургом бургундскую деревушку, где, в хозяйстве отца моей жены, жили Клотильда и Марк. К Клотильде Гай теперь относится, словно к дочери, а уж Марка он и вовсе обожает; за отцом моим нужен глаз да глаз, иначе он просто избалует ребенка! Когда я уезжал, он со счастливым видом спорил с моим тестем о преимуществах римского вина и германского пива, которое, полагаю, втайне ему и самому очень нравится.
Из бургундского поселения в Верхней Германии я отправился в Арелат. В отличие от уступленных ''варварам'' рейнских областей, Провинция после их нашествий почти не изменилась; те же, хотя и напоминающие скорее укрепленные деревни, нежели обычные имения, виллы; богатые, процветающие города; повсюду — виноградники и оливковые рощи. Завтра я намереваюсь выехать в Аквитанию (надеюсь, готы меня пропустят), где собираюсь разыскать Аэция для того, чтобы заявить о своей отставке. Я должен с ним повидаться — хотя, наверное, проще (а возможно — и безопаснее) было бы просто прекратить выполнение моих обязанностей в Равенне и уйти со службы без единого слова».
Пытаясь подавить мрачные предчувствия, Тит переминался с ноги на ногу у командирской палатки в штабе армии Аэция, разместившемся рядом с визиготским поселением в Толозе. Охранявшие вход в палатку часовые сказали ему, что полководец ведет переговоры с некими визиготскими вожаками — попытка готов завладеть Арелатом и расширить тем самым свои территории потерпела неудачу, и теперь стороны договаривались об условиях мирного соглашения.
Часа через два предводители готов, замкнутые и угрюмые, покинули палатку Аэция. Их внешний облик поразил Тита до глубины души. В отличие от бургундов, одевавшихся и выглядевших в строгом соответствии с тевтонскими традициями — брюки, длинные волосы и т. д., готы носили римские одежды, были коротко подстрижены и гладко выбриты. Лишь высокий рост и светлая кожа свидетельствовали об их германском происхождении.
После того как о прибытии Тита было доложено полководцу, Руфина пропустили в палатку, разделенную на две части; передняя, завешенная картами и планами, представляла собой своего рода «комнату» для совещаний, задняя, скрытая занавесом, вероятно, предназначалась для сна и отдыха.
— Проходи, — произнес знакомый голос. Отдернув занавеску, Тит шагнул в личный покой полководца. Сидевший за заваленным свитками пергамента и письменными принадлежностями столом Аэций имел нетипично напряженный и усталый вид.
— Иногда они бывают такими утомительными, эти визиготы, — заметил Аэций. — Двадцать один год назад Констанций дал им Аквитанию, лучшую землю в Галлии, и, что ты думаешь, они остались довольны? Как бы не так! Время от времени готов охватывает жажда новой наживы, вот и приходится раз за разом ставить их на место. Хорошо еще, что мы с их королем Теодоридом неплохо ладим — точнее сказать, умеем устранять возникающие недоразумения; зная, что я за ним внимательно слежу, он не дает своим людям особо распоясаться. И, скажу я тебе, чаще всего у него это получается. Ну, Тит Валерий, что привело тебя сюда? Дворцовый переворот в Равенне? Валентиниану надоело жить под полой у своей мамочки? Сколько ему сейчас — лет двенадцать?
Ходить вокруг да около Тит не стал. Нервно сглотнув, он заявил:
— Господин, я приехал сказать, что оставляю свою службу.
Несколько секунд Аэций пристально рассматривал юношу.
— Ах вот как? Что же подвигло тебя к такому решению, могу я спросить? Позволь мне самому догадаться — эти разговоры про меня и Бонифация. Я прав?
— Если вы можете опровергнуть эти слухи, господин, с превеликим удовольствием буду служить вам и далее.
— Как это великодушно с твоей стороны! Есть, правда, один маленький факт, так, пустячок, который ускользнул от твоего внимания, Руфин. Тебе было приказано оставаться в Равенне и собирать информацию. Я тебя от твоих обязанностей не освобождал. С формальной точки зрения это делает тебя дезертиром — особенно, принимая во внимание status belli, существующий между мной и имперским правительством. Я мог бы тебя арестовать прямо здесь. Перефразируя Марка Аврелия, выражусь так: «Никогда не злоупотребляй доверием того, кто значительно тебя сильнее».
— У меня были определенные сомнения, господин, — возразил Тит. — Разве это меня не оправдывает?..
— Ох, избавь меня от этих речей, — оборвал его Аэций. — Честь… предательство… спасение Рима… et cetera, et cetera. Брут бы тобой гордился.
— Не такие уж это и неважные вещи, господин, — возмущенно вскричал Тит. — Послушайте, вы же и сами многого добились в Галлии: остановили франков в Нижней Германии, убедив их стать верными союзниками Рима; вынудили визиготов не переходить границы выделенных им территорий; заключили мир с бургундами. Зачем же, господин, враждовать с Бонифацием? Вместе вы могли бы вернуть Риму былое могущество — как Клавдий Готик и Аврелиан, Диоклетиан и Константин.
— Ты не тем занялся, Руфин, — сухо сказал Аэций. — Тебе следовало стать оратором. Я скажу тебе, что важно. Выживание. Не думаешь же ты на самом деле, что то, что я делаю в Галлии, я делаю ради славы Рима? Если же так, то ты еще больший глупец, нежели я предполагал. Пойми, слабакам нет места в этом мире. Как и Юлий Цезарь до меня, в Галлии я выстраиваю лишь стартовую площадку, которая позволит мне совладать с моими политическими врагами — кто они, ты и сам знаешь. — Нацарапав несколько слов на клочке пергамента, Аэций протянул его Титу. — Вот документ о твоем увольнении со службы. Я не забыл, что ты когда-то спас мне жизнь; полагаю, теперь мы квиты. — Он окинул Тита оценивающим взглядом. — Знаешь ли, тебе бы следовало меня держаться. Сколько тебе сейчас — двадцать шесть, двадцать семь? Я мог бы что-нибудь из тебя вылепить, сам же ты никогда ничего не добьешься. Мне так и видится твоя смерть — во имя Рима, конечно же — в каком-нибудь бою с варварами, в одном из Богом забытых уголков империи. Ну а теперь, — полководец указал на засыпанный документами стол, — мне нужно готовиться к переговорам — они еще не закончились. Будь добр опустить за собой занавеску.
Кипя от возмущения — то, как была обставлена его отставка, крепко уязвило самолюбие Тита, — Руфин-младший так дернул занавеску, что едва не вырвал ее из колец, на которых она держалась. Буквально на секунду, в тот момент, когда Аэций протянул ему пергамент, Титу показалось, что в глазах полководца промелькнула тень сожаления. Очевидно, он просто ошибся.
Не доходя пары шагов до закрывавшего вход в палатку откидного полотнища, Тит заметил лежащий на столе, среди сваленных грудой листов папируса, кодекс. Необыкновенно красивый кодекс; на искусно вырезанной из слоновой кости обложке была изображена некая мифологическая сцена. Не сумев противостоять влечению, Тит ринулся к столу, схватил кодекс в руки, открыл. Вощеные дощечки были чисты, лишь одна, первая, несла на себе короткую загадочную надпись: «Его Филиппы — пятый миллиарий от А.».
Глава 13
Установлен во времена правления императора Флавия Валерия Константина, в пяти милях от Аримина.
Надпись (предполагаемая) на пятом миллиарии от Римини, по Виа Эмилиа, римской военной дорогеТит проехал по длинному, в пять пролетов, Ариминскому мосту из белого мрамора, миновал триумфальную арку, возведенную еще при Августе для обозначения места пересечения Виа Фламиниа и Виа Эмилиа, и направился на северо-запад по последней.
Уходившая к югу Виа Фламиниа километров тридцать шла вдоль побережья, а затем поворачивала вглубь страны, к Риму. То была настоящая Италия: аккуратно разделенная на земельные угодья и виллы, усеянная небольшими городами, затененная Апеннинами. К северу, ограниченная с юга Виа Эмилиа, простиралась широкая аллювиальная болотистая местность бассейна реки Пад, древняя провинция Цизальпинская Галлия, совершенно не похожая на Италию и потому казавшаяся чужой, иноземной.
Расшифровать загадочную надпись из кодекса Аэция оказалось совсем не сложно. «Его Филиппы», безусловно, означало место, где должно было окончательно решиться — в ту или иную сторону — противоборство между Аэцием и его главным соперником, Бонифацием. Тит помнил: у этого города Марк Антоний и Октавиан разгромили войска Брута и Кассия. «Пятый миллиарий от А.»? «А», теоретически подходившее к любому из тысяч мест, должно, решил Тит, находиться в непосредственной близости от равеннского штаба Бонифация. Тит резонно предположил, что хлебнувший в Африке немало горя Бонифаций, подобно раненому животному, инстинктивно захочет держаться поближе к своей базе. Аэций, несомненно, тоже это понимал и собирался навязать своему сопернику битву на таких условиях, при которых сам он мог бы чувствовать себя хозяином положения.
Если исходить из этой теории, подумал юноша, то «А» (при условии, что мы будем двигаться с севера на юг по воображаемой дуге, проведенной над Адриатикой) — это один из следующих населенных пунктов: Аквилея, Алтин, Атесте, Аримин, Анкона. Весьма вероятно, что это — Аримин, ближайший из этого перечня к Равенне город. Он уже исследовал местность в радиусе нескольких сотен шагов от пятого миллиария как по Виа Попилиа (прибрежной дороге, ведшей от Аримина в Аквилею), так и по Виа Фламиниа. Установленный на первой из этих дорог пятый миллиарий окружали солончаковые болота, дюны и лагуны — абсолютно неподходящее для сражения место, решил Тит. Проехав восемь километров по Виа Фламиниа, юноша обнаружил себя посреди пахотных земель — тоже не самый идеальный вариант для размещения войск. «Пятый миллиарий», на какой бы из дорог он ни находился, должен располагаться в местности, которая гарантировала бы Аэцию тактическое превосходство, такой местности, куда можно было бы убедить Бонифация привести его армию. Кроме двух этих дорог, из Аримина вела лишь Виа Эмилиа, по которой Тит теперь и ехал. Приближалась осень. Зимой в этих местах часто идут дожди и дует холодный альпийский ветер. Скорее всего, Аэций не планирует сразиться с Бонифацием раньше весны, что дает обеим сторонам время на подготовку. «Чего Бонифаций еще не знает, так это, что все его приготовления во многом будут зависеть от того, что мне удастся разузнать», — улыбнулся Тит.
Ведя свою лошадь по ровной обочине прямой, как стрела, Виа Эмилиа, Тит уже через час оказался у пятого миллиария. Тот представлял собой цилиндрический столб из известняка, установленный на прямоугольном постаменте и несший на себе такую надпись: «IMP. CAES. FLAV. VAL. CONSTANTINO: AB ARIMINO M. P. V.».
Юноша сверился со своей дорожной картой, на которой Виа Эмилиа была разделена на части, и занес в нее бросающиеся в глаза особенности окружавшего его ландшафта. Внизу, под дорогой, протекала по дренажной галерее небольшая речушка Узо. (Где-то впереди, в паре километров отсюда, течет знаменитый Рубикон, вспомнил Тит.) К северу от дороги простирались огромные заросли тростника. Тит пометил их на карте и подписал чуть ниже: «cuniculi», сточные каналы. Юноша посмотрел направо — сплошные болота. Фактически, Виа Эмилиа представляла собой возведенную над топями насыпную дорогу, пусть и довольно широкую.
Тита Валерия Руфина охватило отчаяние. Несмотря на близость Рубикона, историческая ассоциация с которым вполне могла привлечь Бонифация, из трех возможных вариантов этот выглядел наименее обещающим. С точки зрения тактики ни один из исследованных им районов не внушал оптимизма. «Возможно, я ошибся и «А» — это не Аримин, а нечто иное. Начался дождь, и настроение Тита упало до предела. В считаные минуты он промок до нитки; собираясь в огромные лужи, дождевые потоки стекали в придорожные рвы. Тит уже развернул лошадь в сторону города, когда услышал громкое журчание — то бежала по дренажным канавам вода. Лицо Руфина просветлело: вот они, Филиппы, выбранные Аэцием для Бонифация.
Глава 14
Вечные холмы не меняются подобно лицам людей.
Тацит. Анналы. 110 г.Подойдя к западным воротам равеннского императорского дворца и попросив проводить его к Бонифацию, Тит получил вежливый, но твердый отказ.
— Извините, господин, — сказал один из стражников. — У нас приказ: вас не пропускать.
— Но мне просто крайне необходимо переговорить с комитом, — настаивал Тит. — А не пускать меня вам приказали лишь потому, что я когда-то состоял на службе Флавию Аэцию. Теперь же я ее покинул. Убедитесь сами. — Он протянул стражнику пергамент, выданный ему Аэцием. — Вот удостоверение об увольнении, подписано самим полководцем. Покажи кому-нибудь из начальства и повтори то, что я тебе сказал. Могу и подождать. — Напустив на себя беззаботный вид, Тит начал подкидывать на ладони tremissis, небольшую золотую монету достоинством в третью часть solidus, одну из тех, что сохранились у него со времен службы Аэцию.
— Посмотрю, что можно сделать, господин, — заговорщицки подмигнул Титу стражник, ловко поймав монету на лету. Заменившись на посту, он побежал к главному зданию и через полчаса вернулся в сопровождении одного из помощников магистра оффиций.
— Следуйте за ним, господин.
Титу вновь пришлось пройти по садам, широкому пассажу между четырьмя центральными строениями, длинному перистилю и портику, через который он попал в императорские апартаменты — все это ему было знакомо со времен давней стычки с императрицей и ее сыном. Служащий открыл дверь, и Тит оказался в коридоре — пустом, за небольшим исключением: навстречу ему шли два огромных нубийца в туниках-безрукавках, какие носили рабы. Дверь позади Тита резко, со щелчком, захлопнулась, и он догадался, что угодил в ловушку.
Инстинктивно он понимал, что сопротивление бесполезно: эти люди тренированные атлеты, гораздо более ловкие и искусные в бою, нежели он сам. Тем не менее Тит решил принять вызов. Когда нубийцы приблизились к нему, он нанес первому такой удар ногой в солнечное сплетение, который, несомненно, свалил бы с ног любого обычного противника. С тем же успехом он мог бы пнуть и дерево; невольник лишь что-то проворчал и продолжил свой ход. Второй выпад Тита — основанием ладони он врезал рабу в подбородок — имел тот же эффект. И тут он почувствовал мучительную боль: нубийцы выкручивали ему руки. Понимая, что, еще чуть-чуть, и они будут сломаны, он прекратил сопротивление и позволил препроводить себя в большую, украшенную колоннами залу, где на тронах сидели императрица Галла Плацидия и ее сын, Валентиниан. Император, угрюмого вида паренек лет двенадцати-тринадцати, был высок и для своего возраста неплохо развит. От своего деда, великого Феодосия, он унаследовал длинный нос и красивые карие глаза, но вот безвольным подбородком и сложившимися в раздражительную гримасу губами он напоминал своего августейшего дядю, слабохарактерного Гонория.
— Что заставляет тебя так упорствовать — заносчивость, или же крайняя глупость? — холодно спросила Плацидия. — Ты начинаешь мне надоедать. Не удовлетворившись нападением на императора, ты, как сказал мне папа, набросился на епископа в его, заметь, собственном дворце, а теперь имеешь наглость просить аудиенции. Ты вообще должен благодарить судьбу, что живешь еще на этом свете. Ты что, действительно думал, что вот это что-то меняет? — И она помахала перед лицом Тита выданным ему Аэцием пергаментом.
— Мама, у меня предложение, — прошепелявил Валентиниан, и глаза его зажглись огнем.
— У нас предложение, — мягко поправила сына императрица. — Да, Флавий?
— Эти двое слуг предотвратили нападение на нашу персону и убили нападавшего прежде, чем он успел до нас добраться. Умно, как ты думаешь?
Плацидия снисходительно улыбнулась.
— Полагаю, это бы избавило нас от многих хлопот. Что ж, так тому и быть. — Она кивнула нубийцам.
Один из них сжал руки Тита своими, словно тисками, другой, обхватив голову юноши, начал выкручивать ее в сторону. Ужас обуял Тита: он понял, что, не случись чудо, через пару секунд ему свернут шею.
И чудо случилось. Дверь распахнулась и в комнату вошла знакомая огромная фигура: Бонифаций.
— Приношу свои извинения, ваши светлости, я полагал… — При виде происходящего комит застыл на месте.
— Помогите! — прокаркал Тит.
Выглядевший сколь удивленным, столь и обеспокоенным, Бонифаций поднял руку в командном жесте. Тит почувствовал неимоверное облегчение: сжимавшая его горло хватка ослабла.
— Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? — озадаченно поинтересовался Бонифаций.
— Этот человек пытался убить меня, — мрачно сказал Валентиниан.
— Это неправда! — в отчаянии закричал Тит. — Помните меня по Африке, господин? Я привозил вам письмо от комита Аэция.
— Припоминаю, было такое. — Бонифаций кивнул нубийцам, и те отпустили Тита. Повернувшись к императрице, комит успокаивающе промолвил:
— Элия, дорогая, это, должно быть, какое-то недоразумение. Я знаю этого юношу. Возможно, он и служит этому изменнику, Аэцию… но чтобы он был убийцей? В это я ни за что не поверю. В молодости я сражался под руководством его отца против готов Радогаста. Лучшего солдата, чем полководец Руфин, и представить себе невозможно…
— Я пришел сюда повидаться с вами, господин, — заявил Тит, потирая шею. — Аэцию я больше не служу. Взгляните сами: в руках у ее светлости документ о моем увольнении.
— Элия? — укоризненно поднял брови Бонифаций.
Пожав плечами, императрица признала поражение.
— Ох, как я от всего этого устала… Полагаю, ты и сам во всем разберешься. И еще: ты окажешь нам большую услугу, если уберешь этого типа с глаз наших подальше — он у нас уже как кость в горле.
* * *
— Так ты, значит, ушел от Аэция, — сказал Бонифаций, когда они с Титом уединились в дворцовых покоях комита. Он окинул Тита проницательным взглядом. — Тогда тебе, должно быть, интересно будет узнать, что я на днях получил от Аэция письмо, в котором он предлагает мне явиться в следующем году на переговоры с ним к…
— … к пятому миллиарию от Аримина, — возбужденно выпалил Тит, — по Виа Эмилиа.
— Именем Юпитера, ты-то уж как узнал об этом? — спросил немало пораженный Бонифаций.
— Если позволите, господин, расскажу все по порядку. Началось все с того, что как-то раз я повстречал одного из ваших бывших солдат, калеку-ветерана, который назвался Проксимоном…
Ничего не утаив, Тит поведал комиту о своем разговоре с Проксимоном и покушении на его, Тита, жизнь; спорах с отцом; стычке с епископом Пертинаксом; размолвке с Аэцием; наконец, о поездке в Аримин.
— Именно так там и было написано: «Его Филиппы», — закончил он, — что навело меня на мысль, что Аэций готовит вам западню.
— Что ж, благодаря тебе, я смогу поразмыслить над тем, как ее избежать. Предложить провести переговоры недалеко от Рубикона, — пробормотал он задумчиво. — Хитро. Знает, как я люблю всякие исторические совпадения. Это моя слабость, должен признать, — вот он и решил ее использовать. Если бы ты знал, мой юный друг, как я тебе благодарен… — Он оценивающе взглянул на Тита. — Итак, приятель, значит, говоришь, хочешь теперь служить мне. Что ж, польщен, весьма польщен. Только вот не понимаю, зачем тебе это — все-таки в Африке я, скажем так, показал себя не с самой лучшей стороны.
— В вас верит мой отец, господин, а я полагаюсь на его суждение.
— В таком случае, добро пожаловать на борт, Тит Валерий. Завтра же произведем тебя в agens in rebus, сразу же и начнешь приносить пользу. Я как раз искал человека для одной работенки: думаю, ты — тот, кто мне нужен.
* * *
Пятеро следовавших за Титом всадников пустили лошадей шагом — по крутым апеннинским предгорьям иным аллюром идти они просто не могли. Заметив это, Тит улыбнулся: казавшаяся рутинной командировка грозила перерасти в увлекательное приключение. Лошадь, чистоплеменного ливийского скакуна, они с Бонифацием вместе выбирали во дворцовых конюшнях. То был крепкий, быстрый, неутомимый конь, и Тит не сомневался, что при желании он уйдет от любой погони. У его преследователей, насколько позволяло об этом судить разделявшее их с Титом расстояние в несколько сотен шагов, были статные парфянские скакуны, лошади надежные и крепкие, но все же сильно уступавшие североафриканским в скорости и выносливости.
Кто эти люди, в который уже раз спрашивал себя Тит. Подобных лошадей использует римская конница, так что, возможно, они солдаты. Может быть, они посланы недругами Бонифация — а таковых среди придворных было предостаточно, видевшими, как Тит покидал дворец? Бандиты на украденных армейских лошадях? Грабежами на римских дорогах уже никого нельзя было удивить: крестьяне и люди труда, доведенные до отчаяния чрезмерными налоговыми сборами, оставляли поля и города ради преступного промысла.
Между тем ничто не могло испортить прекрасное настроение Тита в этот погожий осенний день. Все его неприятности и беды, казалось, остались позади. Отношения с отцом наладились, и теперь Гай поправлял свое здоровье в недрах новой, германской семьи; дела на вилла Фортуната вновь пошли в гору. Маленький Марк, сын Тита, рос крепким и здоровым. Наконец, при посредстве Бонифация, урегулировал он и свои отношения с Плацидией, которая простила свежеиспеченного agens in rebus, пообещав забыть о вендетте. Несмотря на эйфорию, он не мог подавить печаль, вызванную тем, что Аэций, потерпевший неудачу полководец, оказался колоссом на глиняных ногах. Но теперь Тит служил другому господину — и чувствовал, что принял правильное решение.
Бонифаций поручил ему доставку двух донесений — командирам гарнизонов, размещенных в Плаценции и Луке. Первому он должен был передать строгие инструкции (подтвержденные письменным приказом комита) разрешить Аэцию свободно пройти через Плаценцию, когда тот будет направляться на место их встречи с Бонифацием у пятого миллиария от Аримина — вне зависимости от того, когда опальный полководец там появится. Командиру Луки Титу предписывалось передать запечатанное письмо от Бонифация. Комит подчеркнул, что содержащаяся в письме информация совершенно секретна и ни в коем случае не должна попасть в руки третьей стороны.
Выполнив первую часть миссии, Тит остановился на ночлег в одном из трактиров Плаценции. На следующее утро, проскакав километров двадцать по Виа Эмилиа, он, согласно полученным указаниям, повернул направо, предпочтя широкому прямому большаку боковую дорогу, ведущую к деревушке Медесан. Остановившись на перепутье, Тит на всякий случай еще раз внимательно изучил выданную ему Бонифацием карту. Следуя указанным маршрутом, с севера на юг, к Луке, он должен был последовательно пересечь четыре реки — Тар, Парму, Энтию, Сецию, перейти Апеннины у главного их пика и, оказавшись по другую сторону водораздела, в Этрурии, выйти по долине (известной как Гарфаньяна) реки Серкьо непосредственно к Луке.
Не считая Гарфаньяны, предупредил его Бонифаций, дорога будет крайне тяжелой: труднопроходимой и уединенной, местами такой, по которой ходят лишь мулы. Но то был самый прямой и быстрый путь, по которому можно было добраться в Луку из Плаценции, а донесение командиру гарнизона Луки следовало доставить как можно скорее. В заключение своей наставительной речи Бонифаций не без грусти заметил:
— Твоя роль, Тит, предпочтительнее моей. Перефразируя Тацита, тебе предстоит перейти крутые горы, но они, по крайней мере, не меняются; мне же приходится иметь дело с людьми, которые непостоянны.
Тит не сомневался, что последние слова комита касались прежде всего Аэция, «друга», обманувшего и предавшего его.
Бонифаций оказался прав: дорога была просто ужасной. Кроме того, несколько километров она шла строго в гору, подъем в которую показался бы Титу еще более утомительным, если б взор его не останавливался время от времени на покрытых деревьями и кустарниками предгорьях или пасшихся на полях стадах местных жителей. К девяти часам Тит достиг Медесана, деревни, состоявшей из десятка небольших каменных домов, разбросанных вокруг церквушки и taberna. Во время восхождения Тит обнаружил, что за ним гонятся, поэтому заехал на постоялый двор лишь для того, чтобы дать небольшую передышку лошади и съесть миску бобового супа, после чего поспешил в направлении следующей обозначенной в маршруте цели — городка Форновий, расположенного на дальней стороне Тара. Он понимал, что будет чувствовать себя гораздо спокойнее, если к ночи его с преследователями будет разделять хотя бы река.
Но вместо обычной реки, текущей между двумя берегами, Тит увидел широкую, усыпанную слепящими глаза скалами и песком, равнину, позади которой виднелась кучка строений — Форновий. Это и есть Тар, спросил он себя в изумлении. Моста там не было, но несколько узких ручейков, бежавших между пластами песка, казались вполне проходимыми. Тит уже собирался пустить лошадь медленным шагом вперед, когда был остановлен криком ведшего домой овец пастуха. Скотник, высокий горец с добрыми глазами, пояснил, что эти столь безобидно выглядящие rami крайне вероломны: многие из тех, кто, не догадываясь о подвохе, пытались их пересечь, утонули. Предложение пастуха показать безопасный путь Тит принял с благодарностью. Проверяя перед каждым шагом землю с помощью посоха, скотник перешел через первый ручей, погрузившись в самом глубоком месте под воду по шею. Ведя коня за собой, Тит последовал за своим провожатым, и был немало удивлен неожиданной силой ледяного потока; ему с трудом удавалось устоять на лежавших под водой голышах. Второй ручей оказался столь глубоким и быстротекущим, что Титу и его провожатому пришлось подняться вверх по течению едва ли не на два километра, пока они обнаружили стоящий над руслом реки «островок».
На сей раз посох скотнику не понадобился, — брод он обнаружил при помощи простого, но изобретательного приема, приведшего молодого курьера в полный восторг. Высоко подбрасывая вверх небольшие камушки — так, чтобы они падали в воду, — пастух отмечал разницу между всплесками, и в конце концов отыскал мелководье. Там, где было глубоко, камень погружался в воду с глухим «плюхом», а вытесненная вода вставала на место отвесным столбом; там, где мелко, звук и брызги были более рассеянными. Так, медленно и осторожно, были преодолены оставшиеся пять каналов, и двое до нитки промокших мужчин оказались на дальнем берегу.
Поблагодарив пастуха и вознаградив его пригоршней nummi, Тит попросил своего провожатого не показывать дорогу группе из пяти следовавших за ним всадников, доведись тому их встретить. Он, мол, соблазнил девушку из враждебно настроенной по отношению к его роду семьи, и ее родственники поклялись отыскать его и убить. В глазах скотника промелькнул огонек понимания. «Ad Kalendas Graecas!»[14] — воскликнул он, приложив руку к сердцу.
После того как пастух удалился, Тит отвел коня в ближайший лесок, сам удобно расположился на опушке и стал наблюдать за рекой; одежда его постепенно сохла под теплыми лучами вечернего солнца. Некоторое время спустя на проти-воположном берегу реки появился загадочный квинтет. Уже смеркалось, и Тит решил, что вряд ли эти пятеро рискнут пересечь Тар до утра: мысль его подтверждало и то, что они разошлись по берегу в поисках сухих веток, явно собираясь разжечь огонь. Убедившись в том, что, как минимум, до рассвета он в безопасности, Тит помчался в Форновий.
Проведя ночь на постоялом дворе, примечательном радушием хозяев менее, нежели количеством живущих там тараканов, Тит был в седле еще до зари. Покидая городок, он оглянулся и увидел, что его преследователи только-только проснулись и теперь суетятся вокруг потухшего уже костра, забрасывая землей тлеющие угольки. Как же они собираются перебираться через реку? «Может, повезет, утонут», — рассмеялся Тит.
Он обогнал нескольких carbonarii, угольщиков, судя по всему, уже спешивших на работу, проскакал мимо каштановой рощицы, отметив про себя благородные станы этих невиданных доселе деревьев и их красивые, золотистые и красновато-коричневые листья, и оказался у предгорий, — то были уже Апеннины. Конь Тита не знал усталости, и за утро юноша последовательно оставил позади себя все три находившиеся по эту сторону водораздела реки. Парму он пересек так же, как и Тар; берега же Энции, а затем и Сеции соединяли расшатанные деревянные мостики. Не сбиться с пути ему помогла маячившая вдали, у южного горизонта, странная скала, напоминавшая огромную квадратную колонну, словно проросшую вверх из накренившегося основания, — на нее Тит и ориентировался[15].
После полудня, часов около восьми, как определил Тит по солнцу, он оказался у входа в темную, безмолвную лощину, которую венчала высокая травяная, расположенная между двумя пиками, насыпь. Центральный гребень Апеннин, догадался Тит, водораздел, за которым лежит Этрурия — и конечный пункт его маршрута.
Спустя час, поднявшись на вершину горы, Тит спешился. Оглянувшись, он с учащенным пульсом оглядел уходящую к северу от основания горы всю Эмилианскую равнину, старую провинцию Цизальпинская Галлия. На дальнем горизонте висела без движения вереница остроконечных белых облаков, и вскоре Тит понял, что то, должно быть, Альпы. Ползущие далеко внизу, на расстоянии нескольких километров, маленькие точки — пять, подсчитал юноша, — подсказали ему, что погоня не окончена. Но никакого беспокойства Тит не испытывал; с Божьей помощью, еще дотемна он должен оказаться в Луке, и миссия его будет благополучно завершена.
Пересекая водораздел, отмеченный линией прохладного леса, Тит услышал шум бегущей воды: то река Серкьо, бившая ключом из двадцати источников на южном склоне, струилась вниз по уступам лысой, темной скалы. Через пару минут он выехал на прогалину: внизу, как на ладони, лежала долина Гарфаньяна, с запада ограниченная высоким зубчатым горным массивом, холмы и уступы которого сверкали белизной. Снег, — решил Тит сначала. Но нет, понял он, присмотревшись: должно быть, то горы Каррара, где уже на протяжении пяти с лишним сотен лет добывают белый мрамор. Тит Валерий продолжил свой путь, думая уже лишь о приятном — ванне, еде и прочих удовольствиях, которые ждали его в Луке, и, в свое время, о поздравлениях от благодарного Бонифация за отлично выполненное задание.
Не расслабиться окончательно Титу не позволила лошадь, которая вдруг остановилась, а затем пошла спотыкаясь. Спешившись, Тит осмотрел ее ноги, но никаких повреждений не обнаружил. Но тут взгляд его привлек лежавший на земле сверкающий кусок металла: то была solea ferrea, широкая железная подкова. Проверив копыта скакуна, он определил, что найденная подкова слетела с копыта передней правой ноги коня; кроме того, та, которой было подковано копыто задней правой ноги, шаталось во все стороны. «Удивительно, — подумал Тит, — как она не отвалилась еще раньше». Проклиная имперского кузнеца, Тит начал снимать с лошади седло и сбрую. Карта его была бита. Рисковать здоровьем коня не имело смысла; теперь преследователи в любом случае настигли бы его. Пешком он тоже далеко от них не ушел бы; посреди покрытой лишь травой равнины, в отсутствии леса, в котором можно было бы укрыться, он походил на помещенного в загон молодого бычка. Спрятав седло и сбрую в кустах (напрасный поступок, вздохнул Тит), он оставил лошадь пастись на лугу, а сам, прихватив переметную суму, в которой лежало ценное послание, зашагал, за неимением другой альтернативы, в направлении Луки.
Пройдя километров, наверное, пять, он вышел к странному месту, настоящему «городу», который составляли десятки конусообразных курганов. Этрусские захоронения тысячелетней давности? Чувствуя себя загнанным в нору зверьком, Тит спустился по тоннелю в одну из гробниц. В качестве укрытия она не годилась. Стоит преследователям заметить его лошадь, как они поймут, что всадник далеко уйти не мог. Хорошо еще, что вход в гробницу узок и им придется спускаться в нее по одному. Придется сражаться до последнего…
Все, конец красивым мечтам, горько подумал юноша: мало того, что он задание провалил, так еще и погибнет от рук неизвестных убийц. Нужно хотя бы позаботиться о том, чтобы письмо Бонифация командиру гарнизона Луки им не досталось. Вынув из сумы запечатанный свиток пергамента, Тит порвал его на крошечные кусочки и, не без труда, начал их проглатывать, один за другим. Когда последний из них скрылся во рту, Тит подошел ко входу в тоннель и упал духом: пятеро всадников стремительно приближались к захоронениям. Когда они оказались на расстоянии ста шагов, Тит смог наконец их рассмотреть: солдаты, главный — настоящий великан.
Пятеро против одного: несмотря на все его боевые навыки, ему не устоять. По крайней мере, попробую прикончить одного-двух, решил Тит. Вытащив меч из ножен (как agens in rebus, он получил униформу и оружие), Руфин-младший спустился на метр ниже. Пока ждал, разглядел странные рисунки на стенах: танцующие девочки, борцы, музыканты, души мертвых, уносимые добрыми или злыми духами.
Снаружи раздались шаги. Затем невидимые преследователи засыпали Тита градом вопросов о цели его путешествия. Подавив искушение поторговаться за свою жизнь, Тит упорно хранил молчание. Если пришло время умереть, он умрет достойно.
Наступила долгая пауза. Затем один из стоявших наверху громко рассмеялся, и знакомый голос произнес:
— Игра окончена, Тит. Можешь выходить.
Голова Тита пошла кругом, когда он увидел улыбающееся лицо Бонифация.
— Отличная работа, Тит Валерий, — сказал комит. — А тебя и не догнать: шустрый ты оказался парень. Что ж, теперь все можем возвращаться домой.
— Но… моя миссия, господин? Сообщения?
— С первой частью своего задания ты справился блестяще, вторая же была лишь уловкой.
— Значит, и подковы моя лошадь потеряла благодаря вам? — Тит почувствовал, как внутри закипает гнев.
— Ты прав: над ними, скажем так, «поработали» во время твоей остановки в Плаценции. — Бонифаций пожал плечами и сконфуженно улыбнулся. — Второе послание было строго секретным. Надеюсь, ты его не читал? Или все же прочел?
— Конечно же, нет.
— Ну если бы прочел, то ознакомился бы с одной из поэм Катулла. Какова, кстати, ее судьба?
— Я ее съел.
На какую-то долю секунды на лице Бонифация отразилось замешательство, затем он разразился громким смехом; не отставали от комита и четверо его спутников. Ярость и негодование, зревшие внутри Тита, мгновенно рассеялись, и он нашел в себе силы выдавить кислую улыбку. Когда Бонифаций взялся проверить его сумку, Руфин-младший уже не улыбался, но понимал, что действия полководца вызваны не прихотью, а жесткой необходимость.
В порыве, напомнившем Титу жест Аэция, спасенного им от неминуемой смерти, Бонифаций схватил молодого Руфина за руку и крепко ее пожал.
— Не сердись на меня, мой юный друг, — сказал он. — В моем положении я должен быть уверен, что могу доверять тем, кто мне служит. Я рад, что ты прошел это небольшое испытание с честью, как и подобает настоящему agens.
Глава 15
Перед сражением Аэций запасся длинным копьем.
Марцеллин Комит[16]. Хроника. V в.— Встречаемся у Плаценции. — Аэций постучал кончиком жезла по карте, на которой красным цветом был обведен северный конец Виа Эмилиа. — Я с визиготами и римским контингентом пойду по Юлианской дороге, вдоль побережья, к Никее, затем поверну на северо-восток, к Плаценции. Ты, Литорий, направишься к северу от Арелата, пройдешь по Роданской долине к Лугдуну и там будешь дожидаться франкских и бургундских федератов. Соединившись с ними, двинешь на восток, к перевалу через гору Матрона и Аугуста-Тауринор. Дорога там хорошая, хотя и второстепенная. Привал сделаешь в Друанции, на вершине Коттианских Альп. У Плаценции мы должны оказаться не позднее июньских ид. Передохнем, когда выйдем туда. Что ж, господа, полагаю, это — все. У кого есть вопросы?
С минуту офицеры — римляне и несколько германцев — молчали. Наконец один из них осмелился подать голос:
— Правда ли, господин, что вино в Италии лучше того, что мы пьем здесь, в Галлии?
— Абсолютная правда. Лучше — и намного, — заверил подчиненного Аэций под одобрительный смех собравшихся. — Если это все, возвращайтесь на свои посты. Выходим через час.
После того как офицеры ушли, Аэций с удовольствием опустился на складной стул. Боже, как он устал! Эти варвары любого бы вымотали, будь то даже Александр или Цезарь. Не то чтобы их трудно было победить; за исключением разгрома Арминием легионов Вара, случившегося еще во времена правления Августа — единственного ожесточенного боя, выигранного готами у Рима, — остается Адрианополь, да и прошло с тех пор уже пятьдесят четыре года. Впрочем, и тогда римляне потерпели неудачу лишь из-за того, что восточный император не захотел дожидаться, пока ему на помощь придет западная армия Грациана. Ах да, есть еще совсем свежее, африканское, поражение. Ну тут все и так понятно — произошло оно исключительно «благодаря» запаниковавшему Бонифацию, который сначала позвал вандалов в Африку, а затем потерял самообладание. Если ему действительно не хотелось служить Риму, следовало совершить достойный поступок — насадить себя на собственный меч, лишь только узнав о том, что его отзывают в Италию. Да, германцы ужасно отважны, но вот терпения и дисциплины им явно недостает. При правильном руководстве и хорошем снабжении римские войска будут бить их раз за разом. Если за счет чего-то германцы и могут подавить римлян, то только благодаря своей неукротимой энергии, способности быстро восстанавливать силы и неизменной агрессивности. Взять, к примеру, порядком надоевших мне визиготов. Пожелали стать частью Рима, но, словно неуправляемые дети, взбунтовались, едва услышав выдвинутые римлянами условия. Тем не менее под командованием римских офицеров из них получаются великолепные солдаты. Они-то и помогут мне покончить с Бонифацием. Как долго я ждал этого момента!
— Вы выглядите уставшим, господин, — прозвучавший за спиной голос прервал размышления Аэция. — Вам нужно немного отдохнуть.
— Литорий, ты все еще здесь? А я и не заметил. — Аэций принял из рук своего офицера протянутую ему чашу вина. — Благодарю. У тебя ко мне какое-то дело?
— Могу я быть откровенным с вами, господин?
— Когда мне говорят такое, я уже знаю, что услышу то, что не хотел бы слышать, — тяжело вздохнул Аэций. — Конечно, говори, раз должен.
Литорий, правая рука Аэция, присел на полевой стул рядом с полководцем.
— Я беспокоюсь о вас, господин. Так больше продолжаться не может — вы скоро совсем выбьетесь из сил. Вы и так многого добились: варвары в Галлии под контролем, в гражданскую войну в Италии мы не лезем…
— Я тронут, — фыркнул Аэций. — Сейчас, ежели хочешь, заплачу. И что, по-твоему, я должен делать? Протянуть Бонифацию руку братской любви?
— Что-то вроде этого, господин, — настоятельно произнес Литорий. — Почему бы и нет? Вместе вы сможете излечить самые запущенные болезни Рима.
— Ты говоришь как Тит, мой бывший помощник, — криво улыбнулся Аэций. — Идти на мировую с Бонифацием уже поздно. Возможно, когда-то мы и смогли бы поработать вместе, но после Африки… — Он покачал головой. — Он винит меня в том, что все пошло не так, и вряд ли когда-либо поверит мне снова. Они с Плацидией не успокоятся, пока не уничтожат меня. А этого, кстати, и не случится.
— Очень на это надеюсь, господин. По крайней мере, план хороший. Но когда вы разберетесь с Бонифацием, я буду на коленях умолять вас замедлить поступь. Вы нужны Риму.
— Не думаю, что Плацидия с этим согласна, — сухо ответил Аэций. Осушив чашу до дна, он поднялся на ноги и похлопал Литория по плечу. — Ты становишься похожим на старую маму-курицу, друг мой. Ценю твою заботу, но после Бонифация мне придется заняться Галлией, очистить Испанию от свевов, возвратить Африку, а когда-нибудь, возможно, и Британию. Впрочем, если федераты в Галлии вновь начнут нам досаждать, я обращусь за помощью к моим друзьям гуннам, они их вмиг приструнят…
— Гунны… а не выйдет ли так, что они сами станут угрозой для Рима? — произнес Литорий с сомнением.
— Вряд ли. Это просто кучка первобытных пастухов. Против вымуштрованных римских войск, поддерживаемых федератами, у них не будет ни единого шанса. Вперед, мой друг, пора двигаться в путь.
* * *
Стройными рядами, по шесть человек в каждом, в начищенных до блеска шлемах и сверкающих на июньском солнце латах, с бесстрашно развевающимися на ветру штандартами, шагали по Виа Эмилиа римляне из личной охраны Аэция. За ними, не придавая значения боевому порядку, топали рекруты-визиготы, светловолосые гиганты без доспехов, вооруженные лишь копьями и круглыми щитами. В авангарде, ведомая Аэцием и его офицерами, ехала, стараясь придерживаться травянистой обочины широкой мощеной дороги, конница. Переправившись по каменному мосту через небольшой Рубикон, войско прошло еще пару километров и остановилось близ речушки Узо, у припавшей к земле каменной колонны — пятого миллиария от Аримина. На противоположном берегу Узо разбили свой лагерь солдаты Бонифация — остатки участвовавшей в африканской кампании западной римской армии и гвардейские части. Вдоль дальней от Аэция обочины Виа Эмилиа тянулся унылый пейзаж: заросли тростника — к северу, болотистая равнина — к югу.
— Гляди-ка, Литорий, а вон и Бонифаций в своих нелепых древних доспехах, — посмеиваясь, воскликнул Аэций. — Долговязый парень рядом с ним — его зять Себастиан. А вот и — клянусь всеми святыми — молодой Тит Руфин, неблагодарный изменник. Жаль, не арестовал я его и не предал военному трибуналу, когда была такая возможность…
— Теперь понятно, почему Бонифация называют «сражающимся полководцем», — заметил Литорий. — Вид у него такой, словно он сам готов ринуться в бой. — Он улыбнулся. — Ближе лучше не подходить, господин. Его длинное копье выглядит довольно устрашающе.
Заиграли трубы, и глашатай Бонифация сорвался с места, натянув поводья в нескольких шагах от Аэция и его свиты. Раскрутив свиток, он продекламировал:
— Бонифаций, Комит Африки, Патриций, Магистр Конницы и Пехоты — от имени Августа Валентиниана Третьего, Благороднейшего из Живущих, дважды Консула, и Самой Благочестивой Императрицы-Матери, Августы Галлы Плацидии — шлет привет Аэцию, Комиту, Магистру Конницы Всея Галлии и желает осведомиться, каковы будут ваши пожелания касательно…
— Сколько помню Бонифация, всегда он был сторонником надлежащих процедур, — улыбнулся Аэций, качая головой. — Что ж, пришло время слегка его удивить. — Подмигнув Литорию, полководец подал сигнал трубачу. Но не успел тот даже поднести горн к губам, как заросли тростника озарились сотнями огней: пока глашатай читал свою речь, некоторые из людей Аэция пробрались к обочине дороги и теперь забрасывали высокие сухие кусты пылающими факелами…
* * *
«Написано в Аримине, в код консульства Аэция и Валерия, II июл. ноны[17]. Тит Валерий приветствует Гая Валерия Руфина.
Многоуважаемый отец, пишу тебе в спешке и печали, передам письмо с человеком, который отправляется этой ночью в Галлию. К тому времени, как ты будешь читать эти строки, я и сам уже буду ехать к вам, так как оставаться в Италии, ввиду затаенной на меня Августой злобы, уже небезопасно. Бонифаций мертв, погиб в бою (некоторые говорят, что от руки самого Аэция), прошедшем вчера в окрестностях Аримина. Он должен был встретиться здесь с Аэцием, но тот решил устроить Бонифацию засаду; тем не менее, прознав о его намерениях, мы смогли обернуть полученную информацию в свою пользу. (Как ты знаешь из моих предыдущих писем, я послушался твоего совета и, уйдя от Аэция, служу теперь Бонифацию.)
В том месте, где должна была состояться встреча (неподалеку от судьбоносного Рубикона), к дороге примыкают огромные заросли тростника. Рядом прорыты дренажные каналы, cuniculi — потенциальное прикрытие для армии, которая легко может затаиться в высоких тростниковых кустах. Мы узнали, что ночью, накануне встречи, Аэций приказал своим федератам выдвинуться на позиции в cuniculi, и в нужный момент забросать высохший за жаркие летние недели тростник факелами. Более страшного зрелища, отец, мне видеть не доводилось: в считаные секунды огонь объял всю равнину, и прятавшиеся там люди сгорали заживо. Их крики я буду помнить до самой смерти. Те же, кому удавалось вырваться из объятий пламени, выбегали прямо на нас и погибали от наших копий — это, скажу тебе, лучше, чем умереть в агонии. Возможно, ты сочтешь подобный способ ведения битвы ужасным и не имеющим оправданий. Но что нам оставалось? Аэций и его вероломство — вот что подвигло нас на такое.
После того как Аэций потерял большую часть своей армии, исход сражения не вызывал сомнений. Но смерть нашего полководца затмила собой всю значимость триумфа. Говорят, Аэций прорвался сквозь наш авангард и убил Бонифация в рукопашном бою. Сам я подтвердить или опровергнуть эти слухи не могу, так как во время сражения носился взад-вперед с донесениями и не был свидетелем того, что там происходило. Но верится мне в эту историю с трудом: чтобы два современных римских полководца, словно гомеровские герои Троянской войны, сошлись в рукопашной! И все же, полагаю, это может оказаться и правдой. Аэций — человек напористый. Крушение планов могло привести его в ярость и отчаяние, а, возможно, и подтолкнуть к тому краю, за которым наступает безумие, и он вполне мог решиться и на столь рискованные действия. А Бонифаций всегда легкомысленно относился к собственной безопасности и не был чужд героических поступков. Кроме того, многие наши клянутся, что лично видели, как все случилось. Но кому как не тебе, отец, лучше знать, какие они, солдаты! Стоило Константину заявить, что он видел на небе крест Господень, как не прошло и часа, а уже половина его войска божилась, что тоже его видела!
То был, несомненно, черный день для Рима. Несмотря на просчеты, допущенные Бонифацием в Африке, я верил в то, что ему было по силам исцелить раны Западной империи и вернуть ей былое могущество. Кто теперь сможет вывести корабль государства в тихие воды? Плацидия? Валентиниан? Боюсь, с ними наше судно неминуемо налетит на рифы! И что теперь? Звезда Аэция уже закатилась. Попытается бежать — тут же будет объявлен вне закона, потеряет и жизнь, и состояние. Так что единственное, что ему остается, — это искать убежища у своих друзей, гуннов. Я же намереваюсь стремглав лететь к вам, в Верхнюю Германию. По пути заскочу на виллу Фортуната, проверю, все ли в порядке. Передавай Клотильде и малютке Марку, что я их очень люблю. Даст Бог, отец, скоро увидимся. Прощай».
Глава 16
Он не боялся опасностей и очень легко переносил голод, жажду и бессонные ночи.
Ренат Профутур Фригерид. Панегирик Аэцию. V в.Идущий впереди бык уставился на Аэция холодными, враждебными маленькими глазами. Огромный зверь выглядел устрашающе: массивный, с короткими рогами и покрывающими низко посаженную голову, шею, плечи, горб и передние ноги густыми длинными волосами; в холке он превышал два метра. То был дикий бык, известный римлянам как bonasus, а варварам — как Wisent или Bisund, бизон, — самое крупное и сильное животное в Европе. Вслед за вожаком, скрытое поднятым двенадцатью тысячами копыт облаком пыли, шло стадо.
Лишь несколько раз в жизни Аэцию было по-настоящему страшно; сейчас был один из таких моментов. Облизнув губы, он посмотрел на стоявшего по правую от него руку в веренице спешившихся гуннов Аттилу, моля Бога, чтобы друг подал сигнал, по которому стадо рвануло бы вперед. Но заметив игравшую на губах гунна улыбку, Аэций почувствовал, как вскипает в нем ярость: Аттиле, несомненно, нравилось наблюдать за тем, как постепенно его римский гость покрывается холодной испариной. (Даже лошадей своих гунны, первоклассные наездники, привязали на некотором отдалении, — чтобы те не запаниковали и не понесли при виде стада бизонов.)
Наконец, когда вожака стада и людей разделяло уже не более десяти шагов, Аттила, к невыразимому облегчению Аэция, оглушительно щелкнул своим длинным хлыстом. Тут же примеру короля последовали и остальные гунны. Шедший первым бизон остановился, захрапел и ударил копытом о землю; прочие быки нерешительно закружили на месте, наполнив воздух резким храпом. Аттила поднял руку и, вместе с другими гуннами, шагнул вперед. Медленно, шаг за шагом, с криками и щелчками кнутов, вереница гуннов начала наступать на стадо животных. Внезапно головной бык развернулся и, подняв могучую голову, умчался прочь курсом, параллельным линии гуннов. Мало-помалу и остальные бизоны срывались с места, устремляясь за своим лидером. Земля задрожала, когда тысячи огромных животных перешли на галоп; их высоко взлетавшие в воздух копыта вызвали в памяти Аэция имперских белых скакунов, некогда грациозно вышагивавших во время языческих процессий, находящихся теперь под запретом. Поспешно отвязав лошадей, гунны понеслись следом, а догнав стадо, рассредоточились вдоль его боковой линии, задавая нужное направление.
Доверившись стремительно преодолевавшему один километр за другим Буцефалу, Аэций принялся прокручивать в голове события последних недель.
За разгромом, учиненным ему Бонифацием, последовали опала, объявление его вне закона, бегство из Италии — все это, по любым выкладкам, должно было сокрушить Аэция, вызвать у него досаду и ярость. Но нет: перейдя реку Сава и оказавшись в Паннонии, полководец, к удивлению своему, обнаружил, что чувствует себя совершенно раскрепощенным, словно с плеч его упало гнетущее бремя. По крайней мере, хоть на какое-то время он мог забыть об оставшихся в Галлии федератах-германцах, которых то и дело необходимо было то умиротворять, то с помощью лести уговаривать; о плетении политических интриг, посредством которых он выпрашивал у Плацидии все большие и большие привилегии; о ведении кампаний против могущественного соперника. Паннония была безопасной территорией, которую Плацидия с большой неохотой уступила его друзьям, гуннам, после неудачной узурпации Иоанна.
Из Истрии, по дороге, построенной еще Тиберием, оставляя позади себя пустынные, усеянные разрушенными виллами и оставленными фортами, пейзажи, держал он путь на северо-восток и, миновав длинное-предлинное озеро Пельсо, оказался у старой имперской границы, где, на берегу Данубия, по-прежнему стоял город Аквинк. На всем протяжении пути о теплившейся в этих краях жизни напоминали лишь встречавшиеся Аэцию то тут, то там стада кочевников. В Аквинке Аэций нанял лодку, перевезшую его вместе с немногочисленной свитой на противоположный берег — туда, где начинались широкие луга западных степей, составлявшие лишь небольшую часть гуннских земель, простиравшихся теперь от Савы до Каспийского моря.
Встречавшие их гунны, непонятно каким образом извещенные о прибытии Аэция, препроводили полководца и его слуг в расположенную восточнее, у предгорий Трансильванских Альп — там, где некогда была оставленная римлянами полтора века назад провинция Дакия, — гуннскую «столицу». Поселение это, по сути, представляло собой мобильный лагерь, в центре которого стоял деревянный дворец, который легко разбирался и собирался, когда кочевники перегоняли скот на новые пастбища. Аэций отметил, что за семь лет, прошедших со времени его последнего визита к Аттиле, многое изменилось. Кланы объединились в племена, племена — в конфедерации. Конфедерации, которых было три, недавно образовали единую конфедерацию, во главе которой встал Руа, дядя Аттилы, друг Аэция с тех давних пор, когда, мальчиком, он провел несколько лет в заложниках у гуннов. Иерархические тенденции проявлялись в том, что можно было назвать обществом равных: вожди величали себя «знатью», а семьи их стали квазиаристократией; среди гуннов набирал ход процесс формирования наследственных династий; на смену собранию всех взрослых мужчин пришел постоянный Совет, в который входили лишь влиятельные вожди.
Отец Аттилы, Мундзук, брат Руа, возглавлял одну из трех канувших в лету конфедераций, что позволяло Аттиле рассчитывать со временем на трон дяди. Стань Аттила правителем, улыбнулся про себя Аэций, гунны получили бы в короли варварский вариант Платона-философа, который, как и Аттила, славился не всегда уместной склонностью к проявлению доброты и снисходительности. Наличие подобных качеств у правителя — скорее недостаток, нежели достоинство, особенно в том случае, если в подданных у него ходят дикие варвары вроде гуннов, которые превыше всего ценят силу и умение вождя навязать свою волю. Аттила как-то признался Аэцию, что, будь он правителем, отменил бы существующую практику забрасывания камнями насмерть воинов, даже в малейшей степени смалодушничавших в бою, и избавления от стариков. Аэцию пришлось возразить, что, сколь жестокими ни казались бы подобные традиции, они делают нацию успешной и крепкой, и привести в качестве примера живущих в стадах или стаях животных, в среде которых выживают лишь сильнейшие, и древних спартанцев, бросавших новорожденных детей в море для выявления хилых или увечных. Аттила выслушал его с учтивым вниманием, но, похоже, остался при своем мнении.
Руа, несомненно, помнивший, что за прошлую поддержку гунны были вознаграждены золотом и Паннонией, благожелательно отнесся к просьбе Аэция помочь ему вернуть прежнее положение. Окончательное решение должен был вынести Совет, состоявший (теперь лишь в теории) из всех взрослых гуннов, съезжавшихся на собрание на лошадях.
Пока же все внимание гуннов было обращено на великий бизоний гон. В случае успешного завершения это, само по себе приятное, времяпрепровождение давало желанную прибавку к однообразной диете гуннов, питавшихся в основном лишь козлятиной и бараниной. Стадо пасшихся у Данубия, а теперь удалявшихся от реки бизонов было обнаружено гуннами недалеко от знаменитого ущелья Железные Ворота. Решено было повернуть животных обратно к Данубию и согнать их на нависающие над рекой крутые утесы. Задача по обращению бизонов в бегство являлась опасной привилегией, которую получали самые отважные и опытные. После того как бизоны начинали движение в нужном направлении, к преследованию присоединялась основная масса гуннов, подгонявшая животных сбоку и с тыла.
Скача рядом с несшимся галопом бизоном, Аэций подгонял животное громкими криками. Словно голыши, всплывающие на поверхность реки в паводок, возникали и пропадали в облаках пыли горбы бизонов, в то время как копыта последних отбивали громоподобную дробь. Передние всадники, один за другим, начали уводить лошадей в сторону. Скоро будет обрыв, догадался Аэций, и последовал примеру более опытных в подобных вопросах гуннов. Головная группа бизонов тоже заметила пропасть, но, подпираемая сотнями сородичей, была уже не в силах остановиться.
Остановив коня у края обрыва, Аэций зачарованно наблюдал за тем, как бизоны стремительным коричневым потоком падали в пропасть и тела их разбивались о прибрежные скалы. Гунны спускались к реке там, где крутые утесы сменялись покатыми склонами, и по берегу возвращались на то место, где грудами, слабо дергая ногами и издавая сиплые звуки, лежали раненые животные. Быстро и умело охотники добивали истекавших кровью бизонов, туши и шкуры которых тут же увозили вьючные лошади.
Вдруг сквозь шум до Аэция донесся чей-то слабый крик. Бросив взгляд на реку, он увидел, что один из спешивших на помощь товарищам молодых гуннов угодил в воду, и теперь сильным течением его уносило на середину реки. Первым на призыв юноши о помощи откликнулся Аттила, который, как и был, на коне бросился в бурные воды Данубия. Проклиная Аттилу за неуместный альтруизм, Аэций сломя голову помчался к оставленному кем-то на усыпанном галькой берегу скифу. Спустив лодку на воду, он запрыгнул внутрь и, взявшись за весло, начал грести к Аттиле, чья лошадь, за узду которой держался едва не утонувший юноша, как могла, пыталась выбраться из объятий мятежного потока. Это тянувшему двойную ношу коню удавалось плохо, и, окончательно выбившегося из сил, его начало сносить вниз по течению.
Внезапно поперечный поток вынес скиф на середину реки, и Аттиле каким-то чудом удалось схватиться за протянутое Аэцием весло. С трудом выбравшись из седла, он позволил другу втянуть себя в лодку, после чего, вдвоем, они затащили в скиф и юношу; подхваченного течением коня спасти им было уже не по силам. Взяв в руки лежавший на дне лодки багор, Аттила устроился на корме и приказал Баламиру, спасенному соплеменнику, усесться ближе к носу.
— Выровняй лодку, — услышал сквозь рев стремительно бегущей воды Аэций голос Аттилы. — От этого зависят наши жизни.
— Почему бы мне просто не начать грести к берегу?
— Слишком поздно: нас уносит течением. Придется попытаться проплыть через Железные Ворота.
— А это опасно?
Аттила криво ухмыльнулся.
— Молись своему трехголовому богу, мой друг, — пройти через Железные Ворота не удавалось еще никому. По крайней мере, живым.
Отвесные берега сменились огромными стенами голых скал, которые, наступая друг на друга, сжали реку настолько, что ширина ее не стала превышать сотни шагов. И то была уже не река — бушующий поток, который нес небольшой скиф вперед с такой скоростью, словно тот был не более чем хворостинкой. Пытаясь совладать с паникой, Аэций изо всех сил старался держать нос лодки параллельно течению; любое отклонение в сторону грозило немедленным затоплением скифа. Бросив взгляд вправо, Аэций заметил на вершине скалы сгнившие консольные балки — точнее, то, что от них осталось; с их помощью более трехсот лет назад император Траян пытался расширить пробитую в скалах дорогу. Промелькнула перед его глазами и Tabula traiana, вырезанное на скале предписание императора, утверждающее правила судоходства по Данубию.
Наполнивший воздух зловещий рокот вернул Аэция в суровую реальность. Их лодка летела прямо на скалу, острые клыки которой росли, казалось, прямо из воды. Мгновение — и, закружившись в водовороте, они отчаянно замахали веслами и баграми, пытаясь удержать скиф посреди бегущего между огромными валунами потока.
— Получилось! — завопил Аэций, не скрывая ликования, когда, целых и невредимых, их выбросило из бурлящего вихря в тихие воды, напоминавшие плавно текущий мельничный пруд. Но Аттила указал пальцем вперед, и Аэций увидел, что река исчезла за стеной водяной пыли. Секундой спустя, наполовину ослепленный брызгами и оглушенный грохотом падающей воды, он снова закричал, но уже от ужаса: скиф стремительно падал вниз.
Подобных порогов оказалось несколько: лодка плавно перелетала из одного в другой, зачерпывая воду и время от времени наскакивая на скалы, не разбиться о которые удавалось лишь благодаря четкому взаимодействию Аттилы и Баламира, так рьяно отталкивавшихся от утесов баграми, что те в конце концов согнулись в дугу.
Закончилось все как-то вдруг. Преодолев последнюю стремнину, скиф вынырнул в широкий и тихий плес. Сила духа, удача, рассудительность и искусство данубийских шлюпочных мастеров помогли им пройти через Железные Ворота.
На следующем собрании Совета гунны единогласно поддержали выдвинутое Руа предложение помочь Аэцию вернуть утраченную власть.
* * *
Возвращаясь из императорского дворца в разбитый на вновь реквизированной вилле недалеко от Равенны штаб, Аэций напевал себе под нос солдатскую песню «Лалаге»[18]. Встреча с Плацидией прошла под его диктовку. Униженная и разъяренная, императрица вынуждена была пойти на его условия, и не только произвела его в ранг патриция, но и сделала магистром как пехоты, так и конницы. Короче говоря, он стал императором во всем, за исключением имени. Свежеиспеченный магистр армии рассмеялся и пустил Буцефала легким галопом; заполучив на свою сторону гуннов, он не оставил Плацидии выбора. Более того, подумал Аэций, не составило бы особого труда низложить Валентиниана и самому примерить императорский пурпур. Но нет: нужно сохранять благоразумие. Пока этот молокосос сидит на троне, соблюдается конституционная стабильность, а реальной власти у меня теперь и так будет в избытке.
Теперь он мог сосредоточиться на осуществлении собственных планов. Они были простыми: предпринять шаги, необходимые для утверждения его в роли истинного хозяина Галлии. Удалось ведь Караузию, пусть и было это очень давно, стать таковым в Британии! Бонифация больше нет, Равенна — у него в кармане, с гуннами заключен союз, — похоже, в империи нет силы, способной его остановить! Нужно поскорее забыть всю ту высокопарную риторику, что лилась из его уст, когда он твердил Литорию о необходимости возврата Африки et cetera. Тогда он просто хотел представить себя в качестве «Спасителя Республики». Фактически империя обречена; лишь слепые глупцы, каким был и Бонифаций, этого не замечают. Нужно спасать все, что можно, пока корабль государства не разбился о скалы.
С трудом Аэцию удавалось подавить внутренние голоса, убеждавшие его пойти другой дорогой: голос отца, Гауденция, выдающегося командующего конницы, посвятившего всю свою карьеру служению империи; голос матери, кроткой женщины из благородной римской семьи, которая даже в это циничное время продолжала хранить верность прежним, забытым ценностям; голос Тита Валерия, оставившего свою службу; голос Бонифация, достойнейшего человека и истинного патриота, встретившего свою смерть по его, Аэция, милости. «Лишь благодаря Риму ты стал тем, кто ты есть, — твердили они. — Как ты можешь поступать так, словно ничем ему не обязан?». Сделав над собой усилие, Аэций заставил себя их не слушать, и, словно по команде, голоса смолкли. «Но они вернутся, — с ужасом подумал Аэций, — обязательно вернутся».
* * *
Позднее, в год, когда Аэций стал «Властителем западных римлян» (как принялись величать его писатели), и в тысяча сто восемьдесят седьмой год с основания Рима[19], он узнал, что Руа умер и Аттила наследовал гуннский трон.
Часть вторая Константинополь 434 — 450 гг
Глава 17
Нет у них ни храмов, ни святилищ, нельзя увидеть покрытого соломой шалаша, но они втыкают в землю по варварскому обычаю обнаженный меч и благоговейно поклоняются ему, как Марсу, покровителю стран, в которых они кочуют.
Аммиан Марцеллин. Деяния. 395 г.Венчающий прочный деревянный пьедестал Священный Скимитар блестел в лучах бледного весеннего солнца. Выезжая из лагеря гуннов в сопровождении верного проводника, веселого одноглазого грека, Аттила взглянул на сияющий клинок и улыбнулся про себя. Много лет назад этот меч подарил ему пастух, выкопавший грозное оружие из земли после того, как одна из его коров порезала ногу о выступавшее из травы лезвие. Аттила отложил подарок, да и забыл о нем, но потом, уже став соправителем вместе со своим братом, Бледой, подумал, что меч может стать символом его возросшей власти. Дело в том, что клинок обладал неким удивительным свойством, наделявшим его в глазах простодушных кочевников магической силой. Выкованный из железа, он, тем не менее, не поддавался ржавчине[20]. Очищенный от грязи, в которой пролежал невесть сколько десятилетий, Скимитар засиял так, словно только что вышел из кузни оружейника, и с тех пор неизменно сохранял чистый, незамутненный блеск. Гунны традиционно почитали воткнутое в землю обнаженное оружие. Священный Скимитар, объединивший в себе древний обычай и магическую силу, мог, по мысли Аттилы, сделаться ценным дополнением создаваемой им легенды.
Эффект, который произвело появление меча на гуннов, превзошел все ожидания. После испытательного периода, в течение которого оружие подверглось воздействию стихий и доказало свою неуязвимость, соплеменники приняли клинок как одно из олицетворений их воинственного бога Мурдука, а его владельца наделили полубожественным статусом. Это, рассчитывал Аттила, должно было дать ему немалое преимущество в обозначившейся между ним и Бледой борьбе за власть.
В голове Аттилы постепенно складывался план достижения его народом великого будущего, построения державы, которая раскинулась бы на огромных степных просторах, от Римской империи до Китая. Дабы не разделить печальную участь бесчисленных кочевых племен прошлого, быстро добивавшихся кратковременного успеха и поглощенных или раздавленных затем очередной катящейся на запад волной, народ обязан создать письменные законы и развивать властные институты. Без этого, полагал Аттила, достичь долговременной стабильности невозможно. Рим простоял сотни лет, Китай — тысячи; так почему бы империи гуннов не пережить и тех, и других? При условии, конечно, что им удастся создать прочную, жизнеспособную основу и направить энергию растущего населения в полезное русло. Почему бы и нет? И кто, как не его друг Аэций, нынешний правитель западных римлян, лучше других способен помочь ему заложить фундамент такой империи?
Но Аттила знал: брат, если только не держать его в узде, обязательно попытается все испортить. Злобный, завистливый, болезненно честолюбивый, Бледа возмещал недостаток ума хитростью и коварством. Невозможно было и представить, что он окажет Аттиле содействие в претворении его замысла. А раз так, то брата следует отодвинуть подальше в сторону. И в этом Аттила надеялся на два обстоятельства: обладание Мечом Мурдука и, если нынешнее путешествие принесет сладкие плоды, мощную поддержку своего авторитета со стороны Ву-Цзы. Если легендарный мудрец и прорицатель даст благоприятное для Аттилы пророчество, в глазах людей королевская власть будет освящена самой Судьбой.
* * *
— Каллисфен из Ольвии. Согласитесь, звучит неплохо. Вы, разумеется, обо мне не слышали. Пока. Но еще услышите. Обязательно. Почему? Я слышу, вы спрашиваете, почему. Ответ, друзья мои, прост. Потому что я решил соединить свою судьбу с судьбой того, кому суждено стать величайшим из всех приходивших в наш мир людей, Аттилой, племянником покойного короля Руа, а ныне соправителем гуннов. И дабы вами не овладел соблазн счесть мои заявления жалким пустозвонством, позвольте кое-что объяснить.
Я человек дела (такое определение я предпочитаю слову «купец») и происхожу из рода торговцев, обосновавшихся в далекие времена в Ольвии, греческом городе близ северного побережья Понта Эвксинского, находящегося ныне во владениях гуннов. Мои предки были одними из первых поселенцев, основавших Ольвию за сотню с лишком лет до греко-персидских войн. Единственной целью тех поселенцев была торговля, в коей они весьма преуспели, наладив связи не только со всем скифским миром[21], но и с лежащими за его пределами Индией и Китаем. Один из моих далеких предков, тоже Каллисфен, был главным поставщиком Александра Великого (прошу не путать с другим Каллисфеном, жизнью заплатившим за то, что посмел критиковать приятие македонянами персидских нравов и религии). Ему удалось наладить бесперебойное снабжение не только армии, но и всех тех ученых, чиновников, ремесленников, поселенцев, которые следовали за войском и должны были скрепить новую империю, — люди, в которых нуждался теперь и сам Аттила для претворения в жизнь своего Великого Замысла.
Дело в том, что избрав меня (по причине знакомства со Скифией и непревзойденного — хотя это утверждаю я сам — знания народов, языков, климата и особенностей местности) проводником в нынешнем путешествии к провидцу Ву-Цзы, он поделился со мной некоторыми из своих честолюбивых устремлений. Степная империя, соединяющая Рим и Китай, — громадное незаселенное пространство, открывающее перед его соплеменниками прекрасную возможность распространения на восток. Примерно то же самое, что германцы в своих претензиях на новые территории в римских границах называют Volkerwanderung. Какой человек! Какие замыслы! Но чтобы мысли воплотились в реальность, нужно создать обширную торговую сеть, увязать интересы многочисленных племен, населяющих Скифию.
Но это — дело будущего. Нынешнее путешествие длиной в две тысячи лиг (или, если хотите, в шесть тысяч римских миль) к берегам Байкала, с преодолением шести могучих рек — Борисфена, Танаиса, Ра, Баутиса, Енисея и Лены, — могло бы устрашить обычного путника. Но для гунна и грека, знакомого с местностью, в нем нет ничего невозможного. К цели ведет дорога, хорошая, ровная и такая длинная, какой еще не видывали римляне. Дорога в тысячу миль, широкая и мощеная травой, протянувшаяся от Дакии до Китая — Степной путь. Если не считать реки, естественных препятствий всего два — Сарматские горы и Имай, но они легко проходимы через перевалы. Если идти налегке, меняя коней, то все путешествие займет месяца три, самое большее — четыре, поскольку гуннские лошади выносливы и неприхотливы и могут покрывать сто, а то и больше, миль в день. Отправляться в дорогу следует в мае, чтобы закончить его в августе; в прочие месяцы степи попадают во власть зимы, и тогда холода, по крайней мере за Имаем, воистину ужасны.
Введение закончено, и я, Каллисфен, ольвийский грек, торговец, путешественник, естествоиспытатель (и, коли будет на то ваша воля, Аристотель и Арриан для Аттилы-Александра) открываю эту хронику, «Аттилиаду», «Скифскую Одиссею», в двадцать седьмой год правления второго Феодосия, императора восточных римлян[22].
«XVII июньские календы[23]. Сегодня перешли нашу третью великую реку, Ра, в нескольких сотнях лиг от места ее впадения в Каспийское море. Ширина ее достигает здесь мили, из-за чего переправа заняла немалое время, но наличие многочисленных отмелей и отсутствие сильного течения позволили лошадям переплыть поток спокойно, с остановками. Во все стороны, насколько хватает глаз, раскинулась равнина, богатая травами и бедная прочей растительностью, хотя в глубоких, скрытых неровностями пейзажа оврагах произрастают разнообразные деревья и кусты — ива, черешня, дикий абрикос и прочие. В течение нескольких дней наблюдали большие земляные холмы высотой до сорока футов[24]. Древние захоронения?
Переправившись через реку, встретили кочевников — мужчины верхом, женщины и дети в повозках, скот. Как и все степные племена, они проявили гостеприимство. Воинственные меж собой, эти люди доброжелательны в отношении чужаков. Нас пригласили разделить обед: похлебку из лука, бобов, чеснока с кониной, бараниной и козлятиной, сваренную в большом бронзовом котле. В качестве гарнира предложили рыбу (сушеную), от которой мы отказались. Пили вино и распространенный в здешних местах кумыс, перебродившее лошадиное молоко. Мужчины одеваются в облегающие туники и штаны (удобные для верховой езды и распространенные в степях повсеместно — их носят даже китайские конники). Женщины ходят в длинных платьях и высоких головных уборах с сеткой на лице. И те и другие украшают одежду цветочным орнаментом и драгоценными камеями, а также золотом. Небо чистое. Очень жарко. В племени встречаются рыжеволосые, светловолосые, черноволосые; цвет кожи тоже разный, от белого до оливкового; глаза голубые, зеленые, карие, черные. Различия эти, указывающие на смешение народов, можно объяснить также обычной среди кочевников полигамией. (Пример для римлян, у которых браки с германцами строжайше запрещены.) Различные по крови, степные племена выказывают удивительное культурное единообразие и, хотя говорят на разных языках, общаются между собой на вульгарном персидском. При расставании мы подарили кочевникам бусы из янтаря с берегов Свевского моря (коими запаслись ради таких вот случаев), чем немало их порадовали.
Post Scriptum.
Везде, где бы мы ни бывали, Аттила демонстрировал живой интерес и почтение, подкреплявшие его репутацию как вождя. (Мы путешествуем инкогнито, под видом торговцев, но и оставаясь неузнанным, Аттила неизменно производит впечатление на всех, с кем мы встречаемся; люди признают в нем человека серьезного и основательного.) Уже довелось слышать некоторые из приписываемых Аттиле “изречений”, что весьма его забавляет (однажды я даже заметил, как он улыбнулся). Привожу несколько:
Мудрый вождь никогда не убьет гунна, принесшего плохую весть — только того, который оную не донесет.
Великие вожди никогда не принимают себя чересчур серьезно.
Каждое решение чревато риском.
Никогда не назначай себе заместителей.
Некоторые предлагают решения несуществующих проблем.
Каждый гунн на что-то годен — хотя бы даже служить плохим примером.
Терпи недалекого, но верного гунна и гони умелого, но неверного.
IV июньские ноны[25]. Устроили привал на берегу озера Чам, что между Иртышом и Баутисом. Днем здесь жарко, ночи же очень холодные. (Дело, по моему разумению, в том, что по мере удаления от Океана ветры все слабее согревают землю, а также в том, что чем дальше, тем более мы отклоняемся на север, отдаляясь от территорий с умеренным климатом. Если Птолемей прав, мы должны находиться где-то на широте крайней Фулы[26].) Дно у рек здесь гравелистое, русло постоянно меняется, что ведет к появлению пустынных красноватых берегов и островов, выглядящих весьма странно посреди высушенной земли. Людей мы встречаем все реже (у некоторых заметно проступают черты монгольской расы), а вот зверья становится больше — лоси, медведи, волки, бизоны, дикие лошади, — хотя видим мы их только издалека. Чаще появляются, нарушая монотонность бескрайнего моря травы, леса — еловые, лиственные, березовые. (Открытые пространства степей, как мне доводилось слышать, нередко угнетают дух путешественников и утомляют телесно.) Приятное разнообразие нашему столу придают водящиеся здесь в изобилии фазаны и куропатки. Подстреленные Аттилой (он, как и все гунны, мастерски владеет луком), они становятся желанной заменой привычному сушеному мясу. Соль, добываемую кочевниками из озер, мы вымениваем у них за безделушки вроде зеркалец, иголок и тому подобного.
Аттила часто задумчив и молчалив. Наблюдая за всем глазом охотника, он легко отличает орла от сарыча, которые мне представляются всего лишь точками в небе, но при этом постоянно задает вопросы, свидетельствующие о непрестанной работе мысли. Как думаешь, Каллисфен, почему Солнце движется вокруг земли? Что заставляет предметы падать? Почему издалека вещи кажутся маленькими? Почему чем дальше бросить камень, тем большую силу он обретает при падении? Все эти вопросы свидетельствуют о том, что помимо дара вождя он обладает также глубоким и проницательным умом.
При всем этом, я постоянно напоминаю себе о том, что он остается дикарем, неграмотным варваром, лишенным доступа к сокровищнице письменных знаний, а потому ограниченным возможностями памяти и наблюдения. Способен ли варвар, при всем благородстве его помыслов, преодолеть такие ограничения? Способен ли предвидеть и предупредить то, что уготовано ему будущим? Построить водяные часы или понять учение Пифагора? Рискну предположить, что Аттиле по силам сломать оковы варварства и избежать тирании повседневности. На мой взгляд, он сознает свои ограничения, а это уже половина победы в сражении за освобождение от них. Человек неграмотный, обладая волей и твердостью в сопротивлении внешним влияниям, может, по крайней мере, окружить себя образованными людьми и таким образом обеспечить доступ к знаниям.
XII июльские календы[27]. Сегодня достигли берегов великого внутреннего моря, озера Байкал или Бай-Кул (монголы также называют его Далай Нор, “Священным Морем”), окруженного высокими, поросшими елями холмами. Десять дней назад мы переправились через Енисей, после чего местность сильно изменилась — справа постоянно высятся горы[28], а равнина часто прерывается лесами и холмами. В последнее время шли непрерывные дожди (из-за близости гор?); сильно досаждает мошкара. Обитающие за Енисеем племена — калмыки, буряты, остяки — внешне так похожи на гуннов, что Аттила, похоже, даже удивлен, что его не понимают, когда он обращается к ним на своем языке. Сей факт подтверждает мнение некоторых ученых, что родина гуннов — некая область, лежащая к северу от Китая. Люди здесь разводят оленей, на которых и ездят, сидя на шее животных, поскольку спина у последних слабая и веса человека не выдерживает. Здесь нас угостили напитком, называемым чай. Его подают в форме пирожка, отломленный от которого кусочек заваривают кипятком и пьют со сливочным маслом. Напиток получается слегка горьковатый, но бодрящий, и мне нравится больше кумыса.
Незадолго до выхода к Байкалу, во время привала на берегу Лены, произошел любопытный случай. Из-за ближайшего холма донесся низкий, но приятный музыкальный звук. Через некоторое время он повторился. Поднявшись на холм, мы увидели стоявшего на задних лапах громадного медведя. Передней зверь оттягивал вниз и отпускал ветку, которая, выпрямляясь и вибрируя, производила удивительный звук. (Еще одно доказательство того, что миф об Орфее, умевшем зачаровывать животных игрой на лире, основан на верно подмеченном явлении, а именно неравнодушии зверей к музыке.) Увидев нас, медведь убежал, а мы с Аттилой поочередно попытались согнуть ветку, но потерпели неудачу.
На протяжении многих дней наблюдали разбросанные по земле огромные кости носорогов и слонов, размеры которых, судя по останкам, намного превышали размеры их современных сородичей. Что навело меня на такое размышление: создал ли Творец этих существ (размерами намного отличающихся от нынешних) одновременно, то есть на пятый день, с прочими? Или же оные есть предки (ведь утверждает же Эмпедокл, что формы постоянно меняются, стремясь к более совершенному состоянию) сегодняшних слонов и носорогов, уменьшившихся в размерах за прошедшие века? А может, ставить такие вопросы (бросая вызов Святому Писанию) есть ересь? Думаю, что нет, ведь позволено же Афинским школам обсуждать такого рода проблемы независимо от того, затрагивают они или нет Божественный Логос.
Завтра Аттила отправляется к дому мудреца Ву-Цзы, дабы вопросить (я буду переводчиком), что сулит Судьба; так и греки в давние времена перед началом важного предприятия искали совета у Дельфийского оракула.
Excursus[29]: Terra Nova?
Местные жители рассказывают о земле, лежащей за Океаном, не далее чем в четырех лунах пути на северо-восток, где ее ближайший край отделен от Азии узким проливом шириной всего в десять лиг и с тремя островами. Пролив этот инуиты — так называют себя здешние кочевники — легко преодолевают на своих каноэ, переплывая от острова к острову, как мы переходим реку, ступая с камня на камень; зимой же, когда море замерзает, они пересекают его на собачьих упряжках, хотя и с большими трудностями, поскольку лед там не гладкий, а кочковатый. Не есть ли то потерянный остров Атлантида, о котором в “Тимее” и “Критии” писал Платон и упоминали Плиний, Диодор и Арнобий? Лукиан в своей “Правдивой истории” говорит об острове, лежащем в восьмидесяти днях пути к западу от Геркулесовых Столпов, но его рассказ никто всерьез не принимал. В существование за Западным морем некой Земли Мертвых верят кельты. Они называют ее Авалоном (может быть, речь идет о стране, известной моим греческим предкам как Острова Блаженных?). Впрочем, все это, скорее, относится к области легенд, чем географии.
Что есть Атлантида? Сущее или всего лишь тень? И если она не выдумка, то имеет ли отношение к той земле, что посещают инуиты? Обладай нынешние эллины тем же неуемным духом исследователей, что и древние греки, такие как Пифей[30], тогда ждать ответа пришлось бы недолго.
А пока Каллисфен откладывает свою хронику, дабы помочь Аттиле и Ву-Цзы обсудить другие дела».
С волнением и отчасти сомнением приблизился Аттила к жилищу мудреца Ву-Цзы. Столетний, если верить легенде, старец родился в Китае, откуда еще ребенком отправился с отцом ко двору великого Константина. То было время, когда Рим еще оставался могущественнейшей державой. На обратном пути делегация попала в плен к аланам, на которых юный Ву-Цзы произвел сильное впечатление редким и очевидным даром общения с миром духов и умерших предков. Выпущенный из плена, он развил свой талант благодаря следованию строгой дисциплине и медитации и занял высокое положение среди шаманов кочевых племен.
Спешившись и стреножив лошадей, Аттила и Каллисфен направились к юрте шамана. Отправляясь в дальний путь, Аттила намеревался узнать у предсказателя, какое будущее ожидает его Великий Замысел. Циничный в отношении магических сил Священного Скимитара, он разделял веру своего народа в существование мира духов и с почтением относился к людям, умеющим с ним общаться. Решение оставить Бледу единственным правителем на время паломничества далось не без сомнений, но какой вред мог причинить брат? С другой стороны, вернувшись домой с благословением Ву-Цзы и умерших отца и дяди, с духами которых он надеялся встретиться, Аттила мог не обращать внимания на распространяемые Бледой злобные сплетни.
Он еще только подходил к юрте, когда изнутри донесся пронзительный, режущий слух голос:
— Входи, Аттила. Добро пожаловать.
Гунн вздрогнул — как мог старец догадаться о его присутствии? Путешествовали они с греком инкогнито, а встречавшиеся кочевники едва ли успели бы распространить весть о его прибытии, даже если бы им каким-то образом удалось разузнать его имя.
Аттила вошел первым, Каллисфен последовал за ним. Внутри было тепло и уютно — юрту согревала стоящая в углу бронзовая жаровня. А вот привычные шаманские атрибуты — черепа, кости, высушенные части животных и тому подобное — отсутствовали, что стало для гостей немалым сюрпризом. Богатство убранства совмещалось с простотой и безыскусностью — коврики на полу, китайские свитки с иероглифами, маленький алтарь из незнакомого темного дерева. Сам Ву-Цзы, сухонький человечек невысокого роста, был облачен в тунику из тонко выделанной шкуры оленя и высокие войлочные сапоги. Пушистые белоснежные волосы спускались до пояса, крохотное лицо выглядело гладким и полупрозрачным, а по текстуре и цвету напоминало пергамент. Глядя на него, у гостей складывалось впечатление, что прожитые годы облагородили, обточили и высушили тело, укрепив его против разрушительного хода времени.
— Вы проделали немалый путь и, должно быть, устали, — сказал шаман после того, как Аттила преподнес в дар кипу превосходных мехов и чудесно выделанных шкур. Голос его звучал подобно странным музыкальным переливам. — О цели своей, Аттила, ты расскажешь завтра. Сегодня же, после того, как вы позаботитесь о своих лошадях и перекусите, вам следует отдохнуть и выспаться.
После этих слов гостям предложили простое, но обильное угощение — сушеное оленье мясо, овсяные лепешки и кумыс.
На следующее утро, выспавшись на ложе из шкур, Аттила и грек отправились с Ву-Цзы в лес, на поиски неких особенных грибов, которые, объяснил предсказатель, помогут достичь состояния повышенной восприимчивости, необходимого для общения с духами. Аттила чувствовал себя отдохнувшим и свежим. В такой ясный, сухой солнечный день человек счастлив уже просто потому, что жив. Силы бурлили в нем. Ему не терпелось поскорее вернуться домой и приступить к осуществлению задуманного. Он прекрасно понимал все величие своего замысла и не питал ложных иллюзий в отношении себя самого, зная, что остается в глазах римлян неграмотным вождем кочевого народа — варваром и дикарем. Но он чувствовал свое предназначение, ощущал в себе силы и обладал желанием учиться всему, что понадобится для осуществления замысла. В конце концов, Филипп Македонский был всего лишь вождем немногочисленного, мало кому известного народа, однако же его сын создал империю, равную Римской.
Они поднимались по заросшему высокой, грубой травой склону к густому лесу, а внизу раскинулся широкий, от горизонта до горизонта, Байкал, и отраженный от его глади солнечный свет наполнял воздух прозрачным сиянием.
Аттила спросил шамана, может ли он предсказать его будущее как соправителя гуннов.
— Пойми, сам по себе я ничего предсказать не могу, — ответил мудрец, который, несмотря на возраст, шагал так быстро, что Аттила едва поспевал за ним. — Я всего лишь сосуд, заполняемый посланиями из мира духов. Они приходят независимо от меня. Я даже не могу толковать их. Это дело того, кому они предназначены. Если ж и он не способен понять скрытый в посланиях смысл, остается лишь ждать, пока придет час исполнения и значение раскроется само с полной ясностью в делах и событиях.
Они вошли в рощу на краю тайги, бескрайнего леса, ограничивающего степи с севера. Искать грибы не пришлось, они росли повсюду и сразу бросались в глаза — большие круглые шляпки, красные с белыми точками. Быстро наполнив ими корзинку, вернулись в юрту. Шаман поставил на алтарь бронзовое блюдо и поджег на нем какую-то сладковато пахнущую траву. Поев, он принялся медленно ходить кругами по юрте, ударяя в барабан, сделанный из натянутых на деревянную раму оленьих шкур. От распространяющихся по юрте испарений и монотонного ритма барабана Аттилу потянуло в сон…
Он вздрогнул и очнулся. Прошло должно быть несколько часов, потому что солнечный свет уже не проникал в юрту и она освещалась только тлеющими в жаровне углями. Ву-Цзы отложил барабан (наверное, Аттилу разбудила именно наступившая тишина) и сидел на полу, скрестив ноги и уставившись на что-то далекое неподвижным взглядом похожих на блестящие черные камешки глаз. Внезапно он заговорил, медленно, нараспев.
— Вижу бегущего через равнину дикого осла и парящего над ним орла. Вместе нападают они на кабана и обращают его в бегство. А вот осел преследует другого орла и ранит его еще до того, как тот успевает взлететь. Но орел отбивается, и осел оставляет раненого и нападает на первого орла. На помощь орлу приходит кабан, и совместно они вынуждают осла отступить. — Шаман замолкает ненадолго, потом продолжает: — Видение меркнет… ушло…
Ву-Цзы шевельнулся, качнул, выходя из транса, головой и повернулся к Аттиле.
— Что бы я ни рассказал здесь, искать смысл тебе, — сказал он обычным голосом. — Память моя пуста, и даже если бы ты напомнил мне, что я говорил, я бы все равно ничего не понял. — Старик пристально посмотрел на гостя и уже мягче добавил: — Но есть кое-что еще, что я могу тебе сказать. У тебя благородное сердце и великий ум, Аттила. Но я также чувствую в тебе бурление страстей — гнева, честолюбия, желания. Сами по себе они безвредны, а будучи направлены в нужное русло, способны посодействовать благой цели. Все на свете участвует в борьбе двух противоположных сил, двух начал — темного инь и светлого ян. Пусть твой ян правит твоим инь, и ты достигнешь тогда великих целей. Но если случится обратное… последствия меня пугают. У нас тут говорят так: «Счастлив народ под властью сильного правителя и доброго мудреца». Ты будешь сильным правителем, в этом у меня нет сомнений. Но станешь ли добрым мудрецом?
* * *
Аттила и Каллисфен подъезжали к лагерю, когда их встретил Баламир, молодой гунн, которого вождь спас на Данубии. Вид у него был взволнованный.
— Поторопитесь, господин, как бы не опоздать, — заговорил Баламир озабоченно. — У нас тут такое происходит, даже не знаю… — Он замялся, словно не зная, как продолжить. — Простите, господин, но это касается вашего брата. Я… нет, вам лучше послушать кого-то другого.
Бледа. Этого и надо было ждать. Стоило лишь отвернуться, как братец взялся за свое. Поблагодарив Каллисфена, Аттила разрешил греку временно удалиться и повернулся к юноше.
— Можешь говорить свободно, тебе нечего опасаться. Аттила предпочитает правду, какой бы неприятной она ни была. — Он кивнул Баламиру, к которому успел проникнуться симпатией — после того как Аттила спас ему жизнь, парень сам назначил себя стражем и слугой вождя.
— На следующий день после вашего отъезда, господин, Бледа созвал Совет, — начал Баламир. — Предложил немедленно возобновить действие мирного договора с Восточной империей, прерванное из-за смерти короля Руа.
Аттила чувствовал, как в груди разгорается пламя ярости. Да как он посмел созвать Совет в его отсутствие и без его согласия! Такой поступок нельзя было оценить иначе как намеренное оскорбление. Более того, неприкрытую попытку подорвать его власть. А предложение возобновить мир было всего лишь предлогом.
Вопрос о мире был далеко не прост. Бойи и еще несколько германских племен поменьше, недавно признававшие власть гуннов, возмутились и обратились за защитой к Восточной империи. Феодосий, человек слабый, но желающий казаться сильным, совершил глупость и согласился. Мятежные племена тут же вступили в союз с Восточной империей, правители которой с опозданием поняли, что разбудили тигра. Возмущенный провокацией, Руа в категорической форме потребовал, чтобы восточные римляне отказались от союза с бунтовщиками. Осознав, что попытка сыграть на противоречиях варваров и натравить их друг на друга провалилась, Феодосий и константинопольский сенат вышли из соглашения с германцами и запросили мира. Однако начавшиеся переговоры пришлось прервать из-за смерти Руа.
— И как проголосовал Совет? — глухо спросил Аттила, уже заранее зная каким будет ответ.
— Когда ваш брат предложил, чтобы Константинополь заплатил за мир золотом… — Баламир опустил голову и не договорил. Впрочем, догадаться о том, что было дальше, не составляло труда.
Золото, с отчаянием подумал Аттила, вот что испортит его народ. В недавнем прошлом безразличные к «желтому железу», которое по причине мягкости не годилось для практических целей, гунны в последнее время сделались буквально одержимыми им. Узнав, что золото дает почти безграничную власть и богатство, они забыли обо всем на свете ради обладания им. А тут еще Бледа подбросил им вредную мысль насчет того, что восточные римляне могут стать для гуннов дойной коровой. Подобно жадным мальчишкам, попавшим в никем не охраняемый фруктовый сад и никого не желающим слушать, они быстро отбились от рук и думали только о том, как бы поскорее добраться до сокровищ. Аттила понимал, что если не уничтожит зло в зародыше, не отвратит людей от соблазна, его мечта — сплотить народ в единое целое, пользуясь поддержкой и дружбой римлян, — отодвинется еще дальше. Всего одним неосторожным жестом Бледа мог сорвать весь его тщательно разработанный замысел.
Глава 18
Они помирились на том, чтобы гуннам были выданы беглецы и дано было шесть тысяч литр золота согласно прежним условиям: ежегодная дань была удвоена в две тысячи сто литр золота; за каждого римского военнопленного, бежавшего и перешедшего без выкупа в свою землю, должно быть выдаваемо по оценке двенадцать золотых, а в случае неуплаты принявшие беглеца обязаны выдавать его; римляне не должны принимать ни одного варвара, бежавшего к ним.
Приск Панийский. Византийская история. V в.Хлыст в правой, поводья в левой — Аттила и Бледа стояли друг против друга на лесной опушке. С Аттилой был юный Баламир, с Бледой — воин в возрасте, опытный, крепкий. Подняв руку, он крикнул:
— Никакого другого оружия, кроме хлыстов. По лицу не бить. Схватка продолжается, пока кто-то не сдастся. — Он посмотрел поочередно на каждого из противников и, получив в ответ согласный кивок, опустил руку.
Волоча по земле длинный кнут и не спуская глаз с брата, Аттила двинулся по периметру поляны. Бледа сделал то же самое. Со стороны могло показаться, что их кони соединены невидимой осью. Аттила видел, что противник напуган: нездоровое, расплывшееся лицо блестело от пота, вместо привычной хитроватой ухмылки — нервная гримаса. К тому же Бледа пребывал не в лучшем физическом состоянии и уже начал жиреть — став соправителем, он предался чревоугодию и ни в чем себя не ограничивал. Тем не менее отказаться от брошенного братом вызова Бледа не мог, не рискуя прослыть трусом, — а для гунна, тем более правителя, нет клейма позорнее.
Поединок на кнутах требовал опыта и мастерства, достигаемого только через постоянную и усердную практику, храбрости и трезвого расчета. В идеале цели — вынудить противника отступить или нанести удар — должен достигать каждый выпад, поскольку повторить его быстро невозможно. Наносимые хлыстом повреждения варьировались от рубцов до серьезных рассечений.
Постепенно напрягая правую руку, Аттила выждал удобный момент и нанес удар. Кожаный ремень рассек воздух с быстротой рассерженной гадюки, хлестнул Бледу по плечу и вспорол одежду и кожу. Бледа вскрикнул от неожиданности и боли и выбросил руку в ответном выпаде, но ему недоставало быстроты, и Аттила легко ушел в сторону. В следующий момент кнут метнулся змеей по земле, вскинулся и снова укусил Бледу — на этот раз в грудь. Поединок продолжался, ремни свистели, шипели, сворачивались и щелкали. Превосходство Аттилы было заметно — почти каждый удар достигал цели, тогда как неловкие выпады брата не таили в себе почти никакой угрозы.
Серьезно увечить Бледу Аттила не собирался — он лишь хотел преподать ему урок, наказать за самомнение и наглость, а еще выведать кое-что, о чем брат умалчивал. Баламир рассказал, что после Совета Бледа несколько раз уединялся с некоторыми его членами и вел с ними долгие разговоры. По просьбе Аттилы молодой воин даже подслушал кое-что из этих разговоров, с риском для себя притаившись у юрты Бледы одним поздним вечером. Голоса звучали приглушенно, и разобрать удалось не все, но, похоже, речь шла об условиях, которые следовало навязать Восточной империи в обмен на согласие воздержаться от враждебных действий и возобновить действие мирного договора, за что уже проголосовал Совет. Снести преднамеренное оскорбление, выразившееся в исключении его из обсуждения важнейшего вопроса, Аттила не мог — отсюда и вызов на поединок.
Бледа уставал — удары становились все менее точными, поспешными. В глазах его горели страх, ненависть и что-то еще, что-то непонятное, как будто он готовил какую-то подлость. Какую? Бледа незаметно кивнул, и Аттила вдруг почувствовал, что не может подтянуть хлыст. Оглянувшись, он увидел, что напарник Бледы схватил ремень и быстрым движением обмотал его вокруг пояса. Баламир попытался было вмешаться, но получил удар в висок и рухнул на землю. В следующий момент щеку и нос обожгла резкая боль. Аттила обернулся — опасливое выражение на лице брата сменилось довольной ухмылкой. Бледа уже готовился ко второму удару; первый, придись он чуть выше, оставил бы его без глаз.
Спасение было в быстроте, и Аттила действовал молниеносно. Конь, наученный верно истолковывать малейшее движение всадника и выполнять любой приказ, почувствовал, как колени хозяина сжали его бока и проворно подался назад. Напарник Бледы не успел опомниться, как Аттила врезал ему в лицо кнутовищем.
Здоровяк взвыл от боли, отшатнулся, выпустив ремень, и схватился обеими руками за раздробленную челюсть. Все произошло так быстро, что когда Аттила оглянулся, брат еще не успел даже изготовиться для удара. Ужас мелькнул в глазах Бледы. Он торопливо выбросил руку, но Аттила, не обращая внимания на боль, схватил ремень и резко дернул к себе. Кнутовище выскользнуло из ослабевших пальцев. Аттила бросил хлыст поднявшемуся с земли Баламиру и дрожащим от ярости голосом крикнул:
— Что ж, братец, теперь смотри. Смотри и запоминай, как поступает Аттила с предателями. — Он тронул коня, и охота началась.
После каждого удара обезоруженный Бледа взвизгивал и молил о пощаде, тщетно пытаясь извернуться, укрыться от злобно щелкающего кнута. Кожаный ремень рвал в клочья одежду и кожу, рассекал до костей плоть, делая из Бледы окровавленное чучело. В конце концов он покачнулся, замер, пытаясь устоять, но потом с воплем вскинул руки и свалился мешком на землю.
— Обманешь еще раз, братец, — предупредил, подъезжая ближе, Аттила, — клянусь, я тебя убью. А теперь рассказывай, какие условия ты со своими дружками решил предъявить Константинополю.
* * *
Сцена, выбранная для подписания договора с Восточной империей — возле городка Марг, что в провинции Верхняя Мезия, — как нельзя лучше соответствовала величию момента: поросшая травой равнина в окружении гор, облаченных в наряды из дубовых, каштановых и буковых рощ. Аттила и Бледа, окруженные свитой из вооруженных воинов и наиболее уважаемых членов гуннского Совета, стояли напротив прибывшей из Константинополя римской делегации. Последняя, рассчитывая смягчить воинственных гуннов и выторговать более приемлемые условия, проделала весь путь из Марга к месту встречи пешком. В делегацию входили два посла — Плинт, полководец варварского происхождении, дослужившийся, однако, до консульского звания, и quaestor Эпиген, умудренный опытом государственный деятель, — а также несколько писцов и служивых разного звания, с полдесятка юношей из знатных германских семей, бежавших под защиту римлян, когда гунны захватили их земли. Эти держались настороженно и с опаской.
Эпиген, высокий, представительный, в одеждах, соответствующих его званию, заговорил первым.
— Добро пожаловать, ваши величества, — с легкой улыбкой обратился он к Аттиле и Бледе. — Мой господин, Феодосий Второй, Император Восточной Римской империи, Четырнадцатикратный Консул, Каллиграф, приветствует вас и желает доброго здоровья. Он также выражает надежду, что существовавшие прежде хорошие отношения между двумя нашими народами могут быть восстановлены, а недоразумения, возникшие вследствие ваших германских завоеваний, отойдут в прошлое и будут преданы забвению.
Бледа открыл было рот, чтобы ответить, но Аттила остановил его взглядом и взял слово сам:
— Недоразумение, римлянин, дорого обойдется твоему хозяину. А предать его забвению мы сможем только после того, как получим от вашего правительства справедливое возмещение за союз с нашими мятежными германскими подданными и предоставление убежища и защиты тем из них, кто бежал.
— Справедливо, — согласился Эпиген. — Император готов выплатить разумную компенсацию за все причиненные вам неудобства. Мы желали бы узнать ваши условия.
— Первое: мы хотим, чтобы наши люди получили право свободно торговать на вашей стороне Данубия, — заявил Аттила. — Второе: восемь золотых за каждого бежавшего от нас пленного римлянина. Третье: ваш император объявляет недействительными все договоры, заключенные с врагами гуннов. Четвертое: ваше правительство выплачивает годовую дань в семьсот фунтов золота. Пятое: все находящиеся под вашей защитой беженцы подлежат возвращению.
Вздох изумления пронесся по рядам гуннов, римляне же встретили его мрачным молчанием.
— Семьсот фунтов, это же вдвое больше того, что решил Совет! — запротестовал Бледа. — Они не заплатят — не смогут! У них просто нет столько золота. И выплаты за беженцев, их возвращение — что это нам дает? Мы и без них обойдемся. Как они отыщут всех беглецов? Глупо, брат. Мы ничего не получим.
Аттила и сам опасался, что столь суровые требования могут лишь оттолкнуть римлян, но поддержать свою репутацию, пострадавшую в результате происков Бледы, он мог только одним способом: выдвинув еще более жесткие требования. В денежном смысле они намного превосходили те, что собирались предложить Бледа и члены Совета. К тому же своим заявлением Аттила показывал, что способен действовать независимо от брата и его слово имеет больший вес.
— Это невыносимо! — бросил в сердцах полководец Плинт, опуская руку на рукоять меча. — Чтобы какие-то неумытые дикари диктовали такие условия римлянам — это оскорбление для империи.
— Прошу извинить, господа, — поспешно вмешался Эпиген. — Полководец — человек военный, а не придворный, чем и объясняются его манеры. — Он помолчал и продолжил затем уже с почти просительной ноткой в голосе. — Хотя грубость отчасти оправданна — ваши условия и впрямь тяжелы. Я бы сказал, слишком тяжелы.
— Манеры не важны. — Аттила пожал плечами. — Считаете условия тяжелыми? Может быть, хотите видеть, как горят ваши города? Как ваших людей убивают и уводят в рабство?
— Вы вынуждаете нас пройти между Сциллой и Харибдой! — с горечью воскликнул quaestor и, овладев собой, сбавил тон: — Позвольте нам вернуться в Константинополь и передать ваши требования императору. Боюсь, моей власти недостаточно, дабы соглашаться на такие требования.
Именно такой ответ Аттила и предвидел. Что же делать? Если согласиться и позволить римлянам вернуться в Константинополь, не подписав договор, переговоры растянутся до бесконечности, потому что Феодосий, считающий себя мастером политических игр, будет по мере сил мешкать, откладывать, тянуть. Средства у Восточной империи есть; выплата дани, конечно, отразится на ее финансовом положении, но отнюдь не опустошит казначейские сундуки. В интересах самого Аттилы — для поддержания авторитета среди гуннов и осуществления Великого Замысла — убедить римских посланников подписать договор без отсрочек. То есть сейчас. И, значит, он должен преподать им урок, после которого у них не останется сомнений в его решительности, твердости и способности достигать своих целей любой ценой. К этому он тоже был готов.
— Если вам так трудно расстаться с золотом, — сказал он, не скрывая презрения, — то, может быть, для начала передадите беглецов?
— Предать тех, кого мы поклялись защищать? Никогда! — крикнул Плинт. — Это было бы надругательством над римской честью. Мы никогда…
— Успокойтесь, друг мой. — Эпиген положил руку на плечо полководца. — Как ни горько это признать, иного выхода у нас нет. — Он повернулся к Аттиле. — Берите их — они ваши.
По знаку вождя гуннские воины окружили молодых германцев.
— Что дальше, господин? — спросил командир отряда.
— Распните их, — не дрогнув, ответил Аттила.
— Нет! — Плинт снова схватился за меч. Его удержали, хотя полководец и продолжал сопротивляться и кричать.
Несколько гуннов тут же принялись валить деревья и сколачивать кресты, другие начали копать ямы. Несчастных юношей привязали к крестам, руки и ноги прибили деревянными шипами.
В жуткой тишине, нарушаемой только криками жертв и проклятиями Плинта, гунны подняли распятия и поставили в приготовленные ямки. Аттиле стоило немалых усилий сохранять бесстрастное лицо, в груди бушевали жалость и гнев. Гнев — потому что только глупость брата толкнула его на такой шаг. Он убеждал себя, что преподать урок жестокости его заставляет лишь необходимость, что никакие другие меры не убедят римлян принять его требования без задержки. А еще эта демонстрация должна была подтвердить прочность его власти и заставить Бледу отказаться от попыток ослабить ее.
Все получилось так, как он и хотел. Отношение соплеменников изменилось на глазах: они относились к нему с почтением, которым никогда не удостаивали Бледу. В тот же день, на чудесной полянке, под стоны умирающих на крестах германцев, римляне подписали договор.
* * *
А ночью, оставшись один, Аттила плакал — в первый и последний раз в жизни. Как там сказал Ву-Цзы? «Ты будешь сильным правителем, в этом у меня нет сомнений. Но станешь ли добрым мудрецом?» Что ж, он показал, что может быть сильным. Дабы выжить, дабы сохранить надежду на исполнение пророчества, ему пришлось продемонстрировать силу, переступив через жалость, совершив акт показательной жестокости. А станет ли он добрым мудрецом? Возможно, эта роль не для вождя варваров, как бы он ни стремился примерить ее на себя. Он не хотел этого, но чувствовал — железо вошло в его душу.
Глава 19
…Атилла, единственный в мире, объединивший королевства Скифии и Германии.
Иордан. «О происхождении и деяниях гетов. Getica». 551 г.— Аэций, приветствую тебя, мой старый друг! — воскликнул Аттила. Римский полководец прибыл в лагерь гуннов в сопровождении сына, Карпилиона, коего годы превратили в высокого, прекрасно сложенного юношу. — Рад видеть тебя, Флавий! — в голосе Аттилы звучала искренняя теплота. — И тебя тоже, Карпилион. Вижу, ты сохранил мой подарок.
— Никогда не расстаюсь с ним, господин, — ответил Карпилион, похлопывая по шее прекрасного арабского скакуна. — Назвал его Пегасом — за быстроту и бесстрашие. Помните, господин, как он не испугался медведя?
— Такое разве забудешь? — холодно, вполголоса, произнес Аттила.
— Чем мы заслужили честь видеть вас у себя? — поинтересовался предводитель гуннов, когда он и гости оказались в его личных хоромах в деревянном королевском дворце.
— Я пришел просить тебя об услуге, мой друг, — сказал Аэций. — Очень большой услуге. В прошлом гунны дважды приходили мне на помощь. Выступят ли они на моей стороне в третий, а если понадобится — и в четвертый раз?
— В обоих тех случаях, насколько я помню, мы были щедро вознаграждены, — отвечал Аттила, подливая бузу в стоявшие перед римлянами деревянные чаши. — Так почему бы нам не помочь тебе вновь?
— На сей раз оплаты, возможно, придется ждать долго, — грустно улыбнулся Аэций. — Казна Западной империи почти пуста — а мне еще нужно рассчитаться со стоящими в Галлии войсками. Мы потеряли Британию, Африку и часть Испании, что в разы уменьшило выручку от сбора налогов, а германские племена, обосновавшиеся в Галлии в качестве федератов, от уплаты податей освобождены.
— Но у тебя есть, что предложить в залог, не так ли? — вкрадчиво поинтересовался Аттила, потирая руки — в этот момент он походил на одного из ростовщиков-сирийцев.
— Если только саму Западную империю, — сухо ответил Аэций. — Точнее — то, что от нее осталось. А Карпилион пока побудет здесь в качестве заложника.
— Хорошо, будем считать империю «максимальной гарантией», — засмеялся Аттила. — А Карпилиона мы будем привечать как почетного гостя. Не думаю, что нам нужны столь специфические активы. Заплатишь нам, когда сможешь, Флавий, — добавил он с небрежным великодушием. — Знаю, ты всегда держишь слово. Но скажи, зачем тебе понадобилась наша помощь?
— Галлия — вот моя проблема. Федератам-германцам — франкам и бургундам на востоке, визиготам на западе — разрешено было обосноваться на имперских территориях при том условии, что они пойдут за нас воевать, когда Риму это понадобится. Такой была наша с ними изначальная договоренность. На деле же все вышло иначе — они просто пришли и взяли землю; остановить их мы не могли ввиду собственной слабости. Тем не менее правительству недавно ушедшего из этого мира Гонория удалось сохранить лицо, заключив с ними соглашение, условия которого в целом соблюдались. Они знают, что в ожесточенном бою мою армию победить им никогда не удастся — это-то и является сдерживающим фактором. Но если придется сражаться на нескольких фронтах одновременно, солдат у меня не хватит. К тому же им нужно платить, а наша казна, как я уже говорил, вот-вот опустеет. Но главная моя головная боль — багауды.
— Багауды?
— Разбойники, промышляющие грабежами в Арморике, что на северо-западе Галлии и в некоторых областях Испании. Их ряды пополняются главным образом за счет недовольных своей жизнью крестьян и мелких собственников, которые после уплаты налогов вынуждены влачить нищенское существование, что и толкает их на тропу бандитизма. Зачастую к ним примыкают беглые рабы и дезертиры-солдаты. В Галлии ими руководит некто Тибато — своего рода Спартак наших дней. Они хорошо организованы, имеют собственную курию и квазивоенное правительство. Если галльские багауды поднимут полномасштабное восстание, не уверен, что мне удастся с ними справиться.
— Вижу, забот у тебя предостаточно, — задумчиво протянул Аттила. — Полагаю, ты хочешь, чтобы гунны помогли тебе сдержать федератов и приструнили мятежных багаудов, если твоей армии не удастся этого достичь собственными силами?
— Ты правильно меня понял. Возьмешься ли ты за это — естественно, мы хорошо заплатим, но позже, — возникни такая необходимость?
— Может ли называться другом тот, кто не придет на помощь своему товарищу? Мы с тобой, Флавий, вместе съели не один пуд соли. Так что, считай, мы договорились, — с этими словами Аттила протянул гостю руку — по римскому обычаю. Растроганный до глубины души, Аэций поднялся ему навстречу, и друзья скрепили сделку крепким рукопожатием.
* * *
Возвращаясь в Галлию (уже без Карпилиона), Аэций сравнивал то, о чем говорил Аттила, с собственными намерениями. С помощью гуннов он сможет взять под свой контроль весь северо-запад, вплоть до берегов Германского океана, Свевского моря и Скандии, и это — не считая Германии, королевства, входившего в состав Римской империи. Теперь, получив возможность в короткий срок призвать под свои знамена более пятисот тысяч вооруженных до зубов и весьма искусных в бою всадников, Аэций уже не смотрел на свой претенциозный проект как на нечто несбыточное и далекое. Все части этого грандиозного плана музыкой звучали для его ушей; главным же было то, что ему удалось предотвратить возможное нашествие германских племен, что давало римлянам возможность сконцентрироваться на усмирении галлов.
Атилла же поведал Аэцию о своей давней мечте — основании сильной и прочной империи гуннов, в которую со временем вошли бы все кочевые племена, и просил его помочь в учреждении институтов и ведомств, призванных обеспечить «Великой Скифии» необходимую целостность и стабильность. В связи с этим вождь гуннов познакомил Аэция со своим фактотумом, неким Каллисфеном, говорливым одноглазым торговцем, греком по национальности, кичившимся многочисленными знакомствами с полезными людьми во всех степных регионах. И если сначала Аэций испытывал желание отделаться от Каллисфена как от пустой амфоры, то уже по истечении нескольких минут разговора с ним полководец понял, что человек этот, несмотря на все его хвастовство и бахвальство, крайне компетентен в своей сфере деятельности и безмерно предан Аттиле. Иметь такого на своей стороне пожелали бы многие, что делало Каллисфена в глазах Аттилы помощником совершенно незаменимым и просто-таки жизненно необходимым.
В сущности, размышлял Аэций, планы Аттилы не имеют шансов на успех, даже несмотря на то, что его друг обладает всем набором качеств безусловного лидера. Гунны, даже с учетом последних социальных изменений — а теперь у них была наследственная монархия, аристократия всех видов и экономика, в основе которой лежали если и не настоящие деньги, то, по крайней мере, золотые и серебряные слитки, — слишком примитивны, чересчур свободолюбивы и склонны к кочевой жизни, чтобы загонять себя в рамки законов, налогов, городов, дорог и тому подобного. Но разочаровывать своего друга ему, Аэцию, не хотелось. Поэтому-то и пообещал он Аттиле, несмотря на все свои сомнения, прислать умелых законников и распорядителей, которые помогли бы гуннам привести задуманное в исполнение.
Несмотря на весь свой скептицизм, Аэций был по-настоящему растроган мечтами Аттилы. Уже одно то, что непросвещенный варвар мог ставить перед собой столь возвышенные цели, заставило его, великого римского полководца, испытать чувство глубокого стыда и показало всю узость его собственных амбиций. Они ни в какое сравнение не шли со стремлениями Аттилы и казались корыстными и недалекими. Действительно ли хочет он оставаться лишь удачливым военачальником, феодалом Галлии, разводящим мосты тогда, когда вся Западная империя стремительно идет к своему краху? В конце концов, разве он не в долгу перед империей? Лишь его эгоистичное соперничество с Бонифацием, и ничто другое, признался наконец самому себе Аэций, привело к потере Африки. Возможно, это и станет завершающим, роковым ударом для Запада. Впрочем, есть еще надежда на то, что при поддержке гуннов ситуацию в Галлии удастся стабилизировать, а федераты со временем — по крайней мере, он на это очень рассчитывает — интегрируются в империю в качестве римских граждан (а именно этого статуса визиготы добивались ранее), и утраченные территории в Британии, Африке и испанской Галлиции можно будет вернуть. Их ресурсов и взимаемых налогов должно хватить на то, чтобы по артериям империи потекла свежая кровь.
Ведь всего шесть лет тому назад[31] Герман, в далеком прошлом — доблестный офицер, служивший под началом его отца, решил посвятить себя богослужению и, став епископом в Аутиссиодоре, наглядно продемонстрировал, чего можно добиться в давно покинутой легионами Британии. Посланный туда папой Целестином для искоренения пелагианской ереси, Герман сумел поднять восточных бриттов на борьбу с союзными племенами саксов и пиктов. Воодушевленное воинствующим епископом, британское воинство издало мощный крик «Аллилуйя!» и так деморализовало врагов, что те сочли за благо обратиться в бегство, даже не вступив в открытое столкновение.
Возможно, еще не все потеряно, и когда-нибудь Запад вновь превратится в единое целое, а Рим переживет новый расцвет, какой переживал во времена Диоклетиана и Константина. Аэций понимал, что одних лишь военных побед для этого может и не хватить, здесь нужен новый всплеск патриотического сознания народа. Необходимо избавляться от коррупции чиновников и вводить справедливую систему взимания и распределения налогов. Проблема, конечно, сложная, но — при грамотном руководстве — отнюдь не невозможная. Аэций почувствовал, как пробуждается от долгой спячки его совесть — впервые за многие годы она пыталась достучаться до его разума, и в голосе ее звучало не осуждение, а надежда. «In hoc signo vince», казалось, говорила она, вторя словам увидевшего Крест Константина: «Под сим знамением победишь».
И вот оно явилось ему. Бескорыстное стремление Аттилы построить «Великую Скифию» — вот какой пример должен стоять у него перед глазами.
Сейчас Аэций чувствовал то, что, вероятно, ощущал и державший путь в Дамаск Павел: вот та дорога, которой он должен отныне неукоснительно следовать. В Галлию Аэций вернулся преисполненным оптимизма и прежней энергии. Крепкой хваткой сжимавшие его душу оковы пали, и он вновь ощутил вкус свободы.
Глава 20
Завеса из бесчисленных калькуляций, погружавших разум в непреодолимый мрак, разрушена.
Эдикт Валентиниана III против нечистых на руку финансистов. 450 г.— Есть у меня один приятель. Работает в казначействе, в Равенне, — Синезий, многообещающий ученый-законовед, окинул Флакка, сына мелкого землевладельца, задумчивым взглядом. Разговор свой молодые люди вели в calidarium, единственном из сохранившихся в Вероне термальных залов с бассейном для горячей воды. Флакк, пару недель назад получивший наследство, пришел туда проконсультироваться с другом о более-менее доходном способе инвестирования денег. — За небольшое вознаграждение, — продолжал Синезий, — думаю, я смогу уговорить его пустить в ход кое-какие из его связей. Я знаю — так уж случилось, — что в Первой Белгике в скором времени освободится должность canonicarius, финансового контролера, ответственного за поступление в казну налогов. Назначение на эту должность происходит с согласия префекта претория. Меня вот что интересует: если твое прошение о приеме на службу будет удовлетворено, может ли префект рассчитывать на некую, ну, скажем так, «компенсацию»?
— Но… разве это не противозаконно? — предложение друга, казалось, потрясло Флакка до глубины души.
— До чего ж ты наивен, — вздохнул Синезий, закатив глаза. — Конечно, противозаконно; я полагал, все это знают. Но пока подобная система работает, кому до всего до этого есть дело? Иначе сейчас ничего не делается, в этом я могу тебя заверить. Ну, так что, связаться мне со своим приятелем?
«Написано в Равенне, в казначействе, в год консулов Ареобинда и Аспара. Апрельские ноны[32].
Мой дорогой Синезий, благодарю за sponsio, она оказалась весьма кстати. На днях встречался с префектом претория касательно прошения твоего друга. Префект просил передать ему, что suffragium, то есть откат за эту должность, составляет сто solidi. Конечно, твоему товарищу придется пройти собеседование, но это не более чем формальность. Сам понимаешь, нам важно, чтоб он обладал «необходимыми достоинствами» (id est, происходил из хорошей семьи, был образован и лоялен), нежели хорошо разбирался в финансовых вопросах — с этим ему помогут справиться помощники, которых мы ему предоставим.
Сто solidi могут показаться твоему другу довольно-таки большой суммой, поэтому объясни ему, что если он в должной мере проявит на этом посту все свое воображение и инициативу, то сможет за два года отбить на этом месте сумму как минимум вчетверо превосходящую первоначальные издержки. Кроме того, будет он получать и жалованье: конечно же, чисто номинальное, но он ведь на другое и не рассчитывал, не правда ли?
Кстати, занимаясь организацией встречи с префектом, я был вынужден действовать через tractator, посредника, который помогает ему решать вопросы с местными властями. Сам понимаешь, пришлось немного подмазать и этого малого. На что только не пойдешь ради друзей! Знаешь винную лавку Руфио в Вероне, рядом с амфитеатром? Так вот, пришли мне с одной из попутных повозок амфору-другую фалернского, и будем считать, что мы в расчете…»
— Грабеж, самый настоящий грабеж, вот что это такое! — вскричал правитель Первой Белгики, швырнув на стол последний из свитков, представленных Флакком ему на ознакомление. Сумма земельного налога, которую должна была заплатить в казну его провинция в этом году, вновь выросла, причем значительно. Вид из окон выходившего на реку Мозеллу tablinum укрепленной виллы правителя открывался удручающий: запущенные виноградники, заброшенные дома, покрытые чахлой растительностью поля — повторяющиеся время от времени набеги франков не могли пройти для Первой Белгики бесследно. А ведь всего два поколения назад поэт Авсоний, описывая эту провинцию, называл ее земли улыбчивыми и плодоносными!
Флакк в ответ лишь пожал плечами.
— Такое уж сейчас время. Государству нужно собирать iu-gatio, а то нечем будет платить армии. А без армии все это, — он указал на унылый пейзаж, — в одночасье станет частью barbaricum. — К удивлению своему, в новую работу он втянулся быстро и безболезненно. В конце концов, человеку свойственно думать прежде всего о себе, особенно в столь неустойчивые времена, и особенно тогда, когда должность, подобная той, которую занимал Флакк, дается ему всего на два года — а ведь за это время он должен обеспечить свое будущее. Кроме того, безжалостно подумал Флакк, мне ведь среди этих людей не жить.
— Но в некоторых случаях сборы вырастают аж на тридцать процентов! — попытался возразить правитель. — Можно ли чем-то оправдать такой прирост?
— Что ж, рассмотрим ситуацию на конкретных примерах. Возьмем, к примеру, вот эту деревушку, Субиак. Посетив ее с повторной инспекцией, мы обнаружили, что в последние пять индикций[33] ее жители забывали платить налог с нескольких сотен плодородных iugera. Боюсь, им все же придется заплатить эквивалентную пошлину. Добавьте сюда соответствующую пеню — и вы получите указанную сумму.
— Скажете тоже — «плодородные»! Послушайте, я знаю эти места. Да эти земли перепахать не всегда удается! Доходит до того, что их собственники просто-напросто пускаются в бега — и все для того, чтобы избежать преследований со стороны сборщиков налогов. Там сейчас так мало рабочих рук осталось, что в скором времени эти территории превратятся в самую настоящую пустыню.
— Но не официально. В наших документах, да вы и сами это знаете, эти почвы значатся как «плодородные». А со всех зарегистрированных участков земли взимается налог. — Флакк наградил собеседника самой обворожительной своей улыбкой. — Ничего личного, как вы не поймете? Кроме того, у некоторых из оставшихся в Субиаке coloni имеется задолженность перед государством. Они божатся, что все долги выплатили, но подтверждающих сей факт квитанций предоставить не могут.
— Кто же будет хранить квитанции — в особенности, если речь идет о бедных, необразованных селянах?
— Ничем помочь не могу, — вежливо, но твердо сказал Флакк. — Поверьте, если бы я мог закрыть глаза на подобные упущения, с удовольствием бы так и сделал. Но я лишь…
— Знаю-знаю: «…делаю свою работу», — резко оборвал его правитель. Он окинул Флакка долгим, изучающим взглядом. — Представляют ли вообще ваши люди, сколько бед и несчастий причиняют простому народу эти ваши поборы? Я уж не говорю обо всех этих дополнительных налогах, которыми вы постоянно нас обкладываете.
— Кому сейчас легко? Все мы должны чем-то жертвовать.
— Только почему-то одни жертвуют гораздо большим, нежели другие, — возразил правитель провинции, выразительно посмотрев на упитанную физиономию Флакка и его дорогой byrrus, плащ с капюшоном. — Не беспокойтесь, мы все выплатим. — Он презрительно усмехнулся. — Все, до последнего solidus. Но только потому, что декурионы, члены наших городских советов — те люди, за счет которых и держится еще на плаву наша империя, — покроют недостачу из своих карманов. Только не удивляйтесь потом, почему они вынуждены жить в нищете или обращаться в бегство.
— Вы же знаете, они всегда могут подать апелляцию, — Флакк добавил в свой голос ноту озабоченности. — Суды префекта претория или министра финансов со всей тщательностью их рассмотрят и…
— Да что толку от всех этих обращений? — резко оборвал его правитель провинции. — Эти люди не настолько богаты, чтобы позволить себе тратиться на суды и подношения судьям. — Он собрал валявшиеся на столе свитки в стопку. — Не имею права вас больше задерживать. Вас ведь, в конце концов, — продолжил он с мрачным сарказмом, — еще ждет ваша работа.
Глава 21
Люди живут там по естественным законам; там даже крестьяне ораторствуют, а частные лица выносят приговоры.
Безымянный автор. Querolus. V в.На фоне унылого и безбрежного пейзажа медленно перемещались три человека, похожие на три крошечные точки, — единственные, кто двигался в этой болотистой местности, то тут, то там пересекаемой неторопливыми притоками нижней Секваны. Пару дней назад, совершенно случайно, встретились они чуть южнее Самаробривы, и, когда обнаружилось, что все трое отреклись от Рима и направляются в одно и то же место, решили путешествовать вместе, для большей безопасности.
Старший, худощавый мужчина лет пятидесяти с властным выражением лица, быстро проявил лидерские качества. Его, когда-то блестящий и изысканный, теперь же — перепачканный и заметно пообтрепавшийся, далматик свидетельствовал о декурионском статусе своего хозяина. Когда путники увидели, что их преследуют охотничьи собаки, тощие лохматые псы одной из британских пород, именно он потянул за собой своих новых товарищей, уговорами и запугиваниями заставляя их находить в себе новые силы для невыносимого многочасового ухода от погони. Сбить собак со следа они, измученные и истощенные, смогли, лишь переправившись через проточные воды.
Мозолистые руки и заметная сутулость самого юного из троицы, мускулистого парня лет восемнадцати, говорили о том, что он привык иметь дело с плугом и знаком с тяжелым крестьянским трудом не понаслышке. Грязная повязка на большом пальце его правой руки скрывала рану. С его красивого лица ни на секунду не сходило выражение печали и обиды — такое бывает у убитого горем пса, которого внезапно выкинул на улицу неблагодарный хозяин.
Третьему из путников можно было дать как тридцать, так и пятьдесят лет. От необходимости постоянно прищуриваться во время шитья — а был он, как вы узнаете чуть позже, сапожником — взор его стал затуманенным, от работы с шилом огрубели ладони, а на лице было написано такое отчаяние, что сразу становилось ясно: дух его сломлен, а жизнь катится под откос.
День за днем эти трое пробирались по болотам на запад. Время от времени они натыкались на то, что некогда считалось насыпью, но в основном вынуждены были идти через трясину, проваливаясь порой по пояс. Еще недавно, во времена правления Грациана, земли в этих местах были плодородными и орошаемыми. Но теперь, когда — «благодаря» непомерным земельным налогам и участившимся набегам кочевых племен — численность проживающего здесь населения уменьшилась в разы, территория эта приняла свой первозданный облик и пополнила перечень необрабатываемых земель в архивах Равенны. Наконец болотистая местность сменилась твердой почвой, и на десятый день с момента их встречи, когда уже не оставалось ни корок черствого хлеба, ни ломтиков далеко уже не свежей ветчины, путники вышли к стремительно бежавшей на восток реке и поняли, что вскоре их мучениям придет конец — взору их предстали гранитные холмы Арморики.
* * *
Пробудившись ото сна, Марцелл, старший из троицы, заметил, что опушка, где они решили сделать привал, окружена людьми. То были смуглые крепыши в залатанных домотканых одеждах, накидках из кожи, превратившихся в лохмотья цивильных римских платьях и армейских униформах. Один из них, высокий мужчина, судя по висевший на шее витой серебряной цепи и невозмутимому виду — вожак этой группы, выступил вперед и обратился к беглецам.
— Добро пожаловать в Арморику. Вижу, вы путешествуете налегке. По делам здесь или же удовольствия ради?
Человек образованный, понял Марцелл.
— Бежим от римской тирании, — ответил он, не отводя взгляда. — Надеемся начать новую жизнь среди багаудов, народа, который, в отличие от римского правительства, с уважением относится к свободе и справедливости.
— Свобода и справедливость, — скривил физиономию собеседник. — Понятия благородные, но, боюсь, в столь тяжелые времена — явная роскошь. Однако вы не ошиблись, именно этими принципами мы и стараемся руководствоваться. Девиз наш прост: «От каждого по способностям, каждому — по труду». И, скажу я вам, он работает, — ухмыльнулся здоровяк. — По крайней мере, в большинстве случаев.
— Так вы багауды?
— Бандиты? Так нас называют римляне. Мы же предпочитаем другое имя — «свободные арморицианы». Когда-то мы были такими же гражданами Рима, как и вы. Но, как и вы, сочли римское правительство деспотичным и несправедливым и, решив навсегда забыть про Рим, основали здесь, в северо-западной глуши, собственную республику.
Он окинул беглецов оценивающим взглядом.
— Надеюсь, вы понимаете, что перед тем как принять вас, мы должны понять, можете ли вы принести пользу нашему обществу. Иждивенцы нам не нужны. Для начала вас, конечно же, накормят, а то выглядите вы, честное слово, неважно.
Несколько часов Марцелла и его спутников вели по лесным тропам. Пару раз на глаза им попадались стоявшие у дороги жутковатые указатели: на прочном столбе с деревянной табличкой красовался череп. Спросив, что означают эти знаки, Марцелл услышал исчерпывающий ответ:
— То головы казненных преступников; внизу указано, за что они были приговорены к смерти.
Наконец они вышли на опушку, где стояли с дюжину кривеньких, но с виду вполне устойчивых хижин. Вокруг них с криками носились дети, чуть поодаль занимались приготовлением пищи женщины. С противоположной стороны росчисти, из леса, появились несколько мужчин, несшие сельскохозяйственный инвентарь — с ближайших полей или делянок, предположил Марцелл.
— Столица моего собственного небольшого владения, — пояснил предводитель багаудов. — Мы, свободные арморицианы, — люди независимые. Живем в общинах, наподобие этой, в каждой из общин есть глава и старейшины. Заправляют же всем Великий совет и его председатель, Тибато. Имеется у нас и свод законов, которому все подчиняются.
— А что бывает с теми, кто нарушит закон?
— Обсуждение мелких проступков проходит на общинном уровне. Серьезные преступления рассматриваются трибуналами, назначаемыми Великим советом. Ну вот, мой нос подсказывает мне, что ужин уже почти готов. Пойдемте же поедим.
После плотного ужина, основным блюдом которого была похлёбка из дичи, гости промочили горло кисловатой на вкус бражкой. Затем всех троих проводили в большую хижину, где собрались на совет старейшины, и попросили рассказать о себе.
— Меня зовут Марцелл Публий Басс, — начал старший из троицы. — Я декурион имперского города Августа-Треверор, что в провинции Первая Белгика.
* * *
«Вот и пришло время индикций», — невесело подумал Марцелл. На календаре было первое сентября, первый день нового фискального года, время подбивать годовой бюджет, параметры которого находились в прямой зависимости от размеров налоговых сборов.
Марцелл, один из членов совета, ответственных за сбор государственного дохода в Августе, сидел за столом в своем кабинете в просторной кирпичной базилике, построенной сотню лет назад, во времена Константина. Некогда, вздохнул он печально, члены самых достойных городских фамилий соперничали за честь служить обществу. Но то было в далекие времена его прапрадедов, еще до того, как пытавшийся вывести империю из упадка Диоклетиан провозгласил наступление эры экономии и тягостных налогов. Теперь же декурионы являлись простыми агентами тиранического государства, основными обязанностями которых стали выбивание денег из соотечественников, вербовка рекрутов для армии да помощь в управлении имперскими приисками и имениями. Большая часть средств уходила на армию, которая, казалось, была уже не способна защитить граждан от варварских вторжений.
С каждым годом собирать налоги становилось все более и более трудно. Но — никуда не денешься, мрачно подумал Марцелл. Такие, как он — те, кто владели сорока югерами земли, — вынуждены были служить декурионами. Более богатые граждане — сенаторы или всадники — не только могли избежать этой неблагодарной доли, но и всегда находили способы отсрочить уплату налогов, а иногда и вовсе от нее уклониться, и налоговое бремя в полном объеме ложилось на плечи бедняков.
В этом году собрать необходимую государственной казне сумму не представлялось реальным. Урожай, по всем признакам, должен был стать худшим за последние десять лет, а стремительно пронесшиеся по провинции бандиты-франки оставили после себя охваченные дымом деревни и почерневшие от копоти поля. Будучи человеком сострадательным, Марцелл ненавидел свою работу, которая заключалась в выуживании денег у крестьян и ремесленников; многих из них уплата семи solidi могла привести к разорению.
В дверном проеме возник слуга.
— Явились, господин, — нервно пробормотал он. Когда наступало время индикций, Марцелл становился крайне раздражительным, о чем окружающие, конечно же, знали.
— Так проводи их ко мне! — рявкнул Марцелл.
— …А это — твой, — Марцелл пристально посмотрел на вожака второй группы, отъявленного головореза, назначенного на эту должность правителем провинции.
− Только не забывайте, — проскрежетал он, − что эти люди — такие же граждане Рима, как и вы сами. Будьте сдержанны и уважительны. Если я вдруг уз… — Марцелл оборвал себя на полуслове: любые угрозы были напрасны. Не удастся им собрать долги — ему придется восполнить дефицит из своего кармана. Тут уж, хочешь не хочешь, но вынужден будешь закрыть глаза на то, как именно эти долги выбиваются.
— О наших методах убеждения? — с дерзкой ухмылкой договорил здоровяк за Марцелла. — Мы будем кротки как ягнята, правда, парни? — продолжил он, повернувшись к своим людям, которые закивали головами в знак согласия. Некоторые из них при этом многозначительно коснулись болтавшихся на поясах дубинок.
Когда последний из compulsores вышел из комнаты, Марцелл обнаружил, что руки его трясутся, а сердце бьется быстрее обычного. Никогда в жизни ему еще не было так стыдно.
* * *
Петра-сапожника мучили смутные опасения, из-за них он не мог сконцентрироваться на работе. Выплюнув гвозди изо рта, он в третий раз проклял утро — засовывая подошву в ботинок, он попал молотком по пальцам. Зажав между зубами мелкие гвозди, в который уже раз попытался сосредоточиться на работе. Не получилось. Страх, охвативший его за многие недели до индикций, сидел в Петре как ком в горле. Сборщики налогов могли явиться в любой момент, а у него не было и половины от нужных им семи solidi, не говоря уже о долге, оставшемся с прошлых индикций.
Большую часть прошедшего года Петр старался на всем экономить, работал до глубокой ночи, при тусклом свете лампы, работал до тех пор, пока его глаза не начинали болеть. В итоге ему удалось скопить достаточно nummi — маленьких медных монеток достоинством в одну семитысячную solidus — для того, чтобы погасить сразу оба долга. Но тут в районе, где жил Петр, появились свирепые светловолосые громилы, франки, а с ними в его дом пришла и беда. Он-то наивно полагал, что помещенные на дно кувшина, спрятанного под глиняным полом в мастерской, небольшие опечатанные мешочки, folles, в каждом из которых он хранил по тысяче nummi, будут в безопасности. Но у налетчиков были свои, эффективные методы дознания: подержав жену сапожника над открытым огнем, они узнали все, что хотели. Ожоги женщина получила поверхностные, но серьезные, и, через неделю после того как франки ушли, умерла от заражения крови на руках у Петра и их двенадцатилетней дочери.
* * *
— Отпустите его, — с раздражением приказал вожак compulsores. − — Он говорит правду. Похоже, франки забрали все его имущество. — Неохотно, те все же подчинились, и Петр упал на грязный пол — без трех зубов и со сломанным носом.
Главарь обвел мастерскую наметанным взглядом.
— Возьмите инструменты и изделия, — приказал он. − Может, удастся хоть что-то за них выручить на торгах. И осмотрите дом!
— Смотрите-ка, кого я нашел! Пряталась в уборной, — один из парней не сдержал похотливой улыбки. − Худая, как ощипанная курица, и молоденькая. Но ведь не слишком, — похотливо подмигнул он главному.
Тот лишь пожал плечами и безразлично сказал:
— Что ж, дело твое.
Придя в себя, Петр услышал тихий скрип — он доносился из соседнего с мастерской помещения. Ворвавшись в комнату, он увидел висевшую под потолком дочь; ее изуродованное тело медленно раскачивалось из стороны в сторону…
Убитый горем, Петр похоронил свою дочь на заросшем травой заднем дворе, после чего сделал узелок из своей туники, положил в него кусок черствого хлеба — всё, что оставили ему сборщики налогов, — и зашагал на запад. Поговаривали, что в Арморике народ живет свободно и не платит налогов. Теперь, когда он потерял все, что имел, у него оставался один лишь выбор — зажить новой жизнью вдали от Римской империи.
* * *
Неловко держа топор левой рукой, юный Мартин занес его над лежащем на колоде вытянутым большим пальцем руки правой. Во рту у него пересохло, в глазах помутнело. Он слышал, как бешено бьется его пульс. Дважды Мартин отставлял топор в сторону, не находя в себе смелости нанести удар. Вдруг до него донеслись приглушенные голоса bucellarii, личных слуг землевладельца, которых он, как и многие другие галльские богачи, нанял для обеспечения собственной безопасности в смутные времена. Понимая, что действовать нужно немедленно, Мартин сжал зубы и что было силы махнул топором.
…Едва Мартин научился ходить, его припрягли к работе в имении, где, в качестве coloni, трудились его родители. Работа в поле, где легко можно было надорвать спину, никогда ему не нравилась, и при первой же возможности Мартин убегал в росшую рядом с полем чащу. Там он любил изучать диких животных и растения различных видов, рыбачить, а иногда и просто мечтать. Как бы он хотел попасть в монастырь, вроде тех, какие, по слухам, основал шестьдесят лет назад в далеких Цезародуне и Лимоне его тезка Мартин, который, перед тем как его отдали в легионеры, был обыкновенным крестьянином! Вот тогда-то, говорил себе Мартин, мне и пригодится все то, что я знаю о флоре и фауне. Но когда он попросил землевладельца отпустить его в монастырь, то узнал о недавнем указе императора, запрещавшем подобный уход. Оказывается, он, Мартин, был adscriptus glebae, привязан к земле, и сам распоряжаться своей судьбой не мог.
Был только один способ изменить свою судьбу — армия, альтернатива, которая для тихого мечтателя Мартина по своей привлекательности уступала даже жизни colonus. Как и все жившие в огромных имениях богачи, землевладельцы должны были снабжать армию рекрутами, которых хоть и выбирали произвольно, поставлять были обязаны регулярно. Выбирали обычно тех, кто приносил меньше других пользы, поэтому ничего удивительного в том, что управляющий имением заявил Мартину, что за ним на следующее утро придут вербовщики, не было. Но Мартина эта новость удивила. Удивила и шокировала. Мысль о том, что (с точки зрения землевладельца) он мог оказаться идеальным рекрутом, никогда не приходила ему в голову. Ужас охватил Мартина, когда он понял, что единственное спасение — отрубить себе большой палец руки, желательно правой, и тогда его, вероятно, признают негодным к службе.
* * *
Мартин в шоке уставился на валявшийся на земле отрубленный палец, затем — на рану, открывшую кость, которую в ту же секунду залило кровью. Без большого пальца рука его уже не походила на руку: скорее, она напоминала переднюю лапу какого-нибудь животного. Скорчившегося от боли Мартина стошнило; но перед тем как потерять сознание, парень успел прикрыть рану мотком сотканной пауками паутины и наложить повязку — всё это он приготовил заранее.
Когда Мартин пришел в сознание, вокруг него стояли bucellarii, один из которых тряс его за плечо. Затем его провели в помещение, где, помимо управляющего, находились еще трое солдат в повседневных, ничем не украшенных туниках с круглыми нашивками цвета индиго на рукавах и плечах. Судя по их высокому росту и соломенным волосам, то были германцы, вряд ли кого-то в этих местах знавшие. Мартин заметил, как управляющий передал их circitor, главному, набитую монетами бурсу.
Когда юноша продемонстрировал свою правую руку, circitor лишь пожал плечами и усмехнулся.
— Еще один murcus, — ни малейшего намека на враждебность в его голосе не прозвучало. — Зря ты отрубил себе палец, парень. Новый приказ: брать всех, даже калек. Два murci приравниваются к одному здоровому рекруту.
Он показал пальцем на Мартина, затем — на бурсу в своей руке.
По пути в город, где остановились сопровождавшие Мартина германцы, они проезжали по мосту через один из быстрых притоков реки Мозеллы. Улучив момент, Мартин сиганул через парапет. Его тут же унесло течением, но примерно через милю юноше все же удалось выбраться на берег.
Отхаркнув воду из легких, Мартин определил свое местоположение — по солнцу. Полагаясь скорее на инстинкт, нежели на какой-то план, он двинулся на запад. Вернуться в имение Мартин уже не мог, — ведь для того чтобы избавиться от него и не поставлять второго — здорового — рекрута, землевладелец заплатил хорошие деньги. Кроме того, именно там бы в первую очередь его и стали искать вербовщики. Мартин слышал, что где-то на западе — как далеко, он не знал — есть такой край, который зовется Арморикой. Люди там равны и свободны, там нет ни землевладельцев, ни coloni, ни законов, привязывающих людей к сельскохозяйственной работе. Вопрос был лишь в том, могли ли там найти убежище люди бедные и отчаявшиеся, изгои? Ответа на него Мартин не знал, но решил рискнуть.
* * *
После того как все задолженности были собраны и Марцеллу удалось подвести итог налоговых поступлений, он, как старший декурион, созвал срочное собрание всех советников Аугуста-Треверора; пройти оно должно было в городской базилике. В этом году они собрали меньше половины от того, что требовало правительство, и то был самый плачевный результат за последние несколько индикций.
— Ну и что будем делать? — спросил Марцелл, поставив изумленных членов курии перед фактом. — Сидеть и ждать манны небесной мы не можем, необходимо что-то решать. Готов выслушать любые предложения.
Убедившись в том, что все осознали важность проблемы, он почувствовал себя намного спокойней.
— Но как — как такое могло случиться? — воскликнул новый член совета, полный молодой мужчина; он был бледен и заметно волновался.
— Полагаю, к этому давно все шло, — спокойно ответил Марцелл. — Просто мы не желали смотреть правде в глаза. В этом же году мы столкнулись с целым рядом неприятных обстоятельств, каждое из которых в отдельности могло вызвать серьезные проблемы. Вместе же они привели к катастрофе. Ничтожный урожай, разорительные налёты варваров, армия, которая не может помочь, так как находится в Аквитании и Италии: все это не могло не сказаться на налогоплательщиках, и без того обремененных уплатой повинностей. Как результат — и предсказать его было не трудно — массовые бегства в Арморику или к землевладельцам с огромными имениями. В последнем случае, практически отдавая себя в рабство, люди хотя бы имеют возможность обезопасить себя от варваров и алчных сборщиков налогов.
— Это просто бесчестно! — вскочил на ноги один из старожилов курии. — Они должны быть возвращены назад, побитые и клейменые позором. Иначе куда движется империя, хотел бы я знать?
— Не думаю, что мы должны последовать вашему совету, − резко ответил Марцелл. — Послушайте, я понимаю, что правительству нужны эти налоговые поступления, — деньги идут на содержание армии. Но то, что все налоговое бремя ложится на плечи бедняков, вряд ли справедливо. Если б государство нашло способ заставить богачей платить суммы, пропорциональные их состоянию, то мы быстро искоренили бы коррупцию, процветающую среди сборщиков налогов, а это наполовину решило бы нашу проблему.
— В этом никто и не сомневается, — прозвучал чей-то усталый голос. — Но в январе нас ожидает засуха. Кроме того, нам еще надо восполнить дефицит бюджета. А достав недостающую сумму из собственных бурс, мы и сами окажемся в безвыходном положении.
В конце концов Марцелл призвал всех к порядку.
— Господа! — его властный голос заставил собравшихся замолчать. — Позвольте и мне внести предложение. Почему бы нам не просить правительство облегчить повинности тем провинциям, которые пострадали от набегов варваров? К примеру, в девятнадцатый год правления нашего императора Гонория налоги в субурбикарных провинциях Италии были уменьшены на одну пятую. Я сегодня же напишу правителю нашей провинции письмо, где тщательно обосную наше тяжелое положение и попрошу вынести проблему на рассмотрение в равеннской консистории. Полагаю, ответ мы получим не ранее чем через месяц — сами знаете, как работает имперская почта. Предлагаю тогда и собраться. Вдруг что-то изменится?
Но еще до того, как последний декурион покинул базилику, Марцелл для себя решил, что на следующем собрании его не будет. Вряд ли Равенна ответит. На реформирование системы сбора налогов либо же смягчение финансового давления на пострадавшие от налетов области правительству Валентиниана не хватит ни воли, ни компетенции. А продолжать служить государству, готовому выжать последнее из бедняков лишь для того, чтобы сохранить свой статус, он не желал. «Сегодня же отправлюсь в Арморику и начну новую жизнь среди багаудов», — решил Марцелл. (Вдовца, чьи дети уже давно покинули дом, ничто не держало.) Рим, которому едва хватало средств для сохранения контроля над Галлией, давно уже отказался от претензий на управление тем, что все еще официально называлось Третьей Лугдунской провинцией.
Иллюзий Марцелл не питал. Ему, человеку пожилому и состоятельному, отказ от прежней жизни дастся нелегко, да и общество изгоев и невежественных крестьян вряд ли окажется приятным. «Что ж, — подумал он, — посмотрю, чего я стою». Странно, но, возвращаясь домой по улицам, которые еще сохраняли следы последнего, случившегося двадцать лет назад, нападения варваров, он вдруг почувствовал какой-то душевный подъем, словно если бы с плеч его свалилась тягостная ноша.
* * *
…Когда последний из беглецов, Мартин, закончил свой рассказ, всех троих попросили выйти из хижины, для того чтобы старейшины могли прийти к какому-либо решению.
— Декурион пусть остается, — сказал глава старейшин. — Он стар для работы на полях, но честен и мудр и принесет много пользы в управлении нашей общиной. Предлагаю оставить и портного. Возможно, дух его и подорван, но профессиональные навыки нам пригодятся — от такого мастера грех отказываться. Согласны?
По хижине пронесся одобрительный ропот, и он продолжил.
— Хорошо. Теперь — паренек. Он молод и силен, но увечье ограничивает сферы деятельности, в которых он может быть полезен. К тому же то, что пацан готов был отрубить себе палец, лишь бы избежать службы в армии, явно говорит о его моральной распущенности.
— Так что, прогоним его? − спросил один из старейшин.
— Это было бы неразумно. Парень — обуза, как для себя, так и для нас. Если мы его отпустим, он вполне может навести на нас римлян. Придется от него избавиться.
Вожак замолчал, ожидая возражений, но их не последовало.
— Что ж, решено. — Он кивнул самому дородному члену совета. — Займись этим. Убедись, что тебя никто не видел, и хорошенько спрячь тело. Найти его не должны.
Глава 22
Среди этого ограбляются бедняки, стонут вдовы, затаптываются сироты настолько, что многие из них, имея нетемное происхождение и благородное воспитание, убегают к врагам, чтобы не умереть от мучения общественного преследования, т. е. ища у варваров римской человечности, так как у римлян они не могут сносить варварской бесчеловечности.
Сальвиан. Об управлении божьем. 435 г.Тибато поднял руки, и в полуразрушенном, до отказа заполненном людьми со всех уголков Северо-западной Галлии, от Лигера до Секваны, амфитеатре водворилась тишина. Тот, кто попытался бы описать всю эту огромную толпу одним словом, вероятно, назвал бы ее разнородной. Большую ее половину составляли coloni, крестьяне или мелкие землевладельцы, одетые в потрепанные, с неровно пришитыми заплатами, туники; встречались здесь и такие, чьи некогда превосходные далматики свидетельствовали о декурионском статусе их обладателей; многие носили на руке клеймо раба или рекрута. У некоторых из пришедших на подбородках виднелись мозоли — следы от ремней шлема; то тут, то там можно было заметить широкоплечего сапожника или портного, мускулистого кузнеца. Несмотря на столь разное происхождение, было у этих людей и общее: все они принадлежали теперь к огромному и быстро растущему классу, нареченному властями perditi, проще говоря, все они являлись преступниками и изгоями, которых следовало выследить и беспощадно искоренить.
Тибато, стоявший в императорской ложе, из которой некогда открывали игры сенаторы, всем своим видом излучал спокойствие и уверенность. То был лысый, ладно скроенный мужчина с волевым выражением лица. Будучи лидером преступного мира, Тибато пользовался всеобщим уважением. Прошлое его для всех оставалось загадкой. Одни говорили, что раньше он был солдатом, другие — судьей, третьи делали из него скомпрометировавшего себя сенатора, который вынужден был сменить имя, четвертые представляли его потерявшим все свое состояние торговцем, пятые — впавшим в немилость придворным, и так далее, и так далее.
— Галлы, друзья мои! — начал он, говоря голосом громким и звучным, голосом человека образованного и в то же время умеющего находить общий язык с простым народом. — На протяжении пяти столетий, со времен Юлия Цезаря, который надел его на наши шеи, тянули мы ярмо Рима, ярмо тяжелое, делавшееся все более и более гнетущим, и ставшее в конце концов совсем уж невыносимым. Никто из здесь присутствующих не виновен в том, что отказывался платить несправедливые налоги, или в том, что не хотел служить выставлявшему неумолимые требования государству. Справедливо ли то, что бедняки, которые вкалывают изо всех сил, умирают от голода, так как все, что они получают, уходит на налоги и ренты, в то время как люди состоятельные не платят в казну ни солида? Нам приходится выбирать между смертью от голода и жизнью разбойников. Что это за выбор? «Багаудами», бандитами, называют нас римляне. Но кто, как не Рим, сделал нас таковыми? — Взяв небольшую паузу, Тибато обвел собравшихся долгим пронзительным взглядом, а когда продолжил, голос его потонул в восторженных криках толпы. — Рим отверг нас, так давайте же и мы откажемся от него! Снимем с себя ярмо наших угнетателей. Рим слаб и осажден врагами. Пришло наше время. Ждите сигнала, и когда он прозвучит, восстаньте и сражайтесь — за Галлию и свободу!
Тишина. Затем послышались отдельные одобрительные возгласы, постепенно переросшие в единый сплоченный крик: «За Галлию и свободу!»
* * *
— His rebus confectis, Caesar cum copiis magnis in fines Germanorum progredt, — написанное на свитке Марк прочитал медленно, но ни разу не сбившись. То был его ежедневный урок латыни с Гаем Валерием.
— Хорошо, — от всей души порадовался Гай. — Просто великолепно. А теперь — переведи.
Учеником маленький Марк оказался способным. Он был достаточно умен и — что весьма редко встречается у детей столь юного возраста — умел концентрироваться и твердо идти к поставленной цели, будь то возведение плотины на реке, лазанье по деревьям или забавное изменение смысла латинского предложения.
Давно уже Гай не был так счастлив. Он давно приспособился к жизни среди многочисленных родственников своей невестки, и ему даже начали нравиться эти германцы — честные, открытые и гостеприимные люди. Благодаря помощи внука он выучил немало германских слов и уже без труда мог поддержать любой разговор. Всё меньше и меньше тосковал он по утонченной римской жизни: термам, уборной, центральному отоплению, изысканным блюдам. На самом деле, спартанские условия жизни в обычной хижине (построенной для Гая по специальному заказу Тита — типичный Grubenhaus с осевшим полом) пришлись ему по душе, и таким образом он мог быть ближе к скромному образу жизни его кумиров, героев Римской республики: Регула, Сципиона, Катона Цензора и прочих. Одну роскошь Гай, тем не менее, для себя оставил — книги. Тит распорядился, чтобы их высылали Гаю партиями с виллы Фортуната, которая при новой системе ведения хозяйства превратилась в процветающее имение. (Именно там Тит сейчас как раз и находился, наблюдая за прокладкой дренажных каналов.)
— His rebus… «С этими…»? — попытался перевести Марк на германский язык, язык его матери. Взглянув с надеждой на деда, он насупился и покачал головой. — Нет, не так.
— Абсолютный аблатив? — подсказал Гай.
— Ну конечно, — воскликнул мальчик. Он еще раз тщательно просмотрел отрывок. — Понял: «Покончив с этим, Цезарь продвинулся на германские территории».
— Не слишком ли он рисковал, пойдя туда один? — с напускной серьезностью спросил Гай.
— Перестань. Cum copiis magnis — с огромной армией. Похоже, все. — Марк посмотрел на Гая с торжествующей улыбкой. — Дедушка, я правильно перевел? Могу я теперь пойти поиграть?
— Ответ «да» на оба вопроса. Давай, беги, но не опаздывай к ужину. Мама жарит пойманную тобой накануне форель.
Остановившись на пороге хижины, Марк обернулся.
— Дедушка, если Юлий Цезарь был римлянином, то почему же он напал на германцев? Ты — римлянин. И папа мой — римлянин. Мама — германка. Дед Вадомир тоже германец. Я думал, римляне и германцы были друзьями.
— Вот так вот, — рассмеялся Гай. — Они действительно друзья, но стали таковыми лишь недавно. Сейчас римляне и германцы отлично ладят между собой. Но Юлий Цезарь жил очень давно. Многое с тех пор изменилось.
Но изменилось ли, спросил себя Гай, едва мальчик выбежал на улицу. Когда он приехал жить в бургундское поселение, ему казалось, что между галло-римским населением провинции и новыми ее обитателями установились искренние взаимоотношения, которые сохранятся на долгие годы. В конце концов, галлы и сами сперва активно отвергали Рим, но посмотрите на них сейчас — стали еще большими римлянами, чем сами римляне. С ним его германские хозяева были добры и гостеприимны, и Гай влился в их общество куда быстрее и легче, чем мог себе представить.
Правда, с недавних пор он стал замечать, что отношение к нему бургундов немного изменилось. Он не мог найти подходящего объяснения тому, что местные германцы начали вести себя гораздо менее приветливо, чем раньше. За исключением Клотильды, жены Тита и матери Марка, его новые германские родственники, хоть и старались держаться с ним дружелюбно, иногда в его присутствии замыкались в себе или же становились чрезмерно заносчивыми и грубыми. Гай убеждал себя, что он невесть что вбил себе в голову и негатив германцев не направлен против него лично, что, скорее всего, тому виной плохой урожай, вызванный холодной зимой, либо же то, что недалеко от деревни появились новые могилы, что тоже было результатом сильных морозов. Инстинкт солдата, тем не менее, подсказывал Гаю, что терять бдительность ему не следует — на всякий случай. На случай чего? Ответа на этот вопрос он не знал.
* * *
— Извини, Марк, отец запретил мне играть с тобой.
Хариульф, сын кузнеца и лучший друг Марка, уставился себе под ноги.
— Komme zuruck, Junge, — позвал его отец, возникший в дверях кузницы.
— Я лучше пойду, — пробормотал Хариульф. Избегая встречаться с Марком взглядом, он повернулся и засеменил к кузнице.
Со слезами на глазах блуждал Марк среди крытых соломой одинаковых лачуг, из которых состояла деревня. Пройдя через проделанные в окружавшем деревню частоколе ворота, он побрел через общее пастбище к лесной опушке. Вот уже пятый день Хариульф избегал его компании. В другие дни у него находились отговорки, но сегодня Хариульф прямо сказал, что играть с Марком ему запретил отец. Почему? Ни разу он, кроме разве что того случая, когда они по рухнувшему дереву переправлялись через реку и Хариульф соскочил вниз, не втягивал друга в неприятную ситуацию. Что случилось, он понять не мог. «Что ж, — подумал Марк, — схожу-ка я, в отсутствие товарища, посмотрю на норку, которую сделала себе в полом дереве у реки выдра. Если повезет, смогу понаблюдать за тем, как мама-выдра играет со своими детенышами».
Резкий удар в спину заставил его обернуться. Рядом, на земле, валялся попавший в него камень. Шагах в двадцати от него стояли два мальчика, сыновья свинопаса. Недалекие и глупые, они часто нападали на тех, кто уступал им в росте и силе.
— Schwarzkopf! Schwarzkopf! — закричали они, смеясь над темными волосами, которые Марк унаследовал от отца, — то было единственное, чем он отличался от светловолосых германцев. — Blöde Römer. — Мгновенье — и в Марка полетел еще один булыжник. Ловко увернувшись, тот поднял камень с земли и изо всех сил швырнул его обратно. Увидев, что угодил одному из обидчиков в ногу, Марк довольно усмехнулся. Сын свинопаса взвыл от неожиданной боли и вместе с братом кинулся на Марка.
Марк рванул в лес, надеясь спрятаться в чаще. Шустрый и от природы подвижный, он бежал сквозь заросли до тех пор, пока не убедился, что преследователи потеряли его из виду. Однако уже через несколько секунд Марк услышал хруст ломаемых веток и понял, что братья все же не отстали. Звуки эти нарастали, но внезапно прекратились — совсем рядом. Марк подкрался к края подлеска и осторожно отвел один из кустов в сторону. Всего несколько шагов разделяли его и переговаривавшихся между собой сыновей свинопаса. Марк навострил уши.
— Мы его упустили, — сказал старший. — Возвращаемся.
— Наверное, где-то спрятался, − согласился второй. — Но я, знаешь ли, этого так не оставлю, — колено до сих пор болит. Римская свинья… Ладно, пойдем: и он, и прочие римляне свое еще получат. Я слышал, как отец говорил о собрании вожаков племени, которое пройдет в полнолуние. У Камня Вотана. Они будут обсуждать план…
— Тише, ты, Dummkopf, — сердито перебил его старший. — Мы, вроде как, и вовсе не должны знать об этом, так что помалкивай. Давай, валим отсюда.
Медленно досчитав до тысячи, Марк вышел из своего убежища и направился домой.
* * *
Из окна разрушенной сторожевой башни, построенной во времена Марка Аврелия в качестве одной из частей рейнских приграничных укреплений, Гай смотрел на залитый лунным светом пейзаж. Внизу, на дне огромного, с многочисленными выступами и впадинами, ущелья, в заполненных грунтом трещинах которого росли сосны, собралась огромная, с каждой минутой увеличивающаяся в размерах толпа. То был естественный разлом, огромный разрез в скале, проделанный, если верить легенде, мечом Вотана. В центре, на огромном утесе, Камне Вотана, стоял Гундогар, король бургундов: настоящий гигант в роскошном плаще с искусной вышивкой и богато украшенном Spangenhelm, конической формы шлеме, какие носили наиболее состоятельные из германских воинов. Воинственный облик вождя воскресил в памяти Гая образ одного из тех легендарных германских богов и военных героев, которые участвовали в эпических сражениях посреди мрачных скал и ущелий.
* * *
Рассказ Марка о подслушанном в лесу разговоре Гай выслушал очень внимательно. Собрание у Камня Вотана — места, которое напрямую ассоциируется с германскими мифами, — могло иметь военное значение, особенно в контексте звучавших в адрес римлян скрытых угроз. Может, теперь бургунды и были христианами (они обратились в эту веру недавно, став еретиками-арианами) и — номинально — союзниками Рима, но в прочности этого принудительного альянса он сомневался. Пожилой полководец по собственному опыту знал, что боевой дух может вспыхнуть в германцах в любую минуту, и если подобное случится, они превратятся в грозных противников. Даже ведшим кочевой образ жизни визиготам — наиболее романизированному из германских племен, — на протяжении тех двух поколений, пока им не были выделены земли для постоянного проживания, доверять было нельзя. С другой стороны, встреча у Камня Вотана могла оказаться обычной пирушкой или ритуальным собранием, а ксенофобские разговоры мальчишек — пустой болтовней. И все же, решил Гай, то, что с недавних пор бургунды стали с прохладцей относиться к нему самому, а теперь — и к его внуку, игнорировать не стоит. И Гай Валерий принял единственное, на его взгляд, верное решение: пробраться на собрание и всё узнать самому.
Он ничего не сказал о своих намерениях ни матери Марка Клотильде, ни самому мальчику. Гай просто заявил им, что отправляется в небольшое путешествие. Затем, сменив далматик на тунику из грубой шерсти и некогда ненавистные брюки, он надел прочные ботинки из сыромятной кожи, набросил на плечи плащ и, прихватив приготовленную для него Клотильдой котомку с провизией, шагнул за порог. Дорога до Камня Вотана заняла у него целый день, и, оказавшись в ущелье перед самым закатом, Гай спрятался в старой сторожевой башне, где ему предстояло провести бессонную ночь.
* * *
Не успел король бургундов произнести и дюжины слов, как Гай затрепетал от ужаса: подтверждались худшие его опасения.
— Скажите мне, бургунды, похожи ли мы на овец, которые повинуются римским пастухам? — прорычал Гундогар. — Тридцать лет назад я перевел вас через скованный льдом Рейн для того, чтобы мы могли называть земли, на которых живем, родными по праву завоевания. Наша нация с тех пор расцвела и приумножилась, и прежних земель нам уже не достаточно — западные и северные территории тоже должны стать нашими. Римляне говорят, что нам следует довольствоваться тем, что мы имеем. Но Рим сейчас слишком слаб, чтобы остановить нас. Если у римлян не хватает духа и силы защитить то, что они называют своей территорией — землю, которую они некогда отняли у галлов, — то они не заслуживают права владеть ей. Призыв мой таков: давайте заберем ее себе!
Слова его были встречены одобрительным ревом. Когда шум стих, Гундогар продолжил:
— Атакуем тогда, когда ситуация будет нам благоприятствовать. Мои шпионы докладывают, что визиготы в Аквитании намереваются вторгнуться в Провинцию. И, что гораздо важнее, багауды на северо-западе планируют всеобщий бунт, который начнется в пятнадцатый день мая. Выступим в тот же день. На римлян тогда нападут сразу два врага, а может, если нас поддержат визиготы, даже и три. Слабые и рассредоточенные силы римской армии не устоят против наших воинов. Трупы римлян будут нашим подарком ворону и волку. А теперь идите домой и разошлите всем мужчинам в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет сообщения с призывом явиться сюда с оружием в назначенный день.
* * *
Долго еще после того, как последний бургунд покинул место встречи, Гай не мог разрешить вставшую перед ним мучительную дилемму. Майские иды — всего через четыре дня! Первой его мыслью было бежать со всех ног домой и предупредить Клотильду, которая, будучи женой римлянина, могла пострадать во время антиримских выступлений своего народа. Угроза жизни Марка, сына римлянина, была еще большей. Понятно, что во время атаки на Рим поселение бургундов превратится в зону военных действий и оставаться там будет небезопасно. Клотильда и Марк могли бы успеть покинуть поселение и еще до наступления рокового дня оказаться в римской провинции Максима Секванор, но лишь в том случае, если бы он немедленно предупредил их об опасности.
Но в том-то и была загвоздка. Ближайший римский гарнизон, Сполицин, стоявший на озере Бриганция (где когда-то служил писцом Тит), находился на юго-востоке, на расстоянии многих миль. Слишком далеко: Гай не успел бы оповестить их вовремя, если бы сначала вернулся домой, предупредить Клотильду. Скрепя сердце, старый солдат решил, что поступит так, как велит ему моральный долг: отправится в Сполицин, даже если это обречет невестку и внука на верную смерть. Мысль о том, что его кумиры — железные люди времен великой римской славы — поступили бы так же, доставила Гаю мало утешения. Но, сказал он себе, я должен быть сильным — как та римлянка (или то была спартанка?), которая скорее бы предпочла увидеть, как тело ее сына принесут на щите, чем стала бы свидетелем того, как тот бежал с поля боя. Тяжело вздохнув, Гай начал планировать свой путь в Сполицин.
Глава 23
Поутру, когда медлишь вставать, пусть под рукою будет, что просыпаюсь на человеческое дело.
Марк Аврелий. Размышления. 170 г.Вынужденный думать о том, во что поверить было трудно, Гай понимал, что опасность, надвигавшаяся со стороны объединяющихся бургундов, багаудов и визиготов, была едва ли не самой страшной из тех, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться Риму. Вероятно, они нанесут удар по западной части империи, которая и так уже понесла огромные потери в Африке. В прошлом многие героические римляне противостояли огромным силам врага: Сципион победил Ганнибала, Марк Аврелий выстоял в сражениях против квадов на Рейне и Данубии, Аврелиану удалось вытеснить из Италии алеманнов, Бонифаций разгромил мавров в Африке. Но сейчас, когда Бонифация уже нет в живых, кто здесь, на Западе, в силах справиться с грядущей угрозой? Горькая правда заключалась в том, что был лишь один такой человек — тот, который сначала предал Бонифация, а затем уничтожил его, — Флавий Аэций. Что ж, придется с этим смириться. Жаль, но великий полководец не всегда бывает хорошим человеком. Вот и стремление Юлия Цезаря к величию — несмотря на все его победы — было уничтожено вероломством, кровопролитием и ложью.
Ни на секунду не забывая о нависшей над Западом смертельной опасности, Гай понимал, сколь важно выбрать верный путь следования в Сполицин. Вариантов было два. Первый: покинув юг Аргентората, где Гай сейчас и находился, пойти по долине реки Рейн на юго-запад, в направлении города Базилия. Затем, продолжая движение вдоль Рейна, который резко меняет направление своего течения на восток, добраться до южных берегов озера Бриганция, на которых и располагался форт.
Главное преимущество этого маршрута заключалось в том, что вдоль Рейна были проложены отличные дороги, по которым передвигались воины еще в те времена, когда места эти имели стратегическую ценность. Может, в настоящее время подобной ценности дороги уже и не имели, но они до сих пор находились в приличном состоянии. У маршрута, конечно, имелись и недостатки. Во-первых, дорога до Базилии шла через плодородную долину Верхнего Рейна, где находились многочисленные поселения бургундов. Появление там любого, что хоть отдаленно напоминал римлянина, было чревато немалым риском. (Еще до того, как было объявлено о войне, Гай почувствовал, что германцы знают, что нечто подобное затевается, — так сильны были в последнее время в этих местах антиримские настроения). Во-вторых, путь этот был довольно долгим: ему бы пришлось пройти две стороны воображаемого треугольника, что составило бы около двухсот миль. «Расстояние совсем не малое; такое, — подумал Гай, — я, в моем-то возрасте, за четыре дня вряд ли преодолею».
Вариант второй: срезать путь, направившись на юго-восток, прямо к озеру Бриганция. В этом случае ему бы пришлось идти вдоль третьей стороны треугольника, что сократило бы дорогу ровно вдвое. Проходить в день порядка тридцати миль вполне реально, хотя, для пожилого человека, и тяжеловато. Помимо того что путь этот был намного короче первого, имелось у него и другое преимущество: маршрут Гаю был знаком. Тридцать три года назад, после того, как готская армия Алариха вторглась в Рецию, Стилихон призвал под свои знамена всех солдат Западной империи и расквартированный в Британии Двадцатый легион. Бойцы Гая, стоявшие тогда лагерем на Рейне, совершили марш-бросок в попавшие под угрозу провинции как раз по той дороге, по которой он собирался пойти теперь. Передвижение по данной местности осложнялось наличием в этих местах большого числа поросших густым лесом горных массивов. Германцы называли их Шварцвальдом. Проложить оптимальный путь можно было, лишь приняв за ориентиры вершины гор; Гай надеялся восстановить маршрут по памяти. Заселены эти земли были слабо, поэтому, решил Гай, передвижение по ним опасным стать не должно. Повеселев, он составил план действий — в привычном для себя военном стиле.
I. Цель
Римский форт Сполицин на озере Бриганция.
II. Задача
Предупредить гарнизон Сполицина о бургундских восстаниях.
III. Средства
1. Людские ресурсы: отставной полководец, в здравом уме, но в годах.
2. Провизия: хлеб, соль, бражка — должно хватить на несколько дней.
3. Оружие: отсутствует. (Римлянам разрешалось носить оружие только в тех краях, где существовала угроза нападения со стороны багаудов.)
4. Опорный пункт и средства связи: отсутствуют.
5. Маршрут: от Рейна, через Шварцвальд, на юго-восток, к озеру Бриганция. Примерное расстояние — сто миль.
* * *
Проснулся Гай, едва забрезжил рассвет. За вторую проведенную в сторожевой башне ночь он замерз как собака. Годы давали о себе знать — каждый из семидесяти семи. Старик неспешно поднялся с ложа, сооруженного из опавших прошлогодних листьев. Как там говорил Марк Аврелий (один из кумиров Гая) о тех, кто встает на рассвете? «Поутру, когда медлишь вставать, пусть под рукою будет, что просыпаюсь на человеческое дело». К моей ситуации вполне подходит, криво ухмыльнулся Гай. Дрожа от холода в своем тонком плаще, он съел часть припасов и запил все бражкой из кожаной фляги. Вдруг через дыру в потолке в башню залетел дрозд и приземлился на пол рядом с Гаем, точно туда, куда падал солнечный свет. Из-за холода птичка распушила перья и теперь походила на прыгавший рядом с Гаем крошечный коричнево-красный мячик. Дрозд смотрел на человека с надеждой и отвагой. Улыбнувшись, Гай покрошил птичке немного хлеба, разделив с ней свой завтрак.
До сих пор веривший в старых богов Гай счел появление пернатого друга добрым предзнаменованием. Прихватив с собой припасы, он покинул башню. К западу, в направлении Галлии, тянулась горная цепь Возег, вершины которых поблескивали в первых лучах солнца. На востоке, в Германии, за Рейном, высился грозный Шварцвальд. Он весь, за исключением редких проблесков — макушек гор, которым удалось все же пробиться через густую растительность, — был погружен в темноту. Весна в том году пришла несколько позже обычного, поэтому кое-где на горах еще лежал снег. Гай стоял у подножия скалы; внизу протекал Рейн, в некогда плодородной долине которого раньше выращивали виноград. Теперь же там все заросло кустарниками и сорняками, а от домов остались лишь лишенные крыш руины. То тут, то там виднелись отстоявшие на значительное расстояние друг от друга, домов по двадцать в каждой, деревушки, окруженные наделами и пастбищами.
«Sic transit gloria mundi»[34]. «Более уместно было бы сказать «gloria Romae», — с грустью подумал продолжавший двигаться вниз, вдоль реки, Гай. За несколько nummi какой-нибудь рано вставший земледелец мог бы переправить его на другой берег, но Гай обрадовался, никого не встретив, — его внешность и римский акцент могли бы возбудить любопытство. Через несколько часов, держа путь на юго-восток и ориентируясь по солнцу, он пересек долину и достиг подножия холмов Шварцвальда.
Остановившись, Гай в который уже раз сверился с составленным им маршрутом, — любая ошибка в расчетах могла стать роковой. Мысленно он попытался воспроизвести карту Шварцвальда: этот горный массив имел форму огромного треугольника с узкой вершиной на севере и широким, образованным поворачивавшим на запад течением Рейна и пересекаемым простирающейся с севера на юг горной цепью основанием. Собравшись с мыслями, Гай попытался вспомнить какие-нибудь опознавательные знаки, которые могли бы вывести его на старый маршрут. Кажется, где-то между подножием гор и основным горным массивом протекает река Гутах, по пересечении которой оказываешься прямо у крутых скал с западной стороны горной цепи. В пролегающих меж склонов гор многочисленных долинах можно легко укрыться. А когда ему удастся достигнуть вершины холма, худшее останется позади. Древняя тропа, Хоенвег, проходила по горному хребту, самыми высокими пиками которого были Кандель и Фельдберг, спускалась в глубокое ущелье Хелленталь и шла на восток, в долину реки Альб, впадающей в Рейн чуть выше озера Бриганция.
Не без труда отыскав Гутах, Гай перешел реку вброд в месте сужения. Затем, стараясь не свалиться в опасные ущелья, забрался на один из уступов, которые выпирали из горной цепи, словно ребра из позвоночника. Высокие, мощные, растущие на покрытом папоротником и волдырником болоте, сосны окружили Гая, затянув его в мир сумрака, наполненный неприятной смесью запахов смолы и плесени.
Постепенно склон становился все более и более крутым, а в некоторых местах — даже отвесным. Тогда Гаю приходилось хвататься за ветки и подтягиваться вверх. У него началась сильная одышка; не привыкшие к подобным нагрузкам мышцы ног невыносимо болели. Все чаще и чаще он был вынужден останавливаться для того, чтобы отдышаться и дать отдохнуть рукам и ногам. Время от времени слепящее глаза солнце давало ему понять, что, фактически, он идет наугад. Пока не достигну вершины горы, высота которой составляет не менее тысячи метров, решил Гай, те опознавательные знаки, на которые собираюсь ориентироваться, не увижу.
Ночь он встретил на западном склоне горы. Ночевать на большой высоте, среди деревьев, было небезопасно, — существовал риск замерзнуть или подвергнуться нападению диких животных. Правда, крупные животные — медведи, зубры, кабаны — уже практически не встречались вследствие постоянной на них охоты (их отлавливали для участия в Играх). Рыси и дикие кошки к исчезающим видам не относились, но и становились они опасными лишь тогда, когда их собственной жизни что-либо угрожало. Волки же обычно избегали людей, но, когда ими овладевал голод, могли и напасть.
Гай соорудил несколько кучек из сухих веток, достал немного трухи из бревна и, выбив искру при помощи кремня и стальной полоски, поджег их. Он дул на тлевшие ветки, пока не появился огонек, затем подлил в него немного припасенной им горючей жидкости и развел костер. Желая согреться, римлянин не без удовольствия придвинулся к огню.
Старый волк, у которого от голода выпирали ребра, шел по следу Гая и, заметив пламя, остановился. Огонь означал опасность, жгучую боль, а свет от костра слепил и сбивал с толку. Не сводя глаз с фигуры человека с протянутыми к пламени руками, волк прилег за камень. Он ждал, понимая, что когда забрезжит рассвет, человек потушит огонь и пойдет дальше.
Волк пережил двенадцать мучительных зим. То было огромное, некогда красивое животное с блестящим серым густым мехом. На брюхе, однако, мех был как белым, так и почти черным. Долгие годы он являлся вожаком стаи и имел много крепких волчат от одной и той же самки. Но четыре зимы назад жизнь его изменилась коренным образом. Мать его детенышей убили охотники. Он тосковал по ней, авторитет его падал, и вскоре он был вынужден уступить место лидера своему молодому сородичу. Будучи уже не способным участвовать в совместной охоте, он следовал за стаей в отдалении и довольствовался остатками ее добычи. Но прошлой зимой основной добычи — благородного оленя и косули — внезапно не стало, так как, оказавшись не в состоянии добраться сквозь оледеневший снег до каких-либо пригодных в пищу растений, животные эти либо погибали, либо уходили в более теплые края. Волку пришлось охотиться на грызунов. Однажды, отчаявшись и забыв про осторожность, он попытался вытянуть кусок мяса из охотничьего капкана, который тут же захлопнулся, сильно повредив ему переднюю лапу. И сейчас, искалеченный и умирающий от голода, преодолевая инстинктивный страх перед людьми, он был готов убить одного из них. Волк чувствовал слабость и старость человека и решил, что тот станет легкой добычей.
* * *
Гай спал беспокойно, и ночь показалась ему очень-очень длинной. То и дело он просыпался, проверяя, не потух ли костер. С первым проскользнувшим сквозь ветки деревьев лучом утреннего солнца Гай поднялся на ноги и, затушив огонь, отправился в дорогу. Внезапно он услышал слабый, но быстро нарастающий звук. Звук этот становился все громче и громче, задрожала земля, и Гай, выйдя на поляну, увидел огромный семикаскадный водопад высотой в сотни футов, который, грохоча и пенясь, низвергался по гранитным уступам. «Водопад Триберг», — вспомнил он и воспрянул духом, — вершина была совсем близко. Теперь восхождение давалось Гаю быстрее; деревьев становилось все меньше и меньше, склон уже был покрыт травой, лишь изредка попадались горные сосны. Наконец Гай взобрался на гору.
Погода стояла ясная, и даже самые удаленные горные пики — Херцогенхорн, Бельхен, Кандель — четко выделялись на фоне неба. Обратив свой взгляд на юго-восток, Гай увидел свой главный опознавательный знак: Фельдберг — гору, чья лишенная растительности вершина возвышалась над прочими. Почувствовав необычайное облегчение, он присел на камень и открыл свою сумку. Худшее было позади. Даже двигаясь в размеренном темпе, он уже сегодня достигнет расположенной прямо под Фельдбергом долины Хелленталь; а завтра доберется до цели, пройдя через узкую лощину до Альбы, а затем и до Рейна. Там его путешествие подойдет к концу, и, как и планировалось, он окажется в Сполицине на четвертый день.
Подкрепившись, Гай почувствовал себя посвежевшим и словно помолодевшим; его превосходное настроение поддерживалось еще и хорошей погодой. Точно зная, где находятся Фельдберг и Кандель, он не мог сбиться с пути. Более того, перед ним была дорога Хоенвег, которая шла по горному хребту. По сравнению с предыдущим днем взбираться на возвышенности стало намного легче, — под ногами была то твердая галька, то упругий торф. Когда Гай взошел на Кандель, ему открылся восхитительный вид: горы Возег и Юра, вдали — могучие Альпы (белым снизу, им добавляли бирюзовый оттенок небольшие озера; в верхней же своей части, из-за большой лесистости, они выглядели и вовсе черными).
Ближе к полудню — сработал солдатский инстинкт — Гай обнаружил за собой преследование. Обернувшись, он увидел в пятидесяти шагах от себя огромного, с длинными лапами и вытянутой мордой, волка. До смерти голодное животное ощетинилось, оскалило пасть и зарычало, выставив напоказ острые, с большущими клыками, зубы.
На какой-то миг Гай оцепенел от ужаса. О чем думал волк, старый вояка прекрасно догадывался, а как отбить нападение, он и представить себе не мог. Гай Валерий находился далеко от поселений; и под рукой у него не было никакого оружия, даже палки. Кроме того, он был стар и, вследствие своего возраста, слаб. Наверняка волк чувствовал это инстинктивно, что придавало зверюге уверенности и делало его еще более агрессивным. И все-таки что-то делать было просто необходимо; выход есть всегда, даже из самых отчаянных ситуаций, — этому он научился за долгие годы военных кампаний. Внезапно Гая осенило: он вовсе не безоружен — покрытые травой горные вершины состояли в основном из гранитных пород, и на земле можно было обнаружить камни любых размеров. Правда, даже если ему удастся поднять самый тяжелый камень и с его помощью попытаться противостоять дикому волку, вряд ли можно рассчитывать на успех. А что если закидать зверя камнями помельче?.. Думай Гай, думай. Есть! Высыпав содержимое сумки на землю, Гай быстро наполнил ее камнями и, схватив за ручки, прикинул на вес. Сойдет! Теперь у него было полноценное оружие — не хуже гладиаторской боевой цепи.
Волк напал внезапно. Маневрируя, он подбирался к Гаю все ближе и ближе. Гай взмахнул тяжелой сумкой, но промазал. Огромные клыки впились в бедро старика, но Гаю удалось вырваться. Нанеси волк, не снижая темпа, удар передними лапами, Гай получил бы гораздо более серьезные повреждения. Но нет: волк напал еще пару раз, и все время — со стороны. Он не сомневался, что его зубы все-таки достигнут цели. Каждую атаку Гай пытался отбить своим необычным оружием, но в силу того, что им было очень трудно управлять, нанести эффективный удар никак не мог.
Тем не менее Гай понимал, что если сможет продержаться еще немного, забудет о боли и потере крови, то получит шанс выжить. Волк по-прежнему пытался отыскать его слабое место, проверял реакцию. Рано или поздно зверь мог нанести решающий удар. Гай уже более искусно орудовал сумкой с камнями; оставалось только дождаться подходящего момента.
На четвертой-пятой атаке находившийся всего в нескольких шагах от Гая волк прыгнул на старика, обнажив все зубы, с явным намерением убить. Но Гай уже был к этому готов. Раскрутив сумку вокруг головы, он выбрал идеальный момент для удара. Огромный зверь еще находился в полете, когда наполненная камнями сумка ударила волка в голову. Раненое животное упало на землю. Замахнувшись вновь, Гай раздробил череп волка, словно глиняный горшок. Зверь еще какие-то мгновенья бился в судорогах, а затем затих — навсегда.
Гаю стало плохо: в глазах потемнело, закружилась голова. Не сдавайся, повторял он себе, собери волю в кулак и найди в себе силы закончить начатое. Раны сильно кровоточили. Оторвав кусок ткани от своей туники, Гай наложил на ногу пару повязок и остановил кровотечение. Высыпав из сумки камни, покидал в нее разбросанную по земле еду. Несмотря на то что желудок отказывался принимать пищу, Гай заставил себя съесть краюху хлеба, пытаясь хоть немного восполнить силы. Затем, забыв про боль, продолжил путешествие, стараясь постоянно увеличивать темп, — время поджимало.
На заходе солнца он добрался до Хелленталя. В полумраке, цепляясь за выступы скалы, сумел спуститься на дно лощины. Гай был слишком слаб и холодной ночи под открытым небом мог не перенести. Сил не было даже на то, чтобы даже собрать веток и развести огонь, поэтому, дрожа от холода под тонким плащом, он продремал несколько часов в кромешной тьме.
Утром Гай что было сил двинул на запад, через Хелленталь. Название этой горной впадины переводилось с германского как Адская Лощина, и она оправдывала свое имя на все сто. С обеих сторон на Гая смотрели вселяющие ужас каменные глыбы. Ущелье становилось все уже и уже, одновременно с этим увеличивалось и число не поддающихся описанию утесов, которые, казалось, не подчинялись ни одному закону природы. Вдруг, совершенно неожиданно, мрачный пейзаж сменился красивейшим видом: ущелье стало намного шире, устрашающие каменные утесы исчезли, уступив место зеленым склонам, на которых росли буковые рощи и всевозможные цветы. Повсюду слышался стрекот кузнечиков и щебет птиц. «Гиммельрейх, — вспомнил Гай, — Небесное Царство».
Остаток дня прошел как в полусне. Гаю казалось, что он перешагнул какую-то черту; он больше не чувствовал ни боли, ни усталости. Пройдя болотистую местность Тодтмос — Болото Мертвецов, — он добрался до Альбталь, одинокой долины, на которой, вплотную к гранитным плитам, рядами росли ели и буки. Местами Альб выглядел спокойной рекой, но там, где ущелье изгибалось и имелись крутые горные выступы, образовывались водовороты, и воды реки каскадами брызг разбивались о скалы. В подобных участках ущелья Гаю приходилось непросто: с трудом цепляясь за поросшие мхом скользкие скалы и свисающие ветки деревьев, он практически полз вдоль нависавших над ним берегов реки. Внезапно через крошечный просвет в деревьях он увидел вяло текущую, но величественную реку Рейн. Обрамляли ее покрытые густой растительностью склоны, за которыми, чуть дальше, Гай знал это наверняка, начиналась провинция Максима Секванор.
Обессиленный, прошел старик последние отделявшие его от Рейна мили. В полдень он был уже на берегу. Там его подобрала имперская лодка, полная используемых в строительстве камней и древесины, которые везли в Феликс Арбор, крепость, стоящую на берегу озера Бриганция, чуть западнее Сполицина. На закате лодка причалила к первому из римских поселений, утром медленно — пришлось плыть против течения — добралась до Бриганции. Еще через несколько часов Гай оказался в Сполицине. На причале парочка солдат подхватили вконец ослабленного ветерана под руки и препроводили к командиру. Гай едва ворочал языком и практически потерял рассудок, но, тем не менее, смог поведать о готовящемся в Галлии восстании.
Затем старик попросил командира гарнизона об одолжении: послать гонца на Виллу Фортуната предупредить его сына, Тита, об опасности. После того как командир дал ему слово, что так и сделает, Гай взял две вощеные дощечки, написал письмо Титу, скрепил таблички и отдал их посыльному. Гарнизонный врач подоспел к истекавшему кровью Гаю через полчаса, но помощь его была уже не нужна. Прощаясь с Римом, Гай Валерий Руфин прошептал слова из поэмы Намациана: «Te canimus semperque, sinent dum fata, canemus: hospes nemo potest immemor esse tui»[35].
Глава 24
Выносливый в воинских трудах, особенно [удачно] родился он для Римской империи: ведь это он после громадных побоищ принудил заносчивое варварство свавов и франков служить ей.
Иордан об Аэции. О происхождении и деяниях гетов. Getica. 551 г.«Непобедимый Вечный Рим, Спасение мира» гласила гравировка на монете, которую в ожидании своих командиров перекатывал с пальца на палец Аэций, находившийся в палатке главнокомандующего в Провинции. На аверсе монеты был изображен облачившийся в доспехи император Валентиниан, на реверсе — крылатая фигура, символизирующая победу. (Формально то был ангел, но скрытая символика представлялась очевидной.) Глядя на выгравированную на монете надпись, Аэций улыбнулся. Неужели эти тупицы procuratores, контролирующие чеканку монет в Риме, Милане и Равенне, действительно думают, что люди поверят в подобную глупость?
Постепенно в палатке Аэция собрались все командиры. Когда все уселись, полководец занял свое место рядом с картой Галлии, лежавшей на столе перед собравшимися.
— Плохие новости, господа, — оживленно начал свою речь Аэций. — Только что прибыл наш агент из Реции. Похоже, Галлии придется вести войну на трех фронтах. Первый — Арморика. — Указкой он очертил приличных размеров территорию на северо-западе Галлии. — Багауды восстали не только против крупных землевладельцев, но и против всей римской власти. Второй фронт — места поселений бургундов. — Аэций провел указкой вдоль верхней части реки Рейн. — Они намереваются прорваться через границу и напасть на территорию Белгики. Третий фронт организовали наши друзья визиготы. — Указка слегка коснулась юго-восточной части Галлии. — Снова взялись за старое. Хотят расширить свою территорию на восток. Похоже, их цель — Нарбоннская Галлия. Мне продолжать, или будут вопросы?
— Откуда вам всё это известно? — спросил командующий германской конницей.
− От старого легата Руфина; вероятно, некоторые из вас его помнят. Он тайно присутствовал на собрании бургундских лидеров и слышал то, что я вам только что поведал, из уст их короля, а затем, преодолев пешим ходом более ста миль, предупредил гарнизон форта Сполицин в Реции. По дороге на него напал волк и, получив смертельную рану, Руфин умер. Господа, Римская империя всегда будет в долгу перед этим храбрым человеком. Теперь, когда нам известно, как обстоят дела, самое время принять необходимые меры.
— А именно? — полюбопытствовал один из молодых protectores.
— Вот об этом я и собирался вам рассказать. Вы наверняка думаете, что наша армия не сможет подавить три восстания одновременно, так как сражающееся на трех фронтах войско обречено на поражение.
— А разве это не так? — перебил Аэция один из пожилых командиров. — Скажу откровенно. Мы не знаем, как с ними справиться. Будь багауды одни, нам бы не составило труда победить толпу крестьян и рабов. Но эти их проклятые союзники, бургунды и визиготы, — совсем другое дело. Полагаю, нам следует попросить перемирия и пообещать им те земли, которые они хотят.
— Может, мне дадут сначала закончить? — спокойно сказал Аэций. — Нашей армии не придется сражаться в одиночку. Подкрепление уже в пути и будет здесь со дня на день.
— Итальянские гвардейцы, полагаю, — усмехнулся его оппонент. — Они нам очень пригодятся. Солдаты, которые учувствуют в парадах и полируют свое снаряжение вместо того, чтобы идти воевать.
Аэций раздраженно взмахнул руками.
— Быстро же ты все забываешь, — вздохнул он. — Кто дважды помог нам во время гражданской войны в Италии? Гунны, мой друг, гунны. В те годы ими верховодил Руа. Сейчас же у них новый правитель — Аттила, и он присягнул нам на верность. Его слову можно верить… Вот как мы поступим. Марк, мой бывалый ветеран, помнишь ли ты, как сдерживал гуннов, пока я разведывал линию фронта Аспара?
Седовласый командир ударился в воспоминания:
— Аспар, сын Ардавура, аланский полководец, который вмешался в наши дела с Иоанном. Такое не забывается. Эти гунны — славные воины, правда, трудно поддаются контролю.
— На этот раз для тебя найдется работа попроще. Визиготы, храни их господь, решив приступить к осаде Нарбо-Мартия, оказали нам огромную услугу, — вы ведь знаете, как беспомощны бывают варвары, когда дело доходит до осады больших городов. Надеюсь, тебе не составит труда сдержать их натиск, пока не подоспеет помощь от гуннов?
— Абсолютно никакого, господин, — сказал Марк, потирая руки. — Несколько молниеносных налетов на продовольственные обозы — и мы даже сможем сами окружить их. Можно блокировать их и изнурять голодом, если получится создать земляные укрепления вокруг их лагеря. Так поступил Стилихон, сражаясь против Радогаста и его готов во Флоренции. Я знаю, я был там.
— Отлично. С визиготами разобрались. Теперь, что касается багаудов. Литорий, тебе я поручаю самое важное задание — прикрывать наш отход после битвы. То, что тебе придется подавлять восстание обычных бандитов, никак не ударит по твоему достоинству?
— Конечно, нет, господин, — ответил Литорий. — Я не Красс, который запятнал свою репутацию, проиграв Спартаку и его армии рабов.
— Великолепно. Тебе потребуется много воинов. Восстание охватит огромную территорию, почти четверть Галлии. Когда Марк произведет отбор, возьмешь половину от оставшейся армии, и я тебе пришлю еще половину войска гуннов. Когда разгромишь багаудов, поможешь Марку совладать с визиготами. Мы же с Авитом пойдем против бургундов силами оставшихся войск гуннов и Римской империи. Такие вот дела, господа, — закончил Аэций, окинув собравшихся взглядом. — Полагаю, мы со всем разобрались. Приготовления начать немедленно. Выходим завтра.
«Форт Сполицин, провинция Вторая Реция, диоцез Италии [написал Тит в “Liber Rufinorum”]. Год консулов Флавия Феодосия и Флавия Плацидия Валентиниана, Августа, их пятнадцатое и четвертое консульство соответственно, VIII июньские календы.
Я был на вилле Фортуната, когда пришло письмо от отца, где говорилось о восстании бургундов et cetera. Опасаясь за Клотильду и Марка, я оседлал коня и помчался в Сполицин (за те годы, что я там не был, крепость немного изменилась), куда от нашего поселения вёл прямой путь. Прибыв на место, я узнал, что Гай Валерий скончался вскоре после того, как написал мне письмо, и был похоронен на располагавшемся за фортом солдатском кладбище. Утешает лишь то, что он отдал свою жизнь за Рим. Я оставил командиру форта немного денег, попросив поставить надгробный камень с надписью:
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН ГАЙ ВАЛЕРИЙ РУФИН,
ЛЕГАТ ПЕРВОГО ЛЕГИОНА.
ОН ЛЮБИЛ РИМ И СЛАВНО ЕМУ СЛУЖИЛ
В своем письме Гай просил меня подумать о поступлении на службу Аэцию, так как тот, по мнению моего почившего отца, является единственным, кто сможет справиться с нынешним кризисом. Я думал, что больше никогда не помирюсь с Аэцием, но недаром говорят: tempora mutantur[36]. Просьбу отца я выполню, другое дело — примет ли Аэций меня обратно.
Завтра, по долине Верхнего Рейна, поскачу в поселение бургундов. Дорога должна быть еще в порядке, хотя Рим и перестал следить за ее состоянием. Дневник этот оставляю здесь, в Сполицине, — там, куда я направляюсь, вряд ли у меня будет время что-либо писать».
Стоя на вершине холма, два брата королевских кровей наблюдали за тем, как конница гуннов приближалась к Галлии.
— Брат мой, надеюсь, дело того стоит, — прохрипел Бледа. − Ты только что отдал десятую часть всей нашей армии. И ради чего? Лишь для того, чтобы улучшить отношения с Римом.
Аттила не считал нужным объяснять свои цели неучу и глупцу Бледе. По размерам своим империя гуннов сравнима была с римской. Территория ее простиралась от Скандии до Каспийского моря. Впервые эта земля объединила тевтонские племена и степных кочевников. Чем не великое достижение? Вот бы еще достичь той стабильности, которая была у Греции и Рима! Империя гуннов может распасться и исчезнуть так же быстро, как и появилась. Аттила жаждал большего, нежели властвовать и грабить. Главным для него было величие его народа. Он хотел, чтобы в будущем старики вспоминали Аттилу не как Гейзериха, жестокого тирана временного королевства в Африке, а как Александра или Цезаря, чье наследие живет и по сей день. Поэтому он и решил помочь Аэцию — необходимо было завоевать дружбу с Римом. (Аттила понимал, что добиться этого будет нелегко, так как после битвы на Мораве его имя стало синонимом ужаса и беспощадности.)
Он никогда бы не признал того, что Бледа отчасти был прав. Совет, да и все гунны, будут ждать вознаграждения за ту помощь, которую они оказали Аэцию. В прошлом такие заслуги хорошо поощрялись. Но сейчас, когда всему Западу угрожает опасность, какие могут быть гарантии? И все же Аттила надеялся, что у него они имеются.
Внезапно ему вспомнились слова прорицателя Ву-Цзы. «Я вижу бегущего через равнину дикого осла и парящего над ним орла. Вместе они нападают на кабана и обращают его в бегство». Пророк описал свое видение, и Аттила только что понял значение этих слов. Дикий осел — войско гуннов, орел — армия римлян, а кабан был самой популярной эмблемой германцев, символизировавшей бесстрашие и свирепость. Иными словами, гунны и римляне объединятся в борьбе против германцев, что уже и начало происходить. Страх и ужас вселились в короля. Что же значит вторая часть предсказания? Аттила оборвал нить своих рассуждений. Он сам будет вершить свою судьбу.
* * *
Тит обнаружил свою деревню полупустой. Под предводительством Вадомира, отца Клотильды, все годные к военной службе мужчины присоединились к войску короля Гундогара, которое, с целью завоевания новых территорий, ушло на север. Ходили слухи об их сражениях с римлянами, но были ли то обычные стычки или настоящие битвы, выяснить ему так и не удалось. Радость Тита оттого, что он вновь увидел Клотильду и Марка, была омрачена тем фактом, что в случае поражения бургундов, их деревня могла подвергнуться нападениям со стороны бандитов. Предавшись ночью страстной любви, которая после долгой разлуки сделалась еще более сильной, Марк поделился своими страхами с Клотильдой.
— Уйдем со мной, — сказал он вдруг. — Я, ты и Марк — втроем мы без труда доберемся до оккупированной римлянами Галлии. Моя лошадь выдержит вас обоих; мы сможем попеременно ехать верхом.
— Как я могу оставить семью и мой народ во время такой опасности? — присев на укрывавшие ложе меха, Клотильда нежно провела рукой по лицу мужа. — Любимый, сердце подсказывает мне поступить так, как говоришь ты, но…
— Но тебе не позволяет это сделать твоя совесть, — продолжил Тит. — Понимаю, − сказал он печально. − По крайней мере, думаю, что понимаю.
Тусклый свет тлеющего огня позволил ему рассмотреть Клотильду получше. Ее невозмутимое и спокойное после любовных утех лицо, обрамленное витками светлых волос, никогда еще не казалось ему столь красивым. Сердце его переполняла страстная любовь и дикое желание защитить ее и их ребенка.
— Как мой муж, ты можешь приказать мне, что делать, и я буду обязана повиноваться, — сказала она. — Но тогда это будет уже не тот Тит, которого я знала, любила и за которого вышла замуж.
— Не знаю, как я буду жить, если с тобой случится что-нибудь плохое, — со скорбью в голосе сказал Тит. Он прекрасно понимал, что если они сбегут, то Клотильда сначала перестанет его уважать, а затем и вовсе разлюбит. — Что мне делать? — вскричал он, но адресовал этот крик скорее себе самому, нежели ей.
— Любимый, а что бы сделал на твоем месте Гай Валерий? — нежно шепнула Клотильда, целуя мужа в лоб.
Все сомнения и противоречия развеялись в один миг. Гай остался бы, и Тит тоже должен это сделать. Так бы поступил любой римлянин.
— Моему народу нужен лидер, — сказала Клотильда, по-видимому, почувствовав резкую перемену в настроении мужа. — Ты можешь стать нашим лидером, дорогой. Оставшиеся мужчины стары и слабы; к тому же, германцы по природе своей жестоки и агрессивны. Без вожака, способного их контролировать, они рассорятся между собой и не будут знать, как отразить нападение. Когда придут римляне, наши мужчины будут с ними сражаться, но в конечном счете все равно погибнут. А там дойдет очередь и до женщин с детьми. Но ты, мой милый, молод и силен. Ты служил в римской армии и знаешь, как ведут бой римляне. Ты должен убедить жителей деревни принять твой план, даже если для этого тебе придется пойти против всех. Если нас атакует римская армия, то ты, будучи римлянином, сможешь мирно обсудить с ними условия капитуляции. Если же то будут сражающиеся под римскими знаменами франки или аланы, нам всем не поздоровится.
— Но франки похожи на германцев. Наверняка они пощадят деревню.
— Вряд ли. Между германскими племенами нет крепких приятельских отношений. Когда-то все мы, высокие, светловолосые, голубоглазые люди, говорящие на различных вариантах одного языка, верили в одних и тех же жестоких богов, но все это осталось в далеком прошлом. Для франков бургунды являются почти такими же чужаками, как и римляне. А союзные войска — какое племя бы то ни было — известны своей бесконтрольностью. Поверь, если придут франки, то убийства и насилие злым роком опустится на нашу деревню. Если придут аланы, которых и вовсе-то сложно назвать германским народом, то подобной судьбы мы тем более не избежим. Но не будем больше об этом. Пора спать, любовь моя. Но прежде, давай помолимся Иисусу, общему для нас Богу, и да поможет он тебе с честью пройти те испытания, которые ждут тебя впереди.
* * *
Тит обвел взглядом людей, собравшихся на пустыре перед кирхой. То были старики, женщины и дети. Кто-то смотрел на него с недоверием, кто-то и вовсе не обращал внимания.
— Меня зовут Тит Валерий Руфин, — сказал он по-германски. — Спасибо, что согласились меня выслушать. Думаю, все знают, что я муж Клотильды, дочери Вадомира.
— А также римлянин, — проворчал старик с седой бородой. — Я сражался против Грациана и первого Феодосия и хорошо усвоил один очень важный урок — никогда не доверяй римлянам. Оба этих императора нарушили договор, подписанный с нашим народом. Вот почему я говорю, что римляне — нация предателей. Почему мы должны слушать тебя, одного из них?
— Да, я римлянин, — ответил Тит, стараясь говорить дружелюбно. — Таковым я родился. Но сейчас передо мной стоит задача защитить свою семью и, если вы предоставите мне такую возможность, то и вас тоже. Дадите мне шанс попытаться?
Тит почувствовал, что после сказанных им слов настроения толпы изменились. Начались перешептывания. Ему даже показалось, что дядя Клотильды приводит доводы в пользу мужа племянницы. Седобородый старик заговорил снова, но на сей раз его голос звучал уже менее враждебно.
— Хорошо, римлянин, говори, что нам делать.
— Мы должны превратить палисад в первую линию обороны. Полагаю, все оружие забрали покинувшие деревню воины, поэтому будем импровизировать. Косы, вилы, секачи, топоры, кувалды — вполне эффективное оружие, особенно вилы. Это работа для мужчин, поэтому мне хотелось бы, чтобы вы взяли ее на себя, — сказал он, обращаясь к седобородому. — Хорошо?
Тот ехидно улыбнулся, но кивнул.
— Если враг преодолеет первую линию, — продолжил Тит, — будем отступать к самому крепкому зданию в деревне — кирхе. Соломенная крыша — ее слабое место, поэтому женщины и девушки должны наполнить водой котлы, ведра и кадки — все, в чем можно хранить воду. Клотильда, займешься этим? — Муж и жена обменялись взглядами, полными доверия и любви. — Теперь, что касается мальчиков и девочек, — в руке у Тита появилась блестящая монета. — Этот tremissis достанется тому, кто до заката соберет самую большую груду камней.
Он посмотрел на толпу и почувствовал, как вдруг стал близким всем этим грубым, но, при ближайшем рассмотрении, приятным людям. Седоволосые старики в накидках из шкур и домотканой одежде, женщины в платьях без рукавов, светловолосые босые детишки с перепачканными лицами — все они доверили ему свою защиту. То была крошечная армия, и он, Тит, стал ее командиром. Маленькое стадо — и он его пастырь.
— Ну же, все вместе, — улыбнулся он. — Начинаем!
* * *
Их атаковали внезапно, после нескольких дней томительного ожидания. Вдоль линии леса стояли расставленные им дозорные. Незадолго до полудня один из них прибежал с новостями: к деревне приближался отряд всадников.
Услышав звуки горна, все дозорные и прочие жители деревни поспешно собрались у кирхи.
— Вы все знаете, что делать, — спокойно сказал Тит. — Мужчины и юноши старше двенадцати должны занять свои позиции у частокола. Остальные укроются в кирхе. Если снесут ограждения, мы к вам присоединимся.
Бросив взгляд на опустевшие поля (скот был загнан на территорию деревни), Тит понял, почему у него так сильно билось сердце. Возможно, совсем скоро он будет вынужден сражаться за собственную жизнь против своих собратьев-римлян. Что подвигло его на это? Сделав над собой усилие, Тит выбросил эти мысли из головы. Он, как любой нормальный мужчина, должен защищать свою семью, и он ее защитит — чего бы это ни стоило. В этом-то и было все дело.
Тит впервые командовал сражением: внезапно он осознал то огромное чувство ответственности, которое на нём лежало. Не самонадеянно ли было убеждать этих людей в том, что он лидер? Его военный опыт ограничивался двумя небольшими битвами, в которых он, по правде говоря, даже не принимал участия. Сомневаться было уже поздно. Кроме того, Клотильда, похоже, действительно в него верила.
Частокол укрепили. Врытые в землю десятифутовые бревна, за которыми была видна земляная боевая платформа, создавали внушительного вида барьер. Единственным слабым местом конструкции был ее большой периметр, контроль которого из-за нехватки воинов мог оказаться затруднительным. Все, что он мог сделать — это расставлять защитников в определенных местах предполагаемой атаки. Благодаря простой и хорошо отработанной системе горновых сигналов, контроль за перемещениями врага представлялся вполне возможным. Коснувшись амулета с выбитыми на нем греческими литерами «Хи — Ро», много лет назад подаренного ему иподиаконом равеннского собора, Тит прочитал слова молитвы.
Вдали, у кромки леса, где еще несколько минут назад виднелись очертания деревьев, появилась группа всадников порядка двухсот человек. Когда они приблизились, Тит пристально вгляделся в их фигуры: коренастые, сильные мужчины с желтоватой кожей и узкими вдавленными глазами, с лицами, лишенными всякого волосяного покрова; из оружия — одни лишь луки. То были не римляне, то были гунны.
* * *
— Всем прижаться к изгороди! — закричал Тит, и приказ его быстро распространился по кольцу защитников. Гунны сменили шаг на легкий галоп. Они выстроились в одну широкую линию, а затем, разлетевшись по сторонам, начали описывать вокруг палисада круги, извергая град стрел. Если бы обороняющиеся не послушались совета Тита прижаться телами к стене из столбов, то они б не избежали увечий, так как почти все стрелы долетали до барьера. Один из жителей деревни все же попытался выглянуть из-за частокола, но, сраженный стрелой, тут же упал замертво.
Первая атака завершилась. Гунны перегруппировались и разбились на несколько отрядов, каждый из которых занял определенную позицию вокруг частокола. Половина отряда, перекинув через плечо верёвки с петлями на конце, приблизилась к ограде, другая натянула тетиву на луках, обеспечив тем самым прикрытие. Несколько гуннов сумели накинуть петли на верхушки кольев, из которых состоял частокол. Конец каждой петли был крепко привязан к задней части седла лошади, которая пыталась, сдвинувшись с места, вырвать кол из земли.
За оградой кучками были рассыпаны камни, которыми Тит со своими людьми закидывал гуннов, заставляя тех держаться на расстоянии. Но когда число погибших достигло пяти человек, а раненых — трех, Тит понял, что нужно отступать к кирхе. Уводя раненых, защищавшиеся поспешили в огромную хижину, присоединившись к уже находившимся там женщинам и детям. Закрывавшую вход в кирху шкуру решено было убрать: она ограничивала обзор.
Выбрав с десяток самых крепких мужчин, Тит с секачом в руке встал с ними у входа. Вскоре он увидел, что гунны проделали брешь в изгороди и, пролезая в нее, направляются к кирхе.
Кучка пеших гуннов с обнаженными клинками ворвалась в здание. Тит забыл обо всём: он видел лишь то, что происходило прямо перед ним. На него бежал, размахивая мечом, кривоногий, широкогрудый гунн. Тит почувствовал тошнотворную вонь немытого тела и грязной одежды; глаза варвара, полные злобы и ярости, смотрели прямо в глаза Тита, который отскочил назад, увеличив тем самым расстояние до противника. Догадавшись о том, что задумал противник, гунн двинулся на него, но было уже поздно. Неловко размахнувшись от плеча, Тит вонзил лезвие в шею варвара. Яркая артериальная кровь фонтаном забила из раны, и, выпустив меч из рук, гунн снопом свалился на землю.
Охваченный безумием битвы, Тит размахивал секачом налево и направо, прорубая себе дорогу к выходу. Варвары отступили. Тяжело дыша, Тит и еще пять выживших воинов с различными ранениями стояли в проходе. Взглянув вниз, Тит увидел глубокую рану на своем бедре; о мелких порезах и ссадинах он предпочел даже и не думать. Тела мертвых и умирающих гуннов загородили вход в хижину — бесстрашие германцев и их умение вести ближний бой сделали свое дело. Седобородый старик, еще недавно сомневавшийся в компетенции Тита, приветствовал его одобрительным кивком.
— Для римлянина ты дерешься очень даже недурственно, — пробормотал он.
Умирающих гуннов было решено добить. Пока женщины ухаживали за ранеными бургундами, количество защищавших вход в кирху воинов пополнилось. Ценой нескольких жизней поселенцам удалось отбить еще одну атаку гуннов. Тит, ослабший от потери крови, отдавал себе отчет в том, что численный перевес — на стороне гуннов, и рано или поздно их штурм увенчается успехом.
Но гунны, больше не желая терять воинов, решили сменить тактику, начав выпускать огненные стрелы, которые, одна за другой, падали на соломенную крышу. Та же, хоть была обильно полита водой, кое-где начала тлеть. Когда стропила уже были в дыму, люди по лестнице и через брешь в соломенном покрытии стали передавать сосуды с водой добровольцам, которые, забираясь на крышу, выливали жидкость в огонь, и тот постепенно угасал. Однако, несмотря на все усилия, крыша все же загорелась, и все попытки потушить ее оказывались тщетными. Хижина быстро заполнилась дымом, и горящая солома начала падать внутрь. Иного выхода, как покинуть хижину и постараться выстоять до конца, у поселенцев не осталось.
Умирать нужно вместе, решил Тит и огляделся в поисках Клотильды и Марка. Не успел он выкрикнуть имя жены, как вниз, с крыши, рухнула стропильная балка с большим тлеющим куском соломы.
— Тит! — услышал он знакомый голос.
Она лежала прямо под упавшей балкой. Марк пытался потушить пламя своей туникой; Тит бросился ему на помощь и сбил огонь. Вместе с сыном он попытался сдвинуть огромное бревно, но то не поддавалось. В отчаянии он звал на помощь, но в хижине остались лишь они втроем. Доносившиеся снаружи крики перекрывали треск горевших соломы и бревен. Поселенцы попали под обстрел.
Затем вдруг Тит услышал чистый, пронзительный звук трубы. Ошибки быть не могло. То трубила lituus римской конницы. Вновь обретя надежду на спасение, Тит стал громко звать на помощь.
В хижину вошли двое, и сердце Тита забилось сильней, но то были не римляне, а гунны. Один из варваров бросился к нему, другой, с оголенным мечом, — к Марку. Издав мучительный крик, Тит рванулся к занесшему над головой его сына меч варвару, но налетел на свисавшую с потолка горящую балку. Оглушенный внезапным ударом, он погрузился в темноту.
* * *
Открыв глаза, Тит ощутил пульсирующую боль в голове. Он лежал в палатке, на одной из стоявших в ряд походных кроватей. Он попытался вспомнить, что произошло. Нападение гуннов на деревню, последний отчаянный отпор в кирхе, Клотильда, попавшая под стропильную балку в горящей хижине… Тит привстал и, не обращая внимания на жуткую головную боль, в отчаянии позвал санитара.
В палатку вошел мужчина с окровавленными бинтами в руках.
— Тит Валерий Руфин? — спросил он.
Тит кивнул, и мужчина продолжил:
— Ты находишься в военном лазарете недалеко от Аргентората. Кое-кто тебя хочет видеть. Меня просили доложить, когда ты придешь в себя.
Вскоре санитар вернулся в сопровождении человека в форме римского полководца. То была знакомая форма, у которой полностью отсутствовал стиль — небрежно повязанная лента и выгнутая кираса. Аэций! Тит заметил, что командир поседел, а на лице его появились морщины, которых не было при их последней встрече.
— Клотильда и Марк, господин, что с ними сталось?
Аэций подошел к кровати и взял Тита за руку.
— Твой сын в безопасности, — сказал он. — За ним присматривает одна местная супружеская пара, германцы. Скоро они приведут его к тебе. — Аэций сделал паузу, и с сожалением произнес: — Твоя жена погибла, Тит. Мне жаль, очень жаль, что приходится говорить тебе об этом.
— Что же случилось, господин? — прошептал Тит.
— Я был там, — сказал Аэций. — Война официально прекратилась, когда произошло нападение на твою деревню. Гундогар сдался, а бургунды согласились с условиями перемирия, по которым обязались прекратить практику набегов и нападений, но вряд ли тебе от этого станет легче. Гунны, которые атаковали вас, — это одинокая банда мародеров, боюсь, одна из немногих. После подписания мирного соглашения я проезжал по окрестностям с хорошо вооруженным отрядом, пытаясь предотвратить грабежи и нападения на мирных жителей со стороны никем не контролируемых воинов. К сожалению, в вашу деревню я прибыл слишком поздно. Гунны разбежались сразу, как только мы подошли. Но те двое, что были в кирхе, о нашем появлении не знали. Вероятно, искали чем поживиться. Один их них, тот, что кинулся к твоему сыну, повернулся ко мне, но не успел и пикнуть — я его заколол. Другого я лишь ранил, но он тоже погиб — раздавило рухнувшей крышей.
— А Клотильда?
— Я пытался сдвинуть балку, но… Одному мне было не справиться, а времени на то, чтобы звать кого-то, уже не оставалось… Она умоляла меня убить ее. Даже если б я ее вытащил, спасти ее не удалось бы, — тело было раздроблено, и она умирала. Но я не мог позволить ей умереть в огне. Ну и… сделал, то, что следовало… Так поступил бы и ты. − Аэций сделал паузу. Выражение лица у него стало суровым. − Если возненавидишь меня, винить тебя не стану.
Тит смахнул со щеки покатившуюся по ней слезинку.
— Вы правы, господин. Во мне все-таки течет римская кровь, и я ценю тот милосердный поступок, который вы совершили, — единственное, что можно было сделать. За это, а также за то, что вы спасли жизнь моему сыну, я буду вечно вам благодарен.
— Я заставил Марка покинуть хижину перед тем, — Аэций сделал короткую паузу, затем продолжил, — перед тем, как вытащил тебя. Едва я вынес тебя, как обрушилась крыша. Тебя серьезно ударило по голове, и ты потерял много крови, но врачи говорят, что покой поможет тебе полностью выздороветь.
Наступила короткая пауза, затем Аэций спросил дружеским тоном:
— Ну и как будешь жить дальше, Тит Валерий?
— Наверное, вернусь в Италию, господин, буду управлять фамильным имением.
— Да так ты растеряешь все свои навыки. У меня для тебя есть другое предложение.
— Какое, господин?
— Служи мне. Риму верные подданные нужны, как никогда. Особенно если речь идет о сыне Гая Валерия Руфина — человека, который, возможно, спас Галлию. Я не жду, что ты дашь мне ответ сейчас же. Приду за ним через пару-тройку дней.
Тит вспомнил слова из последнего письма своего отца, в котором Гай советовал нечто подобное. Кроме того, он чувствовал, что Аэций немного изменился. Возможно, он уже не был тем безжалостным честолюбивым борцом и политиком, каким слыл прежде. Тит решился.
— Два дня мне не нужны, − сказал он. — Если вы хотите, чтобы я вернулся, то я готов снова вам служить, господин.
Аэций улыбнулся и взял Тита за руку.
— Добро пожаловать обратно, Тит Валерий. И, как говорится в Священном Писании, служи верно и честно.
Глава 25
Как представляется, благодаря племени нецивилизованных союзников [визиготов] от былого римского могущества вскоре ничего не останется.
Сидоний Аполлинарий. Письма. После 471 г.— Поздравляю, комит, — сказал Литорию его молодой заместитель, когда объединенная гуннско-римская армия вброд перешла реку Лигер у Цезародуна и, покинув Арморику, двинулась на юг. — Полагаю, не скоро эти ублюдки вновь решат выступить против Рима.
— Слишком много крови пролилось, Квинт, — вздохнул Литорий, качая головой. — Багаудов, конечно же, нужно было унять. И все равно…
— Только не говорите, что вам их жаль, господин, — встрепенулся Квинт. — Они бросили нашей империи вызов и получили то, что заслуживали. Как, впрочем, и бургунды. Полководец Аэций был слишком мягок с бургундами в первый раз, но когда они восстали снова, преподал им хороший урок. Убил — сколько, тысяч двадцать? — а оставшихся угнал в плен в Сапаудию. Вот так нам следует поступить и с визиготами.
— Вам, молодым петушкам, все видится либо в черном, либо в белом цвете, — рассмеялся Литорий. — Если бы все было так просто! Я разговаривал с Тибато, как тебе известно, — задумчиво продолжал он, — сразу после того, как он был пленен, и всего за пару часов до того, как ему отрубили голову. Возможно, его следовало распять, как Спартака, но, ты же знаешь, распятие на кресте как наказание отменил еще Константин, более ста лет назад. Тянулась за ним чернь, за этим Тибато. Образованный был человек. Цитировал мне Тацита: «Похищать, убивать, грабить — это на их лживом языке называется управлением. А когда превратят всё в пустыню, то называют это миром».
— Кто эти «они», господин? — спросил Квинт, озадаченно взглянув на Литория.
— Вам, молодежи, классиков уже не преподают разве? — в притворном гневе воскликнул Литорий. — «Они» — это римляне, а слова эти Тацит вложил в уста Калгака, предводителя каледонцев в битве у Граупийских гор. Почитай «Историю» Тацита.
— И как, победили мы их тогда?
— Ну то, отдельное, сражение мы, может быть, и выиграли, но каледонцы в конечном счете все равно выдворили нас со своих земель — во времена Септимия Севера, две с лишним сотни лет тому назад. Наверное, тогда-то вся эта волна и пошла на Рим.
— Не будьте вы таким пессимистом, господин, — улыбнулся Литорию Квинт. — Тогда пошла на Рим, сейчас пойдет в другую сторону. Как только мы разберемся с визиготами, Галлия вновь окажется под нашим полным контролем.
— Возможно, ты и прав, — повеселел полководец. — В конце концов, багаудов-то мы разбили? Может статься, сокрушим и визиготов.
— Что вы говорите, господин — «может статься»! Непременно сокрушим — раздавим, как жаб, — уверенно заявил Квинт. — Если б вы знали, как я хочу вновь увидеть юг — позагорать на солнце, подышать горным воздухом, вспомнить запах апельсинов и сосен, побродить по оливковым рощицам и виноградникам, выпить какого-нибудь приличного вина, а не этого вашего напоминающего мочу северного пива.
Несколько миль они проехали молча, а затем Квинт предложил:
— Может быть, мне проверить колонну, господин?
— Да, давай-ка, — в голосе Литория прозвучали и облегчение, и благодарность.
Вряд ли это, составлявшее большую часть армии, аморфное полчище гуннов можно считать «колонной», подумал Квинт, направив коня к вершине холма, с которого можно было разглядеть все войско. Последнее время он очень волновался за полководца. Литорий был порядочным человеком и — в обычных обстоятельствах — хорошим солдатом, но, судя по всему, подавление восстания багаудов дурно повлияло на его моральное состояние. Да и неудивительно. Там, в Арморике, признался себе Квинт, действительно происходили страшные вещи: загнав тысячи мятежников и их детей в одну из каменоломен возле Лексовия, лучники-гунны долгие часы упражнялись в искусстве метать стрелы, используя практически безоружных людей в качестве мишеней; в Секване варвары утопили сотни человек, которых просто бросали в воду с привязанными к ногам камнями… Но то была война — да, ты видишь много ужасов, но должен стиснуть зубы и думать лишь о том, как победить противника и выжить. Но к войне комит сейчас, вероятно, испытывает fastidium, отвращение, — слишком уж много крови пролилось во время последней кампании. Если так, то это может ослабить его рассудительность, что, в свою очередь, ставит под угрозу жизни солдат.
* * *
Несколько раз Литорий пытался обуздать гуннов — и все впустую: они полностью игнорировали его, подчиняясь лишь приказам собственных командиров. Вне стен городов и за пределами больших поместий они промышляли набегами, убивая всех без разбора. Ладно бы, думал Квинт, проявляли подобную жестокость, лишь подавляя изменников-крестьян, но если продолжат в таком же русле, когда мы уйдем из Арморики, нарвемся на серьезные разногласия с римскими властями. Возглавляя эту «грязную» кампанию, да еще и оказавшись не в состоянии контролировать своих солдат, Литорий испытал такое напряжение, что вскоре перестал напоминать себя прежнего. Временами он выглядел слишком самоуверенным (однажды, например, попал с разведотрядом в засаду, из которой удалось выбраться с большим трудом); временами бывал столь острожным, даже робким, что несколько раз позволял большим бандам багаудов ускользнуть. Квинту оставалось лишь надеяться, что, столкнувшись с грозными визиготами, Литорий вновь обретет былые спокойствие и сноровку.
* * *
Продолжая двигаться вперед, армия прошла отмечавший центр Галлии миллиарий и оказалась на Аревернском плато: странном районе, где встречались то покрытые лавой пустыни и потухшие вулканы, выраставшие из земли, словно большие шишки или же огромные купола, то долины, пышущие зеленью, которую с удовольствием поедали лошади. Там, где река Дор сливается с рекой Элавер, армия свернула на Виа Ригордана, по которой галлы водили стада к летним пастбищам. Теперь то была главная римская дорога, ведшая к Немаусу через Цебенну.
Словно рой саранчи, войско покатилось к югу, мимо устроившихся на краю впечатляющего ущелья Тигерн, затем совершило подъем через несколько последовательных лесных площадей: дубовых и каштановых, березовых и буковых рощиц, и, наконец — через узенькую линию купавшихся в жемчужном свете сосен. Далее дорога проходила через вулканические вершины, фантастические горные цепи и черную лаву, неясно вырисовывавшиеся над лесистыми ущельями и крутыми утесами. У Ревессия, там, где Виа Ригордана пересекает Виа Болена, связывая Элавер с Верхним Лигером, армии открылся завораживающий вид огромной Цебенны, подступы к которой были усеяны редкими белыми кустами крестовника. Шарообразная и лишенная растительности, вершина этой горной цепи знаменовала собой южный рубеж Ареверны, образуя водораздел между Атлантическим океаном и Внутренним морем.
Мародерствовавшие в Арморике, гунны стали источником серьезных неприятностей и в Ареверне. Литорию ежедневно приходилось выслушивать жалобы на них от разъяренных земледельцев и глав поселений. Местные жители — потомки драчливых и непостоянных арвернов, некогда с огромным трудом усмиренных Юлием Цезарем, — не относились к тому сорту людей, которые бы стали смиренно сносить беспричинные грабежи. Большую часть истцов римскому полководцу удалось умиротворить — при помощи извинений, обещаний денежного возмещения и выплат компенсаций из собственного кармана. Тем не менее один случай привел к последствиям сколь незамедлительным, столь и далеко идущим.
Когда армия проходила мимо Авитака, имения сенатора Авита, чья помощь не была востребована Аэцием на время ведения бургундских кампаний, один из слуг возмутился поведением гуннов, беззаботно пустивших лошадей через кусты виноградной лозы. Они, естественно, не обратили на мужчину никакого внимания, но тот, набравшись смелости, продолжал упорствовать в своем гневе, и тогда один из гуннов вытащил из ножен клинок и заколол бунтаря. Квинт тут же сообщил об инциденте Литорию, который лишь пожал плечами.
— Такие вещи случаются, Квинт. Я не могу быть повсюду. — Вручив одному из младших офицеров бурсу с золотыми монетами, он кивнул в сторону имения. — Передай это родным слуги с моими извинениями.
Но то был еще не конец. Примерно через час армию настиг сам сенатор Авит; остановив коня рядом с Литорием, он бросил бурсу на землю:
— Оставь свои деньги себе, комит. Они плохо пахнут. Своих людей я обеспечу сам. — Кипя от злости, он продолжил. — Так-то ты поддерживаешь в войсках дисциплину? Понятно, почему варвары нас презирают.
— Гуннов в узде не всегда удержишь, сенатор, — возразил Литорий, краснея.
— Аэций умеет находить с ними общий язык. Если у тебя с этим проблемы, возможно, нам стоит подумать о смене полководца. Мне нужен тот, кто это сделал.
Литорий обреченно кивнул: условия здесь диктовал не он. Пришлось остановиться на привал, а так как недостатка в свидетелях — как римлян, так и гуннов — не было, убийцу вычислили быстро. Подъехав к варвару, Авит обратился к нему по-гуннски, вероятно, спросил, он ли убил слугу. В ответ сидевший на лошади гунн лишь искривил в надменной улыбке губы.
Внезапно выхватив из ножен меч, spatha, Авит нанес рубящий удар, но гунн успел отклониться, и блуждавшая по его лицу самодовольная улыбка сменилась хмурым взглядом. Поспешно обнажив меч, он отразил второй выпад сенатора. Будучи искусными наездниками, соперники закружили друг вокруг друга, нанося и парируя удары, в то время как расположившиеся поодаль солдаты следили за поединком с нескрываемым восторгом. Вскоре стало понятно, что Авит владеет мечом лучше гунна; на третьей или четвертой минуте боя, сделав ложный выпад, он заставил варвара открыться и резким движением воткнул spatha между ребрами противника. Не успел еще гунн свалиться с лошади в предсмертной агонии, как сенатор, не промолвив ни слова, пришпорил коня и унесся прочь.
Это происшествие заметно оживило Литория; на место нерешительности и инертности пришли невиданная доселе активность и холодный расчет. Он был, казалось, везде: инспектировал, выговаривал, подбадривал. Дисциплина и моральный дух римских солдат, не выдерживавшие никакой критики в Арморике, вновь поднялись на должный уровень; гунны, очевидно, находившиеся под впечатлением продемонстрированной Авитом римской власти, больше беспокойств не причиняли.
Перейдя Цебенну, армия вступила в Провинцию: плодородную, урбанизированную, совершенно римскую. У Немауса повернула на юго-запад, выйдя на ведшую к Нарбо-Мартию большую военную дорогу. В двадцати милях от этого города, когда войско встало лагерем на ночь на северном берегу реки Раурарис, Литорий послал за своим заместителем.
— Завтра, Квинт, отдыхаем, — сказал он, подливая воды в серебряный кубок с вином. — Не потому, что устали, а чтобы дождаться прибытия продовольственных обозов.
— Продовольственных обозов?
— Груженых мукой. Отвечающий за обеспечение кампании префект претория заверил меня, что они уже вышли из государственных амбаров в Виеннской и Первой Нарбонской провинциях и прибудут сюда со дня на день.
Он протянул Квинту наполненный до краев кубок.
— Только массильское, к сожалению, — все, что смог достать. План следующий. Эти бедняги в Нарбо умирают от голода; продукты туда не завозятся уже несколько месяцев. Разведчик, которому удалось на днях прошмыгнуть мимо готов в город, доложил, что ситуация критическая и город вот-вот может капитулировать. Если мы сможем переправить туда муку, этого не случится и Нарбо будет спасен. Аэций уже выдвинулся из Бургундии; когда он подойдет, у нас будет значительное численное превосходство над готами и они вынуждены будут снять блокаду. Но мы не можем позволить себе дожидаться Аэция. Муку мы должны доставить в город немедленно.
— Всего один вопрос, господин, — тактично промолвил Квинт.
Литорий вздернул брови.
— Как мы провезем муку через позиции готов? Войско у них — не меньше, чем у нас; узнав о нашем приближении, они, несомненно, приготовятся дать отпор. Кроме того, обозы тяжелы и громоздки; как мы их защитим?
— Я насчитал два вопроса, Квинт, — Литорий подлил в бокалы вина. Вскочив на ноги, он начал мерить палатку шагами; глаза его пылали восторженным огнем. — Но, так и быть, отвечу на оба: во-первых, готы о нашем приближении ничего не узнают, потому что мы подойдем тихо, ночью; во-вторых, муку доставит конница — каждый из всадников прихватит с собой два мешка муки. Разведчик мне тут набросал план вражеских укреплений, так что определим наиболее слабое место — и ударим туда. Люди Марка уже получили указания провести нас в город. Ну, что скажешь?
— Блестящий план, господин, — признал Квинт, — но, по мне, так слишком опасный. Ночью много чего может пойти не так. Но при должном планировании, подготовке и дисциплине, полагаю, это может сработать.
— Сработает, обязательно сработает, — улыбнулся Литорий, — благодаря тебе. — Он похлопал своего заместителя по плечу. — Мой дорогой Квинт, я полностью полагаюсь на твое умение обеспечивать безукоризненное исполнение всего того, что ты только что перечислил. Так что лучше бы тебе приступить к этому немедленно. Но сначала допей вино.
* * *
— Прими мои поздравления, комит — блестящая операция, — сказал Аэций Литорию. Они находились в палатке главнокомандующего у Нарбо: десять дней назад с города была снята осада, а накануне приведший гуннов Литорий наголову разгромил готское войско. (Выжившие предпочли удалиться на выделенные им земли, оставив на поле боя восемь тысяч человек убитыми.) — Твои действия в Нарбо — великолепный пример применения двух главных принципов ведения боевых действий — новшества и того, что я называю «оперативным командованием». Удачливый полководец — это тот, кто не боится внедрять оригинальные идеи, кто, контролируя следование армией генеральной стратегии, позволяет своим подчиненным проявлять собственную инициативу и действовать согласно сложившейся ситуации. Ты с блеском использовал и то и другое.
— Благодарю вас, господин, — вспыхнул от удовольствия Литорий. — Но, как я уже говорил, главным образом, успехом сражения мы обязаны не мне, а Квинту, моему заместителю. Я лишь придумал общий план доставки муки осажденным, реализовал же его Квинт со своими людьми.
— Превосходный пример оперативного командования в действии, — улыбнулся Аэций. — Отличная работа, Квинт. Считай, что сделал шаг вверх по служебной лестнице. «Дукс Квинт Аррий» — звучит, согласись, неплохо. Не беспокойся, — рассмеялся он, повернувшись к Литорию, — твое место он не узурпирует. Мне нужно съездить в Италию, так что будешь тут пока единственным полководцем. Есть у меня кое-какие счеты с нашей любимой императрицей. До моего возвращения назначаешься действующим магистром армии.
— Magister militum! — выдохнул Литорий. — Это… это более чем щедро, господин.
— Не думаю, комит. Я бы сказал так — «здраво». Эти визиготы — крепкие орешки. За ними нужен глаз да глаз. Но я знаю, что передаю управление армией в надежные руки. Не волнуйся, возможность доказать, что ты достоин этого титула, тебе еще представится.
Глава 26
Ты не можешь служить двум господам, Богу и мамоне — другими словами, Христу и Цезарю.
Павлин, епископ Нолы. Письма. 400 г.— Гай говорит… — Цитируя знаменитые «Институции», защитник продолжал настаивать, что его клиент не только обвинен в совершении преступления незаконно, но и сам является пострадавшей стороной.
— А вот Ульпиан утверждает… — возражал обвинитель.
— Гай…
— Папиниан!..
— Павел!..
— Ульпиан…
— Модестин…
Так и продолжали эти двое, словно дерущиеся на кулаках гладиаторы, обмениваться судебными прецедентами. Дело, спор относительно якобы наличествующего посягательства на чужую землю, затянулось до позднего вечера. Судья, загруженный работой декурион, назначенный правителем входившей в диоцез Семи Провинций Второй Нарбонской провинции defensor civitatis для юрисдикции суда первой инстанции, с нетерпением ожидал того момента, когда можно будет закрыть дело и избежать его отложения на следующий день. Смеркалось: вошедший в обустроенный в главной базилике Немауса зал судебных заседаний раб начал зажигать масляные лампы.
— А что говорит Папиниан? — устало спросил defensor, повернувшись к Криспу, эксперту-консультанту суда. Все магистраты были, как правило, людьми, по уши заваленными другими делами, вследствие чего законы знали слабо, поэтому на всех судебных заседаниях присутствовал эксперт-консультант, дипломированный юрист, выступавший в качестве третейского судьи. В тех случаях, когда очевидный вердикт вынести не удавалось, применялся недавно введенный Закон Цитат, составленный на основе сочинений пяти упомянутых выше классических римских юристов. Если по одному и тому же вопросу между ними обнаруживались разногласия, то судья должен был принять решение, которого придерживалось большинство из них; при равенстве голосов все решало мнение Папиниана.
— Ну, так что же там говорит Папиниан? — раздраженно переспросил defensor, когда, после долгой паузы, Крисп ничего не ответил.
Но эксперт-консультант, молодой адвокат, проходивший обучение в Риме, вопроса не слышал. Крисп был всецело поглощен тем, что с недавних пор беспокоило его столь сильно, что он практически постоянно пребывал в состоянии ужаса: судьбой своей бессмертной души.
* * *
Что необычно для христианина, Крисп был крещен еще в детстве, когда заболел и находился при смерти. Большинство откладывали крещение до смертного одра, что позволяло им жить в грехе до самой последней минуты, — обряд этот обелил бы их от всех грехов и их очищенные души попали бы прямо в рай. Проходивший крещение человек обязательно должен был исповедаться. Но случиться подобное могло лишь единожды; будущие грехи оставались не подлежащими прощению, и те, кто умирал в грехе, попадали в ад. Обычному гражданину, особенно тому, кто имел то или иное отношение к армии либо же закону, даже при условии, что он тщательно избегал совершения явных грехов вроде прелюбодеяния и блуда, было очень трудно (если только он не становился отшельником или монахом) остаться не замаранным грехом. «Те, кто получают мирскую власть и отправляют мирское правосудие, не могут быть свободны от греха», — сказал как-то один папа римский.
Все это не сильно беспокоило чувствительного и одаренного богатым воображением паренька, оставаясь лишь набором абстрактных понятий, покоившихся на задворках памяти Криспа; более того, он утешал себя тем, что всегда сможет исповедоваться в старости, когда от ведущих к греху искушений и возможностей не останется и следа. Потому-то он и выбрал карьеру законника, — даже несмотря на то, что на подсознательном уровне понимал, что духовные опасности этой профессии все же свойственны. Будучи парнем добросовестным, Крисп быстро пошел вверх по служебной лестнице, став экспертом-консультантом в том возрасте, когда его сверстники еще зубрили «Ответы» Папиниана. Он так и провел бы всю жизнь за любимой работой, лишь изредка испытывая смутные страхи относительно того, что ждет его в загробном мире.
Но несколько недель назад Крисп испытал травматическое прозрение, которое вытащило все эти страхи на поверхность и заставило их возрасти до такой степени, что теперь они занимали все мысли юноши. В середине воскресной службы, проходившей в небольшой деревенской церквушке недалеко от Немауса (в этой деревне Крисп жил), в храм вошел незнакомец, худой, сумасбродного вида мужчина, с бритой головой и в черном платье. То был один из тех, недавно появившихся, богословов, которых можно было встретить на любой из римских дорог, — странствующий монах. Грубо отодвинув в сторону священника, он повернулся лицом к прихожанам и начал свою речь. Недовольные протесты и возражения священника стихли, едва лишь раздавшись: красноречие монаха и исключительная сила его личности овладели слушателями уже через несколько мгновений.
— У меня для вас простое послание, — заявил монах. — Хотите спасти свои души? Тогда отвергните этот мир и его искушения, оставьте земные занятия. Зачем? — Он посмотрел на аудиторию горящими глазами, и голос его возрос до крика. — Затем, что, выбрав этот мир, вы рискуете навлечь на себя грех, а тот, кто умрет грешником, попадет в ад! — Здесь он понизил голос, и заговорил тихо, здраво. — Сколько здесь тех, кто, полагая, что это — не грех, содержит любовницу или бывает в театре, ходит смотреть бои диких животных на арене или гонки на колесницах в цирке? Вы можете не осознавать этого, но, поступая так, подвергаете опасности свои бессмертные души, ибо все эти поступки греховны. Осмелюсь предположить, что многие из вас посещают термы — само по себе, это, конечно же, не грех. — Он вновь повысил голос. — Тем не менее это потворство своим желаниям, которое может пробудить плотские аппетиты и толкнуть вас на греховную дорогу блуда. Не менее греховно и брачное ложе; гораздо лучше для мужа и жены подавить желание и жить во взаимном целомудрии. Был ли кто из вас солдатом? Если да, то он мог совершить грех убийства, каковым является лишение жизни любого живого существа, пусть даже то был враг. Есть ли здесь юристы или магистраты? Они тоже, безусловно, совершили грехопадение: кто же, положа руку на сердце, скажет, что все вынесенные им приговоры были справедливыми? А если, вынося решение, вы приговорили человека к смерти, то виновны в убийстве в не меньшей степени, как если бы убили его собственными руками. Говорю вам, лишь одна дорога ведет в рай, и…
— Хватит! — перебил его один из прихожан, судя по всему, самый отважный — остальные, в том числе и Крисп, были так запуганы и восхищены выступлением монаха, словно над ними было произнесено заклинание. — Тебе, что, нет дела до благополучия государства? — продолжал говорящий, пышущий здоровьем декурион. — Если мы последуем твоему совету, что будет с империей? Кто защитит нас от варваров, если солдаты сложат оружие? Где Рим найдет сыновей и дочерей, которые так нужны ему в эти кризисные времена, если все будут соблюдать целибат? То, что ты предлагаешь, равносильно измене. Я сообщу о тебе правителю провинции и добьюсь того, чтобы тебя арестовали за подстрекательство.
— Что ж, ты волен поступать так, как того желаешь, друг мой, — в голосе монаха звучало злорадное презрение. Народ относился к подобным праведникам с таким благоговением, что любые попытки светских властей обуздать их активность легко могли спровоцировать массовые беспорядки. — Вы все признаете, что грех ведет в ад, — продолжил он, когда оппонент, прикусив язык, замолчал. — Но знает ли хоть один из вас, на что похож этот ад?
Драматическим жестом монах вытянул руку в сторону, — так, что ладонь оказалась прямо над горевшей на алтаре свечой. В течение нескольких секунд, с невозмутимым видом, он держал ее над пламенем; вздох ужаса пронесся по церкви, когда в помещении запахло паленой плотью. Убрав руку от свечи, монах сказал:
— Даже я, приученный умерщвлять плоть, могу терпеть эту боль не более пары десятков секунд. И если маленькая свеча может вызвать такую боль, подумайте, какую агонию вам придется испытать, когда вы попадете в адское пекло. И агония эта, не забывайте, будет длиться вечно. — К назидательной интонации примешалась гнетущая угроза. — Представьте вечные муки, крики, скорчившиеся от боли тела, которые никогда не будут уничтожены сжигающим их огнем. Минута подобных страданий покажется вам вечностью. Что стоят все мирские соблазны по сравнению со спасением ваших душ? Выбирайте: Христос или Рим — обоим служить вы не можете.
Спотыкаясь, потрясенный и испуганный, брел Крисп домой из церкви. Большинство из тех, кто слушал монаха, недельку-другую будут следовать советам праведника, а затем вновь ударятся в земные радости. Возможно, время от времени их и будет бить нервная дрожь вины, после того как они вернутся со свидания с любовницей, сжульничают на торгах или поставят деньги на одного из возничих; но вскоре мысль о возможном попадании в ад покинет их умы, главным образом потому, что большинство из них еще не проходили обряд крещения, держа этот ритуал про запас, как страховку против рисков грехопадения.
Как бы ему хотелось оказаться в числе этих «других»! Но Крисп знал, что все его грезы несбыточны. По натуре своей он был менее «толстокожим», иначе говоря, более ранимым и чувствительным, чем большинство из прихожан, следовательно — более уязвимым. Казалось, монах пробрался в его голову и открыл ящик Пандоры со всеми его ужасами, и их уже не водворишь на место. Конечно, он еще мог получить отпущение грехов — покаявшись. Но что, если он станет жертвой какого-либо фатального несчастного случая или умрет от какой-нибудь смертельной болезни еще до того, как успеет покаяться? На память ему то и дело приходили упомянутые монахом устрашающие картины ада, и изгнать их он был не в силах. «Выбирайте: Христос или Рим — обоим служить вы не можете». Послание клирика несло в себе категорическое и страшное предупреждение, которому, как бы ему ни хотелось поступить иначе, он должен был внять.
* * *
Почувствовав, что кто-то трясет его за плечо, Крисп очнулся от роившихся в голове мыслей. Словно выйдя из транса, он огляделся вокруг: тускло освещенный мерцающими масляными лампами зал судебных заседаний, склонившийся над ним defensor, обеспокоенный и, в то же время, раздраженный, по бокам — защитник с обвинителем и их клиенты.
— Тебе нехорошо? — резковато спросил defensor. — Если так, мы, полагаю, можем отложить дело до завтра.
Крисп покачал головой.
— Нет, я в порядке, господин, — пробормотал он извиняющимся тоном. — Голова что-то вдруг разболелась; но все уже прошло.
— Отлично, тогда продолжим. Освежу немного твою память: похоже, мы зашли в тупик, выйти из которого нам поможет Эмилиан Папиниан. Итак, что говорит по данному вопросу Папиниан?
Не без труда Крисп припомнил детали разбираемого дела. А. обвинял Б. в том, что тот, в то время как А. уезжал куда-то по делам, прибрал к своим рукам небольшой кусок его, А. земли, изменив границы наделов. Б. же обвинение отрицал. В суд были приглашены несколько свидетелей, показания которых оказались диаметрально противоположными. В результате к однозначному мнению суд прийти не смог, и вынесение окончательного решения отдавалось на откуп Папиниану, мнение которого он, Крисп, и должен был огласить.
Во время рассмотрения дела у Криспа появилось стойкое убеждение в том, что Б. показавшийся ему человеком жадным и беспринципным, подкупил как минимум одного из свидетелей, почему его и следовало признать виновным. Был Крисп убежден и в том, что Папиниан поддерживает иск А. Кроме того, — что потенциально представлялось крайне опасным для Б. — во время слушаний было безоговорочно установлено, что со стороны Б. звучали в адрес А словесные угрозы. Можно ли было рассматривать эти высказывания как угрозу насилием или оскорбление? Нет, утверждали двое юристов. Да, — согласно оставшейся паре; и, как знал Крисп, Папиниан склонялся к такому же мнению.
Беда была в том, что Б. тогда бы следовало признать виновным не в присвоении земли, а в latrocinium, краже. Defensor в этом случае будет вынужден передать дело Б. в уголовный суд, а сам Б. несомненно, оставшееся до следующего судебного разбирательства время проведет за решеткой. Условия пребывания заключенных в тюрьме были просто невыносимыми; многие умирали еще до суда. Если то же случится и с Б. то Крисп, в глазах Церкви, будет считаться виновным в смертном грехе убийства, а значит, и душа его попадет в ад.
Сгорая со стыда за то, что приходится предавать профессиональную этику, Крисп прочистил горло и важно произнес сфальсифицированный вердикт: «Согласно Папиниану, в делах, касающихся владения, если вескость конкурирующих претензий определена в пользу одной из сторон, оспариваемая собственность делится между претендентами в равных долях, согласно решению независимого судьи».
* * *
— Итак, ты хочешь вступить в наше небольшое братство? — спросил аббат Лерины у стоявшего перед ним взволнованного молодого человека. Будучи человеком добродушным и понимающим, аббат смотрел на Криспа с любопытством и тревогой. По покрою и качеству далматика он определил, что юноша принадлежит к высшим слоям среднего класса, то есть той части общества, откуда лишь единицы добровольно уходили в монастырь. Конечно, случались и исключения — даже один бывший сенатор, Павлин из Нолы, стал монахом, — но подобные примеры были наперечет. Этот же молодой человек, в отличие от тех, кто приходил в монастырь непоколебимым в своих убеждениях, смотрел на него обеспокоенным взглядом, свидетельствовавшим о неких душевных терзаниях.
— Всем сердцем, отец, — в голосе Криспа звучала безысходная пылкость.
— Должен предупредить тебя, что жизнь эта нелегка, — предостерег его аббат, — столь нелегка, что не каждый может к ней приспособиться, и, возможно, сильно отличается от той, которой ты жил прежде. Я должен убедиться, что призвание твое искренне. Ты бы удивился, узнав, сколь многие хотят попасть в монастырь лишь для того, чтобы избежать ответа перед законом либо же просто обеспечить себя предметами жизненной необходимости. — Он окинул Криспа оценивающим взглядом. — Скажи мне, сын мой, почему ты хочешь стать монахом?
— Ничего я не желаю так сильно, как жить жизнью, свободной от соблазнов, ведущих к грехопадению.
— Что ж, здесь их у тебя будет не много, — улыбнулся аббат. — Но ты так молод, чтобы желать уйти от мирской жизни! — Встав с престола, он положил руку на плечо Криспа и подвел юношу к окну. — Посмотри: там, за небольшой полоской моря, находится Гринник — шум и суета большого города, красивые женщины, возбуждение Игр, песни и смех, богатая еда и отборные вина, поэзия, музыка, театр. Действительно ли ты готов отказаться от всего этого? Здесь, на острове, тебя ждут лишь уединение, работа и молитва.
— И единение с Богом, если я останусь безгрешен?
— И это, полагаю, тоже, по милости Божьей, — мягко признал аббат, тронутый искренностью юноши. — Очень хорошо. Будешь пока кандидатом. Не изменишь своего решения — в скором времени станешь послушником.
Испустив вздох облегчения и благодарности, Крисп рухнул на колени и принялся целовать аббату ноги.
Глава 27
Живут там люди, которые избегают света и называют себя монахами; из-за страха своего они избегают того, что есть добро; подобные убеждения есть бред сумасшедшего.
Рутилиан Намациан. О моем возвращении. 417 г.Глаза Валентиниана засветились восторгом, когда два раба внесли в залу и поставили перед ним на цоколь заказанную им лично у одного из римских зодчих модель. Вырезанная из дерева и покрытая штукатуркой для имитации мрамора, она представляла собой триумфальную арку, на рельефном фронтоне которой была изображена скачущая посреди спасающихся бегством бургундов и визиготов победоносная западная конница. На одну из панелей автор поместил и союзников римлян, гуннов, низких и неуклюжих. Что ж, самодовольно улыбнулся Валентиниан, с данным ему поручением зодчий справился просто великолепно: при виде арки ни у кого не возникло бы сомнения, что в представленном на ней сражении победили именно римляне, ведомые своим императором, управлявшим вожжами летящей впереди войска квадриги. Конечно же, армией во всех кампаниях в действительности командовал не он, а Аэций, но ведь именно для того и нужны полководцы! В конце концов, думая о завоевании Британии, люди вспоминают Клавдия, а не Авла Плавтия.
— Прекрасно! — выдохнул император. Кружа вокруг модели, он не переставал удивляться тому, с каким мастерством зодчий изобразил ужас и решимость на лицах, соответственно, варваров и римлян. Воздвигнем ее в Риме, решил Валентиниан (небольшая периферийная Равенна, окруженная окутанными туманами болотами, нравилась ему гораздо меньше, чем Вечный город), и пусть размерами своими и великолепием она затмит арки Тита и Константина.
К несчастью, перед тем, как запустить проект в производство, следовало решить одну крайне утомительную проблему: изыскать денежные средства, необходимые для его воплощения. Вновь эти жуликоватые чиновники из казначейства будут твердить, что в казне — ни солида, с горечью подумал Валентиниан; может быть, мама поможет мне их убедить?
* * *
В приемном покое равеннского императорского дворца император и его мать, Августа Галла Плацидия, вели непростой разговор с двумя главными казначеями империи, comites rei privatae и sacrarum largitionum, комитами частного имущества и священных щедрот соответственно. Рядом с тронами, на которых сидели Плацидия и молодой император, стояла модель предполагаемой арки Валентиниана.
— Сожалею, ваша светлость, но мы вряд ли сможем себе ее позволить, — заявило частное имущество. — Столь серьезный проект требует огромных вложений — в разы превосходящих остатки от тех сумм, которые мы получаем со сдаваемых в аренду имперских земель. Я сказал «остатки»? — он устало улыбнулся. — Ваша светлость, у нас ничего не остается. Все эти деньги уходят на содержание вашего двора. По правде говоря, писцам мы еще не выплатили жалованье за позапрошлый месяц. Осмелюсь предположить, что наши дела пошли бы гораздо лучше, если бы мы могли, скажем так, слегка «перестроить» дворцовую смету. Возьмем, к примеру, пиршество, данное пару дней назад для посланников Восточной империи по случаю публикации Кодекса Феодосия. Снег для охлаждения вин, доставлявшийся с Альпийских гор в корзинах дюжинами посыльных; свиные яички из Провинции; сони, фаршированные языками жаворонков… Могли ведь обойтись и без этого, не находите? Устриц, свинины и зайцев, добытых в наших краях — и за совершенно пустячные деньги, — вполне хватило бы.
— Понятно, — фыркнул Валентиниан. — Для того чтобы сэкономить несколько tremisses, ты хочешь, чтобы мы подавали нашим высоким гостям сосиски из Бононии с первоклассной равеннской капустой и заставляли их запивать все это мантуйским уксусом, который у них, в Мантуе, зовется вином. Не сомневаюсь, Катону Цензору твое предложение наверняка бы понравилось. — Он повернулся к другому комиту, коренастому мужчине с румяными щеками. — Частное имущество слишком скупо для того, чтобы позволить нам прославлять наши победы. Может, государство окажется более щедрым?
— Ваша светлость, забудьте даже думать об этом, — резко заявил комит священных щедрот. — Каждый полученный с налогов nummus нужен казне для того, чтобы содержать хотя бы стоящую в Галлии армию.
— Да как ты смеешь так разговаривать со своим императором! — завизжал Валентиниан, брызжа слюной. — Да я тебя на острова сошлю! Жизнь среди коз Кефалонии вмиг излечит тебя от твоей дерзости.
— Даже если не брать в расчет тот факт, что Кефалония теперь подпадает под юрисдикцию Запада, — спокойно, не обратив на гневную тираду императора, казалось, никакого внимания, ответил комит, — что это вам даст? — Он отлично знал, что без поддержки Плацидии и Аэция Валентиниан и шагу ступить не сможет, и все его угрозы — не более чем пустые слова. Даже могущественным императорам, вроде первого Валентиниана или Феодосия Великого, не удалось устрашить или манипулировать бюрократией, которая с первого же дня своего возникновения при Диоклетиане становилась все более и более влиятельной и независимой. Не смогли они, несмотря на все прилагаемые усилия, и избавить систему от величайшей ее болезни: коррупции. Все это, в сочетании с разворовыванием солдатских жалований налоговыми служащими и чиновниками всех уровней, привело к тому, что деньги в казну текли крайне жидким ручейком.
— Похоже, вы, ваша светлость, не отдаете себе полного отчета в том, сколь плохи наши дела, — продолжал комит. — Кроме как в Италии, Нарбонской провинции и центральной Галлии, налоги брать негде. Африку и Британию мы потеряли. Не все спокойно в Испании: то и дело туда вторгаются визиготы, свевы захватили земли в Галлеции, крепчают багауды. Федератам мы разрешили налоги вообще не платить, а Арморика хорошо если восстановится лет так через…
— Но у дяди Гонория была своя арка, — оборвав комита, Валентиниан повернулся к матери.
— Да, была; но, если мне не изменяет память, не успел он ее построить, как Рим был разграблен, — рассмеялись священные щедроты. — И готов — да всех, кто умел читать, — наверное, очень забавляла надпись: «Подчинен на все времена. Готский народ». Возводить другую такую — лишь искушать провидение.
— Мой единокровный брат, вероятно, действительно не смог бы себе позволить столь дорогой монумент, — попыталась успокоить Валентиниана Плацидия. Она повернулась к комиту священных щедрот. — А не пойти ли нам на компромисс: триумфальные Игры в обновленном Колизее? Они ведь не опустошат нашу казну, правда?
Переглянувшись между собой, комиты кивнули в знак согласия.
— Полагаю, это, может быть, нам и удастся устроить, — недовольно произнес комит частного имущества. — Но придется экономить буквально на всем, — и он многозначительно посмотрел на Валентиниана.
— И произвести проверку налоговых списков, — подхватили священные щедроты, — чтобы убедиться, что никто не пытается улизнуть от уплаты пошлин.
— А что, есть и такие, кто не платит? — спросил Валентиниан.
— Ну если не считать то и дело ударяющихся в бегство декурионов и coloni, находящих убежище в крупных имениях, а также багаудов Арморики, чей мятеж нам все-таки удалось подавить, — ответил комит, — есть еще и монахи — большой и растущий класс тунеядцев, которые думают не о благополучии империи, а о спасении собственных душ. Они, мало того что не платят налоги и не работают, так еще и придерживаются целибата, вследствие чего в империи наблюдается уменьшение численности населения и становится все меньше и меньше налогоплательщиков и рекрутов для армии.
— Мы должны остановить это разложение! — воскликнул Валентиниан, довольный, что нашлась цель, на которую он может излить свое разочарование. — Я попрошу сенат утвердить указ, запрещающий любому вести монашескую жизнь без полученного на то разрешения. — Ища поддержки, он взглянул на Плацидию. — Хорошая мысль, мама?
— Замечательная, — подтвердила императрица, наградив сына снисходительным взглядом.
— Должен напомнить вашим светлостям, что подобный закон уже существует, — едко заметил комит священных щедрот. — В нем говорится, что никто не может оставить землю, на которой работает, чтобы стать монахом, без разрешения на то своего господина — а разрешение это дается лишь в самых исключительных случаях.
— Ну, так значит, этот указ не работает! — закричал Валентиниан, топнув ногой. — Его нужно обновить, ужесточив наказания для тех, кто не желает его соблюдать[37]. — Он пристально посмотрел на комитов, лицо его исказилось злобой. — Как тут можно быть императором? Мои подданные мне не подчиняются, мои советники мной пренебрегают, даже Августа отмахивается от меня при помощи льстивых слов. Подхалимы, изменники — убирайтесь отсюда! Вон! Вон!
Когда все вышли, Валентиниан схватил стоявшую перед ним модель и с силой швырнул ее на мраморной пол, — вместе с макетом разбились и его мечты о собственной триумфальной арке.
Глава 28
Гордый Литорий направил скифских всадниковна ряды готов.
Сидоний Аполлинарий. Панегирик Авиту. 458 г.«Преторий магистра армии, Равенна, провинция Фламиния и Пицен, диоцез Италии [написал Тит в “Liber Rufinorum”], год консулов Флавия Плацидия Валентиниана, Августа (его пятое консульство) и Анатолия, ноябрьские иды[38].
Аэций был близок — очень близок — к достижению того, чего желал всем своим сердцем: восстановлению доминирующего господства Рима в Галлии. Тогда объединенные префектуры Галлии и Италии стали бы базой для начала кампаний по возвращению потерянных диоцезов Испании и Африки, а возможно — даже и Британии. При возрожденном римском правлении бремя налогов вновь бы распределялось на справедливом основании, коррупция была бы искоренена, государственные доходы стали бы тратиться эффективно, и мы бы пришли к эре стабильности и процветания. Затем, следуя примеру подчиненных королевств прошлого, племена федератов через одно-два поколения постепенно влились бы в жизнь и культуру Римской империи и стали бы лояльными римлянами — как испанцы, галлы, бритты, иллирийцы и прочие до них. Увы, сбыться этому было не суждено.
А ведь еще летом прошлого года все выглядело так многообещающе! Восставшие во второй раз бургунды были подавлены столь жестоко (их король, Гундогар, был убит), что уже не представляли угрозы для Рима. С не меньшей суровостью были усмирены багауды, и Арморика вернулась в лоно Рима. Разбитые у стен Нарбо-Мартия визиготы понесли серьезные потери и теперь зализывали раны; военное искусство и опыт поставленного присматривать за ними полководца, Литория, позволяли рассчитывать на то, что они больше не покинут дарованных им территорий. И начало проявляться — по крайней мере, для меня это было очевидно — нечто даже более важное, неуловимое, но судьбоносное: ощущение общей цели среди римских армий. Солдаты смотрели в глаза опасности — и победили; и пережитый опыт превратил их едва ли не в братьев, объединенных под командованием харизматичного и вдохновленного лидера. Скажете, я подменяю действительное желаемым? В какой-то степени, возможно, так оно и есть. Но подобные настроения действительно витали в воздухе и вполне могли перерасти в настоящий костер патриотизма не только в армии, но и среди обычных граждан. Нарбо мог стать еще одной Замой, где Сципион окончательно сокрушил главного врага Рима, Ганнибала.
Тем летом единственным облачком на горизонте стало непоступление денежного довольствия для войск, гуннов и действующей римской армии, в связи с чем Аэций вынужден был отправиться в Италию искать причину задержки. В день своего отъезда (я уезжал с полководцем), он не выглядел серьезно обеспокоенным; все выглядело как еще один пример неэффективного ведения государственных дел Валентинианом, теперь — несносным юнцом лет двадцати, или, скорее, его матерью, Галлой Плацидией. Аэций предоставил подробный, тщательно выверенный счет префекту претория, и не было причин предполагать, что указанная им сумма не будет полководцу выдана в полном объеме.
К тому времени я уже полностью залечил свои раны. Заботу о Марке я доверил одной супружеской чете, coloni в нашем семейном имении, достойным людям, коим Бог не даровал собственных детей. Сам же я вернулся на службу Аэцию и был восстановлен в прежней должности agens in rebus, что официально подразумевало работу курьера, при которой, правда, часто случалось выполнять дипломатические, разведывательные и даже шпионские функции. Приятно было вновь облачиться в униформу: особый головной убор, портупею и тунику с длинными рукавами и круглыми правительственными нашивками цвета индиго. (В целях экономии, туники теперь производились не из шерстяных тканей алого цвета, а из неокрашенного льна.)
По приезде в Равенну Аэций поручил мне определить местонахождение пропавших денег. По своему простодушию я полагал, что легче задания не бывает. Как же я заблуждался! По сравнению с Sacrae largitiones, имперским финансовым ведомством, где я пытался добыть интересующую меня информацию, хождение Тесея по критскому лабиринту вслед за распущенным клубком ниток любому показалось бы детской забавой. Из одного департамента я переходил в другой, переговорил с кучей numerarii, или финансовых служащих, их помощников, счетоводов и казначеев; досконально исследовал отчеты различных carae epistolarum, лиц, отвечающих за финансовую отчетность. Как бы то ни было, вооруженный предписанием Аэция, я не встретил на пути своего расследования особых препятствий и, спустя десять дней самой утомительной и сложной работы, какой мне когда-либо приходилось заниматься, выяснил наконец судьбу исчезнувших денежных средств.
Выводы, к коим я пришел, оказались крайне печальными. Деньги наши, наряду с другими доходами, были «направлены» (то есть, растрачены) на воплощение в жизнь чудовищной прихоти Валентиниана: грандиозного обновления Колизея[39], вслед за которым в амфитеатре Флавия прошли самые неумеренные за последние лет пятьдесят Игры (с охотой на диких животных и т. п., но, конечно же, без гладиаторских боев). Чего ради, спросите вы? Так Валентиниан решил отпраздновать свой триумф в Галлии! Словно успехом этих тяжелейших кампаний Рим обязан императору, а не его магистру армии! (Как тут не вспомнить о Клавдии, «присвоившем» себе завоевание Британии!) Тщеславие, зависть, мания величия Валентиниана и его интриганки-матери, иллюстрируемые этим актом безрассудного расточительства, переходят все мыслимые и немыслимые границы. Но император, возразите вы, не стал бы сознательно ставить под удар империю лишь ради того, чтобы удовлетворить свое желание и вызвать возмущение человека, правящего государством от его имени. Что ж, вы вольны думать, что угодно, но, в таком случае, скажу я вам, вы совсем не знаете Валентиниана.
Безусловно, это стало сильнейшим ударом по Аэцию. Деньги для армии, конечно же, так или иначе, он бы отыскал: в крайнем случае изъял бы из res privatae, личного дохода императора, поступлений из императорских имений и владений от конфискации общих земель и собственности языческих храмов и т. д. Будучи патрицием и магистром армии, Аэций, несомненно, имел возможность (если не право) именно так и поступить — и, судя по всему, к такому решению как раз и склонялся, — но тут среди ясного неба разразился гром.
Сначала пришла шокирующая весть о том, что Гейзерих завладел Карфагеном, столицей римской Африки, и землями, на которых выращивалось все имперское зерно. Четырьмя годами ранее, когда Галлию накрыла волна кризиса, Аэций, во избежание неприятностей, которые могли бы прийти с тыла, заключил соглашение с Гейзерихом, предоставив вандалам статус федератов. Теперь же, после того, как они захватили Карфаген и прилегающие территории, надежды на достижение компромисса между Римом и вандалами улетучились. Гейзерих провозгласил себя правителем независимого королевства, начав отсчет годам своего правления от въезда в Карфаген. Африка оказалась отрезанной от империи, а вместе с этим прекратились и поставки в Рим зерна.
Но худшее было еще впереди. Не успели мы переварить известие о падении Африки, как пришло письмо от остававшегося в Галлии Авита; то, о чем он писал, было просто ужасно…»
Окинув взором кипы документов, которыми был завален разместившийся неподалеку от Равенны штаб Аэция, Тит тяжело вздохнул. Новая должность — а теперь он был curoisus, инспектором имперской почты — обязывала его заниматься проверкой предписаний тех, кто пользовался услугами ведомства. Обнаружить необходимые документы в том хаосе, в котором постоянно пребывал tablinum магистра армии, было совсем не просто. Венчали общий беспорядок два бронзовых бюста, Валентиниана и Плацидии, помещенные в противоположных концах комнаты. Они пришли на смену другому бюсту, Бонифация, но установлены были с той же целью и под тем же лозунгом: «Знай врага своего». Как обычно, Аэций расхаживал взад-вперед по комнате, просматривая тут же летевшие на пол свитки пергамента, в то время как едва поспевавший за ним нотарий вынужден был на ходу записывать распоряжения полководца.
Возникший на пороге раб объявил, что из Галлии прибыл курьер с письмом, требующим немедленного ознакомления патриция.
— Пусть подождет, — бросил в ответ Аэций, но тут же замедлил шаг. — Из Галлии, говоришь? Что ж, проводи его ко мне.
Лениво потянувшись, Тит наблюдал за тем, как Аэций развернул протянутый посыльным свиток и начал его читать. Внезапно лицо полководца побелело, и он покачнулся.
— Передай Авиту, что я выезжаю в Галлию завтра на рассвете, — прохрипел Аэций, взмахом руки указал курьеру и нотарию на выход и застыл посреди комнаты, вперив взор в письмо и шепча себе под нос:
— Так и знал, что произойдет что-либо подобное.
— Дурные вести, господин? — поинтересовался Тит.
Аэций окинул его рассеянным взглядом.
— Хуже и быть не может. Катастрофа, настоящая катастрофа! Похоже, Литорий потерял Провинцию. Послушай, что пишет Авит.
— «В последнее время Литорий стал крайне неуравновешенным, — возможно, так на него повлияли кровавые события в Арморике. Вы, несомненно, слышали и о случившемся в моем имении инциденте. Все это, конечно же, отнюдь не свидетельствовало о неустойчивости комита, — лишь о том, что он испытывает определенные трудности со сдерживанием гуннов, а дело это, признаемся честно, совсем не простое. Но после того как Квинт, его заместитель, явился ко мне в частном порядке и поделился своими насчет Литория опасениями (не из вероломства — преданнее подчиненного, чем Квинт и не сыщешь, — а из искреннего беспокойства), я и сам глубоко встревожился. Но затем была блестяще проведенная операция по снятию осады с Нарбо-Мартия, на всех нас произведшая огромное впечатление, и я решил, было, что поспешил с выводами. (Оглядываясь назад, должен признать, что присутствовал во всей этой акции какой-то элемент безрассудной бравады; и нам еще повезло, что все так удачно закончилось.) Когда же вы назначили его, на время своего отсутствия в Италии, главнокомандующим, страхи мои и вовсе успокоились. В конце концов, задача, которую вы поставили перед Литорием, вряд ли относилась к числу невыполнимых. Визиготам так сильно от нас досталось, что им не оставалось ничего другого, как попрятаться по норам и зализывать свои раны. Литорию же, как вы правильно тогда ему сказали, нужно было лишь выступить в роли бдительного надзирателя.
Вот почему, когда комит заявил, что намерен занять выделенные варварам Констанцием земли и окружить их столицу, Толозу, я был просто-напросто ошарашен. Попытался, было, урезонить его, указывая на то, что подобная выходка приведет лишь к ненужной вражде с племенем, которое хоть и выглядит усвоившим урок, но, будучи спровоцированным, все еще может оказаться крайне опасным. Но Литорий меня и слушать не стал; сила — единственное, что понимают варвары, сказал комит, и он собирается обойтись с готами так, как вы когда-то поступили с бургундами. Тому факту, что вы истребили это племя лишь тогда, когда оно восстало во второй раз, он не придал значения. Думаю, после успеха в Нарбо у Литория слегка закружилась голова, породив иллюзию непобедимости.
В общем, взял он гуннов и отправился в Толозу. (К счастью, мне удалось убедить комита оставить основную часть действующей римской армии в Галлии, под моим присмотром.) Придя в Толозу — не поверите! — Литорий совершил жертвоприношение языческим богам[40] (там были даже авгуры, предсказывающие победу на основании изучения внутренностей животных!). Не знаю уж, что там подумали о нем гунны, но присутствовавшие при этом римляне явно, должно быть, решили, что полководец сошел с ума. Знали ли вы, что человек этот — скрытый язычник? Я, естественно, даже и не подозревал об этом. Посланники короля Теодорида — епископы, не меньше — умоляли Литория принять их мирные предложения. Но тот был неумолим, и, как и следовало ожидать, готы были доведены до отчаяния.
Терять им было уже нечего: в одну из ночей они напали на лагерь комита, в безрассудстве своем не позаботившегося даже выставить часовых. Приготовьтесь, мой дорогой друг, к тому, что сейчас прочтете. Литорий показал себя вторым Варом, попавшие в засаду легионы которого были полностью уничтожены. Из многотысячного гуннского войска выжили лишь единицы, Литорий был пленен; жив ли он сейчас, я не знаю. Ситуация критическая. Готы, вновь обретшие уверенность в себе и требующие отмщения, вот-вот вторгнутся в Провинцию. Какие бы дела ни держали вас в Италии, умоляю вас оставить их. Соберите, какое сможете, войско и немедленно выступайте в Галлию. Я укрепляю стены Арелата и, со своей действующей армией, постараюсь продержаться до вашего прихода».
Скрутив свиток, Аэций наградил Тита безрадостным взглядом.
— Потерять шестьдесят тысяч гуннов, — прошептал полководец, и в глазах его Тит прочитал доселе невиданное отчаяние. Внезапно Аэций показался ему усохшим, постаревшим.
Но лишь на секунду. Расправив плечи, полководец решительно заявил:
— Я отправляюсь в Галлию. Ты же, Тит, поезжай к Аттиле как мой эмиссар. До границы доскачешь, пользуясь услугами имперской почты, а там купишь самого быстрого скакуна, какого сможешь достать. Расскажешь Аттиле, что случилось, ничего не утаивая — недомолвки и извинения он терпеть не может. Скажи ему, что я делаю все возможное для того, чтобы вернуть ему тот долг, который за мной остается, и заверь его, что вскоре, как только улажу дела в Галлии, я сам к нему приеду. Возможно, нам еще удастся выйти из этой передряги с наименьшими потерями. Но теперь речь идет уже о выживании, а значит, Западу никак не обойтись без помощи гуннов. Все понял?
— Конечно, господин. Но… не лучше ли просто послать письмо?
Аэций покачал головой.
— Не забывай, Аттила — варвар. Они не доверяют обещаниям, написанным на пергаменте. Поверь мне, навести мосты мы теперь сможем лишь посредством личных контактов. — Сжав Титу плечо, Аэций слабо улыбнулся. — Я надеюсь на тебя, мой мальчик. Однажды ты уже спас жизнь римскому полководцу. Теперь же от твоей встречи с Аттилой зависит судьба самого Рима.
* * *
— … и обещал приехать лично, ваше величество, как только урегулирует дела с визиготами, — закончил Тит. Затаив дыхание и чувствуя, как сбегает по шее струйка пота, он застыл в ожидании ответа Аттилы. Тот, приземистый, мощный мужчина с большой головой, в одеждах из шкур животных, сидел на стоявшем в другом конце приемного покоя королевского дворца деревянном троне, и за спокойствием его угадывались огромные резервы скрытой энергии. Монгольское лицо Аттилы осталось невозмутимым.
— Скажи своему хозяину, патрицию Флавию Аэцию, — произнес Аттила протяжно, глубоким голосом, — что я не желаю его видеть. Между нами все кончено. Я поверил ему, предоставив в его распоряжение цвет своей армии. И чем он отплатил мне? Умудрился потерять такое войско! Ты говоришь, он вернет мне долги. Как намеревается он возвращать мне шестьдесят тысяч воинов? Сея драконьи зубы? — Он горько рассмеялся. — Я думал, Аэций относится к тому редкому сорту римлян, для которых слово чести — не пустой звук. Теперь же я вижу, что обещания его ничего не стоят. В память о связывавшей нас когда-то дружбе я разрешаю его сыну Карпилиону, моему заложнику, вернуться с тобой. Иди же, римлянин, и скажи своему хозяину: если мы когда и встретимся, то как враги, а не друзья.
* * *
Когда Тит и Карпилион уехали, Аттила сел на коня и ускакал в безграничную степь: его душили злость и печаль. Злость — потому, что доверие его было предано, печаль — из-за того, что окончилась старая дружба, отношения, которыми он дорожил; и оба чувства — из-за потери десятков тысяч прекрасных воинов и крушения планов по строительству Великой Скифии. Будь они с Аэцием единственными игроками в этой игре, возможно, их дружба жила бы и поныне. Возможно. Но он должен держать ответ перед Советом, а подобного рода отношений старейшины теперь просто не поймут. Не сомневался Аттила и в том, что Бледа постарается извлечь из кризиса максимальную для себя пользу и сделает все возможное для того, чтобы подорвать позиции брата. Они и так уже не очень прочны, а когда до гуннов дойдет весть о случившемся в Толозе, последуют взаимные обвинения, Совет распадется на фракции и группировки, разногласия и разобщенность распространятся среди его народа, словно рак. Если только…
Аттила интуитивно почувствовал, что ему следовало предпринять. В этот критический момент его народу нужен, прежде всего, твердый и решительный вождь — и он, Аттила, им станет. Если он не может дать своим людям величие, то должен хотя бы обеспечить их тем, чего они жаждут больше всего. Золотом. А что является источником золота? Империя римлян.
Когда Аттила вернулся во дворец, в голове его роились десятки планов и идей. На которую из империй напасть: на Восток или на Запад? Пожалуй, Запад стоит пощадить — в память о дружбе с Аэцием. К тому же казна Западной империи пуста, на большей части ее территорий живут федераты-германцы, которые не платят налоги. Восток же богат сверх меры, города его многолюдны, церкви и соборы ломятся от сокровищ. Самое время начать подготовку к нападению на Восточную империю. Ее император, Феодосий II, слаб и нерешителен. Кроме того, Востоку придется сражаться на два фронта. У восточных своих границ он ведет войну с персами, а не занятые в этой кампании легионы ушли в Сицилию, помогать Западу возвращать занятую Гейзерихом Африку. Король вандалов, непримиримый враг Рима, уже присылал к Аттиле эмиссаров с предложениями вандало-гуннского союза, но Аттила, надеявшийся в то время установить хорошие отношения с римлянами, предложение это проигнорировал. Теперь такой альянс будет весьма кстати, решил король гуннов и послал за Орестом, своим молодым нотарием-римлянином[41].
Пока Аттила дожидался Ореста, на память ему пришли слова, которыми Ву-Цзы описал вторую часть своего видения: «А вот осел преследует второго орла и ранит еще до того, как тот успевает взлететь». Как и раньше, когда он посылал гуннов на помощь Аэцию, смысл пророчества стал ему ясен. Диким ослом степей были гунны, вторым орлом — Второй Рим: гуннам следовало напасть на Восточную империю. Предсказание пророка — не более чем совпадение, попытался убедить себя Аттила, но так и не смог избавиться от дурного предчувствия.
«…Вот так Фортуна, еще недавно улыбавшаяся Аэцию [писал Тит, возобновляя свой рассказ], закрутила колесо против полководца. В мгновение ока все его завоевания оказались под угрозой. Галлии вновь грозит опасность: визиготы не сломались, а, набравшись сил и амбиций, устремили свой взор в сторону Провинции; на северо-восток посягают франки.
Катастрофически не хватает денег: наличные нужны на выплату жалованья солдатам, пополнение запасов провианта, оружие и обмундирование. Действующая римская армия по-прежнему является противником, ни в чем не уступающим врагам империи, но месяцами не получая денежного довольствия, солдаты все чаще не видят необходимости сражаться за Рим. А казна пуста. Африка, некогда главная жемчужина имперской короны, чье зерно и подати наполняли как живот Рима, так и его денежные сундуки, безвозвратно утеряна (хотя на Сицилии сейчас готовится объединенная западно-восточная экспедиция, перед которой ставится цель вернуть империи самую богатую ее провинцию).
Серьезно ударило по полководцу массовое истребление гуннов в Толозе. Безрассудное поведение Литория стоило ему жизни, а Аэцию — дружбы и поддержки Аттилы, давнишнего и наиболее влиятельного его союзника. Без помощи гуннов Запад вряд ли справится со своими врагами. А что, если Аттила пойдет против нас?..
Лишь один солнечный луч пробивается сквозь сгустившиеся тучи: Аэций и Теодорид, король визиготов и сын великого Алариха, примирились. Когда, после возвращения Аэция из Италии в Галлию, римская и готская армии сошлись лицом к лицу, два полководца решили, что кровавая схватка, исход которой вряд ли кто-либо смог предсказать, не представляет интереса ни для одной из сторон. Обозначенные Авитом условия мирного соглашения устроили как готов, так и римлян.
Бонифаций и Литорий вполне могут стать для Аэция карающей Немезидой. Не обрати он во врага первого и не доверься второму, Африка и Галлия, чьи судьбы, возможно, решат жребий Запада, и сейчас, наверное, оставались бы в составе империи, которой бы ничто не угрожало».
Глава 29
Легкие и подвижные, они [гунны] вдруг специально рассеиваются и, не выстраиваясь в боевую линию, нападают то там, то здесь, производя страшное убийство. […] Они заслуживают того, чтобы признать их отменными воителями, потому что издали ведут бой стрелами, снабженными искусно сработанными наконечниками из кости, а сойдясь врукопашную с неприятелем, бьются с беззаветной отвагой мечами и, уклоняясь сами от удара, набрасывают на врага аркан, чтобы лишить его возможности усидеть на коне или уйти пешком.
Аммиан Марцеллин. Деяния. 395 г.Декурионы, собравшиеся на экстренное собрание городского совета в базилике Сирмия, могущественного иллирийского города, где размещался штаб первого Валентиниана во время его кампаний против германцев и где великий Феодосий был провозглашен императором, пребывали в предпаническом состоянии. Когда все расселись по своим местам и обменялись надлежащими приветствиями, на трибуну поднялся председатель, добродушный круглолицый мужчина, который тут же был атакован валом вопросов: «Правда ли, что гунны захватили Сингидун и направляются в нашу сторону?.. Что делает армия?.. Где были limitanei?».
Подняв руки, президент призвал декурионов к порядку, и мало-помалу в огромном зале воцарилась тишина.
— С сожалением должен признать, господа, — заявил он успокаивающим тоном, — что Сингидун действительно пал. — Но произошло то, — продолжал он, когда поднявшийся гам утих, — исключительно по вине самих сингидунцев. Мало того, что гунны застали жителей Сингидуна врасплох, так последние даже и не подумали о том, чтобы как-то попытаться договориться с врагом. Мы, в Сирмии, находимся, по сравнению с ними, в гораздо лучшей позиции. Наши стены, крепчайшие в Иллирии, практически неприступны. У нас превосходная система оповещения и десятки наблюдательных пунктов. На случай же, если гунны придут сюда, предлагаю наделить нескольких членов нашего внутреннего комитета, principales, полномочиями вести переговоры с гуннскими вождями. Все мы знаем, как сильно они любят золото. Если мы задарим их ценными подарками и пообещаем щедрые субсидии в дальнейшем, думаю, они оставят Сирмий в покое.
Получив надежду на то, что визита гуннов можно избежать — а именно это и хотели услышать все до единого члены совета, — декурионы с радостью поддержали предложение главы совета. Тут же была выбрана депутация, возглавил которую, с общего одобрения, сам председатель. Вскоре пришли сообщения, что гунны приближаются к городу, и делегация решила направиться к главным воротам. Но едва она покинула базилику, как была окружена разгневанной, испуганной толпой горожан, которым о плане декурионов стало известно от любопытного привратника базилики. Обычные горожане, давным-давно потерявшие право избирать городской совет, заподозрили, что делегаты, ради спасения собственных шкур, решили сдать город гуннам. Подозрения их лишь усилились, когда у обысканных и слегка побитых членов совета обнаружились дорогие подарки.
То, что начиналось как гневная демонстрация, быстро переросло в полномасштабный бунт из числа тех, которые так не любят все римские консулы, чья власть поддерживается зачастую недостаточными полицейскими силами. Сирмий из их числа располагал лишь отрядами ночной стражи и небольшим гарнизоном limitanei, но ни тех, ни других, как водится в подобных случаях, поблизости не оказалось. Агрессивная кучка граждан в мгновение преобразовалась в бушующую толпу, которая, после избиения делегатов и лишения их приготовленных для гуннов подарков — так декурионы распрощались с мечтами о покупке собственной безопасности, — перешла к штурму базилики и преследованию оставшихся советников.
Будучи человеком мудрым и хитрым, председатель городского совета еще в начале волнений спрятался за рядом кресел. Теперь же, под прикрытием побоища и общей сумятицы, он выскользнул в боковую аллею и, крадучись, направился к городским стенам. Вытащив из-под далматика тяжелый ключ, чиновник отворил задние ворота и лицом к лицу столкнулся с шестью конными воинами из передового гуннского отряда, посланного произвести разведку в окрестностях города. Напустив на лицо заискивающую улыбку, с ключом от городских ворот в одной руке и набитой монетами тяжелой сумой — в другой, председатель направился в сторону всадников.
Первая стрела пронзила его грудь, вторая — горло. Какое-то время глава горсовета еще бился в агонии, затем затих. Подобрав ключ и суму с solidi, один из разведчиков ускакал прочь с донесением командиру, другие продолжили обход городских окрестностей.
* * *
Несмотря на массивные укрепления, Сирмий продержался против гуннов еще меньше времени, чем Сингидун. Не прошло и часа с момента появления их у крепостных стен, как город, словно скала в бушующем море, оказался окруженным кружащей в водовороте гуннской ордой. С мужеством, основанном на страхе, горожане, используя импровизированное оружие — кухонные ножи, садовые инструменты, даже выбитые из мостовых булыжники, — сбрасывали вниз возникавших на крепостном валу гуннов. Несколько часов жителям Сирмия удавалось отбивать наскоки врага. Зараженные настроениями лихорадочного триумфа, они удвоили свои усилия, сталкивая вниз лестницу за лестницей, сражаясь с такой отчаянной яростью, что даже беспощадные варвары вынуждены были отступить.
Но оптимизм горожан оказался преждевременным. Внезапно они обнаружили, что сражаются на двух фронтах: гунны, проникшие в город через задние ворота, пробрались на вал по лестничным пролетам с внутренней стороны стены. Недолго жившая в сердцах жителей Сирмия вера в победу быстро иссякла, и через считаные минуты они были окружены.
Горожан вывели на близлежащую равнину и разделили на три части. Первая состояла из гарнизонных солдат и мужчин, способных носить оружие. Образовав вокруг них кольцо, конные гунны закидали их градом стрел. Вторая группа, куда вошли молодые привлекательные женщины и ремесленники, вроде кузнецов и плотников, была распределена между гуннами по жребию. Остальных — людей, не представлявших ни пользы, ни угрозы для кочевников, — варвары отпустили; многие из них умерли от голода на сожженных дотла землях северной Иллирии. Разграбив город, гунны сравняли его с землей, подтвердив справедливость бывшей в те годы в ходу поговорки: «Трава не растет там, где ступила лошадь Аттилы».
* * *
Сгорая от ярости и нетерпения, Аспар, сын великого Ардавура, ветеран кампаний против Иоанна (удачной) и Гейзериха (неудачной), а теперь командующий объединенной западно-восточной армией, собранной на Сицилии с целью возвращения Риму Африки, расхаживал взад-вперед у колоннады своего штаба в Неапольском квартале Сиракуз. Наверное, в десятый уже раз за утро он бросил взгляд на заполненную экспедиционными военными судами Большую Гавань, в надежде увидеть прибытие какой-нибудь быстроходной галеры — Аспар ожидал вестей из Константинополя. Пару недель назад в Сиракузах узнали о вторжении Аттилы в Иллирию, и приготовления к экспедиции были немедленно приостановлены, но ожидаемого всеми императорского приказа о возвращении в столицу для противостояния гуннской угрозе все не поступало.
Военно-морские силы обеих империй давно были готовы выступить против тирана-вандала. А Теодорид, король визиготов, неожиданно отказавшийся от антиримских операций и предложивший Риму свою помощь в предстоящей экспедиции, так и вовсе жаждал этого всем сердцем! (Его выданная замуж за сына Гейзериха дочь была заподозрена в вынашивании заговора против короля вандалов и отослана Гейзерихом отцу с отрезанными ушами и носом.) Но Гейзерих оказался сколь жестоким, столь и коварным: опередив римлян и их новых друзей готов, он заключил союз с Аттилой, который тут же вторгся в Восточную империю.
«Жаль, что я лишен свободы действий, — вздохнул Аспар. — Такой, какая была у меня, к примеру, шестнадцать лет назад, когда нужно было приструнить узурпатора Иоанна». Тогда он уже загнал Аэция в угол и готов был его сокрушить, но вынужденно вернулся на Восток для разрешения небольшого конфликта у границ с Персией. А затем в Африке начались беспорядки, и командовавший расквартированными там имперскими войсками Бонифаций, потеряв самообладание, позволил вандалам в пух и прах разбить объединенную армию обеих империй. Окажись на его месте я, говорил себе Аспар, результат был бы прямо противоположным. (Конечно, тот факт, что Аспар был арианином, практически не оставлял ему шансов на получение звания магистра армии.) И вот теперь, когда безопасность северных диоцезов Восточной империи зависит от того, как скоро там окажется его армия, он вынужден сидеть на Сицилии, позволяя Аттиле продолжать разграбление Иллирии.
«Во всем виноват Арнеглиск, новый магистр восточной армии», — с горечью подумал Аспар. Арнеглиск, тщеславный, грубый и бестолковый германец, убил предыдущего Magister Militum (к слову сказать, соплеменника) и узурпировал его пост. Убедить императора, слабого и податливого Феодосия, в том, что он, Арнеглиск, умертвил лишь заговорщика, планировавшего сместить Его Августейшую Светлость с престола, труда германцу не составило. А то, что Арнеглиск заручился поддержкой цирковой фракции Зеленых (низшие слои населения), дало Феодосию, желавшему во что бы то ни стало избежать массовых беспорядков, лишний повод для утверждения германца в этой должности. К тому моменту как ограниченный тевтонский ум Арнеглиска решит, что делать с гуннами, Аттила, должно быть, уже будет стоять у ворот Константинополя.
Впрочем, будучи человеком справедливым, Аспар, после непродолжительных раздумий, вынужден был признать, что он, возможно, зря вешает всех собак на Арнеглиска. Охваченный разочарованием и нетерпением, он был не совсем объективным в своей оценке германца. Каким бы некультурным и ограниченным Арнеглиск ни был, все же он, безусловно, обладал двумя важнейшими для полководца качествами: храбростью и задатками лидера. В противном случае, легионы просто его не приняли бы. По той же причине Аспар не мог считать его и глупцом: глупцы командующими армиями не становятся. По личному опыту Аспар знал и то, что не становятся таковыми и люди чересчур благосклонные и снисходительные. В жестоком мире римской политики Арнеглиск просто вынужден был избавиться от своего предшественника, иначе тот первым устранил бы того, кого опасался как соперника. Да, Арнеглиск, несомненно, приукрасил ситуацию, описывая ее Феодосию, но разве не играли в подобные игры все удачливые римские полководцы и политики, от Перикла до Константина?
Внезапно сердце Аспара забилось быстрее. С блестящими на солнце веслами, со стороны небольшого островка Ортигия в Большую Гавань влетела быстроходная галера. Мерными гребками отсылая воду назад, она приблизилась к молу и пришвартовалась у причала. Наконец-то он дождался приказа о возвращении экспедиции в Золотой Рог! Аланский полководец замер на месте в ожидании курьера. Возникший несколькими минутами спустя перед ним biarchus вручил Аспару связку свитков. С растущим нетерпением и беспокойством полководец просмотрел их, один за другим: поступление фуража в новые казармы конницы в Никомедии; жалоба на плохое качество наконечников целой серии дротиков, поступивших с государственной фабрики по производству оружия в Ратиарии; просьба об увольнении из армии по случаю полученной инвалидности…
— Уверен, что нет ничего из дворца? — спросил он.
Заглянув в сумку, biarchus отрицательно покачал головой.
— Сожалею, господин. И хотел бы сказать, что есть, но…Нет такого солдата в империи, который бы не желал, чтобы вы и армия вернулись домой… Это самое… — замялся он, — считайте, что вы этого не слышали, господин.
— Не слышал чего? — улыбнулся Аспар. Вдруг он решился; довольно с него этого фарса: — Куда держит путь твой корабль?
— В Кирену, господин.
— Уже нет. Скажи капитану, что я реквизирую судно, и мы немедленно отправляемся в Константинополь.
— Да, господин! — С довольной улыбкой biarchus отдал Аспару честь и поспешил донести приказ полководца до капитана.
* * *
Феодосий — второй из носивших это имя, — Император Восточных римлян, Каллиграф (из всех своих титулов, этим он гордился больше всего), отложив в сторону перо, прервал свое любимое занятие — копирование (на сей раз он воспроизводил «Третью атаку на пелагианскую ересь» Жерома).
— Что скажешь, сестра? — поинтересовался он у вошедшей в scriptorium привлекательной, но неряшливо одетой женщины лет тридцати с небольшим.
— Уверена, что монашенкам моего нового монастыря она бы понравилась, — устало заметила Августа Пульхерия. — Есть, впрочем, и другие мирские дела, заслуживающие твоего внимания, — немного нетерпеливо продолжила она. — Напомню тебе, брат, что те полководцы дожидаются тебя уже более часа.
— Ох, дорогая, так долго? — сокрушенно прошептал император. — Что ж, полагаю нужно их принять. — Он встал из-за стола; два раба принесли Феодосию пурпурное платье и тапочки, и водрузили на его голову императорскую диадему, после чего он смиренно проследовал за Пульхерией по веренице коридоров в приемный покой, представлявший собой огромную, украшенную колоннами залу, под окнами которой каскадом спускались вниз, к Пропонтиде, величественные, но несимметричные строения — прочие части константинопольского императорского дворца.
Двое мужчин, низко поклонившихся — «в почитании Священного Пурпура» — императору и Августе, внешне являли собой полные противоположности друг другу. Аспар, аланский полководец, был худощав, строен и выделялся орлиными чертами лица и оливкового цвета кожей. Арнеглиск же, магистр армии, высокий и скрепко сбитый германец с длинными, до плеч, соломенного цвета волосами и светлой кожей, мог служить примером мужественности. Одеяния полководцев лишь усиливали существующий между ними контраст. На Аспаре была простая туника и гамаши, все еще носившие следы путешествия (он прибыл во дворец прямо из доков Золотого Рога). Германец, облаченный в серебристую кирасу и обитую бронзой pteruges — кожаную ленту, защищающую плечи, — был при всех регалиях римского полководца.
Феодосий и Пульхерия уселись на троны.
— Аспар, — провозгласил император, — мы оскорблены тем, что ты не только взял на себя смелость вернуться в Константинополь без нашего на то разрешения, но и реквизировал флотское судно, следовавшее с важной миссией в Кирену. — Он повернулся к Пульхерии. — Непростительная самонадеянность, не так ли, сестра?
— Прежде, чем судить его, давай послушаем, что он имеет нам сказать, — ответила Пульхерия. — Мы все внимание, Аспар.
— Прошу ваших светлостей извинить меня за то, что я буду говорить прямо, без обиняков, — начал Аспар. — Ситуация, на мой взгляд, близка к критической. Наша армия отсутствует и разделена — половина находится у границ с Персией, другая — в Сицилии. Тем временем Аттила неистовствует в Иллирии: разрушает города, убивает или превращает в рабов людей. То, что войска — не здесь, лишено всякого смысла. Я настаиваю на том, что, в порядке первой срочности, мы должны вернуть в Константинополь обе наши армии. — Неожиданно Аспар понял, что ни один его призыв к здравому компромиссу услышан не будет. Для того чтобы его точка зрения превалировала, ему следовало демонизировать стоявшего рядом большого германца. Продолжил он свое наступление уже неохотно: — Честно говоря, я не понимаю, почему магистр армии этого уже не сделал.
Несмотря на то что Аспар считал женщину и политику вещами несовместимыми, в глубине души он был рад присутствию Пульхерии. Странно, подумал он, что каждой из частей империи правит волевая женщина, командующая слабым императором. Но где Пульхерия была благоразумной и решительной, Плацидия оказывалась неуместной и заблудшей; если Феодосий был лишь неумелым правителем, то Валентиниан — правителем порочным.
— Арнеглиск? — вопросительно посмотрела на германца Пульхерия.
Командующий армией пожал плечами.
— Наступит осень, — медленно проговорил он, — и Аттила вернется на свои становища за Данубием. Его лошадям нечего будет есть; они выщипали в Иллирии все пастбища.
— А на следующий год? — фыркнул Аспар. — Думаешь, обнаружив, что империю так легко можно обворовывать, Аттила не вернется? И что не будет возвращаться год за годом — пока не нарвется на решительное сопротивление? А, может, ты, Арнеглиск, просто боишься сразиться с гуннами? — Аспар, конечно же, знал, что Арнеглиск трусом не был; таковых среди германцев еще нужно было поискать. Но, решил он, если нужно пойти на конфронтацию ради того, чтобы покончить с бездеятельностью германца, — что ж, пусть так и будет.
Арнеглиск попался на удочку.
— Лжец тот, кто утверждает, что Арнеглиск боится, — прорычал он.
— Превосходные слова! — парировал Аспар. — Но — дешевые. Не подкрепленные поступками, они ничего не стоят.
От злости щеки германца запылали румянцем.
— Время действовать, возможно, еще не настало. Вступив в бой с Аттилой сейчас, мы рискуем потерять наши армии. Я так думаю — пусть уж гунны разоряют Фракию, Дакию и Македонию — бедные, малонаселенные провинции. Богатые восток и юг — Малую Азию, Сирию, Палестину, Египет, Ливию — вот что мы должны оберегать в первую очередь.
В том, что говорит Арнеглиск, есть здравое зерно, признался себе Аспар. Крепкие стены Константинополя могли выдержать любой штурм Аттилы, а пока стоит столица, пребывает в безопасности и весь центр Восточной империи. Но отдать иллирийские провинции на растерзание Аттиле? Немыслимо. Но так ли это? Впервые у Аспара мелькнула мысль о том, что может Арнеглиск прав и не стоит пока выступать против Аттилы — по крайней мере пока армии Востока не выработают эффективную тактику против ужасных лучников кочевой орды. Но отступать теперь было уже поздно.
— Так ты предлагаешь, чтобы армия отсиделась за константинопольскими стенами, — презрительно бросил он, — и пальцем о палец не стукнула, пока дикари Аттилы будут грабить и сжигать города Иллирии, Фракии и Македонии? Вести постыдную политику умиротворения могут лишь трусы.
— Хватит! — резко сказала Пульхерия. — Чем драться друг с другом, лучше подумайте, как совладать с Аттилой. Аспар прав. Так дальше жить нельзя. Нужно отозвать легионы из Сицилии и с востока; ситуация в этих регионах далека от критической, и разрешить ее мы сможем после того, как будет устранена существующая угроза. — Она повернулась к Феодосию. — Согласны, мой повелитель?
— Да-да, конечно, — пробормотал Феодосий. Затем, чтобы ни у кого не сложилось впечатления, что он позволил себя убедить, император резко выпрямился на троне и громко объявил: — Наше слово и наше приказание таково: африканская экспедиция и войска, служащие на персидской границе, должны немедленно вернуться в Константинополь. После приведения в боевую готовность они выступят маршем против гуннов. На тебя, Арнеглиск, я возлагаю верховное командование, Аспар же будет твоим заместителем.
* * *
Оглядев римские диспозиции с расположенного позади стоявшей на левом фланге армии конницы небольшого холма, Аспар испытал ощутимое беспокойство. Выбранная Арнеглиском местность была сухой, лишенной растительности и пыльной; вдали, у голубых вод Геллеспонта, приютился маленький торговый порт Каллиполь. Очередная прихоть императора привела к тому, что они упустили возможность проверить Бича Божьего, как стали называть Аттилу в последнее время, в настоящем бою.
После отзыва имперских войск с Сицилии и персидского фронта Аспар, с согласия Арнеглиска, выиграл для Востока небольшую передышку, заключив с Аттилой перемирие, по условиям которого Константинополь обязывался вернуть гуннам всех беженцев и выплатить часть задолженностей по дани, указанной в Маргском договоре. Передышка эта была необходима восточным римлянам для превращения двух частей армии в обученное, единое войско, способное противостоять незнакомому и страшному противнику. Но, к ярости Аспара, все его усилия оказались напрасными. Обретя, по возвращении легионов, ложную уверенность в своих силах, Феодосий вынудил его отказаться от данных королю гуннов обещаний. Не получив ни беглецов, ни податей, Аттила, как и следовало ожидать, пришел в бешенство и ответил наступлением своей орды на восточные провинции, захватив Ратиарию (важнейшую государственную фабрику по производству оружия и военного снаряжения и базу данубийского флота), Наисс, Сердику и Филиппополь. Когда гунны очутились в опасной близости от столицы, Феодосий дал указание нерасположенному к этому Арнеглиску выдвигать армию им навстречу. В том, что неподготовленное восточное войско потерпело два поражения, не было ничего удивительного. Вынужденное под напором победоносных гуннов отойти еще дальше на восток, лишенное — за счет того, что Аттила обошел оба фланга восточной армии — возможности отступления, оно остановилось у Херсонеса Фракийского, на узком полуострове, служащим границей северного побережья Геллеспонта.
Никогда еще наше положение не было столь безнадежным, думал Аспар, глядя на то, как расположил Арнеглиск армию. Пехота была собрана в огромный, глубиной в двадцать пять шеренг, блок; по бокам его стояла конница. Размещенное таким образом войско походило на пухлую куропатку, которую вот-вот должны были ощипать. Два недавних столкновения с гуннами напоминали скорее небольшие стычки, нежели полномасштабные сражения. Теперь же, запертые в Херсонесе, римляне знали, что их ждет ожесточенная битва. Но знакомо ли вообще Арнеглиску понятие «тактика»? Собирая солдат в единую, плотную массу, германец, по всей видимости, полагал, что повышает тем самым их эффективность. Возможно, такое построение и выглядело бы дееспособным во времена македонских фаланг, но против крайне мобильного и значительно превосходящего римлян численно противника, вооруженного к тому же оружием дальнего действия, подобная недальновидность представлялась просто самоубийственной. Впрочем, большая часть вины за это лежит на нем самом, признал Аспар. Возможно, не следовало так рьяно костерить Арнеглиска и убеждать императрицу сразиться с гуннами…
Арнеглиск разместил римское войско на открытой местности; вспомогательные и продовольственные обозы остались в тылу. Одного он не понял: тыла как такового его армия не имела. Он предлагал гуннам использовать их излюбленную тактику: обогнув противника с флангов, взять его в плотное кольцо оцепления. Если не попытаться что-либо исправить, сражение у Каллиполя вполне может стать вторым Адрианополем. Нет, он, Аспар, не будет стоять в стороне и не позволит германцу, пусть тот и является главнокомандующим, погубить армию. Отправив посыльного за Ареобиндом — командиром той из конниц, что стояла на правом фланге, — Аспар пришпорил коня и помчался к установленной позади позиций пехоты палатке Арнеглиска. Спешившись, он шагнул внутрь.
Арнеглиск сидел за столом, усыпанным картами и документами; здесь же стояли и бутыль с кубками. Смерив Аспара раздраженным взглядом, германец все же оказался столь любезным, что предложил аланскому полководцу вина.
— Спасибо, но я предпочитаю сохранять голову ясной, — отодвинул кубок Аспар. — Мы должны кое-что поменять в расстановке нашего войска.
— Должны? — прорычал Арнеглиск, и его голубые глаза расширились. — Ты, похоже, забыл, кто здесь командует.
— Да, «должны», — отрезал Аспар. В этот момент в палатку вошел Ареобинд, высокий германец с коротко, на римский манер, подстриженными волосами. — Если оставим все, как есть, — продолжал гнуть свою линию Аспар, — непременно потерпим поражение. Твои фланги открыты, что дает гуннам возможность без труда тебя окружить. Пехота стоит столь глубоко, что задние шеренги ничем не смогут помочь передним. — Он повернулся к Ареобинду. — Хоть ты-то это видишь?
— Полагаю, Аспар прав, — тактично заметил Ареобинд. — Наш фронт будет более эффективным, если растянуть его вширь; думаю, достаточно будет и восьми шеренг. Кроме того, предлагаю передвинуть обозы ближе к основному войску. Тогда они будут защищены и смогут, если возникнет такая необходимость, выступить в качестве своего рода защитного щита. Останутся там, где стоят — несомненно, будут разграб-лены и уничтожены.
— Прежде всего ты должен защитить фланги, — посоветовал Аспар. — Всего в миле отсюда есть долина с откосными склонами по бокам; там гунны окружить нас не смогут. — Аспар понимал, что то, что он предлагает, было довольно-таки отчаянной альтернативой; выстройся армия вдоль всей долины — и линия римского фронта стала бы крайне тонкой, что было очень опасным. И все же практически любой план выглядел предпочтительным по сравнению с нынешним построением армии.
— Я полагал, защита флангов — обязанность конницы, — кисло заявил Арнеглиск. — Должно быть, я ошибался.
Из последних сил стараясь сохранять самообладание, Аспар холодно произнес:
— Будем считать, что ты этого не говорил. Теперь о другом. Люди много часов простояли под палящим солнцем, еще чуть-чуть — и начнут умирать от жары и жажды. Прикажи дать им еду и воду и разреши передохнуть до прихода гуннов. Сам знаешь, сытые солдаты и дерутся лучше. Кроме того, не мешало бы тебе и выступить перед ними — для поднятия боевого духа.
— Это можно, — согласился Арнеглиск. — И, как вы и предлагаете, я растяну линию фронта. Обозы тоже передвинем поближе к войску. Это были здравые предложения. Но других изменений не будет. Армия останется там, где стоит.
Дальнейшие споры ни к чему не приведут, понял Аспар. Он взглянул на Ареобинда, но тот лишь покорно пожал плечами.
— Пусть это будет на твоей совести, — сказал Аспар Ареобинду. — Если год консулов Максима и Патерия[42] останется в римских летописях как новые Канны, Рим будет знать, чья это вина. — Отдав честь, он вышел из палатки, вскочил на коня и поскакал к позициям своей конницы.
* * *
Когда на горизонте возник скачущий во весь опор разведчик, по римским шеренгам пронесся легкий ропот. Пару минут спустя командиры подразделений объявили своим солдатам, что враг приближается; отныне все должны соблюдать тишину, слушаться приказов и держать строй.
Вдали показалась полоса то ли тумана, то ли дыма. Становясь с каждым мгновением все больше и больше, она быстро катилась на застывших в ожидании римлян. Задрожала земля и, вылетевшие из облака пыли, их взорам предстали скачущие галопом всадники.
— А теперь, парни — наш barritus, — призвал один из primicerius. — Да не жалейте своих глоток.
Застучав копьями о щиты, римляне издали боевой клич, начавшийся со слабой ноты и закончившийся оглушительным ревом. Предполагалось, что он поднимет солдатский дух, но на сей раз barritus стих уже через мгновенья: вместо того чтобы атаковать первые ряды римлян, гунны разделились и разлетелись в стороны за считанные шаги до выставленных вперед копий, пронеслись мимо римских флангов и соединились позади вражеского войска. И почти тут же на окруженных римлян посыпался град стрел.
Передние и задние шеренги, стоявшие в которых солдаты были как в шлемах, так и в доспехах и имели возможность беспрепятственно поднять щиты, остались относительно невредимыми. Основной удар приняли на себя солдаты средних шеренг, защищенные лишь шлемами и лишенные — в силу плотного прилегания центральных рядов друг к другу — возможности защищаться щитами. Лево- и правофланговый конные отряды, состоявшие, за исключением разведчиков и застрельщиков, из панцирных всадников, чья броня делала их практически неуязвимыми для гуннских стрел, попытались оказать врагу сопротивление, но гуннов было так много, что все усилия конных римлян не возымели должного эффекта.
Римляне попытались перейти в наступление, но гуннам неизменно удавалось держать их на расстоянии, к тому же римский строй постепенно начал терять единство, что привело восточную армию к еще большим потерям. Сражение продолжалось долгие часы, за которые римские шеренги значительно поредели, что — по мрачной иронии — пошло римлянам лишь на пользу; теперь они могли свободно поднимать щиты, защищая свои тела. Лишь с наступлением темноты окруженная армия получила долгожданную передышку.
Измученные жаждой и кровоточащими ранами, римляне ждали рассвета с ужасом, но вставшее солнце осветило лишь пустую равнину. Гунны ушли.
* * *
Решение Аттилы позволить остаткам разбитой восточной армии уйти гуннские командиры восприняли как достойное одобрения презрение к не принимаемому в расчет противнику. Да и могло ли прийти им в голову, что вызвано оно было тем, что Аттила испытывал отвращение к самому себе? Для своих людей он был героем-победителем, принесшим гуннам несметное количество золота и трофеев, заставившим бояться их весь мир. Для самого же Аттилы то был пустой триумф. Не этого он желал для своего народа. Мечты о Великой Скифии разбились вдребезги; присланных Аэцием советников он отправил восвояси. Будущие поколения будут помнить Аттилу не как второго Цезаря или нового Александра, а как Бича Божьего, варвара, повсюду сеявшего смерть и разрушения в невиданных доселе масштабах.
Глава 30
Мы не знали, где находились — на небесах или на земле, так как на земле не бывает такого великолепия или такой красоты.
Доклад посланников князя киевского Владимира о Константинополе. X в.— Золото, много золота… Пошлем туда посольство за богатыми дарами… На них со всех сторон наседают враги — персы, исаврийцы, сарацины, даже темнокожие народы из далекого южного Аксума, поэтому они дадут нам все, о чем мы попросим… Золото, золото… — Совет, собравшийся для того чтобы определить дальнейшую политику племени в отношении Восточной Римской империи, превратился в балаган: жадность и возросшая после ошеломительного разгрома римлян под Херсонесом самоуверенность побуждали гуннов требовать от проигравших все больших и больших податей. После битвы Анатолий, военный командующий восточного диоцеза, вынужден был просить Аттилу о мире. В итоге римляне и гунны пришли к соглашению, условия которого оказались гораздо жестче условий Маргского договора, но не принять их Восток не мог.
«Дикари, — подумал Аттила с презрением, — самые настоящие дикари. Недальновидные варвары». Пожелав навязать Восточной империи столь унизительные условия, его люди забыли о главном правиле кочевого племени: поверженного врага не уничтожают, с ним водят дружбу и его поддерживают, становясь, в процессе этого, еще сильнее и могущественнее. Гунны изменились, а жаль. В головах теперь у них только одно — золото. Оно сделало их жадными, и, победоносно шествуя на запад, гунны окончательно ушли из родных степей. Чем дальше они продвигались на запад, тем меньше попадалось на их пути пастбищ, на которых мог бы пастись их скот, и в конечном счете прежняя свободная кочевая жизнь канула в лету. Вот еще одна причина, с грустью подумал Аттила, по которой следовало бы примириться с римлянами, а не обирать их до нитки.
Но будучи вынужденным играть роль могущественного завоевателя, вселяющего ужас во врагов и надежду на светлое будущее в свой народ, он заверил Совет, что отправит в Константинополь несколько посольств, якобы для наблюдения за исполнением условий договора. Запуганный имперский двор, решил Аттила, сочтет за благо успокоить своих завоевателей, одарив посланников ценными подарками, подтвердив тем самым свою слабость и превосходство гуннов.
* * *
— Сайгаки! — закричал конюх Ульдина, указывая на медленно перемещавшиеся по пыльной долине крошечные точки. Когда-то эта земля была частью Дакии, провинции, оставленной римлянами более полутора десятков лет тому назад. «До чего ж острое у парня зрение — как у ястреба, — восхищено подумал Ульдин, — надо же, узнал антилопу с такого расстояния!» Едва разменявший пятый десяток лет, Ульдин был уже старейшиной гуннского Совета и отличался недюжинной прозорливостью, здравомыслием и умением со всеми, даже с римлянами, находить общий язык. Именно за эти качества Аттила включил его в состав первого гуннского посольства в Константинополь, откуда Ульдин сейчас и возвращался. Впереди, на небольшом отдалении, ехал второй посол, молчаливый человек, предпочитавший уединенность. Позади Ульдина, окруженный конюхами, слугами и переводчиками из посольской свиты, следовал продовольственный обоз, доверху груженый ценными дарами имперского двора.
«Но гораздо менее ценными, чем то, что неуклюже бежит рядом со мной», — с гордостью подумал Ульдин. Во время своего пребывания в Константинополе он как-то раз, гуляя по дворцовому саду, повстречал человека, ведшего на поводке некое неизвестное ему животное. Покрытое короткой темно-желтой, с черными пятнами, шерстью, с головой кота и длинным хвостом, животное это чем-то походило на леопарда, но имело длинные ноги и сильную грудную клетку, какие бывают у гончих собак. Сгорая от любопытства, Ульдин спросил у дрессировщика, пожилого гота, которому, как выяснилось, удалось избежать высылки из империи во время осуществленного предыдущим императором Великого Изгнания готов, что это за животное. Старик отвечал, что это youze или chita, гепард, привезенный из Персии и развивающий невероятную скорость. «Блиц — так я его зову», — сказал гот, — «на моем языке это значит “молния”».
Существо это так понравилось Ульдину, что, когда настало время уезжать, он попросил императора разрешить ему взять с собой Блица взамен всех прочих подарков. Феодосий был против, но его сестра, Августа Пульхерия, с мнением которой императору, судя по всему, приходилось считаться, проявила неожиданную щедрость, дозволив Ульдину забрать и гепарда, и остальные дары.
На обратном пути — а от Константинополя до Трансильвании не менее тысячи миль — у Ульдина было достаточно времени для более близкого знакомства с Блицем; он часами разговаривал с гепардом и кормил его с рук. Такое внимание не осталась без ответа: Блиц часто вызывался сопровождать своего нового хозяина во время конных прогулок и спал рядом с ним по ночам.
Теперь же, чувствуя, как закипает в предвкушении погони кровь, Ульдин слез с лошади и надел на голову гепарда кожаный колпачок. Прикрепив к серебряному ошейнику Блица длинный повод, он вновь запрыгнул в седло и, приказав конюху следовать за ним, направил коня к стайке сайгаков. Быстро покрыв большую половину разделявшего их расстояния, Ульдин повернул влево, во фланг, чтобы не спугнуть антилоп, готовых при малейшем намеке на опасность сорваться с места.
В пятистах шагах от сайгаков Ульдин спешился и накинул поводья на голову лошади, подав тем самым ей знак стоять тихо. Он уже наметил цель: желтовато-рыжий сверху, кремово-белый снизу, с причудливо расширенным горбатым носом — сайгак-самец, определил по лировидной формы рогам Ульдин, — безмятежно щипал траву в стороне от общей группы. Отстегнув поводок и держа Блица за ошейник, Ульдин снял с его головы колпак. Напрягшись, гепард едва не вырвался из ослабленной хватки.
— Давай, Блиц, — прошептал Ульдин и отпустил ошейник. Гепард медленно пополз — нет, поплыл! — по земле в направлении антилопы, используя каждую кочку, каждый куст в качестве своего преимущества. Навострив уши, сайгак учуял наконец приближающуюся опасность и успел предупредить о ней стаю, которая тут же с грохотом унеслась прочь, но сам спастись не сумел — стремительно рванув вперед, гепард настиг жертву в доли секунды. Сбив антилопу с ног одним ударом лапы, Блиц распорол ее глотку и начал высасывать хлынувшую из разорванных артерий кровь.
— Молодчина, Блиц! — прискакавший на место расправы Ульдин не скрывал своего восторга. После того как с помощью лежавшего наготове в седельной сумке куска мяса ему удалось отвлечь гепарда от трупа, он приказал конюху оттащить тушу к стоявшему чуть поодаль обозу. «Друзья мои, — расплывшись в довольной улыбке, подумал Ульдин, — умрут от зависти, когда увидят, на что способен Блиц». Плохо лишь одно: Аттила может забрать гепарда себе. В порядке любезности ему придется предложить вождю полученные от императора подарки; остается надеяться, что Аттила, правитель справедливый и великодушный, не лишит любимого советника самого ценного из даров. Не без удивления Ульдин осознал, что расставаться с Блицем ему не хочется.
* * *
— Да это же леопард! — ужаснулась жена Ульдина, когда тот, сопровождаемый Блицем и несшими привезенные из Византии подарки слугами, показался на пороге дома, стоявшего на окраине королевской деревни Аттилы. (Как и предполагал Ульдин, верховный вождь гуннов милостиво разрешил посланникам оставить себе все дары римлян, за исключением одного — кубка, сделанного из рога единорога, который, по словам прибывших, обладал ценной особенностью: менял цвет, когда в нем оказывалась отравленная жидкость.)
Не без труда Ульдину удалось убедить жену и многочисленных родственников, что Блиц не является леопардом и что эта милая пятнистая кошечка вполне миролюбива и любит, когда ее ласкают и балуют. (Многие гунны, особенно молодые, леопардов никогда не видели. Но от своих дедов и прадедов, когда-то кочевавших по степям Азии, они слышали, что животное это чрезвычайно опасно и может за несколько секунд разорвать человека на части.) А уж после того как Блиц оставил позади себя всех конных участников организованного Ульдином забега на короткое расстояние, гепард и вовсе стал всеобщим любимцем.
* * *
Когда стрелка поплавка клепсидры достигла отметки, обозначающей час, «устроившаяся» рядом с выпускным отверстием цистерны маленькая позолоченная птичка раскрыла клюв и вывела веселую трель.
— Ах! — от удивления отец Ульдина открыл рот, глаза его светились восторгом. — Вот уж действительно бесценный подарок. Спасибо, сын!
Ульдин не сдержал улыбки. Все его попытки объяснить принцип действия водяных часов, хитроумной штуковины из бронзы и слоновой кости, не увенчались успехом. Время старик определял, исходя из позиции солнца на небе, и любая другая, более замысловатая форма его, времени, измерения была выше понимания пожилого гунна. Но это не имело значения: отец Ульдина находился в плену красоты причудливого механизма и его казавшегося магическим хода. Заполнившей фамильную юрту изумленной и обрадованной родне Ульдин раздал остальные привезенные из Константинополя «сокровища». Женщины и девочки получили шелка, серебряные зеркальца и ювелирные изделия, мужчины — кинжалы с украшенными драгоценными камнями рукоятями, серебряные конские сбруи и золотые кубки. После раздачи подарков в центр юрты были вынесены большие плоские блюда с жареным мясом и чаши с кумысом, и посыпались вопросы о чудесах и диковинах большого города.
— Может ли пасть Константинополь? — спросил один суровый пожилой воин.
— Поверь мне, дядя, захватить его нам не удастся ни за что на свете, — заявил Ульдин.
— Почему? — агрессивно наступал тот. — Вимитакий, Марг, Сингидун, Сирмий — эти и многие другие города пали под нашим натиском.
— Согласен, дядя, — уступил Ульдин, поглаживая по голове Блица. — Но взяли мы их лишь с помощью плененных римских инженеров, научивших нас сооружать и применять осадные башни. Константинополь стоит на выступе и с трех сторон окружен бурными водными потоками и волноломами, поэтому атаковать город с моря вряд ли возможно, да мы этому и не обучены. С суши же город защищен огромной стеной, простирающейся с юга на север.
— Стены можно преодолеть.
— Только не эти, дядя. Видел бы ты их — ничего бы не спрашивал. По сравнению с ними укрепления Сирмия выглядят как обычный частокол. Константинопольские стены — высокие и толстые. Они буквально усеяны громадными башнями с платформами для катапульт, так что любое приблизившиеся к ним войско непременно попадет под самый настоящий огненный град и будет наполовину разбито еще до того, как дойдет до самого бастиона.
— А большой это город? — спросил пучеглазый мальчуган.
Ульдин кивнул.
— Да, сынок, большой. Очень большой.
— Больше, чем наша столица?
Ульдин улыбнулся.
— В Константинополе двадцать таких поместилось бы и еще бы место осталось. Если же говорить о людях… — Ульдин замялся: как понятным языком объяснить, что такое полмиллиона человек, он не знал. Наконец, он нашелся: — Их там так же много, как скота на наших пастбищах.
Ульдин почувствовал, что его слова произвели впечатление: будучи человеком честным, он не имел склонности хвастаться или преувеличивать, и все это знали.
— А какой он, Константинополь? — застенчиво спросила молодая матрона.
— Вы себе и представить не можете, сколь красив и прекрасен этот город, — с чувством ответил Ульдин. — Попасть туда можно через пять ворот. Если пройти через северные либо же те, что ближе к югу, то по двум широким улицам (обе они называются Мезе) — по пути вам будут встречаться большие цистерны, огромный акведук, множество монастырей и храмов — можно выйти к громадной открытой площади, Амастриану. Сердце города лежит позади Амастриана, в восточной части полуострова — город в городе, можно сказать. Там находятся большой императорский дворец, казармы императорской гвардии, канцелярии советников императора, величественный храм Святой Мудрости и ипподром, на котором проводятся гонки на колесницах. Императорская ложа — кафизма — размерами превышает иные городские строения; венчают ее четыре огромные бронзовые лошади.
— Из того, что ты нам поведал, Ульдин, складывается впечатление, что жители этого города не пасут стада, — заметил его отец, — и что среди них не много найдется воинов. О чем же тогда, кроме гонок на колесницах, ведут они разговоры?
Ульдин сделал паузу: он понимал, что ответ может завести его в словесный лабиринт, и сожалел, что так и не научился приводить убедительные доводы, как какой-нибудь грек.
— Ну, отец, — начал он, вспоминая страстные теологические дебаты, которые ему доводилось не раз слышать в столице Восточной империи, и суть которых объясняли ему переводчики, — когда константинопольцы не обсуждают торговлю или дела, они беседуют о своем Боге.
— И какой он, этот их Бог?
Ульдин тяжело вздохнул. Будучи человеком смышленым и по природе своей любознательным, он, как старейшина гуннского Совета, счел своим долгом как можно более подробно познакомиться с нравами и убеждениями римлян. Но как объяснить соплеменникам такое абстрактное, к примеру, понятие, как Троица? Божество гуннов, Мурдука, бога войны, символизировал Священный Скимитар Аттилы, вещь видимая и осязаемая. Могли гунны его и слышать: разве не Мурдука голос раздается, когда в небе грохочет гром?
— Они полагают, что Бог один, но представлен он в трех ипостасях — отца, сына и существа, называемого Святым Духом.
— Не забыть бы мне это к тому дню, когда будет проходить ежегодная меновая торговля, — серьезно заявил один из гуннов. — Как вам известно, за одного жеребенка там дают трех телок. Так я теперь буду предлагать одну, а тем, кто на такой обмен соглашаться не станет, скажу: «Это христианская корова, дружище; возможно, она и выглядит как одно животное, но на самом деле их — три».
Когда стих смех, Ульдин продолжил — бодро, но с осознанием того, что слова его вряд ли дойдут до понимания слушателей.
— Одна женщина, которую звали Марией, зачала от Святого Духа, то есть Бога, ребенка. После того как этот, названный Иисусом, ребенок — который тоже Бог — вырос, римляне распяли его за его учения. Тогда они считали, что он представляет опасность для государства, теперь же они его почитают как своего Бога. Культ его проходит в храмах — домах, где живет их Бог.
— Но ты говорил, что в том городе много храмов, — возразил один из пастухов. — Как же он умудряется жить во всех сразу, даже если и умеет принимать три ипостаси?
Ульдин пожал плечами.
— Не знаю, — признался он, устало улыбнувшись. — Это — загадка.
— А что они делают, эти христиане, когда поклоняются своему Иисусу?
— Выходит какой-нибудь шаман в белых одеждах и произносит колдовские слова над хлебом и вином, превращая их в тело и кровь Иисуса.
— Вот бы все было наоборот! — прошептал сын Ульдина сидевшему рядом товарищу. — Положили бы перед нашим шаманом какое-нибудь убитое на охоте животное — представляешь, сколько бы вина получили из его крови?
— А что потом происходит с телом и кровью этого Иисуса? — спросил седовласый гунн, чья коричневая морщинистая кожа походила на скорлупу грецкого ореха.
— Римляне их съедают и выпивают.
В раздавшихся в юрте возгласах прозвучало глубокое отвращение.
— Людоеды — вот они кто, эти римляне, — заявил кто-то. — А еще нас называют дикарями! Мы-то, по крайней мере, человеческую плоть не едим.
— Христиане называют это превращение «трансубстанциацией», — продолжал Ульдин, отдавая себе отчет в том, что лишь толчет воду. — Под этим они понимают — по крайней мере, я так думаю, — что, хотя и хлеб и вино по-прежнему выглядят как хлеб и вино после того, как шаман произнес свое заклинание, каким-то, только их Богу известным путем …
— Довольно, — тихо похлопал Ульдина по плечу отец. — Пусть уж римляне сами разбираются в этих проблемах, раз уж им это нравится. Смотри-ка, даже Блиц уснул — вот до чего ты его довел своими заумными речами.
Глава 31
Светловолосые воины отважны и неустрашимы в бою; яростно сражаясь в рукопашной, они невозмутимо презирают смерть.
Маврикий. Стратегикон. VI в.— Проблем возникнуть не должно, господин, — бодро рапортовал Аэцию Констанций, только что вброд перешедший Фрудис и присоединившийся к спешившимся западным конникам, наспех завтракавшим bucellatum, жестким печеньем, выдаваемым бойцам во время полевых кампаний. — Франки перепились, как свиньи, и лыка не вяжут, — даже стража. Не сомневаюсь, они уверены, что ни одного римского солдата и за тысячу миль не отыщется. — Он взял протянутые Аэцием печенье и бокал вина. — Спасибо, господин. Думаю, у нас получится. Пусть мы и легкая конница, но за нас должен сыграть эффект неожиданности и… полагаю, лучшей возможности у нас может и не быть. — Сделав большой глоток, он обезоруживающе улыбнулся. — Что скажете, господин? Рискнем?
Если судить по его тону, то может сложиться впечатление, что Констанций предлагает всего лишь поохотиться на зайцев в своем родовом имении в Провинции, криво ухмыльнулся Аэций. Ему нравился этот энергичный молодой парень, в один прекрасный день появившийся в лагере западной армии в сопровождении полудюжины бандитского вида bucellarii и предложивший свои услуги. Отказываться от них было просто глупо — в армии людей и так не хватало, — и Аэций сделал Констанция своим трибуном, с испытательным сроком, — до тех пор, пока назначение это не будет согласовано с консисторией. За исключением легкого намека на то, что в родных краях он стал persona non grata (вследствие скандала, вызванного обольщением жены одного местного сенатора), Констанций о себе ничего не рассказывал, но признал очевидное: что он происходил из богатой и знатной семьи. Но под его веселой беззаботностью — в этом Аэций не сомневался — скрывался человек жесткий, независимый и не по годам мудрый. Великолепный наездник и прирожденный лидер, казалось, незамедлительно ставший своим как среди офицеров, так и солдат, Констанций — как, впрочем, и вся его свита — уже вскоре на деле продемонстрировал свою полезность.
Легкие конные подразделения действующей армии Аэция должны были выяснить, что намереваются предпринять франки. Те, номинально будучи федератами, ушли под предводительством короля Клодия с предоставленных им у нижнего Рейна территорий и, согласно поступившим сообщениям, двинулись по провинции Вторая Белгика на запад, в направлении реки Фрудис. После того как разведка донесла Аэцию, что франки разбили лагерь у небольшой деревушки Хелена в окрестностях Неметака, Констанций вызвался проверить полученные сведения. Действуя в одиночку, заявил новоиспеченный трибун, он сможет подобраться к франкам поближе и рассмотреть их диспозиции в мельчайших подробностях.
Аэций ему доверился, и Констанций не подвел.
— Численность? — спросил полководец.
— Точно не скажу: их палатки стоят на довольно-таки большом участке земли. Примерно между пятью и десятью тысячами человек.
— Расстояние?
— Немногим более двадцати миль отсюда. На всем протяжении пути — низина, так что часа за три доберемся.
— Хорошо вооружены?
— Не думаю, господин. Мне вообще показалось, что у них там — всего лишь большая пирушка.
— Пирушка! Да будет тебе заливать, Констанций!
— Нет, серьезно, господин, все выглядит так, будто они собрались что-то отпраздновать. Вырядились в лучшие свои одежды; повсюду расставили большие тенты, вокруг которых суетятся повара и кашевары. И, — сделав многозначительную паузу, Констанций продолжил, — вот что может быть важно: над одним огромным, ярко раскрашенным шатром реет какой-то флаг.
— Клодий?
Улыбнувшись, Констанций пожал плечами.
— Если так, то нам очень повезло, господин.
— Так чего же мы ждем? Найди себе свежую лошадь; я немедленно прикажу bucinator трубить общий сбор.
* * *
Теодеберт чувствовал себя абсолютно счастливым. Растроганный до глубины души, он оглядел собравшихся за длинным столом товарищей: все, как один, надели поверх плотно облегающих ноги брюк свои лучшие, нарядные туники, а некоторые — еще и крученые золотые браслеты и ожерелья, полученные в подарок от короля Клодия за верную службу или беспримерное мужество. Сам он, в знак признания почтенного возраста и совершенных в боях геройских поступков, сидел рядом с королем, по его правую руку. Все как прежде, подумал Теодеберт, и глаза его затуманились от слез, когда он вспомнил, как почти шестьдесят лет тому назад, будучи еще совсем молодым воином, присягал на верность еще прежнему правителю франков.
Хорошие то были времена — времена сражений, пирушек и приключений. В первом своем сражении, против алеманнов — ему тогда едва исполнилось шестнадцать, — у него были лишь щит и копье. В тот день он впервые убил и снял со своей жертвы великолепный Spangenhelm, каркасный шлем с наушами, назатыльником и личиной. Позже, когда прошли годы, и он уже стал прославленным и доблестным воином, появилось у него и другое военное обмундирование: francisca, или метательный топорик, кольчуга, лошадь, пика и — лучшее из всего — тяжелый обоюдоострый меч со стальным острием, подарок короля Маркомира.
А затем к ним пришел Стилихон, вандал, стоявший во главе римских армий, который и убедил франков стать союзниками, foederati Рима, — в обмен на полосу земель по римскую сторону Рейна. Земель, которые франки получили бы в любом случае, — столь слабым был тогда Рим, с досадой подумал старый вояка. И что получил его народ от этого альянса? Верные своему слову, франки отважно сражались против вандалов, свевов и бургундов, то и дело переходивших замерзший Рейн и устремлявшихся в Галлию. Много бесстрашных воинов потерял франкский народ, но — что было еще хуже — по условиям foedus франки вынуждены были обосноваться на этих землях как мирные землепашцы, что представлялось чудовищным позором для гордых воинов, — занятием, подходящим лишь для женщин и немощных стариков.
И вот теперь король Клодий, как истинный франк, собрал вокруг себя могущественный comitatus, поклявшихся ему в верности безрассудно смелых молодых людей, и увел свой народ с назначенных ему территорий во Второй Германии, приведя его в Римскую Галлию. И вновь вернулись славные дни сражений и грабежей! Ржавевшие на протяжении многих лет в ножнах мечи вновь обагрились кровью! Турнак и Камбрак первыми пали под натиском неустрашимых воинов, принеся франкам богатый урожай из золотых и серебряных изделий, стеклянных чаш и россыпей solidi… Сам-то он, в силу своего возраста, конечно же, не принимал участия в сражениях, но разделил славу со своими сыновьями, преподнесшими отцу усыпанные драгоценными камнями кубки и поразительной красоты, из прозрачного стекла, рог для вина.
Для того чтобы отпраздновать последние победы и свадьбу собственного сына, король и организовал этот роскошный пир. Огромные столы в расставленных по всей возвышенности вдоль берегов тихой речушки шатрах ломились от всевозможных яств и напитков. Молоденький поваренок предложил Теодеберту вина, но тот послал паренька за элем, которым намеревался наполнить свой рог. Пусть вино пьют женщины и римляне, подумал он с презрением, отрезая кусок оленины от стоявшей на столе филейной части. Эль — вот напиток, достойный настоящего воина.
Внезапно, откуда ни возьмись, в шатер ворвались всадники в римских шлемах; круша и переворачивая рядами стоявшие столы, они рубили и резали застигнутых врасплох гостей. Оказавшиеся по случаю праздника без оружия франки пытались дать римлянам достойный отпор с помощью всего, что попадалось под руку — ножей, деревянных ножек столов, кувшинов и подносов. Схватив вертел, пожилой Теодеберт с силой бросил его, словно пику, в летевшего на него всадника, и увидел, как острие пронзило глаз солдата и вышло из его затылка, чуть ниже обода шлема. Не успел римлянин выпасть из седла, как франка атаковал другой всадник; spatha глубоко вошла в спину Теодеберта, перерубив сонную артерию, из которой тут же хлынули струи крови. «Сегодня я буду пировать в Валгалле, — довольно подумал старый воин, — так как пал в бою».
Битва закончилось, едва начавшись. Во избежание еще более массовой гибели своих подданных, готовых пойти на смерть ради спасения своего господина, король Клодий вскинул вверх руки, показывая, что признает свое поражение, и призвал своих людей последовать его примеру.
Сняв шлем, Аэций выступил вперед и обратился к королю со следующими словами:
— В память о верной службе твоего народа Риму, Клодий, я готов — сейчас и никогда больше — во второй раз предложить тебе foedus. Принимаешь ли ты мое предложение?
Клодий, высокий, ладно скроенный мужчина с длинными светлыми волосами, в наброшенном поверх белой тунике зеленом плаще, смерил полководца высокомерным взглядом.
— Твои условия, римлянин?
Аэций покачал головой — невозмутимость короля франков заслуживала восхищения. Он вспомнил, что, оказавшись в схожей ситуации, первый Валентиниан умер от разрыва кровеносного сосуда.
— Ты не в том положении, чтобы торговаться, Клодий, — спокойно ответил полководец, — и, думаю, сам это понимаешь. Условия мои таковы. Отведи свой народ за Скалдис. По этой реке, а также Мозе, будет отныне проходить граница между франками и римлянами. Тот из франков, кто появится западнее этой линии либо же южнее Ардуэнна Силва без соответствующего на то разрешения, будет убит без предупреждения. Кроме того, ты должен дать мне слово, что никогда более не пойдешь с оружием на римлян и будешь воевать на стороне Рима, когда возникнет такая необходимость. Клянешься ли ты в этом?
Клодий едва заметно кивнул.
— Клянусь, — заявил он таким тоном, словно делал одолжение своим победителям.
— В таком случае, можешь забрать своих мертвых. Все же прочее является военными трофеями и должно быть оставлено на поле боя. У тебя есть два дня, чтобы вернуться на свои земли.
* * *
— Примите мои поздравления, господин. Блистательная победа, — сказал Констанций Аэцию, когда последний из франкских обозов скрылся за восточным горизонтом.
— Еще пара-тройка подобных — и некого будет выводить на поле боя, — уныло проворчал Аэций. — Три сотни человек положили. Таких потерь мы себе позволить не можем.
— Но у франков счет убитых идет на тысячи. Уверен, что…
— Франки свои потери быстро возместят, мы же — вряд ли. — В голосе полководца прозвучала нотка полной безы-сходности. — Франки — нация воинов. Вся их молодежь — потенциальные солдаты; нам же взять новых рекрутов уже негде. Одному лишь Богу известно, сколько еще времени мы сможем содержать и снаряжать наши войска, — а их ведь еще и кормить чем-то надо. Равеннская казна пуста — там нет и солида. Недавняя — неудачная, к слову — экспедиция в Африку высосала из нее последние деньги.
— Неужели все так плохо, господин? — сочувственно пробормотал Констанций. — Вот уж не думал. Хорошо еще, что Галлия — под нашим полным контролем. Бургундов и визиготов, а сейчас и франков, нам удалось поставить на место. Галлия — все еще римская.
— Надолго ли? Если федератам вновь вздумается показать свой норов… Рим сейчас похож на человека, пытающегося весной перейти замерзшее озеро. В любой момент лед может треснуть, и человек этот утонет. Эх, если бы нам удалось призвать на помощь гуннов…
— Может, получится их переубедить?
Аэций покачал головой.
— Едва ли, — мрачно заметил он. — Если только… — Этот парень, подумал вдруг Аэций, даже на летающих вокруг птиц без труда произвел бы нужное впечатление. Если кто и сумеет уговорить Аттилу, то это — Констанций.
— Все готово, господин, — почтительно отсалютовал подошедший centenarius.
— Пойдем, Констанций. Отдадим души убиенных римских солдат Богу. — Повернувшись, они уже собирались покинуть поле боя, когда взгляд Аэция остановился на валявшемся на земле стеклянном, в форме рога, кубке для вина. Прекрасная работа, восхитился про себя Аэций, удивительно, что не разбился. Подняв рог, он вручил его молодому трибуну.
— Хотелось бы мне знать, кому он принадлежал, — задумчиво произнес патриций. — Сохрани его, мой друг, — пусть служит тебе напоминанием о твоем первом сражении.
«Преторий магистра армии, Равенна, провинция Фламиния и Пицен, диоцез Италии [написал Тит в “Liber Rufinorum”], консульство Августа Флавия Феодосия (восемнадцатое) и Альбина, IV, августовские иды[43].
В Галлии вновь все спокойно. Аэций вернулся в Италию, оставив Авита — теперь префекта Галлии — присматривать за обоими галльскими диоцезами. Аэций полагает, что, находясь в Равенне, сможет лучше отслеживать ситуацию в Африке. К вопросу о ее возвращении решено было вернуться позже, и Гейзерих вновь решил поиграть мускулами; будучи единственным из варваров, в чьем распоряжении имеется флот (состоящий из захваченных римских судов), он захватил Балеары и Сардинию, создал морскую базу в Сардинии и угрожает уже самой Италии.
Нам сейчас как никогда нужны деньги на содержание армии, но взять их некуда. Правительство доведено до такого отчаяния, что вынуждено было ввести в этом году новую торговую пошлину, siliquaticum, подразумевающую уплату в казну одной двадцать четвертой части дохода с продаж. В надежде возместить нехватку рекрутов за счет возрождения былого союза с гуннами, патриций направил на переговоры с Аттилой молодого трибуна, Констанция. Должен признаться, у меня его кандидатура вызвала возражения. Констанций, несомненно, обладает целым набором прекрасных качеств: в битве с франками у селения Хелена он показал себя человеком храбрым и находчивым; ему не откажешь в такте, обаянии и самонадеянности (в хорошем смысле этого слова); он происходит из приличной семьи и свободно чувствует себя в присутствии сильных мира сего — в принципе, именно такими свойствами и должен располагать посол.
Что же заставляет меня в нем сомневаться? Есть, знаете ли, у меня ощущение, что, несмотря на все свое очарование, Констанций всегда будет ставить собственные интересы выше прочих приоритетов. Ввиду важности его миссии (от успеха которой, скажу без преувеличения, зависит, выживет ли Запад), я поделился своими опасениями с Аэцием, но тот в ответ лишь отшутился. Полагаю, он считает, что я завидую Констанцию — моя-то поездка к Аттиле увенчалась полным провалом, а новый посланник может оказаться более удачливым. Что ж, время нас рассудит».
Глава 32
Тот, кто низмен дома, не сможет с честью выполнять функции посланца за границей.
Эсхин. Против Ктесифонта. 337 г. н. э.Констанций нервничал, что было ему совсем не свойственно. Он уже начал сожалеть о том, что продал предназначавшиеся Аттиле подарки. Но возможность получить наличные для оплаты стремительно растущих долгов и прийти к компромиссу с сенатором, чью жену он соблазнил, была слишком заманчивой — даже с учетом того, что ростовщик-сириец в Арелате предложил ему лишь малую часть от реальной стоимости врученных ему Аэцием ценностей. Зато теперь он мог вернуться домой с высоко поднятой головой и зажить привычной жизнью. Парочку менее ценных предметов, вроде стеклянного рога для вина, найденного Аэцием на поле битвы у селения Хелена, он все же сохранил. Возможно, пытался успокоить себя Констанций, подобные, ничего не стоящие безделушки впечатлят этого дикаря Аттилу гораздо больше, нежели какое-нибудь украшенное изысканным узором серебряное блюдо.
Надев свой лучший далматик, Констанций вышел из своего жилища в гуннской столице, огромной, расползшейся на многие мили деревне, где большинство населения жило в шатрах и лишь некоторые знатные гунны — в топорно сбитых деревянных домах. Выделялось на общем фоне одно поражавшее своей неуместностью строение — огромное каменное здание, построенное в чистом греко-римском стиле, которое возвышалось над непрочными крышами из парусины или шкур животных, словно военная галера над лодками рыбаков. То была баня Онегесия, сооруженная греком, плененным во время вторжения Аттилы в Восточную империю. Получив статус вольноотпущенного, грек этот сделался банщиком у Онегесия, фаворита Аттилы, и прислуживал во время мытья ему самому и его родственникам. Чем дальше Констанций шел по петлявшим грязным тропам, считавшимся у гуннов улицами, тем больше вокруг него собиралось детворы. За те три недели, в течение которых римлянин ожидал аудиенции у Аттилы, он успел заслужить необыкновенную популярность у мальчишек — благодаря дару подражания и знанию множества фокусов. Сегодня Констанций изображал медведя. Он носился между маленьких гуннов, ревя и из стороны в сторону качая головой, скрючив, наподобие когтистых медвежьих лап, руки, в то время как дети пронзительно визжали от восторга и, изображая испуг, бросались врассыпную.
Дойдя до подножия высокого холма, на котором стоял деревянный королевский дворец, Констанций разогнал малышню и остаток пути проделал уже в одиночестве. Взойдя на вершину, римлянин сделал небольшую остановку, пытаясь восстановить дыхание, но и этих нескольких секунд ему хватило для того, чтобы оценить всю красоту открывавшегося внизу пейзажа: бескрайняя зеленая рябь бегущих к голубым вершинам Сарматских гор травяных полей — с одной стороны, блестящие воды описывающей причудливые петли Тисы — с другой. Вдали, медленно, словно дрейфующие тени, скользили по земле пасущиеся овцы. У ворот украшенного башнями палисада, окружавшего дворцовый комплекс скорее красоты ради, нежели в целях безопасности, стоял караул. После того как Констанций назвался и сообщил стражникам, что ему назначено, посланника проводили — мимо домов, в которых проживали многочисленные жены Аттилы — к главному строению, огромным хоромам, построенным из бревен и хорошо выструганных досок. Король ожидал Констанция в приемном покое.
В одеждах из звериных шкур, Аттила сидел на простом деревянном троне. Неподвижный, с непомерно большой головой и светящимися умом глубоко посаженными глазами, он походил на хищника, отдыхающего, но в любой момент готового броситься на жертву и разорвать ее в клочья. Убедить его в том, что принесенные безделушки имеют хоть какую-то ценность, мне не удастся, понял Констанций. Сгорая от стыда, он выставил дары на стол — оловянный кубок, украшенный «камнями» из цветного стекла, эмалированную бронзовую брошь, небольшой серебряный дискос, стеклянный рог для вина — и, отвесив низкий поклон, объявил:
— Мой господин, Аэций, Патриций и Магистр Армии Валентиниана Августа, Императора Восточных римлян, приветствует Аттилу, Короля гуннов, Правителя всех земель и народов от Германского океана до Каспийского моря, и просит его принять эти жалкие дары как знак уважения. — Облизав губы, он добавил: — Прошу прощения, ваше величество, за эту безвкусную мишуру — вот все, что мне удалось спасти из моего багажа, унесенного бурными водами Тисы. — Ничего лучшего Констанций придумать не смог.
— Неважно, — бросив косой взгляд на украшенный вышивкой далматик посланника, сказал низким голосом Аттила. — Рад, что твоя одежда не пострадала. Скажи мне, римлянин, зачем прислал тебя ко мне твой господин?
— Ваше величество, патриций уполномочил меня заявить от его имени, что он желает — со всем смирением и искренностью — возобновить ту дружбу, которая вас когда-то связывала.
— То есть ему снова нужны солдаты, — прорычал Аттила. — Что может он предложить взамен? Мои осведомители сообщают, что западная казна не менее пуста, чем черепа тех римлян, что полегли в битве у Херсонеса Фракийского.
— Он полагает, господин, что с вашей помощью сможет возродить Запад — вернуть Африку и Британию, сокрушить свевов в Испании, вынудить федератов в Галлии сложить оружие и зажить мирной жизнью, уплачивая, наряду с прочими гражданами, налоги и сборы. Если в империи воцарятся мир и стабильность, а в казну вновь потекут деньги, Запад быстро исцелится от всех своих болезней. И тогда Аэций сможет предложить вам титулы не только патриция и Magister militum, которые вы сможете разделить с ним, но и соимператора Запада, которым вы будете править вместе с Валентинианом, а также половину всех доходов империи. — Обретя прежнюю самонадеянность, Констанций, со свойственным ему красноречием и энтузиазмом, принялся рисовать яркие и соблазнительные картины римско-гуннской конфедерации, простирающейся от Атлантического океана до предгорий Имая, — величайшего политического образования в мировой истории, включающего в себя даже больше земель, чем их было в империи Александра. Почувствовав себя в своей стихии, Констанций вышел далеко за пределы данных ему Аэцием полномочий. О соимператорстве полководец не говорил ни слова; Аттиле посланник уполномочен был предложить лишь пятую часть от всех доходов империи; в конфедерацию, в которую Констанций в порыве вдохновения включил еще и всю Восточную империю, на самом деле должны были войти лишь Запад и владения Аттилы. Ничего, решил посланник, главное для меня сейчас — заинтересовать Аттилу, детали же можно будет обсудить и потом.
Впрочем, определить, какой эффект — если таковой вообще имелся — возымели его слова на короля, было невозможно. Аттила оставался бесстрастным и неподвижным на всем протяжении выступления Констанция.
— Мы подумаем над словами Аэция, — сказал он, когда римлянин закончил. — А пока соизволь быть моим гостем — до особого распоряжения.
* * *
После ухода Констанция Аттила долгое еще время не вставал с места, взвешивая, оценивая, сравнивая все «за» и «против» предложения Аэция… Присланный полководцем молодой римлянин — человек беспринципный и эгоистичный, на этот счет у него сомнений не было. Рассказ Констанция об утонувшем в Тисе багаже — явная ложь; с того самого момента как римское посольство оказалось на гуннской территории, Аттила был в курсе каждого шага Констанция и о подобном инциденте ничего не слышал. Но над сделанным Аэцием предложением, пусть даже Констанций его и приукрасил, следует серьезно поразмыслить. Возможно, в конце концов, подумал Аттила, моя мечта о Великой Скифии все же сбудется. Сам по себе план этот выглядел весьма заманчивым, но Аттила по собственному горькому опыту знал, что не все мечты сбываются. Но что есть человек без грез? Ничто — животное, дикарь. Что ж, он все обдумает и решит.
Между тем от Констанция может быть польза. Возможно, этот молодой римлянин себялюбив, но он умеет четко выражать свои мысли, любезен и искушен в делах житейских и, вероятно, принесет гораздо больше пользы в качестве посланника, чем все те воинственные и неотесанные гунны, которых он посылает в Костантинополь следить за выполнением условий Мира Анатолия — договора, заключенного с Восточной империей в прошлом году. А условия были суровыми: мало того, что ежегодная дань удвоилась и достигла двух тысяч ста фунтов золота, так римляне обязывались немедленно выдать гуннам шесть тысяч фунтов золота согласно прежним условиям; за каждого римского военнопленного, бежавшего и перешедшего без выкупа в свою землю, гунны должны были получить по двенадцать золотых, а в случае неуплаты принявшие беглеца обязаны были выдать его; римляне не должны были принимать ни одного бежавшего к ним варвара. Переговоры вели Скотта, представитель Аттилы, и Анатолий, один из ведущих восточных полководцев. Во избежание задержек в выплатах Аттила вынужден был то и дело отправлять в Константинополь посланников, которые на месте следили за тем, как исполняются условия договора. Представительный и обладающий даром убеждения Констанций идеально подходил на роль человека, который смог бы стать своим в высшем константинопольском свете и выяснить намерения Востока в отношении гуннов. «Позову-ка я нотария, Ореста, — решил Аттила, — пусть напишет письмо с требованием встречи между Констанцием и Хрисафием, коварным евнухом, имеющим не меньшее влияние на Феодосия, нежели сестра императора, Пульхерия».
* * *
Когда Бледа узнал о том, что Констанций не только включен в состав следующего посольства, отправляющегося в Константинополь, но и должен будет встретиться там с Хрисафием, его охватило крайнее возбуждение. Оставив свои расположенные к северу от Понта Эвксинского земли, он поспешил в столицу брата, — вроде как повидать одну их жен, которая жила в соседней деревне. Бледа и сам уже какое-то время вел интенсивную переписку с Хрисафием, вынашивая мысль о том, что должно было принести пользу им обоим, — убийстве Аттилы. Десять лет Бледа жил в его тени, всеми презираемый и игнорируемый. В один прекрасный день ему, человеку сколь ограниченному, столь и тщеславному, сносить подобное унижение стало совсем невмоготу, и в коварном и заблудшем мозгу Бледы начал зреть план избавления от нелюбимого брата. Хрисафия же убийство Аттилы вообще могло возвести в ранг спасителя Восточной империи, наделив его властью уже не просто огромной, но практически безграничной.
Теперь они были заняты поиском исполнителя, человека отважного и готового ради денег пойти на убийство. По причинам безопасности и гарантии от возможного предательства посланники-гунны в качестве претендентов на его роль даже не рассматривались. Но в лице Констанция, решил Бледа, они могут получить нужного человека. Об этом свидетельствовало все, что Бледе довелось услышать о новом после Аттилы. Будучи римлянином, ничем Аттиле не был обязан: в родстве с правителем гуннов он не состоял, клятву верности ему не давал. И, если правдивы были ходившие слухи о том, что Констанций присвоил подарки Аэция Аттиле, шансы на то, что римлянин клюнет на взятку, возрастали многократно. Кроме того, поговаривали, что Констанций неплохо себя проявил в недавней битве, в которой римляне разгромили франков, из чего Бледа сделал вывод, что этот молодой римлянин — парень хладнокровный и способный на убийство. Бледа знал, что Хрисафий разбирается в людях лучше, нежели он сам. Вот после встречи с Констанцием евнух пусть и решает, можно ли на него положиться, а уж за вознаграждением дело не станет. Все свои мысли Бледа изложил в письме, которое и отослал Хрисафию с самым быстрым из своих курьеров.
* * *
— Говорят, мир — круглый, Баламир, — сказал Аттила.
Этого молодого гунна он вытащил из Данубия незадолго до своего восхождения на трон, и с тех пор Баламир был самым надежным и преданным из всех слуг Аттилы; теперь, спустя десять лет, он выступал скорее в роли спутника и доверенного лица, нежели прислужника. Решив дать лошадям передышку, мужчины остановились на вершине одного из хребтов Сарматских гор, разглядывая волнообразные зеленые луга, словно море катившиеся к линии горизонта. Аттила завел Баламира так далеко в горы, потому что хотел переговорить с ним наедине, там, где никто не мог их услышать.
— Господин, один мудрый грек по имени Эратосфен, полагавший, что земля круглая как шар, вроде бы даже сумел высчитать длину ее окружности. — Из бесед с вольноотпущенником Онегесия и прочими пленными восточными римлянами Баламир набрался полезных и не очень знаний о греко-римской культуре и представлений о мире. (Способный к языкам, Баламир понимал греческий ровно настолько, что мог ухватить суть большинства разговоров.)
— И какова же она, по мнению этого грека?
— Около восьми тысяч лиг[44], господин, если мне не изменяет память. Но, конечно, все это может оказаться лишь теорией. Отсюда, по крайней мере, она выглядит плоской.
— Да, выглядит, но, думаю, вполне возможно, что устами этого грека глаголит истина. Видел ли ты когда-нибудь появляющийся на горизонте корабль? Ах да, забыл — ты же никогда не был на море. Хорошо, тогда едущий по степи обоз. Сначала появляется тент, затем — каркас, еще позже — колеса… Не будь земля выгнутой, так бы не происходило.
— Может, она и выгнутая, господин, но все равно не круглая. Как, скажем, яйцо.
— Но тень, отбрасываемая землей на луну, представляет собой часть идеального круга. Вот видишь, мой друг, благодаря простому наблюдению каждый может понять, что земля — круглая. И для этого не нужно быть философом или математиком. Знаешь, в чем секрет моей власти, Баламир? Я скажу тебе: в наблюдении. Удачливый охотник месяцами наблюдает за преследуемой добычей. Изучает, когда опасно, а когда можно к ней приближаться, когда она ведет себя самоуверенно, а когда осторожничает, как во время гона, и так далее. Вот так и я: изучая людей, узнаю их сильные и слабые стороны, и знание это позволяет мне играть на их чувствах и держать их под контролем. Какую часть из восьми тысяч лиг этого грека составляют мои владения, как думаешь?
— От Паннонии до Имая, господин? Сколько это — около тысячи лиг? Восьмая часть окружности земли — если верить его подсчетам, конечно.
— А теперь удвой эту цифру. Если Констанций не врет, Аэций предлагает мне стать соправителем Западной империи. Подумай только, Баламир, две тысячи лиг. А если допустить, что все, что лежит между Китаем и Геркулесовыми Столпами — океан, то, получится, Аттила будет править почти половиной мира.
— Головокружительная перспектива, господин. Даже Александру не удалось достичь такого.
— Но могу ли я доверять Аэцию? Когда-то мы были очень близки; да ты и сам помнишь, как мы спускались по порогам Данубия у Железных Ворот. Лучших друзей, чем Аттила и Аэций, не сыскать было во всем мире. И хоть наша дружба осталась в далеком прошлом, наверное, еще можно все исправить. Как бы мне хотелось ему верить! А вот его посланнику, этому Констанцию, я не совсем доверяю. Что-то их с моим братом Бледой часто видят в последнее время вместе. А там, где Бледа, жди неприятностей — он словно бородач-ягнятник, преследующий стадо… Хочу тебя попросить об одном одолжении. Только учти: дело опасное, так что соглашаться ты не обязан.
— Разве я отказал вам, господин, когда вы попросили меня проследить за Бледой? — горячо воскликнул Баламир. — Опасность, насколько я помню, была и тогда.
— Да, Баламир, ты ничуть не изменился, — рассмеялся Аттила. — Прости — мне не следовало в тебе сомневаться. Что ж, тогда слушай: вот что ты должен будешь сделать…
Глава 33
Атилла просил нас передать императору, чтобы тот дал Констанцию богатую жену, которую обещал, и поручил Максимину передать императору, что Констанций не должен быть обманут в поданной ему надежде, так как царю не приличествует лгать.
Приск Панийский. Византийская история. После 472 г.«Вот это жизнь», — думал Констанций, подъезжая вместе с другими посланниками к Константинополю. Дела его шли в гору: в Константинополь он ехал в ранге специального представителя Аттилы, а если удастся заключить нерушимый мир, получит от восточного императора обещанную награду — богатую и знатную жену. Глядишь, через год-другой вернется домой не лишенным отцовской милости нищим искателем приключений, а преуспевающим и известным человеком.
Вдали показались стены Константинополя: огромный, в сорок футов высотой, с большими квадратными башнями, отстоящими друг от друга на двести футов, бастион, простирающийся почти на пять миль между Золотым Рогом и Мраморным морем. Яркое, незабываемое впечатление произвела на Констанция пестрая кладка из чередующегося с красным кирпичом белого камня. Он напомнил себе, что видит уже новую Стену (первичная была разрушена). Лет сорок назад, после разграбления Рима Аларихом, весь римский мир охватила самая настоящая паника, и нынешний восточный император — а тогда шли первые годы его правления — приказал воздвигнуть эту твердыню более чем в миле к западу от старых стен, благодаря чему защищенными оказались крупные цистерны и множество предместий Константинополя.
Въехав в город по Виа Ауреа, «Золотой дороге», с ее четырьмя бронзовыми слонами и гигантской статуей первого Феодосия, послы и их свита проследовали по главной городской артерии, Мезе, мимо форумов Аркадия, Бычьего (с большой бронзовой фигурой быка, в честь которого он и был назван), Феодосия, Амастриана и Константина — к внушительному комплексу строений, включающему в себя ипподром, императорский дворец и храм Святой Мудрости[45]. От изобилия великолепных публичных зданий — терм, портиков, базилик, храмов и т. д. — и пьянящего смешения старого и нового у Констанция закружилась голова. Бескомпромиссные сооружения династий Константина и Феодосия (многие из них украшали статуи, «позаимствованные» из обеих империй) дисгармонировали с древними постройками времен Септимия Севера, когда сегодняшняя громадная столица была лишь небольшим греческим городком Византием.
Помещенный на квартиру в один из многочисленных блоков императорского дворца, Констанций испытал истинное наслаждение от роскошного римского образа жизни, ни в какое сравнение не шедшего с условиями его проживания в гуннской деревне. Какое же это блаженство, думал он, спать не на куче зловонных шкур, а на настоящей перине; вкушать не жирную баранину, к которой подают скисшее кобылье молоко, а политого медом молочного поросенка, которого ты запиваешь отборным вином. Дни проходили на редкость приятно: релаксация в термах, посещение проходивших на ипподроме гонок на колесницах, заигрывание с придворными дамами, ухаживание за знатной вдовушкой, выбранной в качестве его невесты — женщиной сколь привлекательной, столь же и богатой. Прочие послы для разговоров с хозяевами вынуждены были прибегать к услугам переводчиков; Констанций же, в юные годы изучавший греческий, со всеми общался легко и непринужденно. Знание этого языка помогло ему и в плане сбора информации для Аттилы. Прислушиваясь к бессистемным разговорам и случайным ремаркам, он постепенно составил обширный список лиц, бежавших или дезертировавших из-под юрисдикции Аттилы и нашедших убежище в Восточной империи. Кроме того, Констанцию удалось выяснить, что благодаря усилиям Нома, блестящего магистра оффиций, у северных границ империи появились новые укрепления, а на место погибших солдат прибыли новые гарнизоны. Наконец, на утро шестого дня, на пороге его комнаты возник прибывший из канцелярии главного нотария курьер, который протянул Констанцию перетянутый шелковой лентой свиток. Послание было от Хрисафия: он предлагал специальному представителю Аттилы явиться к нему, во дворец, для беседы к восьми часам следующего дня.
* * *
Присутствовать на встрече Констанция с Хрисафием собирался и Баламир. Поселенный, как и большинство сопровождавших послов лиц, в той части дворца, где жили слуги, он быстро завязал знакомство с гунном по имени Эскам, одним из толмачей, переводивших речи чужеземных посланников. Люди эти относились к категории подчиненных Нома, с которым тесно сотрудничал Хрисафий, поэтому, решил Баламир, Эскаму не составило бы труда узнать распорядок дня евнуха. Он честно сказал Эскаму, что Аттила поручил ему трудную и опасную миссию — подслушать, о чем будут говорить Констанций с Хрисафием (а в том, что такой разговор состоится, Аттила был уверен, так как сам ходатайствовал об этой встрече) — и попросил нового знакомого помочь ему. Испытав чувство гордости за то, что он, простой переводчик, может оказаться полезным великому лидеру его народа (а возможно, и потому, что предложенное Баламиром вознаграждение оказалось весьма значительным), Эскам согласился.
Гунны разработали дерзкий, но простой план. На полученные от Баламира деньги (Аттила позволил тому тратить столько, сколько потребуется), Эскам подкупил одного из дворцовых служащих, поручив тому узнать, где, когда и в котором часу состоится встреча. Страх, который внушало имя Аттилы всем, кто его слышал, был столь велик, что Эскам был убежден в том, что клерк его не предаст. Кроме того, он договорился о том, чтобы Баламира провели в комнату евнуха в то время, когда там никого не будет.
Главной особенностью этого tablinum был огромный шкаф с двумя парами дверец — сверху и снизу. В верхней секции, за открытыми дверцами, хранились всякого рода справочные документы частого пользования: отчеты нотариатов, имперских курьеров, дворцовой стражи и т. д. В нижней части шкафа, за прочными дверцами, пылились тексты, с которыми сверялись очень редко, вроде Кодекса Феодосия, недавно обновленного сборника имперских законов. Решено было поступить так: убрать — на время — все эти редко используемые труды, высвободив тем самым место для Баламира, который, сидя в шкафу, смог бы дышать через щели и слышать все, что говорилось бы в комнате. Конечно, существовала вероятность и того, что во время беседы с Констанцием Хрисафию вздумается поискать какую-либо информацию в одном из лежавших в нижнем отделении томов. Это означало бы разоблачение и неминуемый провал миссии, но Баламир и Эскам решили рискнуть.
В назначенный день, рано утром, до прихода слуг, делавших уборку в комнате, нижняя часть шкафа была очищена от пыльных томов, которые перебрались в ближайшую кладовую, и место их занял Баламир. Устроившись удобнее — насколько позволяло ограниченное пространство, — он тяжело вздохнул; ждать оставалось еще несколько часов.
* * *
Констанция провели в просторную комнату, где на небольшом раскладном стуле сидел неимоверно тучный коротышка, смотревшийся крайне нелепо. Грушевидная, с многочисленными подбородками, голова Хрисафия плавно переходила в бочкообразное тело, — вид евнуха воскресил в памяти Констанция стоявшую в его родительском доме круглую статую из слоновой кости, привезенную, вроде бы, из Китая и изображавшую одного азиатского мудреца, некого Будду.
— Господин, — начал молодой римлянин, поклонившись, — не могу выразить своими скудными словами, как я почтен, что вы снизошли до встречи со столь скромной персоной, каковой, безусловно, я являюсь. — Констанцию все же удалось произнести эту напыщенную и абсурдную фразу, — с обмена подобными, как он уже понял, начинались практически все официальные процедуры восточного двора. К удивлению римлянина, Хрисафий остановил его нетерпеливым взмахом руки.
— Да-да, конечно. Скажи-ка мне лучше, — евнух окинул Констанция оценивающим взглядом, — вдова Арматия, довольно-таки состоятельная женщина, между нами говоря, она тебе как — нравится?
Констанций расслабился: судя по всему, перед ним сидел человек бывалый.
— Очень, господин. И она, и ее деньги, — ответил он с улыбкой.
— Надеюсь, их хватит для ведения той жизни, к которой ты привык, — сухо заметил евнух. — Но перейдем к делу. Думаю, тебе хотелось бы и самому иметь какую-то сумму в кармане, чтобы ни от кого не зависеть, поэтому готов сделать тебе предложение, от которого ты вряд ли сможешь отказаться. Оно таково: ты выполняешь для меня одно, скажем так, «поручение» — и я щедро оплачиваю твои труды. Очень щедро.
— Вы не могли бы уточнить, что значит «очень щедро», господин? — спросил Констанций, заинтригованный. Он-то полагал, что его ждет нудная беседа о приведении в исполнение условий Мира Анатолия, но разговор пошел в другом, неожиданном, направлении, и направление это с каждой минутой нравилось ему все больше и больше.
— Если ты сделаешь то, о чем я тебя попрошу, Константинополь увидит величайшие Игры за всю историю существования этого города. Сумма, которую в обязательном порядке дает на проведение Игр тот из сенаторов, которого избирают консулом, обычно равна двум тысячам фунтов золота. Все они будут твоими. По-моему, вознаграждение более чем достойное.
У Констанция голова пошла кругом. Две тысячи фунтов золота. Баснословное богатство. С такими деньгами он бы до конца жизни купался в роскоши и мог бы не думать о состоянии вдовы, которое с юридической точки зрения и так бы стало его после того, как они бы поженились.
— Как… что я должен буду сделать за эти деньги? — прохрипел Констанций, моментально потеряв самообладание. Какими же талантами я обладаю, спрашивал он себя, если мне готовы платить столько?
— Учитывая твои обстоятельства и опыт, ничего сложного. Убивать приходилось?
Констанций кивнул — у деревушки Хелена он перерезал немало франков.
— И сможешь убить снова? Я имею в виду, убить хладнокровно.
Значит, убийство. Пытаясь взять себя в руки, Констанций сделал глубокий вдох. Должно быть, убийство политическое. За смерть обычных людей такие деньги не предлагают. На одной стороне — две тысячи фунтов золота, на другой — человеческая — не важно, чья — жизнь. Но коль скоро предполагаемая жертва — не друг… Он кивнул.
— Человек этот тебе знаком и не имеет причин не доверять тебе. Возможность остаться с ним наедине у тебя будет. Трудностей возникнуть не должно. Фактически, единственная проблема — выбрать подходящий момент.
— Это — Аттила, не так ли? — выдохнул Констанций.
— Да, Аттила, — подтвердил Хрисафий, — Бич Божий. Не думаю, что, убив его, ты испытаешь сильные угрызения совести, а вот услугу всему миру окажешь величайшую. И не беспокойся: тебе ничто не грозит. Бледа эту… скажем так, «ликвидацию», одобрил. Думаю, он тебе еще и доплатит. Ну что, по рукам?
— По рукам, — сказал Констанций, и все его сомнения улетучились. Аттила для него ничего не значил. Сожалел римлянин лишь об одном, — что подставляет Аэция, человека, которого он уважал и который ему нравился. Но в этом мире каждый должен думать о своих собственных интересах, потому что больше о них думать не будет никто. Такой шанс выпадает не часто. Ответа требовал лишь один вопрос: хватит ли ему смелости и решимости довести все до конца? О, да. Ведь на кону стояли две тысячи фунтов золота!
— Отлично, — оживился евнух. — Обговорим детали. Ты останешься в Константинополе с другими послами до конца дипломатического визита. Веди себя, как обычно, не делай ничего такого, что могло бы привлечь к тебе лишнее внимание. Следуй всем данным тебе Аттилой инструкциям, но запомни: мы с тобой не виделись и не разговаривали. Теперь — твое вознаграждение. Половину получишь вперед, остальное — по выполнении работы. Приемлемо?
— Вполне.
— Тогда золото будет готово ко дню твоего отъезда, вместе с мулами, которые его повезут. Тысяча фунтов, половина от того, что должен пожертвовать на Игры сенатор, желающий стать консулом. — Сделав паузу, евнух нахмурил брови. — Уверен, что так оно и есть… Нет, сверюсь-ка я лучше с «Реестром сенаторов», он у меня в шкафу лежит, где-то внизу.
— Не стоит, господин… в этом нет необходимости, — запротестовал Констанций. Теперь он мог позволить себе проявить пренебрежение к подобным мелочным спорам. — Достаточно и вашего слова.
— Что ж, замечательно, — воскликнул Хрисафий, вставая. — Желаю приятно провести время в Константинополе. — Разговор был окончен.
Несколько часов спустя, окостеневший и потрясенный, Баламир выбрался из своего убежища. В голове занозой сидела одна мысль: как сохранить услышанное в тайне на протяжении остававшихся до конца визита нескольких дней?
Глава 34
Не желаешь, чтобы тебя обманывали? Так не обманывай других.
Дион Хризостом. Наставления. 388 г.— Превосходно, посланник, просто превосходно, — тепло и сердечно произнес Аттила, когда Констанций поделился с ним добытой в Константинополе информацией. — Всего за пару недель тебе удалось добиться большего, чем сделали все прочие мои представители с того самого дня, как был заключен мир. Поэтому, в знак моей глубокой признательности, изволь принять небольшой подарок, — с этими словами Аттила протянул римлянину массивную золотую цепь, с которой свисал огромный рубин, отбрасывавший во все стороны красноватые блики, словно вечный огонь.
«Лучшей возможности уже не представится, — подумал Констанций. — Как только цепь окажется у меня в руках, я стану полностью беззащитен и не смогу отразить внезапный удар». Настал момент проявить решимость и бесстрашие. У деревушки Хелена, в пылу битвы, он убивал легко и без промедления. Но заколоть человека хладнокровно, лишить жизни того, кто к тебе благоволит и тебе доверяет — совсем другое дело. Сложность еще заключалась и в том, что за все время беседы Аттила ни разу не повернулся к нему спиной, а в честном бою, лицом к лицу, Констанцию убивать не доводилось.
— Ты кажешься обеспокоенным, мой юный друг, — добродушно заметил Аттила. — Что привело тебя в такое волнение?
— Все в порядке, господин, — прохрипел в ответ Констанций внезапно осипшим голосом. — Просто… просто вы слишком добры ко мне, господин. — Теперь или никогда. Ладони его вспотели, сердце рвалось из груди. Констанций сделал несколько шагов в направлении короля. Склонив голову, словно в ожидании того, как на шею опустится цепь, он выхватил из-под далматика кинжал и резко выкинул руку вперед, целясь Аттиле в живот. К ужасу и удивлению Констанция, в ту же секунду он услышал, как хрустят его пальцы; боковым зрением, не находя себе места от боли, заметил, как куда-то в сторону летит его клинок. Забыв о цепи, Аттила медвежьей хваткой сжал запястье римлянина, выворачивая тому руку. Кинжал еще продолжал бряцать по полу, а Аттила уже кричал: «Стража!» В мгновение ока в комнату ворвались вооруженные воины, и уже через несколько секунд Констанций лежал ничком перед Аттилой со связанными за спиной руками.
— Кольчуга, которую делают мастера-оружейники в Ратиарии — а такую теперь ношу и я, — прекрасного качества. Я давал тебе шанс, римлянин, — пророкотал Аттила, с сожалением качая головой. — Был бы ты честен со мной — сохранил бы золото Хрисафия, получил мое благословение и вернулся на Запад с невестой, живой и невредимый. Как видишь, мне известно о твоем уговоре с Хрисафием. Две тысячи фунтов золота — неужели ты, Констанций, ценишь мою жизнь так дешево? Тебе следовало запросить впятеро большую сумму — и ты получил бы ее без вопросов. — Гунн невесело рассмеялся. — Зря ты не позволил Хрисафию заглянуть в шкаф.
— Так значит, за мной следили? — прохрипел Констанций.
— Ну а как же! Тот, кто хочет обмануть Аттилу, должен быть гораздо лучше обучен искусству предательства, нежели ты, мой друг. Не желаешь ли ты поведать нечто такое, что смогло бы убедить меня сохранить тебе жизнь?
— Я лишь орудие в чужих руках, господин, молю вас, верьте мне, — в отчаянии воззвал к Аттиле Констанций. — Я ничего не знал о заговоре до тех пор, пока Хрисафий не заговорил со мной. То была его идея — его и вашего брата Бледы.
— Это мне уже известно, — произнес Аттила тем тоном, каким снисходительный землевладелец выговаривает не выполняющему своих обязательств арендатору. — Расскажи мне о том, чего я не знаю.
— Аэций, господин, — он тоже хотел бы видеть вас мертвым, — пробормотал Констанций, хватаясь за соломинку. — За этим и послал меня к вам.
— Ты лжешь, римлянин. Аэций никогда не возжелал бы моей смерти. Без моих солдат ему не сдержать федератов. Даю тебе последний шанс.
— Но это правда, клянусь! — вскричал Констанций, судорожно пытаясь отыскать в закромах своей памяти то, что могло бы послужить подтверждением его слов. — Он убежден в том, что, закончив опустошать восточные земли, вы обратите свой взор на запад. Федератов он боится гораздо меньше, чем гуннов. По его словам, несмотря на то, что федераты могут быть неуправляемыми и вероломными, они, по крайней мере, не вырезают целые селения и не превращают целые провинции в выжженные пустыни. «Если Аттилу не остановить, города Италии и Галлии повторят судьбу Сирмия и Сингидуна», — видит бог, такими были его слова, господин.
«А что, похоже на правду», — подумал Аттила; мозг его разъедали черви сомнения. Откуда Аэцию знать, что лишь обстоятельства вынудили его пойти войной на Рим, вынудили против его воли? Откуда ему знать о том, что лишь ради спасения их давней дружбы он вторгся в Восточную империю, оставив в покое Запад? По всей вероятности, Аэций, пребывавший в блаженном неведении о попытках Бледы узурпировать власть брата, усмотрел в нашествии гуннов на Восток ничем не вызванную агрессию, а не то, чем в действительности оно являлось, — актом политической необходимости, к которому Аттилу подтолкнула борьба за лидерство. Любой сторонний, более или менее знакомый с военным делом наблюдатель мог бы решить, что вторжение гуннов на Запад — лишь вопрос времени, и не более того.
— Я склонен верить тебе, римлянин, — медленно, растягивая слова, произнес Аттила. — Но то, что ты мне поведал, тебя не спасет. Впрочем, тебе, возможно, приятно будет узнать, что я намерен пожаловать тебе ту же смерть, которой умер ваш христианский бог. Когда тебя прибьют к кресту, подумай над словами, которые, по-моему, именно он и сказал: «Кесарю — кесарево». Распните его, — приказал он стражникам, устало улыбнувшись.
* * *
Тоска и печаль обуяли оставшегося наедине со своими мыслями Аттилу. Так вот, оказывается, как все обстоит, думал он. Зная о том, как сильно я хочу видеть Скифию сильной и могущественной, Аэций — а я еще считал его своим другом! — воспользовался этим со всем присущим ему хладнокровием и расчетливостью. Они с Констанцием, этим мелким, продажным тваренышем, вдребезги разбили мои грезы, несбыточные уже, увы, мечты о величайшей империи на земле. И я, Аттила, Бич Божий, чьи хитрость и коварство сравнимы с моими триумфальными победами, клюнул на его удочку! Лишь чудо — хоть что-то римляне умеют делать! — спасло меня, потерявшего бдительность и как нельзя невовремя снявшего охрану, от клинка Констанция, не позволив сбыться коварным планам римлян, кои столь топорно пытались провести в жизнь Бледа и Хрисафий.
Теперь уж не до мечтаний! Иллюзии лишь расслабляют и отвлекают — довольно! Война — вот что, отныне и впредь, ждет римлян! Смерть и разрушение, грабежи и подати — таков теперь мой девиз! Рим дорого заплатит за вероломство. Когда Восток отдаст всю дань, настанет очередь Запада!
* * *
Дикими криками оглашал степь Констанций, когда в него, один за другим, вбивали гвозди — в плечи, запястья, бедра, лодыжки. После того как крест вкопали в землю, он уже не кричал. Тело его обвисло, грудь сжалась настолько, что он едва мог дышать. Взывая к матери, Констанций начал отходить в иной мир.
Глава 35
Аттила убил своего брата Бледу и завладел его землями.
Марцеллин Комит. Хроника. 450 г.По возвращении посланников из Константинополя Бледа счел за благо укрыться в расположенной неподалеку от главного поселения гуннов деревне своей жены, денно и нощно ожидая сведений о смерти брата, после которой он смог бы провозгласить себя полноправным и единственным правителем. Хрисафий заверил его как в надежности Констанция, так и в страстном желании того претворить задуманное в жизнь. Вот почему, узнав о том, что Аттила желает видеть его в своем дворце, причем немедленно, Бледа ощутил сильную тревогу: стало быть, их заговор раскрыт или потерпел неудачу и о его участии в комплоте Аттиле известно. Но затем, поразмышляв немного, он решил, что беспокоиться все же не о чем: по всей видимости, Констанцию просто-напросто еще не представилось подходящей возможности умертвить Аттилу. «Если бы брат действительно подозревал меня в том, что я хочу его убить, — думал Бледа, — здесь бы уже было полным-полно стражников, готовых его арестовать. И уж, конечно же, мне не следует вести себя так, как ведут себя люди виновные, которые в каждом незначительном происшествии видят доказательство того, что их преступление раскрыто. В любом случае, не исполнить требование Аттилы я не могу. Не откликнусь на его просьбу — сразу же возникнут подозрения, а вот этого-то мне и не нужно».
Аттила оказал брату столь теплый и сердечный прием в своих покоях, что опасения Бледы рассеялись окончательно. Удобно устроившись на мягких сиденьях, попивая римское вино и поедая сочнейшие персики из фруктовых садов Колхиды, братья долго говорили о последних решениях Совета, выгоне стад на новые пастбища, мерах, которые следовало принять для приведения в исполнение условий Мира Анатолия. В конце беседы Бледа, убежденный в том, что Аттиле о заговоре ничего не известно, почувствовал себя в такой безопасности, что рискнул расспросить брата о Констанции — вроде как непроизвольно.
— Как там поживает твой молодой римский посланник, брат? Если не ошибаюсь, на его переговоры с Хрисафием ты возлагал определенные надежды?
— А, ты имеешь в виду Констанция? Да, он блестяще со всем справился. Кстати, — Аттила щелкнул пальцами, словно только что о чем-то вспомнив, — я позаботился о том, чтобы ты мог с ним встретиться.
Слова брата привели Бледу в полное замешательство. О его связях с Констанцием Аттила не должен был даже и догадываться. Зачем же брат решил устроить их встречу?
— С чего ты взял, что я хочу его видеть — или он меня?
— Ну а почему бы вам и не встретиться? — загадочно произнес Аттила, отворяя закрывавшие окно ставни. — К сожалению, почтить нас своим присутствием ему вряд ли по силам, но с того места, где я стою, ты сможешь сказать ему все, что захочешь.
Внезапно Бледу обуял дикий страх; подскочив к раскрытому окну, он выглянул наружу. Внизу, в покрытом травой загоне, обычно объезжали лошадей. Сейчас же в самом центре огороженной площадки высился деревянный крест, на котором был распят корчившийся от боли и слабо стонавший юноша — Констанций.
— Зачем ты мне это показываешь? — закричал Бледа, в ужасе отпрянув от окна.
— Думаю, ты и сам знаешь ответ, брат. Не думал же ты, что, будучи уличенным в измене, Констанций станет тебя покрывать?
— Покрывать меня, брат? — прокричал Бледа, отчаянно пытаясь справиться с накатившим на него страхом. — Не знаю, что там он наплел тебе про меня. Скажу лишь одно: что бы это ни было — все это ложь.
— Избавь меня от твоих оправданий, — устало произнес Аттила. — О вашем с Хрисафием заговоре мне известно все. Когда посланники ездили на Восток, один из моих шпионов слышал, как он уговаривал Констанция убить меня. Знаю я и том, какова была твоя роль во всем этом. Кстати, последнее письмо евнуха, содержание которого неоспоримо свидетельствует о твоей вине, я прочел еще до того, как ты его получил. — Подойдя к сундуку, Аттила вынул из него небольшой флакон и причудливой формы стеклянный сосуд, наподобие бараньего рога. Вылив содержимое флакона в рог, он поместил сосуд на стоявшую на столе специальную подставку. — Даю тебе шанс, брат. Ты еще можешь умереть достойно, и о твоем предательстве никто не узнает. Впрочем, если хочешь, можешь попытаться опровергнуть обвинения в измене — тогда мы созовем Совет, который тебя и выслушает. Не думаю, правда, что это будет иметь какой-то смысл: мы оба отлично понимаем, что уйти от наказания у тебя не получится, а каким оно будет, догадайся сам.
Перед глазами встала сцена, свидетелем которой ему доводилось быть не раз: между выстроившихся в два ряда, вооруженных дубинками воинов бегает приговоренный к смертной казни преступник, чье тело уже через несколько секунд начинает походить на кровавое месиво.
— Выбор за тобой, брат, — тихо сказал Аттила, направляясь к двери.
— Что там? — прохрипел Бледа, указывая на рог, примерно на четверть наполненный полупрозрачной жидкостью.
— Болиголов. По сравнению с распятием на кресте или прогоном сквозь строй приносит милосердную и, что немаловажно, безболезненную смерть. Сначала ты почувствуешь слабость, попытаешься идти — не будут слушаться ноги. Потом у тебя начнут неметь конечности, еще через несколько минут паралич охватит все тело, легкие перестанут работать, и ты умрешь от удушья. К подобной смерти был приговорен один грек, некто Сократ — его обвиняли в развращении юношества. Вполне подходящая смерть для тебя, человека, толкнувшего на преступление Констанция. Завтра, когда вернусь, надеюсь обнаружить тебя мертвым либо умирающим — иначе тебе придется предстать перед Советом. Бежать даже не пытайся; комната будет заперта. Пусть твоя последняя ночь принесет тебе мир и покой, брат.
После ухода Аттилы Бледа долго еще сидел, завороженно пожирая глазами оставленный на столе рог. Часы шли за часами, ярко светившее днем солнце уступило место на небе неярко мерцавшим звездам, тихо стонал за окном Констанций, а Бледа все не мог принять какое-либо решение. Несколько раз он приближался к столу с протянутой рукой, но каждый раз в ужасе отдергивал ее в последнюю секунду. Страх и напряжение давили на него столь сильно, что в конце концов его склонило ко сну. Спал Бледа беспокойно и проснулся с первыми серыми лучами света, проникшими в комнату сквозь закрытые ставни. Крики Констанция к тому времени уже смолкли. Умер, подумал Бледа, а значит, обрел покой. Покой. Можно, конечно, продлить жизнь на несколько часов, долгих, ужасных часов, отказавшись пить болиголов, но что это даст?.. Так или иначе, мне конец, подумал Бледа. Решившись, он закрыл глаза и, схватив рог, осушил его одним махом. Вскоре во всех его членах началось неприятное покалывание, сменившееся повсеместным онемением…
* * *
Оплакивать Бледу не стали. Его вклад в достижения двойной монархии был незначительным и не шел ни в какое сравнение с выдающимися подвигами брата. Тем не менее, пусть при жизни Бледа и был никчемным правителем, похоронили его со всеми подобающими королю гуннов почестями. Даже если кто-то и подозревал о том, что Аттила приложил руку к смерти родного брата, вслух об этом не говорили — скорее не из страха наказания, а из обычного безразличия. Ни любовью, ни уважением соплеменников Бледа не пользовался, а факт обладания Священным Скимитаром ставил Аттилу в один ряд с небожителями.
Так Аттила стал единственным правителем гуннов, бесспорным властелином государства, простиравшегося от Визургиса на западе до Окса на востоке, от Скандии на севере до Персии на юге. Теперь он, казалось бы, мог спокойно наслаждаться своей властью. Но удовлетворения Аттила не чувствовал — его мечты о величии гуннского народа потерпели крушение, и надежд на то, что что-то еще можно исправить, он уже не питал.
Глава 36
К Эгидию[46], трижды консулу, взывают бритты.
Гильда. О погибели Британии. Конец V в. или начало VI в.Буря, на протяжении многих дней бушевавшая над Британией и вынудившая двух орланов сорваться с насиженных мест над камбрийскими клифами и долететь почти до побережья Галлии, наконец угомонилась. Порывы ветра утихли; орланы вновь обрели способность камнем падать вниз и воспарять. Поймав струю постоянного воздуха в нескольких тысячах футов от узкого Галльского пролива, соединявшего берега Галлии и Британии, они повернули на северо-запад и, медленно, величественно помахивая огромными крыльями, полетели обратно, к своим гнездам.
С высоты их полета легко можно было бы разглядеть все британское саксонское побережье, с его цепью фортов и укреплений, тянувшихся от Эстуария Метариса до острова Вектис: Бранодун, Гараннон, Регульбий, Рутупие, Порт Дубрис, Андериду и огромный Порт Адурни. Более полутора сотен лет эти массивные сооружения сдерживали наскоки голубоглазых язычников-пиратов со всего Германского океана. Теперь же, за исключением малочисленного и давно не получавшего жалованья контингента limitanei, отбивать атаки морских разбойников было некому. Эти второсортные пограничные войска представляли собой все, что осталось от британской армии после того, как узурпатор Константин (самопровозгласивший себя Третьим) увел более полувека назад легионы в Галлию; увел, чтобы уже не вернуть.
Лишившись единого командующего, в роли которого выступал назначаемой Равенной комит саксонского побережья, форты стали не более чем изолированными укреплениями, между которыми налетчики-саксы могли беспрепятственно проводить свои суда в бухты и эстуарии, что позволяло им разорять уже и удаленные от моря территории страны. Организовать сопротивление оказалось некому, и расположенные у прибрежной полосы земли быстро поросли вереском и кустарниками, так как люди покидали этот район, мигрируя на запад или находя убежище за крепкими стенами городов. На прекрасных дорогах, по которым некогда эхом разносилась тяжелая поступь римских когорт, теперь росла трава; лисы и барсуки обустраивали берлоги в покинутых усадьбах, а на мозаичных полах покосившихся вилл разводили костры случайно забредшие туда бандиты.
Если бы орланы посмотрели вниз, то увидели бы, как, вслед за ними, ползут по беспокойному морю в направлении британского побережья три маленькие точки.
* * *
«Флавия Аэция, Патриция, Магистра Армии всей Галлии, трижды Консула, приветствует Амвросий Аврелиан. Будучи вашим другом и согражданином, смиренно прошу вас внять моей просьбе, с коей обращаюсь я от лица несчастных жителей нашего острова, беззащитных овечек, изводимых саксонскими волками….».
Амвросий с отвращением отложил стиль в сторону. И это все написал он? Тупым концом стиля он стер все, что было написано на вощеной дощечке. В поисках вдохновения Амвросий начал расхаживать взад-вперед по верхней комнате одного из постоялых дворов Новиомага, который он, будучи consularis провинции Максима Цезарейская, превратил в свой штаб. Амвросий рассмеялся про себя. Consularis Максимы Цезарейской! Бессмысленный эвфемизм, выдернутый из имперского прошлого и дарованный ему оставшимися декурионами Новиомага, означал, что он является правителем области, занимающей весь юго-восток Британии. По сути, конечно, он был всего лишь удачливым военачальником, чьи владения, в зависимости от обстоятельств, простирались от Галльского пролива до Тамесы (если смотреть на север) и от Кантия на востоке до расположенных неподалеку от Сорбиодуна древних Висячих Камней[47] на западе. Своим положением, судя по всему, он был обязан как тем способностям и умением, которые он проявил сначала на посту советника, затем — мэра, и позднее — лидера оппозиции, так и таинственности, которую ему придавала принадлежность к сенаторскому сословию, и тому факту, что он был римлянином из прославленной консульской фамилии — настоящим римлянином, а не каким-то кельтским вождем с показным Romanitas.
Взор его обратился к северу, где над красными крышами аккуратных городских домов, на горизонте, уходили ввысь, к небу, меловые вершины горной цепи, купавшиеся в теплых лучах летнего солнца. Но за этой идиллической картиной скрывалась мрачная реальность. За крепостной стеной — там, где раньше были лишь гравийные карьеры и кладбища, — простиралась широкая полоса возделываемых земель; вследствие того, что сельское население все больше и больше стремилось в город, центры производства и распределения продовольствия переместились с вилл практически к городским воротам. Те же далекие горные склоны, на которых когда-то мирно щипали траву овцы, были теперь обезображены ползучими кустами папоротника-орляка и дрока.
Возникший в дверном проеме слуга, сопровождаемый незнакомцем в одеждах церковника младшего ранга, вывел Амвросия из задумчивости.
— Вам сообщение, господин, — объявил слуга на путаной латыни и удалился. Амвросий вздохнул. Жаль, что Британия, почти четыре столетия бывшая частью империи, столь стремительно отказывается от наследия Рима. Тот, кому бы довелось теперь услышать на улицах латынь, по праву мог бы считать себя счастливчиком; все вернулись к родному британскому языку, разговаривать на котором до потери диоцеза избегал всяк имевший социальные или политические амбиции. Римская одежда тоже оказалась фактически забытой — наряду с такими «изысканностями», как купальня, центральное отопление, обед из трех блюд и чтение классиков. Показательно, кисло подумал Амвросий, что он даже не может найти нотария, которому мог бы диктовать письма на языке Цицерона и Клавдиана.
Улыбаясь, Амвросий вопросительно взглянул на церковника.
— Ваша честь, меня прислал епископ Аутиссиодора, — сказал тот, — которому я служу в качестве простого чтеца. Епископ, который находится сейчас с официальным визитом в Британии и будет в ближайшие часы в этих местах, интересуется, может ли он воспользоваться вашим гостеприимством.
Герман здесь, в Британии! У Амвросия голова пошла кругом от радости: вскоре он снова увидит своего старого друга и согражданина! Но уже в следующую секунду Амвросий пришел в оцепенение. Как же он будет встречать столь высокого гостя и его неизбежную свиту? С Германом, несомненно, приедет множество священников, диаконов, иподиаконов, псаломщиков, заклинателей, чтецов и певчих.
Отпустив церковника с приветственным посланием епископу, Амвросий начал налево и направо раздавать приказы: следовало позаботиться о еде и квартирах для гостей. Сам он жил в условиях, которые скорее подходили человеку военному, нежели высокому представителю Церкви; тем не менее он должен был сделать все возможное для того, чтобы не осрамиться перед своими гостями. Амвросий с тревогой взглянул на свою одежду: мешковатые британские брюки (не очень чистые), грубая туника с пестрым узором… Приветствовать епископа Аутиссиодора — к тому же, сенатора — в подобном виде он не может. Но ото всех своих далматиков он отказался, так как они рвались, будучи абсолютно непрактичными для той активной солдатской жизни, которую он вел. Тут у Амвросия немного отлегло от сердца: он вспомнил, что сохранил свою сенаторскую тогу, за ненадобностью отложенную много лет назад в сундук. Отшлифовав щеки пемзой из последней партии товара, прибывшего из Галлии за пару дней до того, как торговля была закрыта, он облачился в благородное, хотя и архаичное, одеяние, и, тщательно разгладив все складки, приобрел вид внушительный и степенный.
* * *
— Герман, друг мой! — к горлу Амвросия подкатил комок, когда они тепло обнялись с епископом. — Давно же мы не виделись! Лет семнадцать? Помнишь, как в свой первый приезд сюда, после того, как ты доказал ложность пелагианской ереси, во главе британского войска пошел ты против пиктов и саксов? Один громоподобный ваш крик «Аллилуйя» обратил их в бегство! — Внешний вид друга немало поразил Амвросия. Когда он видел Германа в последний раз, тот был дородным и румяным, то есть выглядел, как и подобало выглядеть правителю провинции, пусть и бывшему. Теперь же перед Амвросием стоял человек, исхудавший до истощения, что, несомненно, являлось результатом той аскетической жизни, которую вел теперь Герман. Вместо богато украшенного епископского облачения, которое Амвросий полагал узреть, друг его носил порыжевшее черное платье, а на смену прежним грубовато-сердечным манерам пришла самоуничижающая кротость.
— Той победой мы обязаны, скорее, местности, где все происходило, нежели моим действиям, — скромно отвечал епископ. — Понимаешь, я заранее знал, что окружающие холмы обеспечивают впечатляющее эхо. И когда мы все, в едином порыве, закричали «Аллилуйя», бедные варвары, наверное, решили, что численно мы многократно их превосходим, и решили в сражение не вступать. Но все это — в прошлом. — Он печально улыбнулся. — Хоть я и вижу, что вера в людях по-прежнему сильна, многое в Британии изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Тогда во всех городах были свои декурионы и епископы, благодаря которым работали, хоть и небезупречно, публичные службы. Теперь же ничего этого нет. Просвети меня, друг мой.
— Старая имперская система больше не функционирует, — подтвердил Амвросий, протягивая Герману наполненную до краев чашу. — Британское пиво; вина из Галлии, боюсь, здесь теперь не достанешь. Много раз я обращался в Равенну с просьбой вернуть в диоцез армию, но в Галлии сейчас такое творится, что, похоже, свободных войск у них просто нет. По крайней мере, пока. Все здесь вернулось к полуклановой системе автономных регионов, только теперь ими управляют не наследственные вожди, а местные военачальники. — Он криво улыбнулся. — Я, например. Севером и Камбрией правит Кунедда. Его сыновья Кередиг и Мейрон тоже получили по куску земли. В Кантии господствует Вортигерн. Тот еще глупец — обратился к саксонским вождям Хенгесту и Хорсе с просьбой помочь ему разобраться с его врагами. — Амвросий безнадежно подернул плечами. — Все равно, что просить волков защитить овец.
— Ну а если б вы объединились и вместе выступили против общего врага?
— Тогда б мы без труда выдворили саксов отсюда, — с чувством сказал Амвросий. — Не говоря уже о каледонских пиктах или скоттах из Гибернии. — Он вздохнул. — Но этому никогда не бывать. Разобщенность всегда была ахиллесовой пятой кельтов, от Верцингеторикса и Будикки до наших дней. — Помолчав, он мрачно продолжил. — В любом случае, думать об этом уже поздно. То, чего мы так боялись, уже началось.
— Правильно ли я тебя понял — adventus Saxonum?
Амвросий кивнул.
— Да, нашествие саксов. И это не просто набеги, они скоро будут жить на наших землях. Позволь, я расскажу тебе о том, что случилось в Андериде.
* * *
Патрульные из Numerus Abulcorum, размещенного в Андериде подразделения limitanei, недобрым словом поминали начальство: накануне им выдали хранившиеся прежде на складе тяжелые и непривычные шлемы и кольчугу, — по случаю участившихся набегов саксов. Молчал лишь пожилой Людвиг, жесткий и крутой нравом германец; когда-то он был laetus, военнопленным, но получил свободу и небольшой надел земли в обмен на военную службу под знаменами Рима. Людвиг своими глазами видел, как уходили с этих земель легионы при узурпаторе Константине, и был убежден, что в один прекрасный день они вернутся. «Орлы вернутся, парни, — говорил он время от времени. — Возможно, не в этом году, но скоро. Вернутся — попомните мои слова».
Заметив, что солдаты разбрелись вдоль береговой линии, кто куда, biarchus приказал подать сигнал к возвращению: в форт патруль должен был вернуться, хотя бы изображая полную боевую готовность. Но не успел трубач поднести рог к губам, как из соснового бора выскочил солдат из передового отряда разведки. Энергично размахивая руками, он призывал к тишине.
— Саксы! — выпалил он, добежав до патруля. — Приближаются к берегу на трех баркасах, примерно в миле от-сюда.
Biarchus тут же отдал необходимые распоряжения: убрать патруль с побережья — чтобы враг не заметил; а затем подойти к месту высадки с той стороны, где густо растет папоротник. Так и поступили. Три большие клинкерные весельные лодки со степсами, в которые при желании и наличии оных можно было вставлять мачты, причалили к берегу. Взорам патруля предстало на удивление домашнее зрелище: несколько мужчин, помогающих сойти на берег женщинам и детям; мальчики с плетеными из корней растений мячами; корзины с провизией; связанные в узел инструменты труда; пронзительно лающий щенок.
— Выглядят вполне… невинно, — пробормотал юный солдатик.
— Выглядят невинно, согласен, — ответил biarchus. — Но не факт, что они такие на самом деле. С набегами мы еще как-то справляемся — пока. Но поселенцы — совсем другое дело. Эти люди хотят забрать нашу землю. Вскоре полные саксов лодки будет приносить сюда любой дующий с востока ветер. Вопрос стоит так: или мы, или они — иного не дано.
— То есть… мы их всех убьем? Даже женщин и детей? — выдохнул солдатик в ужасе.
— Именно так, парень, — мрачно улыбнулся biarchus. — Буду с тобой честен: мне это нравится не больше, чем тебе. Но не забывай: маленькие волчата вырастают в волков.
Жестами biarchus приказал патрулю рассредоточиться по берегу, образуя полукруг, затем скомандовал наступление.
Бойня была скорой и тотальной. Окруженные, застигнутые врасплох саксы не имели ни единого шанса и погибли там, где и стояли. Единственным выжившим оказался щенок, которого молодой солдатик спрятал под своей туникой. Лодки закидали камнями и потопили.
— Мы что, их даже не похороним? — послышался чей-то нерешительный голос. — Может, они и не были христианами, и все же…
Biarchus покачал головой.
— Оставьте их. Разбросанные вдоль берега волнами, их тела будут служить предупреждением вновь прибывшим.
Патруль был уже у Андериды, когда один из солдат заметил в небе две точки, медленно перемещавшиеся на северо-запад.
— Людвиг, ты был прав, — рассмеялся он. — Твои орлы вернулись.
* * *
— Начать следует с чего-то сильного и понятного, — сказал Герман, помогавший Амвросию переписать письмо, которое тот собирался послать Аэцию. — Вот, послушай, — предложил он после небольшой паузы. — «К Аэцию, трижды консулу, взывают бритты…».
Глава 37
Даже Афина Паллада вряд ли смогла бы воздвигнуть столь несокрушимую твердыню.
Надпись на стенах Константинополя, служащая напоминанием об их перестройке префектом претория Константином в 447 г.— Хорошо, — проворчал стоявший рядом с Аспаром Арнеглиск, когда vexillatio тяжелой конницы, альбигойские катафрактарии, прогромыхали мимо. То было последнее из подвергнутых в тот день инспектированию подразделений восточной армии, собравшейся в полном составе на безбрежной равнине у Маркианополя, столицы провинции Вторая Мезия и одного из крупнейших городов Фракии. — По правде говоря, должен признать, очень хорошо, — сухо добавил он. — Поздравляю, ты отлично поработал.
— Благодарю вас, господин, — ответил Аспар, правая рука магистра армии. Перемены, произошедшие с Арнеглиском после поражения у Херсонеса Фракийского, не могли его не радовать. Судя по всему, этот высокий германец сделал из допущенных им в той битве ошибок кое-какие выводы; выслушав порцию беспощадной критики, на которую Аспар и Ареобинд, еще один из заместителей главнокомандующего, не поскупились, он позволил им самим заняться строительством новой армии из остатков того, что уцелело в той кровавой бойне.
Потерпев поражение, восточные римляне вынуждены были просить Аттилу о мире. Все три следующих года после того, как Анатолию, восточному ветерану-полководцу, удалось склонить вождя гуннов к подписанию мирного договора, Аспар и Ареобинд творили самые настоящие чудеса в наборе рекрутов и их обучении, практически с нуля создав армию, уже сейчас готовую оказать гуннам достойное сопротивление. Во всех же прочих отношениях — даже если не считать огромной дани, которую Восток выплачивал гуннам по условиям соглашения, — то были ужасные времена. Зима того года, когда был заключен Мир Анатолия, выдалась столь суровой, что перенесли ее не все; в Восточной империи значительно сократилось как поголовье скота, так и численность населения. За холодами последовали сильнейшие наводнения, смывавшие целые деревни; в столице начались волнения, чума и перебои с поставками продовольствия. Восточным и южным границам империи угрожали персы, исаврийцы, сарацины и эфиопы. Тем не менее, несмотря на природные катаклизмы, набеги гуннов и враждебно настроенных соседей, Восток устоял. У империи появилась новая, хорошо обученная и оснащенная армия; благодаря Ному, магистру оффиций, у берегов Данубия, на иллирийском направлении, возникли новые укрепления и дополнительные гарнизоны. Крестьяне и лавочники (не испытывающие такого давления со стороны сборщиков налогов, как их западные собратья), столкнувшись с чередой катастроф, проявили похвальную устойчивость и прочность. Возможно, с надеждой подумал Аспар, худшее уже позади, и этот год, год консульства Аэция (третье) и Симмаха, станет переломным в судьбах Востока. Но этим надеждам не суждено было сбыться.
* * *
Ближе к концу года по империи поползли слухи, что на северо-западе собираются штормовые тучи; поступали донесения, что Аттила готовит своих воинов ко второму вторжению на Восток. Затем, двадцать шестого января нового[48] года, разразилось самое настоящее бедствие: в ночь, когда за окном бушевала ужасная буря, жители Константинополя проснулись от сильнейшего землетрясения.
Константин, префект претория, в ту ночь не спал, — рассматривал в своем кабинете во дворце один запутанный правовой вопрос. Оглушенный страшным грохотом, он увидел, как под ногами его вздымается мозаичный пол; оказавшись выброшенным из-за стола, префект больно ударился о стену. Не веря своим глазам, Константин наблюдал за тем, как, словно деревья в бурю, гнутся украшавшие залу колонны. Выбравшись из здания за секунды до того, как оно превратилось в груду камней, Константин с ужасом осознал, что спасся лишь чудом. При лунном свете и стеной стоявшем дожде, представшая его взору картина напоминала описанную Вергилием в «Энеиде» преисподнюю: внизу, прямо под ним, трясся, и все же стоял огромный ипподром, но дальше, у порта Юлиана на Пропонтиде, строения качались и опрокидывались, словно сооруженные неумелыми детскими руками кирпичные домики, и повсюду, где падала каменная кладка, раздавались дикие крики и стоны погребенных под обломками людей. Борясь с инстинктивным стремлением тут же начать организовывать спасательные команды, Константин побежал на запад, к волноломам, — ввиду отсутствия на его пути крупных построек, продвижение к ним представлялось префекту относительно безопасным. Как городской глава, Константин отвечал не только за принятие юридических и финансовых решений, но и за содержание в должном состоянии оборонительных сооружений, наиболее значимым из которых была Стена Феодосия, главный гарант безопасности столицы.
Толчки и зловещее громыхание прекратились так же внезапно, как и начались, сменившись не менее шокирующими — по контрасту — тишиной и безмолвием. Пробираясь вдоль волноломов, которые, на первый взгляд почти не пострадали, Константин поспешил к портам Контоскалион и Элефтерия. Золотых ворот Стены Феодосия он достиг уже на рассвете. Первые лучи солнца открыли ему ужасное зрелище: не только ближайшие к нему башни, но и пролегавшие между ними участки крепостного вала превратились в груды кирпича и камня. Обойдя бастион, Константин не смог сдержать громкого стона: пятьдесят восемь из девяноста шести крепостных башен оказались разрушенными — оставалось лишь послать врагу приглашение! И это притом, что войско Аттилы уже собиралось по ту сторону Данубия…
То был момент величайшего кризиса, но Константин не растерялся. Так или иначе, но ему нужно было найти решение казавшейся неразрешимой проблемы: как восстановить Стену до того, как перед ней появятся гунны? Необходимого для завершения работы в кратчайшие сроки количества строителей и каменотесов не удалось бы отыскать не то что в Константинополе — во всей Фракии… И тут ему в голову пришла дерзкая идея, одно из тех озарений, что способны изменить ход истории. Первой реакцией Константина было гнать эту мысль прочь; она была столь безумной, что просто не могла сработать. Но чем больше он над ней размышлял, тем сильнее убеждался в том, что, возможно, она и сработает. В любом случае, терять ему было нечего. Будь что будет, решил Константин, и, собрав вместе лидеров противоборствующих цирковых группировок, Голубых и Зеленых, обратился к ним из Кафизмы, императорской ложи, расположенной на восточной трибуне Большого ипподрома: неслыханная вольность, карающаяся смертной казнью, но был ли у него иной выход?
— Господа, я собрал вас здесь для того, чтобы сообщить три новости, — начал Константин. — Первая: Стена разрушена более чем наполовину. Вторая: нас вот-вот атакуют гунны. Третья: Стену необходимо восстановить до появления здесь Аттилы, а более организованных и влиятельных людей, чем вы, мне не найти. Есть лишь одна проблема…
— … мы не очень-то любим друг друга, — закончил за префекта один из слушателей. — Да, мы на дух друг друга выносить не можем. — По арене пронесся одобрительный гул.
— Это — как минимум, — несмотря на гнетущие обстоятельства, Константин нашел в себе силы улыбнуться. Жесткий прагматик, способный, когда речь заходила о принятии быстрых и ответственных решений, отбросить в сторону суету и волнение, он без труда уловил настроение собравшихся. То были суровые, энергичные, боевитые люди, всегда готовые к сражению, живущие ради денег и наслаждений. Наиболее эффективный способ заразить этих людей энергией, решил префект, — это свести их друг против друга в качестве соперничающих команд, каждая из которых будет ответственна за свой участок рухнувшей Стены. Вынесенное им на суд присутствующих предложение получило полное и безоговорочное одобрение. От столь захватывающего противоборства, которое, вдобавок ко всему, должно было происходить в условиях смертельной гонки со временем, ни Зеленые, ни Голубые отказаться просто не могли.
— Если все согласны, вот мой план, — продолжал Константин. — У многих из вас во время землетрясения пострадали или были разрушены дома, погибли или были ранены родные и близкие. Идите же домой и займитесь своими делами. Тем, кому идти некуда, будет предоставлено временное жилье. Раненые родственники будут отправлены в монастыри, где получат необходимое лечение и уход; кроме того, я незамедлительно распоряжусь об организации полевых госпиталей. Завтра же приводите к Стене членов ваших болельщицких группировок. Удачи, и да благословит вас Бог.
К работе, как и было условлено, приступили на следующие сутки. Шестнадцать тысяч верных сторонников Голубых и Зеленых были поделены зодчими и контролировавшими ход работ мастерами-каменотесами на трудившиеся посменно бригады; у всех участков Стены были поставлены полевые кухни, что дало людям возможность питаться, практически не сходя с места. К облегчению и радости Константина, Стена начала расти с невероятной скоростью, соперничащие группировки старались во что бы то ни стало превзойти друг друга, а Анатолию, затянувшему переговоры с Аттилой касательно выплат Востоком задолженностей по податям, удалось выиграть немного времени. В немыслимые сроки — за два месяца — Стена была восстановлена, — и не абы как, а в виде неприступной твердыни, окруженной, к тому же, спереди второй, менее высокой стеной, которая, в свою очередь, была обнесена наполненным водой рвом. Едва были скреплены известковым раствором последние кирпичные блоки, как Константину доложили, что гунны, усиленные подчиненными им остроготами и гепидами, уже перешли Данубий и окажутся у восточной столицы менее чем через неделю, в ответ на что префект лишь улыбнулся: за сооруженным им могучим барьером город был в безопасности, в этом он не сомневался. А пока стоит Константинополь, будет жить и Восточная империя.
Глава 38
Вражеской коннице не удалось разбить римскую пехоту; стоя плечом к плечу, они [пехотинцы] выстроили при помощи своих щитов жесткую, крепкую баррикаду
Прокопий Кесарийский. Войны. 550 г.С гордостью и печалью взирал Аспар на выход своей новой армии из Маркианополя: с гордостью потому, что, взяв за основу кучку деморализованных солдат, выживших в боях у Херсонеса Фракийского, он сумел построить огромное, обученное и оснащенное по самым высоким стандартам, войско; с грустью же из-за того, что в боях с гуннами многих — возможно, большинство — ждала смерть. Пусть Ратиария и находилась в руках Аттилы — прочие оружейные мастерские Востока работали денно и нощно, обеспечивая его парней самыми лучшими доспехами и оружием, какие только могли изготовить римские ремесленники. В предстоящем сражении ни на одном из его солдат не будет дешевого шлема с гребнем и тяжелой чешуйчатой кирасы, какие и по сей день носят в западной армии. Теперь восточных воинов защищали жесткая, но гнущаяся кольчуга и превосходные шлемы аттического типа — ничуть не изменившиеся со времен Александра, снабженные кожаными наушами с железными чешуйками и защитной носовой стрелкой, для большей прочности вылитой из единого листа железа.
Армия выстроилась в походном порядке на небольшой возвышенности у городских стен: тяжелая конница, представленная арубийскими катафрактариями из провинции Скифия; легкая конница — Августова и Первая Феодосиева; отборные части пехоты — Пятый Македонский легион, Вторая Фракийская когорта, Третья Диоклетианова et cetera; специальные подразделения — лучники, баллистарии, строповщики, врачи, оружейники; ballistae и onagri; обозы, груженные стрелами и метательными копьями, доспехами и продовольственными пайками. Сопровождаемые знаменитыми палатинскими vexillationes — гвардейскими отрядами Аркадия и Гонория, — три военачальника, Арнеглиск, Аспар и Ареобинд, заняли свои места во главе колонны. Арнеглиск поднял руку: зазвучали трубы bucinatores, и армия пришла в движение. Мерным шагом, с предписанной скоростью в три римских мили в час, она направилась на запад по Никопольской дороге — навстречу Аттиле, навстречу судьбе.
* * *
— Место ты выбрал неплохое, — сказал Арнеглиск Аспару, оценив имперские позиции с близлежащих лесистых склонов.
— Благодарю вас, господин, — откликнулся Аспар. — Полагаю, если наши парни совладают с нервами и будут держать строй, нам по силам задержать наступление гуннов — по крайней мере, на время, — и причинить им немалые потери. Давайте смотреть на вещи реалистично: это все, на что мы можем надеяться, — в людях мы все же ограничены.
В туманном полумраке первого часа недавно собранные подразделения походили на пришитые к серому покрову черные прямоугольные лоскутки. Пехота выстроилась в восемь шеренг, между высоким лесистым холмом, защищавшим ее правый фланг, и рекой Ут слева. Перед ней стояла тяжелая конница — формировавшие фланги clibanarii и catafractarii, — позади которой расположились лучники, как конные, так и пешие. В авангарде, в семистах ярдах от основного войска, расположились, в качестве своеобразной защитной ширмы, конные копьеносцы и scutarii с небольшими круглыми щитами и дротиками. Задачей их было не остановить врага, но лишь замедлить его продвижение и попытаться навязать бой, — далее в дело вступала тяжелая конница. Справа, на холмах, за поваленными — чтобы не препятствовать обстрелу — деревьями, установили катапульты, огромные механизмы, приводимые в действие силами упругости скрученных волокон и способные метать по крутой траектории огромные камни, ядра и стрелы на расстояние в несколько сотен метров.
Разведка донесла, что полчища Аттилы обошли пограничные укрепления в Первой Мезии и приближаются с востока, растянувшись по заключенной между Данубием и Гемимонтом возвышенности. В горловине этого коридора, в провинции Дакия Рипенская, Аспар, с согласия двух других полководцев, и решил встретить гуннов. У римлян была сильная позиция, позволяющая имперской армии выступить против врага широким фронтом. По левую от римлян руку протекала река, с правой стороны они были защищены крутыми утесами, что лишало гуннов возможности взять их в окружение. Благоволя Аспару, замкнутое пространство местности должно было вынудить Аттилу, значительно превосходившего римлян численно, вести бой лишь небольшой частью своего огромного войска.
В третьем часу прискакавшие с запада разведчики доложили, что гунны разбили лагерь и их передовой отряд уже на подходе. Bucinatores сыграли тревогу, и отдыхавшая армия пришла в движение. Двое дневальных установили перед войском импровизированный трибунал, и Арнеглиск, германский главнокомандующий, взошел на помост.
— Солдаты, в скором времени нас ждет сражение с гуннами, — заговорил он нескладно, быстро. — Для многих из вас эта битва станет первой, и, будучи наслышаны о том, какие гунны умелые воины, вы, должно быть, их очень страшитесь. Вот что я вам скажу: бояться гуннов не следует. Они дикари, варвары. Любой римлянин стоит пары подобных. Да, сегодня их намного больше, чем вас. Но, как вы сами можете видеть со своих позиций, единовременно они смогут выставить против нас войско, вполне сопоставимое с нашим. Сражайтесь храбро, и мир узнает, что непобедимость Аттилы — не более чем миф.
Краткая речь командующего возымела успех, — возможно, потому, что говорил он честно и искренне, избегая риторических цветистых выражений, какие использовали в выступлениях перед армиями римские полководцы-римляне. Признательность свою солдаты выразили громкими ударами копий о щиты.
Через несколько минут после того как Арнеглиск сошел с трибунала, западный горизонт заволокло клубами пыли, — приближались гунны. Головной римский отряд на какое-то время задержал врага, но затем отступил, присоединившись к основному войску. Мгновения спустя первые конные гунны обрушились на римский строй, но, наткнувшись на выстроенные в ряд копья, тут же разлетелись по сторонам, провожаемые градом выпущенных из задних рядов стрел и дротиков.
После шока и потрясения первых минут обе стороны повели беспощадную борьбу на истощение. Раз за разом конные гунны врезались в римские шеренги, натыкаясь на гибельные наконечники копий. Установленные же на холмах справа от войска римские катапульты наносили гуннам огромные потери. Сыпавшиеся из походивших на гигантские арбалеты ballistae деревянные стрелы с прикованными к ним большими железными наконечниками пронзали иногда нескольких человек разом, вынуждая гуннских лошадей шарахаться в стороны в безумном порыве. Другой вид катапульт, кстати прозванный onager, или «диким ослом», представлял собой два бревна из простого или каменного дуба, слегка закругленных так, чтобы они подымались горбом, и скрепленные наподобие козлов для пиления. На обеих их сторонах были пробуравлены большие дыры, через которые пропускались крепкие канаты, чтобы механизм не развалился. В середине канатов вздымался в косом направлении деревянный стержень наподобие дышла. Прикрепленные к нему веревки держали его так, что он мог как подниматься, так и опускаться. В пращу помещался круглый камень; расчет из четырех человек быстро вращал навойни, на которых были закреплены канаты, и отгибал назад стержень, приводя его в почти горизонтальное положение, после чего стоявший наверху машины командир орудия сильным ударом железного молота выбивал ключ, удерживавший все связи механизма. Освобожденный быстрым толчком стержень отклонялся вперед и выбрасывал камень, сокрушавший все, что попадалось на его пути. Онагром эта машина называлась потому, что, будучи преследуемыми, дикие ослы, брыкаясь назад, мечут такие камни, что пробивают ими грудь своих преследователей или, пробив кости черепа, размозжают голову.
Выбранная римлянами местность лишила гуннов их любимой — и победной — тактики: захода противнику во фланги с последующим взятием его в кольцо окружения. Вынужденные сражаться с римлянами узким фронтом, они оказались поставленными в невыгодное положение: сильные свои стороны — быстроту, мобильность и огневую мощь — в противостоянии со стоявшим стеной хорошо вооруженным врагом они проявить не могли. А неуязвимая в доспехах тяжелая римская конница выкашивала гуннских всадников целыми рядами, оставляя людей умирать под копытами лошадей их же товарищей. Римские лучники, стрелявшие из безопасных задних рядов и не имевшие недостатка в стрелах и дротиках, то и дело подносимых pedites из вспомогательных обозов, предоставляли своему авангарду необходимую передышку.
Но под постоянным градом гуннских стрел римские шеренги начали мало-помалу редеть. Возможно, цели достигала лишь одна из двадцати выпущенных гуннами стрел, но столь обильным и беспрестанным был их вал, что потери римляне несли тяжелые. Едва где-то возникала малейшая брешь, как замыкающие заполняли ее людьми из задних рядов, вследствие чего римский строй опасно сократился с восьми шеренг до шести, а затем и до четырех. Чувствуя, что ситуация становится критической, Арнеглиск снял шлем и, моментально став узнаваемым благодаря длинным соломенным волосам, поскакал вдоль линии римского фронта, призывая солдат держаться до последнего. Промахнуться по столь очевидной цели гунны не могли; уже через несколько мгновений нашел свою смерть конь германца, и не успел полководец взобраться на свежего жеребца, как и его самого сразила гуннская стрела.
Ставший абсолютным командующим армией Аспар не имел никаких сомнений насчет того, к какому исходу клонится битва. Будь силы равны, римляне без труда одержали бы в сражении победу. Но, имея огромное численное превосходство, гунны продолжали выставлять на поле боя все новых и новых людей, не обращая внимания на огромные потери. Тем не менее, наблюдая за тем, как усыпанная трупами врагов теснина все более и более принимала вид, какой бывает у засеянного яровой пшеницей поля после ливневого дождя с градом, Аспар чувствовал мрачное удовлетворение. Битву гунны, возможно, и выиграют, но то будет пиррова победа. Ясно было, что, потеряв десятки тысяч отборных воинов убитыми, варвары еще не скоро придут в себя.
Ожесточенный бой шел до самых сумерек. К тому времени римский строй сжался до узкой ленточки, состоявшей всего из двух шеренг, но продолжал держать позиции. С наступлением темноты гунны отошли. Погрузив раненых на обозы, покинули поле битвы и римляне, строевым шагом ушедшие на восток. Они потеряли все numeri и большинство легионов: стобенсийскую конницу, дафнийских баллистариев, сарацинскую конницу, Первый и Второй Исаврийские легионы и многих-многих других. В живых осталась лишь малая часть войска, но дух ее остался несломленным, — восточные солдаты остановили гуннов, оставив о себе такую память, что Аттила, должно быть, хорошенько подумает, стоит ли ему вновь воевать с римской армией.
* * *
На следующий день Аттила с тяжелым сердцем осмотрел поле брани. Сам он участия в битве не принимал; он планировал, сражались другие. Потери со стороны гуннов были огромными — гораздо большими, нежели в Толозе. Находясь на грани отчаяния, Аттила спросил себя впервые в жизни, можно ли вообще победить римлян, по крайней мере — восточных. Похоже, их слишком много, они хорошо организованны, города их окружены мощными стенами. Когда во главе их встают сильные личности, у них тут же появляются новые силы и боевой настрой. Возможно, к ним вновь вернулись те качества, во многом благодаря которым Рим и стал когда-то великой державой.
Что, если его жизнь, несмотря на всю его славу и завоевания, окончится неудачей? В своих мечтах о Великой Скифии он дотянулся до звезд, но удержать их не сумел. А теперь, похоже, начинает таять, как снег весной в горах Кавказа, и непобедимость Аттилы-воина. У китайцев есть поговорка: «Тот, кто ездит на тигре, не должен слезать с него, не то тигр разорвет седока на части». Он-то сейчас как раз и ездит на тигре — своем народе. Пусть он стал стар и устал, другого пути, как продолжать вести своих людей выбранным им курсом — дорогой грабежей и убийств, — у него нет. Даже если дорога эта в конечном счете приведет к его и их краху.
* * *
— Что теперь, друг? — спросил Ареобинд у Аспара, когда с тем, что осталось от армии, они подошли к восстановленным стенам Константинополя.
— Теперь мы переждем бурю, — ответил новый магистр армии с мрачной улыбкой. Иллюзий он не питал: Аттила вряд ли простит Восточной империи ту безрассудную смелость, с которой римляне ввязались в бой с гуннами, как не забудет он и того, что в этом сражении его войско понесло значительные потери. Конечно, Восток наберет новую армию, как это сделал Рим после Канн, но на это уйдут месяцы. Они же должны быть готовы сдержать новый натиск Бича Божьего уже в самом ближайшем времени.
Побитые, но гордые остатки огромной армии, покинувшей Маркианополь всего две недели назад, вошли в столицу через Адрианопольские ворота и были встречены высыпавшей на улицы города громадной людской толпой, приветствовавшей их как героев: весть об их противостоянии Аттиле уже достигла Константинополя. Проницательные и непокорные, горожане знали, чем они были обязаны этим людям и их командирам. Пусть император пережидал национальный кризис в своем дворце, а его главный советник Хрисафий думал лишь о личной выгоде, — с людьми калибра Аспара, Анатолия и Константина кораблю государства не страшны были ни подводные рифы, ни опасные течения.
* * *
Той ночью Аспар видел сон: по Мезе, вдоль которой рядами стоят облаченные в траур жители Константинополя, мимо пяти огромных форумов, мимо ипподрома и большой площади Августеума, движется, по направлению к храму Святой Мудрости, похоронная процессия; открытый гроб стоит на мраморном катафалке, снабженном табличкой «Theodosius».
Проснувшись, он долго не мог прийти в себя. Видение было столь реальным, столь живым, что походило скорее на воспоминание, чем на сон. Аспар пытался выбросить его из головы, но оно возвращалось снова и снова. Что это было — знамение ли, предупреждение? Аспара вдруг бросило в озноб: он увидел третью возможность. Увещевание? Мозг его отказывался принять эту мысль. Он не изменник; на протяжении всей своей жизни он был верным слугой императора и продолжит таковым оставаться и далее. Но часть его мозга — часть Кассия, иронично подумал Аспар, — казалось, спрашивала: «Но если император недостоин престола, не следует ли выказать верность империи?». Так и начался в его голове диалог между «Брутом» и «Кассием»: Кассий утверждал, что устранение нынешнего императора приведет к процветанию государства; аргументы же Брута зиждились на том, что всеми своими прошлыми бедами Римская империя «обязана» тщеславным полководцам, пробиравшимся к трону через реки крови.
Со временем, после продолжительных ментальных дебатов, Аспару открылась чистая правда. Пока жив Феодосий, Восточная империя не перестанет платить дань гуннам — постыдное унижение, которому не станет себя подвергать ни одно уважающее себя государство, особенно если государство это является преемником величайшей цивилизации за все годы существования мира, а подать вымогает племя невежественных варваров. А Феодосию нет еще и пятидесяти; он может прожить еще двадцать, даже тридцать лет. Но если он, Аспар, ускорит смерть Феодосия и сам заявит права на императорский пурпур, его осудят как очередного обагрившего себя кровью узурпатора, арианина и варвара в придачу, мотивированного эгоистичными стремлениями — так недалеко и до гражданской войны. Нет, престол должен отойти к человеку прославленному, с незапятнанной репутацией; к человеку, с чьей кандидатурой будут согласны сенат и консистория; к человеку, чьи поступки никем не будут рассматриваться исключительно с позиций его собственных амбиций; к человеку безупречно честному, храброму и принципиальному. Возможно ли, что есть люди, обладающие подобным набором добродетелей? Да, и с одним из них Аспар знаком лично. «Сегодня же с ним свяжусь», — решил полководец.
Кассий одержал победу над Брутом.
Глава 39
Мы остановились немного выше реки на чистом месте, так как весь берег был покрыт костями убитых на войне.
Приск Панийский. Византийская история. После 472 г.— «После битвы на реке Ут, в которой гунны хоть и победили, но понесли серьезные потери, Аттила появился перед стенами Константинополя. Здесь он задерживаться не стал; очевидно, завидев эти огромные и неприступные укрепления, он убедился, что осада столицы станет лишь напрасной тратой времени. Вместо этого Бич Божий обрушил всю свою языческую ярость на диоцезы Фракии и Македонии, круша — без сопротивления и без пощады — все на своем пути, от Геллеспонта до Фермопильского перевала. Наиболее хорошо защищенные города, вроде Гераклеи и Адрианополя, устояли, но семьдесят других были полностью разрушены: Маркианополь, Фессалоники, Диррахий…». — Тит оторвал глаза от только что доставленного курьером из императорского нотариата в Константинополе письма, которое он вслух зачитывал Аэцию. Они находились во временном штабе полководца, разбитом во дворце архиепископа в Лугдуне, в Лугдунской провинции Галлии. — Я опущу оставшиеся шестьдесят семь, хорошо, господин?
— И все остальное, — устало кивнул полководец. — Переходи к концовке и скажи мне, чего они хотят.
— «После того как наша бесстрашная армия пожертвовала собой на реке Ут, — продолжил Тит, быстренько пробежав глазами середину послания, — мы обратились с Западу с призывом о помощи, но она, к сожалению, так и не пришла. И это несмотря на то, что наш Непобедимый Август Феодосий, Каллиграф, в прошлом не раз и без раздумий приходил на выручку своему Монаршему Кузену, Валентиниану, Августу Запада. Нашему выдающемуся полководцу, прославленному Анатолию пришлось вести с Аттилой переговоры о мире. Анатолий сделал все, что было в его силах, тем не менее, условия мирного соглашения оказались крайне суровыми: размер ежегодной дани вырос в разы, и гуннам отошла полоса территорий южнее Данубия, от Сингидуна до Новы — в триста миль протяженностью и столь широкая, что расстояние это невозможно было покрыть и за пятнадцать дней пути.
В надежде смягчить эти тяжелые условия, мы направляем к Аттиле специальное посольство (принять его он согласился). Миссию эту возглавит один из придворных, многоуважаемый Максимин, сопровождать которого будет некто Приск, родом из фракийского Пания, ученый и историк. Приску поручено изучать нравы гуннов, и, возможно, его наблюдения помогут нам понять, как следует вести себя с этими варварами. Мы очень надеемся, что к этому посольству присоединятся и представители Запада, чье присутствие способно придать весу нашим просьбам и доводам.
Глубокоуважаемый Патриций! Ни для кого не секрет, что вы связаны, или были связаны, с нашим теперешним угнетателем, Аттилой, королем гуннов, узами дружбы. Возможно, сей факт поможет склонить его к принятию наших предложений. Граждане Восточной части нашей Единой и Неделимой Империи заклинают Патриция Запада — в том случае, если он не сможет отправиться к Аттиле лично — послать к гуннам хотя бы его представителей, наделенных полномочиями говорить от его, Патриция, имени. Люди эти обязаны быть знакомы как с придворной, так и с лагерной жизнью; они должны быть знатного происхождения и консульского ранга. Император лично умоляет вас не отказать ему в этой просьбе; приняв ее во внимание, вы навечно оставите на Востоке благодарную о себе память. На сим прощаюсь. Подписано Номом, магистром оффиций, “сиятельным мужем”…» и так далее. Похоже, они в полном отчаянии, господин.
— Мне следовало хотя бы попытаться помочь им! — воскликнул Аэций, и лицо его приняло выражение мучительной вины. Он умоляюще взглянул на Тита. — Но что, при всем желании, мог я сделать? Отдай я приказ армии идти на Восток, она бы взбунтовалась, — как легионы Юлиана восемьдесят лет тому назад. Кроме того, Аттила — мой друг, или, по крайней мере, когда-то таковым являлся. Сражаться против человека, с которым ты в свое время делил краюху хлеба, не так-то и просто. Да и мог ли я оставить Галлию, зная, что в ту же секунду, как я покажу федератам свою спину, там вновь начнутся беспорядки?
— Ни один порядочный человек не осмелится вас в чем-то обвинить, господин, — мягко сказал Тит, думая о том, каким усталым и изможденным стало лицо полководца, сколько седых волос появилось за последние месяцы на его голове. — Вы нужны были здесь, на Западе. Без вас мы вряд ли бы справились.
— Не могу с тобой не согласиться, — мрачно признал Аэций. Вскочив на ноги, он стал мерить шагами просторную комнату, в которой — с того самого дня, как Аэций сделал ее своим кабинетом — царил привычный хаос. Внизу, под окнами, шумели воды сливавшихся воедино Родана и Арара. — Сейчас, когда у меня становится все меньше и меньше солдат, мне приходится быть прежде всего дипломатом, а не воякой. Я вынужден успокаивать там, где раньше мог заставить. Эх, как бы мне сейчас пригодились Аттила и его гунны! Терпением святого — вот чем нужно обладать, чтобы держать этих вспыльчивых федератов в узде. Когда умер король Клодий, франки долго не могли решить, который из его сыновей должен наследовать трон? Так кого же они выбрали на роль третейского судьи? Меня. Я отдал предпочтение Меровеху, славному парню, из которого может получиться великолепный правитель. Так нет же: несмотря на то, что первородство не считается у франков определяющим фактором, старший из братьев счел себя оскорбленным и бросился к Аттиле, умоляя того помочь ему завладеть престолом.
— А это может иметь серьезные последствия?
— Думаю, да. Формально, они уже союзники, что, полагаю, вполне может дать Аттиле повод к вторжению на Запад. Надеюсь лишь, что Аттила еще хранит память о старых добрых временах и не зайдет так далеко. Половину своего времени я пытаюсь снискать расположение франкской знати, убеждая их в том, что Меровех — правильный выбор.
— А другую половину? — улыбнулся Тит, надеясь хоть как-то поднять полководцу настроение.
— Мы что, сократов диалог ведем? — криво ухмыльнулся в ответ полководец. — Не стоит мне потакать, друг мой. Ты и сам отлично знаешь ответ. После того как вышедшая замуж за сына Гейзериха дочь Теодорида была отослана королем вандалов к отцу изувеченной, эти два правителя пребывают в ссоре, и все свои усилия я бросил на установление дружественных отношений с королем визиготов. Сколотив единую армию, мы могли бы войти в Африку и покарать Гейзериха, а возможно, и вовсе от него избавиться — а это не так-то просто, учитывая тот факт, что они с Аттилой теперь союзники. Впрочем, враждуя с Теодоридом, Гейзерих, так или иначе, играет мне на руку, — иначе визиготы могли бы задуматься о расширении своих территорий за счет восточных областей Провинции. — Подойдя к окну, Аэций закрепил заходившие ходуном от порывистого ветра ставни и какое-то время смотрел на открывающийся внизу пейзаж. — В какие времена мы живем, Тит? Что я вижу: покинутые земли, заброшенные дома… Один из некогда крупнейших городов Запада наполовину мертв. Да и может ли быть иначе? Люди не чувствуют себя в безопасности, торговля почти прекратилась… Акведуки не работают, а это первый признак приближающегося краха. Дошло до того, что крадут даже решетки со шламовых каналов. А денег на содержание работников, которые бы за этим следили, или отрядов vigiles у городского совета просто нет.
— Если позволите, господин, вернемся к нашему разговору. Что ответить Константинополю? Каковы будут наши действия?
— Не «наши», мой дорогой Тит, — твои. Отправишься в Восточную Европу в составе дипломатической миссии — перемена обстановки пойдет тебе на пользу.
— Я? — взволнованно воскликнул Тит. — Вы уверены, что это хорошая мысль, господин? Вспомните, чем закончилась моя последняя поездка. Кроме того, меньше чем с консулом Аттила ни с кем и встречаться не станет; следовательно, я для этой миссии не подхожу, не так ли?
— Не твоя вина, что все так получилось. Время было выбрано неподходящее, вот и все. Аттилу можно понять: просчет, допущенный Литорием в Толозе, стоил жизни шестидесяти тысячам гуннов. А что касается того, что ты — не консул… Знаешь, хотя Калигула и мог назначить таковым свою лошадь, боюсь, я для тебя подобного сделать не в силах. Впрочем, это не важно. Не следует понимать Аттилу столь уж буквально. Не думаю, что этот парень, Приск, имеет какой-то титул. И все же мы для тебя что-нибудь этакое придумаем. По-моему, при Грациане высокопоставленные agentes in rebus получали какое-то дополнение к своему имени, но не уверен, что подобное положение вещей сохранилось по сей день. Как смотришь на то, чтобы стать princeps — это высший ранг курьерской службы? Тит Валерий Руфин, Vir Spectabilis, «высокородный муж» то есть — звучит, по-моему, неплохо?
— Думаю, жить с этим смогу, — улыбнулся Тит.
— Еще бы! Чего я только для тебя не делаю! Титул этот еще должен быть утвержден консисторией, но я, наверное, смогу провести это назначение в срочном порядке. Что ж, раз уж ты официально прикомандирован к Восточному посольству, попытайся договориться о личной встрече с Аттилой. Со времен вашей последней встречи немало воды утекло, и гнев его должен был поутихнуть. Возможно, на сей раз тебе удастся убедить его вновь стать моим союзником. Что сказать, я объясню тебе чуть позже. Да, и пока будешь там, постарайся выяснить, что случилось с Констанцием. Такое впечатление, что он просто-напросто исчез с лица земли.
— А не мог ли он скрыться с подарками, которые должен был передать Аттиле? Знаю, Констанций вам нравился, господин, но что-то ненадежное в нем все же было…
— Может быть, ты и прав, — вздохнул Аэций. — Если так, то жаль. Способный был парень, далеко мог пойти. А теперь давай-ка подумаем, кто бы мог составить тебе компанию…
Глава 40
Для прочих варваров и для нас были приготовлены роскошные кушанья, сервированные на круглых серебряных блюдах, а Атилле не подавалось ничего кроме мяса на деревянной тарелке.
Приск Панийский. Византийская история. После 472 г.«Дворец Аттилы, Королевская Деревня, Старая Дакия (некогда римская провинция) [написал Тит в “Liber Rufinorum”], год консулов Астирия и Протогена, II июньские ноны[49].
Вскоре после пересечения Данубия в Аквинке послов Западной Римской империи — меня; сенатора Ромула, любезного “пустышку”, включенного в состав делегации исключительно из-за престижа, который должен был придать миссии его ранг; и скромную свиту — встретили посланные Аттилой проводники-гунны. В их компании мы проследовали на восток, где, примерно в двухстах милях от места нашей встречи, между верхним течением реки Тиса и Сарматскими горами, располагался лагерь Аттилы. По пути мы останавливались в гуннских поселениях, где неизменно встречали радушный прием. Особенно тепло нас привечали в той из деревень, где жила вдова Бледы, брата Аттилы, которая распорядилась накрыть для нас шикарный стол.
Гуннская “столица”, в которой мне уже доводилось бывать — девять лет назад, во время первой, неудачной, миссии к Аттиле, — в действительности представляет собой не что иное, как большую, расползшуюся во все стороны деревню, где в сотнях шатров, больших и маленьких, и живут гунны. Строений из камня там нет совсем, за одним лишь исключением — великолепной копии римской купальни! Как мне сказали, спроектировал ее некий грек, плененный Аттилой во время войны. Ничего более неуместного и представить себе невозможно — все равно, что узреть жемчужину у свиньи в ухе. Дворец стоит на окраине деревни, на вершине холма; состоит он из целой россыпи деревянных построек, окруженных резным палисадом. По прибытии нас развели по разбитым вблизи дворца Аттилы палаткам и пригласили на назначенное на девять часов вечера пиршество. К моему удивлению, организовано все было не без утонченности: у стен просторной комнаты, с обеих сторон, стояли покрытые льняными скатертями столики, предназначенные для гостей и их хозяев; в центре, на приподнятом помосте, разместилось ложе, на котором восседал Аттила. В отличие от боковых столиков, обставленных золотыми и серебряными блюдами и чашами (несомненно, увезенными из Восточной империи в предыдущие кампании), королевский стол был сервирован деревянными тарелками и кубками. Первым рядом пирующих считались сидевшие по правую от Аттилы руку высокопоставленные гунны и германцы, вторым — те, кто разместился слева от вождя гуннов (в их число входили и мы, римляне). Одет Аттила был скромно; ни висевший на его боку меч, ни перевязи варварской обуви не были украшены, как у прочих гуннов, ни золотом, ни драгоценными камнями.
Меня усадили рядом с Приском, историком из восточного посольства, говорливым, дружелюбным малым, который — полагая, что на него никто не смотрит — время от времени вытаскивал из-под своего платья вощеные дощечки и стиль и черкал заметки. Он быстренько охарактеризовал мне некоторых из сидевших напротив нас гуннов. “Видишь тех двоих — длинноволосого парня с золотой цепью на шее и его, похожего на ученого, соседа в римском далматике? Это Едекон и Орест[50], бывшие послами Аттилы в Константинополе. Приехали сюда вместе с нами. Едекон — какой-то там вождь в германском племени скиров. Они сейчас подчиняются Аттиле, и именно из скиров он набирает свою охрану. Орест — нотарий Аттилы. Что могло заставить римлянина похоронить себя в этой глуши, среди сотен немытых дикарей, для меня — загадка. Конечно, будучи паннонцем и проживая в этой провинции в то время, когда она отошла к гуннам, он, возможно, и не имел выбора. А вон тот нескладный парень в синей тунике — Бигила, переводчик. Будешь произносить тост — следи за своим языком. От него всего можно ожидать; не понравится твое лицо — запросто может переиначить все сказанное тобой по-своему”.
Вопреки моим опасениям, кушанья оказались вполне съедобными, разве что в каждом из них содержалась либо баранина, либо козлятина, и к концу вечера я прилично набил пузо. Пили мы не местный кумыс — кисловатый напиток, изготавливаемый из скисшего кобыльего молока, — а римское вино. Его подавали неразбавленным, из чего я сделал вывод, что гуннам неведома римская практика смешивания выдержанных имперских вин с водой. Гораздо же хуже было другое: после того как виночерпий ставил перед Аттилой чашу с вином, тот по очереди приветствовал каждого из собравшихся за столом уважаемых гостей, и всем им, беря кубки и отпивая из них, должны были оказывать честь и мы тоже. Аттила мог себе позволить лишь пригубить кубок; все же прочие подобной привилегии были лишены, и после всякого из тостов чаша моя оказывалась пустой — останься в ней хоть капля, и это могло быть истолковано как оскорбление. И, хотя мне все же удалось ненавязчиво пролить значительное количество вина на пол, в какой-то момент я почувствовал, что меня вот-вот стошнит. К счастью, после выноса последнего блюда тосты прекратились, и пред нами предстали два варвара, в стихах воспевшие победы и военные доблести Аттилы.
За пением последовало причудливое представление, во время которого два шута, гунн и мавр, мололи всевозможный вздор на странной смеси латыни, готского и гуннского языков, возбудив во всех, кроме Аттилы, неугасимый смех. Предводитель гуннов на протяжении всего этого выступления оставался неподвижным, не менялся в лице и ничем не обнаруживал своего веселого настроения. Только когда самый младший из его сыновей, Эрнах, вошел в комнату и встал возле отца, Аттила потрепал мальчика по щеке, смотря на него нежными глазами, затем усадил на свое колено и начал качать. Вскоре Аттила с семьей покинул зал, и я, вместе с прочими римлянами, улучив момент, потихоньку выскользнул за порог, — желания засиживаться за попойкой у меня не было».
* * *
На следующее утро Максимин был препровожден в покои Аттилы для беседы. Тит же прождал своей очереди до середины дня. Аттила принял его в уже знакомой Руфину-младшему комнате; как и прежде он сидел на обычном деревянном троне. Оказавшись рядом с Аттилой, Тит едва смог скрыть свое изумление: за девять лет верховный вождь гуннов изменился до неузнаваемости. Энергичный, властный мужчина остался в далеком прошлом; теперь же Аттила напоминал, скорее, старого больного льва, чьи зубы и когти все еще остры, но который с каждым днем становится все слабее и слабее.
— Что ж, римлянин, — произнес Аттила низким голосом, — надеюсь, на этот раз ты принес мне лучшие новости, чем в прошлую нашу встречу, когда сообщил мне о гибели шестидесяти тысяч отборнейших моих воинов. Можешь говорить.
— Ваше величество, — начал Тит, отвесив поклон, — мой хозяин, Аэций, патриций Запада, шлет приветствия королю гуннов и желает ему крепкого здоровья и процветания. Он предлагает вам подумать о прекращении войны с подданными Феодосия и о том, чтобы вновь стать другом и союзником Западной Римской империи.
— И что может заставить короля гуннов согласиться хотя бы на одну из этих просьб? — тихо спросил Аттила.
— Восточные римляне, как мне сказал Максимин, платят вам дань, и мириться с этим постыдным ярмом гордая империя вряд ли захочет. Но если бы те же суммы выплачивались вам в качестве компенсации за защиту империи от ее врагов — воинственных исаврийцев, властолюбивых персов или диких нубийцев, — Скифия и Восточный Рим смогли бы сосуществовать как дружественные союзники. Одно лишь имя Аттилы способно нагнать на эти народы такой страх, что они и помышлять не будут о нападении на Восточную империю.
— А Запад?
— Мой господин искренне желает восстановить ту старую дружбу, которая существовала когда-то между вами. Ему нужны солдаты, которые бы присматривали за федератами и не позволяли им выбираться за пределы отведенных им территорий. Ради этого он готов пожаловать вам не только титулы патриция и — вместе с ним — магистра армии в Галлии, но и пятую часть всех доходов Запада. Когда в империю вернутся мир и стабильность, нормализуются налоговые поступления в казну, эти доходы вновь начнут расти. А если вы разорвете союз с Гейзерихом, которого иначе как грабителем и мародером и не назовешь, и, если и не поучаствуете, то хотя бы не станете мешать возвращению нам Африки, они возрастут в разы. Аэций верит в то, что не за горами тот день, когда империи гуннов и западных римлян объединятся — к взаимной пользе. И, в знак своей дружбы и уважения, он просил меня передать вам этот подарок. — Тит развернул принесенный с собой сверток и протянул Аттиле огромное серебряное блюдо, на котором были рельефно изображены сцены и предметы, смысл которых должен был понять один лишь получатель.
Несколько мгновений Аттила молча разглядывал блюдо, затем, выхватив его из рук Тита, прохрипел:
— Подумать только: битва с медведем; тот самый момент, когда я пронзил его своим копьем. А вот Пегас, арабский скакун, которого я подарил Карпилиону, сыну Аэция. Охота на бизонов. Священный Скимитар. Вот уж действительно, прекрасный подарок!
На какой-то момент глаза гунна засветились от радости, в голосе его прорезались интонации получившего долгожданную игрушку ребенка, но уже в следующую секунду лицо Аттилы вновь стало суровым и безжалостным.
— Речи твои гладки, римлянин, да и говоришь ты дело, — рассудительно сказал Аттила, — но хочу тебе напомнить, что в прошлом, когда Запад во мне нуждался, я отдавал много, а взамен получал мало. Твой предшественник, Констанций — пусть даже где-то он и преувеличил, — предлагал мне то же, что и ты. И я уже был готов поверить ему, когда вдруг выяснилось, что сказанное им — не более чем хитрость, с помощью которой он пытался ввести меня в заблуждение. Почему же я должен верить тебе?
— Не знаю, ваше величество, — честно ответил Тит, почувствовав, что что-то пошло не так. Его опасения насчет Констанция подтвердились. Мысленно Тит проклял и его, и Аэция. — Всем известно, что вы редко ошибаетесь в людях. Я был с вами честен, и поэтому готов принять любой ваш вердикт. Но прежде, ваше величество, позвольте спросить, как именно обманул вас Констанций?
— Он здесь. Можешь увидеть его, если сам того желаешь.
Придя в смятение, Тит лишь кивнул в ответ. Что Аттила имеет в виду? Неужели Констанций стал предателем, и теперь шпионит в пользу гуннов?
Король широко раскрыл оконные ставни и жестом предложил Титу выглянуть во двор. Римлянин так и поступил — и в ужасе отпрянул от окна. Посреди покрытой травой поляны стоял высокий крест, с которого свисало нечто омерзительное, то, что раньше было человеком — скелет, кое-где еще покрытый кожей и плотью. Пустые глазницы кишели мухами, что придавало черепу жуткую видимость жизни.
— Констанций служит предупреждением тем, кто может испытать искушение обмануть меня, — мрачно произнес Аттила. — Как я могу быть уверен, что ты, римлянин, не вынашиваешь подобных намерений?
От страха у Тита свело живот. Умереть такой ужасной смертью! Он облизнул внезапно ставшие сухими губы.
— Ваше величество, боюсь, Констанций обманул не только вас, но и нас, — Титу с трудом удалось придать голосу твердость. — Мой господин послал его к вам с добрыми намерениями — как и меня. Побуждения Аэция были чисты, ошибся он лишь в выборе посланника.
— Я склонен верить тебе, римлянин, — выдержав долгую паузу, вымученно произнес Аттила. — Похоже, ты честный человек; жаль, что среди вас, римлян, такие встречаются редко. А на заданный тобой ранее вопрос отвечу: Констанций должен был убить меня, и подкупил его Хрисафий, советник восточного императора.
— Но… вы принимали у себя Максимина, эмиссара из этой империи! — изумленно воскликнул Тит. — Вряд ли Феодосий ничего не знал о вынашиваемом Хрисафием заговоре.
— Может, мы, гунны, и варвары, — сухо заметил Аттила, — но законы гостеприимства мы уважаем. — Он окинул Тита долгим, изучающим взглядом. — Прощай, римлянин. Скажи Аэцию, что я благодарю его за подарок и подумаю над его словами.
* * *
После того как римляне уехали (Максимин и Приск — на Восток, Тит и сопровождавшие его лица — на Запад), Аттила погнал коня в чистую степь, где мог спокойно обдумать предложения римских посланников. Инстинкт подсказывал ему, что дальнейшие кампании против Востока ни к чему хорошему не приведут. Битва на реке Ут убедила Аттилу в том, что, несмотря на огромное численное превосходство, гунны не могут рассчитывать на постоянные победы над вымуштрованными и хорошо вооруженными римскими армиями. Возможно, предложения римлян действительно следует принять, даже несмотря на то, что он все еще может позволить себе разговаривать с Востоком с позиций силы. Робкий Феодосий ради мира пойдет на что угодно — так, может быть, стоит по-прежнему брать с его империи дань (платить которую богатый Восток, конечно же, может себе позволить), но, как и предлагали римские посланники, называть ее иначе? Почему бы гуннам и не стать платными защитниками восточных границ? Это отлично укладывается в рамки проводимой им сейчас войны против акациров, храброго, но несколько примитивного народа. Подобные кампании легко можно будет представить как стратегический ход, призванный защитить тылы Восточной империи.
А вот Запад… Может, он ошибался в отношении Аэция, а Констанций лишь оклеветал его старого друга и союзника? Роскошный подарок Аэция затронул тончайшие струны его души. И если Аэций искренне хочет заключить союз с гуннами, следует ли ему, Аттиле, принять это предложение? Соблазн велик, очень велик: богатство и титулы, а в будущем, возможно, и объединение двух могущественных империй. Может быть, когда-нибудь осуществится и его мечта о Великой Скифии… Что ж, он взвесит все «за» и «против». А пока воздержится от набегов на Запад и не станет обращать внимания на призывы так называемых «друзей» атаковать Рим немедленно.
На него наседают со всех сторон: Гейзерих; невзлюбившие Меровеха франки; Евдоксий, некогда целитель, а теперь предводитель вновь набирающих силу багаудов, которые нашли прибежище при его, Аттилы, дворе. Все они подталкивают его к нападению на Западную Римскую империю, считая, что та слаба и вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление. Приживальщики, презрительно подумал Аттила, шакалы, шествующие вслед за львом в надежде урвать от его добычи хоть кусочек. Их льстивых речей он слушать не будет — по крайней мере, до тех пор, пока не решит, что ответить на предложение Аэция.
Внезапно взгляд Аттилы остановился на двух птицах — зуйке и преследовавшем его соколе. Последний взмыл ввысь: казалось, жить маленькой птичке осталось недолго, но она давно играла в эту игру и знала, что делать. Камнем рухнул зуек вниз, распустив крылья у самой земли, и, держась на этой высоте, устремился в поисках убежища к ближайшей рощице. Сокол летел за добычей параллельным курсом, но нападать не решался: он легко мог убить зуйка, но, стремительно упав вниз, мог погибнуть и сам. Вскоре эти две птицы превратились в скользившие по небу пятнышки; меньшее достигло деревьев и исчезло, более крупное вновь набрало высоту и улетело прочь. Рассмеявшись, Аттила направил лошадь к деревне. Маленькая драма, свидетелем которой он только что стал, лишний раз напомнила вождю гуннов о том, в какой ситуации он сейчас оказался.
* * *
Весной следующего года, в консульство Валентиниана Августа (седьмое) и Авиена, Анатолий и Ном отправились за Данубий на новые переговоры с Аттилой. Результатом прошедшей доброжелательной встречи стало то, что Аттила великодушно отказался от расположенных к югу от Данубия территорий, отказался от заявленных ранее требований, согласно которым римляне должны были возвращать ему всех перебежчиков и пленных, и тактично умолчал о готовившемся против него заговоре. Восточная империя по-прежнему должна была платить гуннам дань (считавшуюся отныне компенсацией за охрану имперских границ), но размер ее, по сравнению с условиями, обозначенными в предыдущем договоре, был значительно уменьшен. Для полководца и магистра оффиций Третий Мир Анатолия стал дипломатическим триумфом: годы терпеливых и настойчивых усилий наконец-то увенчались успехом. Аттила тоже остался доволен: необходимость вести непрерывные войны отпала, он получил долгожданную передышку и мог теперь спокойно подумать о манящей перспективе — возобновлении союза с Аэцием.
О том, что всем его большим надеждам не суждено будет сбыться, а разрушит их нечто крошечное и незначительное, и — что символично — кроваво-красного цвета, Аттила, конечно же, знать не мог.
Глава 41
Император Феодосий упал с лошади, повредив позвоночник.
Феофан Исповедник. Хронография. 810–814 гг.Феодосий любил объезжать крупных и горячих лошадей — словно в качестве компенсации за неэффективное управление империей. Казалось, тем самым он хотел продемонстрировать своим подданным, что она все же существует — пусть одна, но довольно опасная, — та сфера деятельности, в которой он достиг вершин мастерства. В двадцать шестой день месяца, названного в честь Юлия Цезаря, в год, когда был заключен Третий Мир Анатолия, император в сопровождении конюшего совершал верховую прогулку по берегу реки Лик, недалеко от столицы. Прогнав, как обычно, своего гнедого жеребца галопом, Феодосий спешился и передал поводья слуге, приказав тому немного прогулять животное и возвращаться. Оставив господина у реки, конюший отправился исполнять приказание, но перед тем как возвратить скакуна императору, произвел с седлом некие манипуляции.
Вскочив на коня, Феодосий вдруг обнаружил, что тот не желает его слушаться. Любимый жеребец норовил взбрыкнуть и то и дело вставал на дыбы, стараясь сбросить седока. Отчаянные попытки императора успокоить животное закончились безуспешно; Феодосий вылетел из седла и неловко упал на прибрежные камни. Он попытался подняться, но ноги отказывались повиноваться. «Кажется, я сломал позвоночник», — прошептал император конюшему. Тот же, перед тем как отправиться за помощью, незаметно вытащил из-под седла небольшую багряно-красную колючку невысокого кустарника, известного в народе как «карающий куст».
* * *
Узнав о несчастье, Аспар сразу же сообщил о случившемся Маркиану, сенатору и прославленному ветерану армии, после чего поспешил к ложу находившегося при смерти императора. Феодосий умер через два дня, на пятидесятом году жизни и сорок третьем году своего правления. Через месяц Маркиан, отставной офицер, беззаветно служивший Аспару на протяжении долгих девятнадцати лет, человек скромный и честный, примерил на себя императорский пурпур.
Первым делом новый, решительно отказавшийся от слабой политики предшественника император передал — через своего посланника Аполлония — вежливое, но недвусмысленное сообщение Аттиле: платить дань гуннам Восток больше не будет.
Глава 42
Персидский царь Сапор […], нарушив условия договора с Иовианом, стал налагать свою руку на Армению, чтобы подчинить ее своей власти, как будто обязательность условий договора была уничтожена[51].
Аммиан Марцеллин. Деяния. 395 г.Дувший с горы Арарат ветер пронизывал насквозь. Дрожа от холода, укрывшийся в темной узкой теснине на границе между Римской империей и Персидской Арменией Юлиан плотнее запахнул полы плаща и подул на окостеневшие пальцы. По меньшей мере, в сотый уже раз после выезда из Антиохии помянул он нехорошим словом тот день, когда согласился выполнить это опасное задание. Конечно, будучи действующим офицером восточной римской армии и продолжателем длинной военной семейной традиции (в родственниках, хоть и дальних, у Юлиана числился выдающийся солдат и историк Аммиан Марцеллин), отказаться от этой миссии он не мог. Мысленно Юлиан вернулся на двадцать дней назад, когда и состоялась судьбоносная для него встреча с Аспаром, могущественным полководцем Восточной империи, человеком, стоявшим за восшествием на престол нынешнего императора, Маркиана.
* * *
В дом военачальника в Антиохии, втором городе Восточной империи, Юлиан входил с волнением и тревогой. Антиохиец по рождению и воспитанию (как и его знаменитый предок Аммиан), Юлиан не без основания полагал, что родной ему город по праву называют Антиохией Великолепной и Жемчужиной Востока. Проведенный cursor’ом, или посыльным, через обычную вереницу залов в украшенный колоннами сад, он заметил в дальнем его углу средних лет мужчину в повседневной солдатской форме: льняной тунике с круглыми нашивками цвета индиго на рукавах и плечах, широком военном поясе и круглой шапке — «таблетке». Человек этот не носил каких-либо знаков различия, но от него исходило такое ощущение силы, что Юлиан понял: перед ним — важная шишка. Подойдя ближе, он узнал утонченные орлиные черты на смуглом лице; они принадлежали Аспару, великому полководцу и герою битвы на реке Ут, в которой Юлиану и самому довелось принять участие.
— Приветствую тебя, молодой Юлиан, — сказал Аспар с улыбкой. — Вижу, ты уже оправился от полученного в сражении с гуннами ранения. Неприятные раны, скажу я тебе, оставляют эти стрелы. Могут и инфекцию занести… Но не будем о грустном. Полагаю, тебе интересно, зачем ты здесь оказался. Речь идет о шпионской миссии в Армении. Мне нужен человек молодой и надежный, уверенно чувствующий себя в седле и не боящийся опасности. Желательно, холостой. Будучи отмеченным наградами за доблесть трибуном, candidatus лучшего полка константинопольской scholae, к тому же, парнем неженатым, ты как нельзя лучше удовлетворяешь всем этим требованиям.
— Весьма польщен, господин, — ответил Юлиан, и кровь в его жилах побежала быстрее. — Но… не сомневаюсь, что среди наших офицеров есть люди гораздо более квалифицированные, чем я.
— Дешево же ты, юноша, себя ценишь, — отрывисто сказал Аспар. — Я редко ошибаюсь в людях. Перечисленные мной качества встречаются не у многих. По крайней мере, полный их набор.
— Вы сказали, господин, что ищете холостяка. Из этого я делаю вывод, что миссия будет опасной.
— Определенный риск есть, не отрицаю. Но перед тем как ты решишь, соглашаться на это задание или нет — а ты волен поступать так, как тебе вздумается, — позволь мне объяснить, в чем оно заключается. — Приказав рабу принести вина, Аспар предложил Юлиану присесть на каменную скамью, с которой открывался чудесный вид на долину реки Оронт, усеянную виноградниками и фруктовыми деревьями; вдали виднелся высокий шпиль горы Казий.
— Что тебе известно об Армении? — спросил полководец, наливая вина.
— Не очень много, господин, — признался Юлиан. — Это гористое плато между Понтом Эвксинским и Каспийским морем, населенное крутыми нравом людьми. Когда-то, если я не ошибаюсь, Армения являлась независимым царством, а лет шестьдесят назад ее территория была разделена на две части; одну из них контролирует Рим, другую — Персия.
— Отлично сказано, мой друг, — похвалил Юлиана Аспар, — коротко и верно. Важно и то, что армяне — христиане как минимум со времени обращения в эту веру Константина. Могущественные державы Востока и Запада всегда сражались за их землю, еще до Дария и Александра. Что это — нейтральная зона или оспариваемая территория, — решай сам. Нынешний Великий Царь Персии, Йезигерд II, готовит, согласно поступаемым из этого региона сообщениям, наступательную военную операцию. Вероятно, он собирается вторгнуться в Восточную Армению — введет прямое правление из Ктесифона и заменит христианство зороастризмом, официальной религией Персии.
— Зачем ему это?
— Обычное дело — новые завоевания должны принести ему еще большую славу. Рим и сам знает множество подобных примеров: Юлий Цезарь в Галлии, Клавдий I в Британии, Траян в Дакии, Септимий Север в Каледонии; могу продолжать долго. Если Йезигерд достигнет желаемого, он может обратить свой взор уже на Западную — римскую — Армению. А это, конечно же, будет представлять собой не только вызов, но и военную угрозу для Восточной империи. Но, похоже, Йезигерд допустил один небольшой просчет, который может оказаться его ахиллесовой пятой.
— Какой, господин?
— Ему не следовало склонять армянский народ к обращению в зороастрийскую веру. Армяне — люди гордые, упрямые и свободолюбивые; ничто на свете не заставит их отказаться от христианства.
— Особенно, если они получат помощь Рима? — невинно предложил Юлиан. — Неофициально, конечно же.
— Точно, — улыбнулся Аспар. — Неофициально. Нас не должны заподозрить в нарушении условий договора о разделе армянских территорий. Кстати, некий Вардан Мамиканян, при поддержке уважаемых мужей Восточной Армении, организовал движение сопротивления Великому Царю, которое сам же и возглавил. Для нас же крайне желательно, чтобы Персия оказалась вовлеченной в долгую войну против нерегулярной армии фанатиков, войну, которая, к тому же, проходила бы в крайне неприятных для персов условиях гористой местности. Йезигерду тогда пришлось бы забыть об амбициозных планах по возобновлению давнего противостояния с Римом. И забыть надолго. Нам подобный вариант развития событий сыграл бы только на руку, — ведь еще неизвестно, на которую из римских империй намеревается напасть Аттила. Впрочем, не все так просто; существует одна проблема — «Томос» папы Льва.
— «Томос» папы Льва?
— Не так-то просто это объяснить, — сказал Аспар, подливая вина в кубки, — но я все же попытаюсь. Папа римский Лев выпустил трактат, в котором говорится о двойственной сущности Иисуса Христа. Папа утверждает, что Иисус, по натуре своей, является как человеком, так и Богом. В Западной империи с подобным мнением согласно большинство населения, здесь же, на Востоке, все обстоит не так однозначно. У нас многие верят, и верят страстно, что у Христа есть лишь одна — божественная — сущность. Такие люди называют себя евтихианцами, по имени архимандрита Евтихия, проповедующего это учение.
— Господин, я не понимаю…
— Потерпи еще немного, молодой Юлиан, — остановил его Аспар, улыбнувшись. — Во избежание вредоносной ереси, раскалывающей религиозную веру во всем римском мире и ведущей к еще большему разладу между двумя империями, планируется вынести обе эти точки зрения на рассмотрение большого собрания священнослужителей, которое пройдет либо в Никее, либо в Халкедоне. Скорее всего, в Халкедоне: город этот расположен прямо напротив столицы, на другом берегу Боспора, и проведение там Вселенского Собора явится своего рода знаком уважения, выказанным новому императору, Маркиану. Собор решит, чью позицию — евтихианцев или поборников двойственной сущности Иисуса — следует считать истинной. То из убеждений, у которого окажется больше сторонников, будет объявлено догмой и принято христианами по всему миру; не согласных же с ним придадут анафеме. К несчастью для Востока, и в особенности для поддерживающего евтихианцев патриарха Александрийского, все указывает на то, что аргументы папы Льва превалируют, — его взгляды разделяет наш новый император. Тебе, наверное, так и хочется спросить: какое, черт возьми, все это имеет отношение к Армении? Объясняю. Армянский народ — крайне консервативен и глубоко верит в то, что у Иисуса есть лишь одна — божественная — натура. Поэтому, если Восточная империя откажется от своей евтихианской позиции, армяне вряд ли захотят заключать с нами тайный союз.
Юлиану показалось, что он ослышался.
— Но это нелепо! — воскликнул он, с трудом подавив желание рассмеяться.
— Будем считать, что я этого не слышал. Ты ведь из языческой семьи, не так ли?
— Да. Мы относимся к тем немногим, кто все еще поклоняется старым богам. Естественно, стараясь не привлекать к этому внимания.
— Раз ты язычник, значит, можешь взглянуть на сложившуюся ситуацию беспристрастно, — задумчиво проговорил Аспар. — Как и я. Будучи арианином, я способен смотреть на вещи с позиций, выходящих за рамки ортодоксальной нормы. — Он покачал головой. — А ведь во времена Валентиниана I до подобных… крайностей не доходило. Что случилось с доброй старой римской терпимостью?.. Но я отвлекся. Если римско-армянскому союзу суждено случиться, то заключен он должен быть до того, как состоится конференция — по приведенным мной причинам. Тут-то ты и выходишь на сцену.
* * *
Вот почему Юлиан томился теперь в продуваемой холодными ветрами лощине за тысячи миль от дома в ожидании проводника-армянина, который должен был прийти к границе с персидской стороны Армении. Миссия его заключалась в следующем: установить контакт с Варданом Мамиканяном, заверить его в римской поддержке (тайной), разузнать все, что можно, о второстепенных дорогах, безопасных каналах связи, численности и дислокации персидской и армянской армий и по возвращении доложить обо всем Аспару.
Мерцающий сумрак возвестил о приближении рассвета; покрытые снегом гребни окружающих гор озарились румянцем. Откуда-то сверху посыпались камни. «должно быть, провод-ник», — подумал Юлиан. Пару минут спустя из пасмурной дымки вынырнул всадник — приземистый смуглый парень.
— Похоже, ты — тот римлянин, которого я должен здесь встретить, — проворчал он на сносном греческом. — Езжай за мной; я провожу тебя к господину Мамиканяну.
Запрыгнув в седло, Юлиан последовал за проводником по узкой каменистой тропе. Пару раз им пришлось спешиться и провести лошадей через ручьи глубиной в метр-полтора. Через несколько часов изнурительной ходьбы по горам и ущельям они достигли вершины: то тут, то там пробивались из-под снега, вперемежку с яркими пятнами росших в расщелинах тюльпанов, усыпанные гравием горные породы. Вокруг них разворачивалось волнообразное море заснеженных гор; вдали, на горизонте, виднелись конусы двух потухших вулканов, Малого и Большого Арарата. Спустившись по покрытым кустами тамариска и тюльпанами склонам, они вышли к широкой долине реки Аракс, где, на зеленом лугу, мирно щипали траву стада коз и овец. Повернув на восток, они двинулись вниз по течению реки — после тяжелого горного перехода спокойная, размеренная езда показалась Юлиану истинным удовольствием.
В полдень путники остановились в небольшой деревушке, староста которой проводил их в свой дом, построенный, как и прочие местные жилища, под землей, и столь просторный, что в нем обитали не только люди, но и овцы, козы, коровы и куры. Плотно перекусив мясом молодого барашка, телятиной и ячменным хлебом, выпив — через соломинку, из общей чаши — крепкого вина, они, предупрежденные хозяином дома о том, что в районе были замечены персидские патрули, вновь пустились в дорогу. Проскакав несколько миль, повернули на север и по каменистой долине направились к окруженному горами озеру Севан, — там, в двух днях пути, как сказал Юлиану проводник, находилась вотчина Вардана Мамиканяна.
Не успели они спешиться на ночной привал, как вдруг проводник застыл на месте и указал на сверкавшие в последних лучах солнца горные склоны, — те, что прилегали к равнине с запада. Юлиан прищурился: высоко в горах, то появляясь, то исчезая, мерцал слабый огонек.
— Армяне? — с надеждой спросил он.
— Персы, — проворчал проводник. — Нужно убираться отсюда, римлянин.
Вновь запрыгнув в седло, Юлиан пришпорил коня и помчался вслед за проводником. Оглянувшись назад, он увидел несколько стремительно спускавшихся вниз по холму светящихся точек. Изредка бросая взгляд через плечо, Юлиан с облегчением отмечал, что с каждой минутой они отрываются от отягощенных оружием и доспехами преследователей все дальше и дальше. Он уже начал расслабляться, как вдруг услышал громкий треск; его лошадь с грохотом повалилась на землю, выбросив его из седла. С трудом поднявшись на ноги, Юлиан с ужасом увидел, что передняя нога коня неестественно вывернута в сторону — судя по всему, животное угодило копытом между двумя лежавшими на дороге камнями. Ускакавший вперед проводник повернул было назад, но Юлиан остановил его жестом, говорившим: спасайся, мол, хоть ты, мне уже не поможешь. Окинув римлянина полным сожаления и тревоги взглядом, проводник пришпорил коня и исчез за уступом холма. Юлиан остался один. Он понимал: пленение и допрос неизбежны.
* * *
В приемном покое дворца в Дастагерде, крупном городе и бывшей столице Персии, сурена — второе лицо в государстве после Великого Царя, — коротая время в ожидании начала первого из назначенных на этот день приемов, читал свою любимую книгу — «Книгу законов стран», научный труд, написанный более двухсот лет назад неким Бардайсаном, христианским философом из находившегося под протекторатом Рима Озроенского царства, располагавшегося между Евфратом и Месопотамией. До чего ж проницательный был человек, подумал сурена. То, о чем писал Бардайсан, оставалось актуальным и теперь, два столетия спустя.
Концепция его была столь проста, что казалась очевидной; то, что лишь немногие мировые мыслители и правители признавали ее ценность, выглядело весьма странным. Суть ее заключалась в следующем: мир (по крайней мере, тот, что заключен между океанами на западе и востоке) от Каледонии до Чосона, включающий в себя Рим и Персию, империю Гуптов в Северной Индии, степные ханства и Китай, окольцован узким ободком цивилизации. В центральной Азии этот обод, пусть и крайне тонкий, сохранил свою целостность и нерушимость (свидетели тому — города, стоящие на Великом шелковом пути, такие как Урумчи и Самарканд, и высеченные в скалах горной долины Бамиан колоссальные статуи Будды)[52]. В пределах этого кольца впервые появлялось и расцветало лучшее из задуманного и сделанного человеком: земледелие и города, письмо — без которого не было бы общения и накопления знаний, искусство и архитектура, инженерная мысль, математика, музыка, астрономия, философия и законоведение, теории демократии и естественной справедливости, великие религии et cetera, et cetera.
Однако, несмотря на его крайнюю важность, обод этот ломок и непрочен; его существованию угрожают дикие народы на севере и юге; германцы на болотах и в лесах запада; кочевые орды туркменов и гуннов в степях; свирепые мавры, берберы и арабы в южных пустынях. Сейчас золотая цепь Бардайсана близка к разлому в Западной Римской империи, где варвары грозят разрушить основы правления и общества. Но вместо того чтобы попытаться понять, перенять и укрепить культуры друг друга, тем самым защитив цивилизацию и позволив ей развиваться, великие империи, похоже, вознамерились и дальше вести взаимоуничтожающие войны или следовать политике бесполезной изоляции. Вот почему сурена был решительно настроен против всего того, что могло нарушить хрупкий мир между Восточной Римской империей и Персией — особенно против задуманной царем безрассудной армянской авантюры.
* * *
Все утро и большую часть дня сурена провел за встречами с осведомителями, доставлявшими информацию из самых отдаленных уголков земли: шкиперами, водившими суда в Тапробану и Паралию[53], хозяевами караванов, доставлявших шелка из Китая или фимиам из Сабы[54], торговцами слоновой костью и камедным деревом из Аксума и Нубии[55]. То была работа, которую он любил; она позволяла ему всегда быть в курсе того, что происходило за пределами Персии. Подобным сведениям не было цены; благодаря ним сурене удавалось проводить эффективные переговоры с дипломатами и посланниками из других государств и давать Великому Царю разумные советы относительно внешней политики. Впрочем, больше всего его интересовало то, что происходило в Римской империи — потому, что две ее части формировали огромное единое торговое пространство с собственным внутренним рынком и общими деньгами, сводя тем самым к минимуму необходимость во внешней торговле и контактах.
* * *
Слуга уже зажег в приемном покое масляные лампы, и сурена собирался уходить, когда возникший в дверях канцелярист сказал, отвесив низкий поклон:
— Только что доставили пленного. Приказать, чтобы его провели к вам?
— Нет-нет, — раздражительно ответил сурена. — Это может потерпеть до завтра.
— Осмелюсь предположить, что вы пожелаете допросить его сегодня, — настаивал чиновник. — Этот человек — римлянин.
— Вот как? Что ж ты сразу-то не сказал? Конечно, я хочу его видеть. Пусть его сейчас же приведут сюда.
Введенный суреной в Большой зал дастагердского дворца Юлиан (раскрывший лишь свое имя и военное звание) открыл рот от удивления. Стены зала украшали сверкающие римские трофеи — оружие и доспехи, более трехсот штандартов и орлов.
— Эти достались нам после сражения при Каррах, где мы сокрушили войско Красса; произошло это пятьсот лет назад, — сказал сурена на превосходном греческом, указывая на ближайшие знамена. — Это — штандарты армии Валентиниана, капитулировавшей перед нами в Эдессе тремя столетиями позже. А вот эти принадлежали бежавшим с поля боя легионам твоего тезки Юлиана; случилось это всего восемьдесят лет назад, когда некоторые из ныне живущих были еще младенцами. Догадываешься, зачем я показываю тебе все эти вещи?
«Вряд ли он хочет унизить меня напоминаниями о более чем скромных достижениях Рима в боях против персидских царей», — подумал Юлиан. Этот галантный советник, решил он, судя по всему, принадлежит к высшей персидской касте, представители которой чтят храбрость, правду и честь в не меньшей степени, чем римляне, да и обходится он со мной вежливо и предупредительно.
— Честно говоря, нет, господин, — ответил он.
— Я хотел, чтобы на этом наглядном примере ты понял всю бесполезность войны между нашими двумя великими народами, — продолжал сурена. — Что дал Риму и Персии, великим цивилизованным державам, этот многовековой конфликт? Смерти бессчетных тысяч молодых людей, разрушение красивейших городов, превращенные в пустыни плодородные земли, казна, опустошенная дорогостоящими войнами, — вот оно, наше наследство. Это противостояние ни йоты не дало ни одной из сторон; от него — одни лишь потери. Риму и Персии следует быть союзниками, а не врагами; стань мы таковыми, мы бы несметно обогатили друг друга.
— Согласен с каждым вашим словом, господин, — осторожно сказал Юлиан, впечатленный очевидной искренностью советника, но понимавший, что когда-нибудь тот забудет о любезностях и устроит пленному пристрастный допрос. Долго ждать не пришлось.
— Что же ты тогда делаешь посреди персидской Армении? — в голосе сурены зазвучали резкие нотки.
Этот человек способен распознать любую ложь, решил Юлиан и ничего не ответил.
— Твое молчание говорит само за себя, — твердо произнес сурена. — Ты шпион, как я и думал. — Он окинул Юлиана оценивающим взглядом. — Ты откроешь мне все подробности своей миссии, — продолжал он спокойным тоном. — Кроме того, расскажешь все, что знаешь о состоянии обеих римских империй, действенности и готовности их армий, их сильных и слабых сторонах, амбициях и планах правителей и военачальников.
— Я мало что знаю о политике Рима, и вряд ли в этом смысле буду вам полезен. Кроме того, я бы предал доверившихся мне людей, расскажи я вам то немногое, что знаю, или сообщи хоть какую-то информацию касательно своего пребывания в Армении; ведь все, что мне известно, может быть использовано против моей страны.
— Благородные слова. Нечто похожее, наверное, говорил и ваш Регул. Но поверь мне, ты, в конце концов, расскажешь мне все. Либо добровольно, либо… — Он нахмурил брови. — Я весьма расстроюсь, если придется подвергнуть столь отважного молодого человека, как ты, пыткам. Они… очень эффективны. Выбор — за тобой. Но, чтобы помочь его сделать, я тебе кое-что покажу. Следуй за мной.
* * *
Небольшая процессия — сурена, Юлиан, трое стражей с факелами, тюремщик и кастелян — спустилась по грязной и сырой лестнице мрачной дастагердской государственной тюрьмы и, прошествовав по длинному коридору, остановилась у зарешеченной камеры, каких в подземелье было не меньше дюжины. Тюремщик отпер и широко распахнул дверь, и взору Юлиана предстала не убогая дыра, какую он ожидал увидеть, а освещенная масляными лампами просторная комната, увешанная богатыми коврами и обставленная мягкими диванами, на одном из которых лежал мужчина в дорогом, хоть и слегка грязном, шелковом платье. Узник зашевелился и уже через мгновение принял сидячие положение.
— Он из знатной семьи и содержится в условиях, соответствующих его положению, — сказал сурена. — Даже оковы его — серебряные.
— Какое преступление он совершил?
— Отрекся от зороастризма и стал христианином — наряду со многими другими персами, — ответил советник. — Что касается низших каст общества — воинов, бюрократов, простого народа, — то Великий Царь предпочитает не обращать внимания на то, что некоторые их представители принимают христианство. Люди же знатные, те, кто должен во всем служить примером остальным, по его мнению, должны быть лишены подобной свободы выбора. Их отказ от государственной религии, Beh Den, Истинной Веры, считается преступлением, караемым смертной казнью. На самом деле, полагая, что армяне достойны того, чтобы исповедовать веру Зороастра, Великий Царь оказывает им любезность. Родственники этого человека, которые, как мы полагаем, тоже приняли христианство, теперь где-то скрываются. Где именно, он, будучи человеком благородным, говорить нам отказался. — На мгновение на лице сурены отразилось сострадание. — Как бы то ни было, желание Великого Царя есть закон, и закону этому мы должны подчиняться. Каким бы неприятным те из нас, кто вынужден приводить приговоры в исполнение, его ни находили, — добавил он вполголоса.
Коротко переговорив с кастеляном, сурена вновь повернулся к Юлиану.
— Похоже, обычные допросы в данном случае оказались неэффективными; заключенный продолжает упрямиться. Что ж, видимо, пришло время применить иные методы.
* * *
Обнаженное тело узника покоилось на приподнятой каменной плите в центре комнаты пыток. Заключенный лежал лицом вниз, его распростертые в стороны конечности были крепко связаны ремнями. Позади плиты нерешительно топтались на месте двое слуг в грязных набедренных повязках. За столом, у стены, сидел писец, готовый записать любое высказывание арестанта. Подойдя к заключенному, сурена что-то сказал ему на фарси. Ответом советнику было молчание, и сурена приказал начинать пытку.
Один из слуг ножом сделал большой надрез на спине заключенного, который задергался в конвульсиях, но не произнес ни слова. Тогда кровоточащую рану расширили и при помощи зажимов закрепили в открытом положении. Воспользовавшись щипцами, второй слуга вынул из стоявшей в углу печи раскаленный тигель и залил расплавленный металл в рану. Нечеловеческий крик забившегося в агонии пленника оглашал комнату лишь несколько секунд, по истечении которых тело заключенного обмякло.
— Они используют медь, которая плавится при большей, нежели свинец, температуре, и, соответственно, вызывает более сильную агонию, — пояснил сурена Юлиану, на лице которого все еще отражался неописуемый ужас. — Чуть позже пытка будет продолжена. В конце концов этот упрямец заговорит — на этот счет у меня нет никаких сомнений. Будешь и дальше хранить молчание, — мрачно добавил он, — окажешься на его месте. Пойдем, мы видели достаточно.
— Подумай о себе, парень, — сказал сурена Юлиану, когда они вышли из тюрьмы. — Ты сам видел, что бывает с теми, кто отказывается говорить. В сотрудничестве с нами нет ничего постыдного. В крайнем случае, пока мы будем разбираться с армянами, ты можешь оставаться со мной в моем имении в долине реки Карун, и не как узник, а как почитаемый гость. Будем охотиться — у меня там есть и ястребы, и гончие, — прохладными вечерами слушать музыку лиры и флейты, попивать вино, охлажденное снегом, привезенным с предгорий Санганака. — Он смерил Юлиана пристальным взглядом. — Соглашайся.
Юлиан почувствовал непреодолимое желание принять предложение сурены. Открыв рот, он хотел сказать, что согласен, но прошептал другое:
— Не могу.
Разочарованно покачав головой, сурена кивнул стражникам, и те схватили Юлиана за руки.
— Тогда я ничего не могу для тебя сделать, — проговорил он. — Ты глупец, римлянин, но глупец храбрый. — Круто повернувшись, он быстро зашагал к тюремным воротам.
* * *
Йезигерд II совершал обычную конную прогулку по огромному зверинцу Беклаль у Ктесифона, своей столицы; вокруг стайками кружили лани, зебры и страусы. Персия должна вернуть себе былое величие, подумал Йезигерд, проскакав мимо мирно щипавших травку животных. Он, Великий Царь, воскресит в народной памяти славные дни Дария и Кира, Камбиза и двух Шапуров. Армения, в этом плане, выглядит подходящей испытательной площадкой для его армии. Он введет войска в ту часть Армении, которая находится под протекторатом Персии, а если люди этого ренегата Вардана попытаются оказать сопротивление, они будут безжалостно подавлены. Христианство будет растоптано; он заставит армянский народ принять истинную веру. А затем его доблестная армия вторгнется в Западную Армению. Рим (Восточный Рим, то есть), естественно, этому воспротивится. Ну и пусть. Он, Йезигерд II, с удовольствием примет брошенный римлянами вызов. Возможно, пришло время двум этим великим державам окончательно выяснить, кто из них сильнее. Политику в отношении Рима он выработает уже сегодня, — после того как заслушает доклад своего главного советника о том, как обстоят дела в обеих римских империях. Уверенный в скором успехе, Йезигерд повернул коня к Ктесифону.
* * *
Войдя в Таки-Кисра, царский дворец в Ктесифоне, через украшавшую фасад огромную центральную арку[56], сурена прошел в приемный покой, где его ожидал Великий Царь.
Йезигерд сидел на богато убранном троне; одетый в воинские доспехи, царь опирался на прямо стоявший между его ног обнаженный меч. За царским престолом, на более низком возвышении, стояли еще три кресла: для императора Китая, великого кагана, правителя кочевых племен центральной Азии, и римского императора — отголоски тех времен, когда эти властелины являлись ко двору Царя Царей в качестве вассалов. Сейчас, похоже, не лучший момент для того, чтобы попытаться убедить царя отказаться от вторжения в Армению, решил сурена, завидев агрессивную позу Йезигерда. Низко поклонившись, он сказал:
— Великий Царь, в соответствии с вашими требованиями, я принес вам доклад о Риме.
Йезигерд нахмурил брови.
— Мы не видим документов. Где твои записи, твой меморандум?
— Здесь, господин, — ответил сурена, постучав себе по лбу. — В пергаментах или папирусах я не нуждаюсь. С младых лет я научился обходиться без их помощи. Все, что я узнаю из письменных или устных источников, остается в моей памяти.
— Мы впечатлены. Продолжай.
— Из двух христианских римских империй, — начал сурена, — одна точно не будет нам мешать — Западная. Она слаба, казна ее опустела, половина ее территорий отдана белокурым варварам, пришедшим из-за Рейна и Данубия. Лишь гений великого полководца, Аэция, удерживает Запад на краю пропасти. Доставить нам беспокойство может лишь наш сосед, Восточная империя.
— Но мы можем заставить Восток нас бояться? — откликнулся Йезигерд с надеждой.
— Вряд ли у нас это получится, господин. Новый восточный император, Маркиан, занял гораздо более жесткую позицию в отношении гуннов, чем его слабый предшественник, и Бич Божий, как зовут Аттилу римляне, судя по всему, собирается обратить свой взор на Запад. Теперь, когда Восток задышал свободнее, дело может вновь, после девятилетней паузы, вылиться в нашу с ним войну. И зачинателями этой войны станем мы, Великий Царь.
— Но столь ли сильна Восточная империя, чтобы представлять для нас угрозу? — настаивал Йезигерд.
— Похоже, что да. Восточный Рим богат и густонаселен, его изрядно потрепанные в битвах с Аттилой армии постепенно приходят в себя и в самом ближайшем будущем обретут былую силу. Но, мне кажется, вся энергия восточных римлян направлена сейчас исключительно на восстановление опустошенных земель; приоритеты их скорее экономические, нежели военные. Если кто и способен подтолкнуть их к войне, то только мы сами, — в том случае, если покажем, что вынашиваем амбициозные планы в отношении той части армянской территории, которая находится под римским протекторатом. Об этом, как и многом другом, мне поведал попавший в наши руки римский шпион.
— … значит, Восток войны не хочет. Но он силен, — задумчиво пробормотал царь, выслушав доклад сурены. Словно устав играть роль царя-воина, Йезигерд вложил меч в ножны и прислонил его к подлокотнику трона. — И, возможно, столь силен, что было бы глупо с ним сейчас враждовать, — наряду с досадой в голосе царя прозвучало и несомненное облегчение.
— Вы, как всегда, правы, мой повелитель, — с чувством произнес сурена; похоже, полномасштабной войны с непредсказуемым исходом все же удалось избежать. — В высшей степени мудрое решение, Великий Царь.
* * *
Находившийся в расположенной в казармах дворцовой гвардии в Константинополе канцелярии Аспар вычеркнул имя Юлиана из списка имперских агентов. Со дня отбытия трибуна в Армению прошло два месяца, из чего следовало, что Юлиан либо находится в плену у персов, либо — что было более вероятно — уже мертв.
Еще одна загубленная молодая жизнь. Ради чего? На этот вопрос полководец не имел ответа. Даже если бы миссия Юлиана закончилась успешно, вряд ли бы она смогла в значительной степени повлиять на великие планы Рима и Персии. Что бы ни случилось, Великий Царь все равно вторгнется в Восточную Армению; римская помощь армянским бойцам за свободу уже, похоже, не материализуется; да и в любом случае, персы быстро сломят сопротивление людей Вардана Мамиканяна и Восточная Армения станет очередной сатрапией. От нападения же на римскую Армению Йезигерд, который грозен скорее на пергаменте, нежели на деле, вероятно, воздержится. Поэтому, в конце концов, изменений произойдет немного, и отношения между Персией и Римом останутся такими же, какими и были. Ему же, Аспару, придется исполнить неприятную обязанность — сообщить о судьбе Юлиана родителям молодого трибуна. Тяжело вздохнув, Аспар вызвал к себе нотария.
Глава 43
Не я ли дала жизнь Богу?
Возражение Августы Пульхерии патриарху Несторию в ответ на ее исключение из храма Святой Мудрости. 430 г.Войдя в молельню, Гонория, ссыльная сестра западного императора Валентиниана, поймала многозначительный взгляд Присциллы и тут же ощутила знакомое возбуждение. Мысль о скорой встрече помогла ей терпеливо отстоять утомительную церковную службу, проводимую сестрой Аннунциатой, аскетичной сирийкой, для которой пост, молебен и умерщвление плоти представляли суть жизни и которая жестко навязывала свои привычки всем прочим сестрам. Но вот показавшаяся Гонории нескончаемой литания завершилась, и, скромно потупя взор, избранные девицы потянулись к выходу из здания, богато украшенного мозаиками и ими же сотканными гобеленами. Возглавляла процессию Пульхерия, сестра недавно умершего Феодосия, а ныне супруга нового императора, Маркиана; рядом с ней шли ее младшие сестры, Аркадия и Марина. Молельня являлась частью монастыря, в который Пульхерия превратила Гебдомон, второй из трех императорских дворцов Константинополя. Мужчинам вход в разместившийся у Золотых ворот монастырь был категорически воспрещен. Исключение составляли лишь евнухи, сплошь — чужеземные, как правило, персы (в самой Римской империи кастрация находилась под запретом).
Черни набожная и непреклонная Пульхерия, «правоверная», как ее называли в народе, внушала благоговейный страх и восхищение. Этим полумистическим почитанием она обязана сознательному поощрению культа Богородицы, Theotokos, который, в свою очередь, наделил Пульхерию (по ее же собственным словам) непорочностью Девы Марии. Когда Несторий, епископ Константинопольский, осмелился усомниться в том, что Пульхерия действительно соблюдает обет безбрачия, разъяренная толпа быстро его уняла, и вскоре епископ и вовсе был осужден и оправлен в ссылку.
Формально, в монастырь Пульхерии принимали лишь набожных девушек — таких, что чувствовали призвание свыше, и, главным образом, из благородных семейств. Некоторыми из них двигал проходящий со временем девический задор; однако же, тем, кто был принят в это сообщество, уход из него стоил огромных усилий и далеко не в каждом случае представлялся возможным. Были и такие, кого в монастырь отсылали не справлявшиеся с воспитанием трудных дочерей родители, которые надеялись на то, что строгий, набожный образ жизни даст нужный результат там, где сами они оказались бессильны. В подобных случаях неизменным условием приема оставалось щедрое денежное «пожертвование». По вышеназванным причинам девушек отчаявшихся или непокорных в монастыре встречалось крайне мало. Тем не менее именно к этой категории можно было отнести Гонорию, неотлучно проведшую во дворце четырнадцать последних лет.
Выйдя из молельни, сестры оказались в большом, обрамленном колоннадами внутреннем дворе, где за свободными занятиями — медитацией, чтением набожных текстов, молитвами либо же вышиванием гобеленов и алтарных покровов — они должны были провести два остававшихся до постного полуденного prandium часа. Разговоры осуждались, как представлявшие собой несерьезное — по сравнению с более важными (то есть, праведными) делами — развлечение.
— В восемь, — прошептала Гонория, пройдя мимо что-то бормотавшей себе под нос Присциллы. Ни та, ни другая не обратили внимания на то, как вспыхнуло ревностной ненавистью лицо Ариадны, предыдущей любовницы Гонории, — слова эти долетели и до ее ушей.
Расхаживавшая взад и вперед по двору — с видом таким, какой позволял (и напрасно!) считать, что девушка погружена в глубокие религиозные размышления — Гонория кипела от ярости и неудовлетворенности. «Что за жизнь», — в который уже раз подумала она с досадой. Родилась и воспитывалась она в Равенне, западной столице, ни в чем не нуждалась и ни в чем не знала отказа, но все это закончилось в тот момент, как ее матери, Плацидии, вздумалось титуловать дочь Августой, коей обычно принято считать супругу законного императора. Обретенный Гонорией статус позволил ей встать в один ряд с верховной жрицей и императрицей и лишил возможности выйти замуж. Пожаловав дочери титул Августы, Плацидия заботилась исключительно о государственных интересах: Гонория оказалась недосягаема для всякого рода тщеславных интриганов, которые — в случае женитьбы на ней — могли причинить вред империи. О чувствах девушки никто и не думал. Уже тогда Гонория понимала, что с ней поступают несправедливо, но ничего не могла с этим поделать; гораздо же хуже было то, что в те годы она как раз достигла половой зрелости и начала испытывать сильное сексуальное желание, а никаким законным способом удовлетворить его не могла.
Отчасти для того, чтобы досадить матери и бессердечным епископам Консистории, приговорившим ее к жизни весталки, отчасти ради утоления собственной страсти, шестнадцатилетняя Гонория вступила в компрометирующую связь со своим прокуратором, Евгением. Последовавшую беременность вполне можно было скрыть, но пришедшая в ярость Плацидия сделала семейный позор публичным достоянием, заточив дочь в константинопольский монастырь. Предполагалось, что жизнь, построенная на строгом соблюдении религиозных обрядов, дисциплинирует Гонорию и окажет на нее благотворное влияние. Но та, недовольная введенными Пульхерией (на высокие порывы которой Гонории было глубоко начхать) ограничениями и лишенная возможности дать выход своим желаниям через замужество, закрутила в стенах монастыря целую серию лесбийских романов с такими же, как и она сама, свободомыслящими девицами. Сейчас она тайно встречалась с Присциллой, которая заняла в ее сердце место Ариадны. Та же, в свою очередь, восприняла «отставку» крайне болезненно и то слезно умоляла бывшую Августу вернуться, клянясь ей в вечной любви, то обвиняла ее в предательстве и грозилась отомстить. Но Гонория, которая была без ума от своей новой возлюбленной, в конце концов просто перестала обращать на Ариадну внимание.
* * *
В восемь часов Присцилла прокралась в келью Гонории. «Все в порядке: меня никто не видел», — прошептала она охрипшим от возбуждения голосом и принялась срывать монашескую одежду — длинную, до пят, тунику из грубого неокрашенного льна. Не медля ни секунды, Гонория последовала ее примеру, и уже через несколько мгновений сгоравшие от обоюдного желания женщины бросились друг другу в объятья; губы их сплелись в страстной схватке, соски набухли и потемнели. Упав на ложе, Гонория широко развела бедра и забилась в экстазе, когда вибрирующий язык Присциллы нашел ее губы — другие — и начал нежно ласкать раскрывшийся бутон…
Дверь с грохотом слетела с петель и в келью ворвались два дородных евнуха; за их спинами маячили тощие формы сестры Аннунциаты.
— Пойманы — in flagrante delicto! — ликующе завизжала монахиня, и глаза ее запылали фанатичным огнем. — Увести ее! — скомандовала она евнухам, указав на съежившуюся Присциллу.
* * *
Вместе с прочими выведенными во двор сестрами, Гонория вынуждена была наблюдать за тем, как спина ее возлюбленной, сдерживаемой двумя евнухами, покрывается все новыми и новыми кровавыми рубцами, — сестра Аннунциата ко всему подходила с присущим ей исступлением. Для доносчицы, Ариадны, крики жертвы звучали как музыка. Покрытую несмываемым позором Присциллу ждала отсылка домой, к родителям. Гонория же о подобном освобождении могла лишь мечтать.
Когда ее вызвали к Пульхерии, та в холодных тонах заявила, что отныне, после отбытия одиночного заключения, Гонория, во избежание повторения случившейся постыдной сцены, будет находиться под постоянным присмотром.
— Тебя следовало наказать наравне с Присциллой, — продолжала Пульхерия, — но, к сожалению, тебя, как дочь бывшего императора, подвергать порке нельзя. Особи одного пола не могут иметь сексуальных контактов друг с другом, — так говорит Священное Писание. — Черты ее лица смягчились и в голосе зазвучали беспокойные нотки. — Думала ли ты о своей бессмертной душе и о душах развращенных тобой женщин? Огонь Преисподней еще более жарок, чем огонь страсти.
— В молитвах своих я буду неустанно просить Бога о прощении, ваша светлость, — пробормотала Гонория в мнимом раскаянии. Она давно поняла всю тщетность своей борьбы с сильными мира сего. А все эти разговоры о наказаниях загробного мира Гонория и вовсе пропускала мимо ушей. Она воспитывалась на романском Западе, где влияние язычества ощущалось в гораздо большей степени, нежели на Востоке, и научилась мыслить свободно и скептически. Здесь же людские поступки зачастую определялись религиозным пылом и мыслями о том, что их ждет после смерти.
— В этих стенах я не «ваша светлость», а просто «матушка», — мягко поправила ее пожилая женщина; став императрицей, она обнаружила, что многие в монастыре теряются, когда хотят к ней обратиться. — Будем надеяться, что Бог тебя услышит. Я же тем временем спрошу у монаха Даниила[57], какого наказания ты заслуживаешь. Столп его не столь высок, чтобы он не мог дать совет тому, кто его просит. А теперь давай вместе помолимся Господу нашему; пусть свет Его укажет Его заблудшему дитя дорогу к истинному покаянию и целомудренной жизни.
* * *
Раздраженная ограничениями — теперь еще более жесткими — презираемой ею жизни, измученная желаниями, удовлетворять которые она больше не могла, Гонория становилась все более и более сердитой и безрассудной, пока, наконец, в голову ей не пришла одна безумная идея, которая должна была помочь принцессе вырваться из этого невыносимого заключения и отомстить тем, кто лишил ее свободы. Набравшись решимости и наплевав на здравый смысл, абсолютно не отдавая себе отчета в том, к чему может привести ее выходка, Гонория тут же взялась за перо и написала письмо, которое, вместе с собственным перстнем, вручила преданному евнуху. Приказ ее был прост: послание доставить во что бы то ни стало, передать указанному лицу лично и постараться, чтобы оно не попало на глаза тем, кому не предназначено.
Часть третья Каталаунские поля 451 г.
Глава 44
Гонория, сестра императора Валентиниана III, позвала Аттилу в империю.
Безымянный автор. Галльская хроника. 452 г.Никогда еще Аттила не ощущал столь сильного беспокойства. Совет, который должен был решить, что делать в этот переломный момент, проходил в атмосфере нервного разажения и сомнений. Весть о том, что Восток отказывается платить дань, распространилась среди гуннов со скоростью выпущенного катапультой каменного ядра, и некоторые горячие головы тут же завопили о необходимости решительных ответных действий. Встретившись со столь непреклонным сопротивлением, гунны пришли в замешательство. С того самого момента, как, семьдесят лет назад, они впервые возникли на европейской арене, никому еще не удавалось эффективно им противостоять. Но потом было сражение на реке Ут. Времена, так или иначе, изменились, подумал Аттила, окинув взором забитую до отказа комнату. Когда еще был жив его отец, на Совет могли являться все взрослые мужчины племени, которые собирались где-нибудь в открытом поле и даже не слезали со своих лошадей. Теперь же он созывался тайно, и приглашение на него получало лишь ограниченное число глав выдающихся фамилий, — модель эту гунны переняли у римлян.
Шум на сегодняшнем Совете стоит не меньший, чем в растревоженном пчелином улее, отметил Аттила, усаживаясь на стоявшую посередине круглого покоя скамью. Уж не кажется ли некоторым из присутствующих, что авторитет его ослабевает? Не хотят ли они, словно собравшиеся в стаю волки, бросить вызов своему, немолодому уже, вожаку? Что ж, если так, то следует сразу же направить собрание в нужное ему русло. Аттила кивнул в сторону Онегесия, который всегда придерживался умеренных взглядов и, кроме того, приходился ему другом.
— Говори, Унгас, — призвал он, употребив гуннскую форму имени Онегесия, которую тот, любитель всего римского, латинизировал.
— Господин, если Маркиан отказывается платить нам дань, — начал Онегесий, — то, возможно, пришло время гуннам задуматься о том, чтобы изменить свой образ жизни. Мы не сможем вечно жить за счет одних лишь грабежей и набегов. Глупо было не сознавать того, что, рано или поздно, римляне обретут смелость и волю противостоять нам. После сражения на реке Ут и то и другое у них появилось.
Выступление Онегесия Совет встретил недовольным гвалтом: «Трус!», «Предатель!» неслось со всех сторон.
— Молчать, — рявкнул Аттила и обвел собравшихся столь суровым взглядом, что в комнате тут же воцарилась тишина. — На Совете каждый может говорить то, что думает, ничего не страшась, и не должен Аттила напоминать вам об этом. Евдоксий, твой голос звучал громче других. Чем ты недоволен?
Беглый предводитель багаудов, худой, энергичный мужчина с горящими глазами, прокашлялся.
— Раз уж это дозволено, ваше величество, скажу прямо. Совет Онегесия столь постыден, что даже в обсуждении не нуждается. У вас нет другого выбора, кроме как организовать поход на Восток, либо же — если подобное предложение королю гуннов не по душе — напасть на Запад, который сейчас как никогда уязвим. Половина франкского народа желает видеть на престоле брата Меровеха и с удовольствием присоединится к гуннам. Не успеете вы перейти Рейн, как Арморика возьмется за оружие. Едва вы протрубите в рог, как примкнет к вам и Гейзерих. Римская армия в Галлии с каждым днем становится все слабее и слабее; солдаты голодают и месяцами не получают жалованья. Но если Аттила предпочитает остаться дома и пасти свои стада… — Оставив мысль незаконченной, Евдоксий пожал плечами и оскалил зубы в вызывающей улыбке.
— Попридержи свой язык, римский пес, — прорычал Аттила. — Будь ты гостем вандалов, а не гуннов, уже давно бы его лишился, так что можешь считать себя счастливчиком. Советую тебе не злоупотреблять больше нашим гостеприимством. У того, что ты сказал, есть и другая сторона. Половина франков может поддерживать брата Меровеха, но другая-то хранит верность своему королю, который, по общим отзывам, правит своим народом справедливо и со знанием дела. Гейзерих хочет, чтобы мы напали на Запад, потому что боится, как бы визиготы не объединились с римлянами и не поперли его из Африки. Если же говорить о стоящей в Галлии римской армии, то соглашусь: она знавала времена и получше, но по-прежнему сильна и не разучилась выигрывать сражения. Или ты забыл битвы у Нарбо и Хелены?
— Простите меня, ваше величество, — Евдоксий изобразил на своем лице смирение. — Вы правы, что напоминаете мне о тех победах. Одна из них была добыта не без помощи гуннов, другого же, не менее славного триумфа римляне достигли, одолев практически безоружное гражданское население. Да то и неважно; римляне — воистину отважные воины, и проявляя осторожность, прежде чем атаковать их, Аттила поступает мудро. — Еще одна провокационная улыбка.
— Уж не думаешь ли ты, что я снизойду до споров с тобой, римлянин, — презрительно бросил в ответ Аттила, проклиная тот день, когда он приютил у себя этого агитатора. — Ты говоришь, что у нас есть лишь две альтернативы. Я же вижу и третий выбор. — И он выложил перед Советом предложение Аэция, сделанное через Тита Валерия Руфина, посланника западного полководца: военная служба с целью сдерживания федератов-германцев; дележ доходов Запада; возможность будущего союза с Западной империей.
Предложенный Аттилой план оценили немногие: лишь Онегесий и парочка пожилых, убеленных сединами гуннов выразили полное с ним согласие. Остальные старейшины хранили молчание. Увидев, что молодые гунны сгрудились вокруг Евдоксия, Аттила испытал новое, тревожное чувство: события постепенно выходили из-под его контроля, а сам он из главы Совета превращался в некого стороннего наблюдателя. Впервые с того дня, когда, незадолго до заключения маргского договора, они повздорили с Бледой, его авторитету был брошен вызов, и справиться с надвигающимся кризисом можно было лишь одним способом: напасть на зачинщика смуты и сокрушить его.
— Давай, Евдоксий, выскажись, — предложил Аттила. — Что ты там бормочешь, словно беззубый старик, — ничего не слышно. — К его облегчению, многие из собравшихся приветствовали этот выпад сардоническими смешками.
Но Евдоксий знал, куда следует жалить.
— Как скажете, ваше величество, — лицо бывшего знахаря налилось гневом. — Ваше превосходное предложение сводится к следующему: гунны должны стать наемными прислужниками римского полководца — того самого, заметьте, по чьей глупости лишились жизни шестьдесят тысяч их соплеменников. Все мы знаем, что когда-то он был вашим другом. Складывается впечатление, что, пользуясь своим высоким положением, вы скорее готовы оказать поддержку этому ненадежному человеку, нежели позаботиться о благополучии собственного народа. Иначе, зачем бы Аттиле скрывать от Совета содержание некого письма?
Удар был сильным, и пришелся он точно в цель, — такого развития событий Аттила и предположить не мог. Он-то думал, что о письме Гонории никто и не догадывается. Откуда о нем узнал Евдоксий, многое ли ему известно? Посыльный, евнух из персов, показался ему вполне надежным. Вероятно, Евдоксий узнал о его прибытии и подстерег на обратном пути, где-нибудь в степи. Момент крайне опасный; в отличие от римского императора, он, Аттила, предводитель варваров, правил своими людьми с всеобщего согласия. Увидят, что он слаб или неудачлив — изберут нового вожака. Вряд ли Евдоксий блефует, решил Аттила. Хотя и не похоже, что Гонория могла довериться евнуху, Евдоксий вполне мог заставить того признать, что письмо прислала лишенная братского расположения сестра западного императора и что к нему прилагался перстень — символ, который мог означать лишь одно. Предположи Евдоксий, что он, Аттила, скрыл от Совета некую важную информацию — и его, короля гуннов, позиции вмиг пошатнутся, и серьезно. Избежать смертельного укуса змеи можно, лишь опередив ее и не иначе, но тогда ему придется последовать тем курсом, идти которым он меньше всего желал. Ничего не поделаешь, другого выхода нет. Судя по всему, Евдоксий, этот коварный ренегат, победил.
— Так вот чем ты, неблагодарный негодяй, отвечаешь на наше гостеприимство? — ответил Аттила холодно, но спокойно, отчего слова его прозвучали еще более угрожающе. — Подкуп прибывшего к королю посыльного у нас, гуннов, считается изменой. Ты же, гость, пойдя на это, злоупотребил моим доверием, что лишает тебя предоставленного иммунитета. Забыл, что случилось с Констанцием? Наверное, мне следует просить Совет вынести тебе надлежащий приговор.
Евдоксий уже и сам понял, что перегнул палку, лишившись тем самым влияния на собрание и поставив жизнь свою под удар.
— П-п-прошу прощения, господин, — проквакал он. — Все, что я видел, — это лишь как приехал курьер. Что за весть он принес с собой, я не знаю.
— Тем лучше для тебя, — сурово ответил Аттила. — Я тебе верю, а потому дарую тебе твою никчемную жизнь. Впредь держи язык за зубами. Откроешь еще раз свой поганый рот, и я забуду о том, что могу быть милосердным. — Отвернувшись от дрожащего римлянина, он обратился к вмиг стихшему собранию. — Это жалкое подобие человека, — кивком головы он указал на Евдоксия, — осмелилось приблизить то, ради чего мы здесь собрались. А созвал я Совет для того, чтобы огласить перед вами содержание письма, о котором упомянуло это ничтожество. Но перед этим я решил рассказать вам о других альтернативах, — для того, чтобы вместе мы смогли выбрать тот путь, по которому пойдет наш народ. Письмо прислала мне Августа Гонория, которую на протяжении последних четырнадцати лет держит взаперти в одном из константинопольских дворцов позорящий равеннский престол император Валентиниан, ее брат. Гонория просит меня освободить ее от этой мучительной подневольности, взамен же обещает стать моей женой. В знак своей любви и доброй воли сестра императора вложила в письмо свой перстень. — Аттила обвел взором лица собравшихся, — теперь все они, как один, жадно ловили каждое его слово. — Если мы согласимся удовлетворить просьбу дамы, — улыбнулся Аттилу, — то, думаю, вполне сможем рассчитывать на солидное приданое — скажем, половину Западной империи. Ну, так как, ответим согласием?
Ответом королю гуннов стали восторженные крики его подданных. Аттила уцелел, лидерство его еще более упрочилось. Вот только далось ему все это ценой огромной личной жертвы.
* * *
Вечером, остановив коня на краю обрыва, под которым несла свои стремительные воды река Тиса, Аттила вытащил из закрепленной под седлом сумы серебряное блюдо, подарок Аэция. Мысленно восстановил в памяти все изображенные на нем сцены, каждая из которых олицетворяла один из этапов их долгой и богатой событиями дружбы. Обстоятельства сложились так, что оставить блюдо у себя он уже не мог. Что ж, Мурдук, великий бог войны, столь достойному подношению будет только рад, подумал Аттила. «Прощай, Аэций, друг мой старинный, — прошептал он печально. — Тяжелее дня в жизни Аттилы не было, отныне мы с тобой враги». Уверенным движением он забросил блюдо на середину реки; описав крутую дугу, оно с плеском упало в воду и, блеснув напоследок, исчезло из виду.
Возвращаясь в деревню, Аттила сказал последнее «прощай» и своим мечтам о Великой Скифии. Теперь ему оставалось лишь одно: вести свой народ по выбранному пути, навстречу суровым и кровавым сражениям, грабежам и разрушениям. Ему, человеку, который ездит верхом на тигре… Вдруг он вспомнил третью часть пророчества: «Раненый орел отбивается, и осел оставляет его и нападает на первого орла». Раненый орел — орел Восточного Рима, чью империю он разграбил. Осел — дикий осел степей, иначе говоря — гунны. Первый орел — символ имперского Рима, империи Запада. Все сходится. Восток крепко потрепал гуннов в битве на реке Ут, после чего отказался платить им дань, что вынудило гуннов обратить свой взор на Западную империю. Как там завершалось пророчество? Лучше об этом и не думать. Возможно, его поступки действительно были прописаны в скрижалях Судьбы. И все же он продолжит действовать так, словно сам является ее творцом.
* * *
Когда о намерениях Аттилы (а следовательно, и о содержании фатального письма Гонории) стало известно в обеих частях Римской империи, принцесса спешно была отправлена в Константинополь и выдана замуж за человека в политическом отношении незначительного. Позднее, застрахованная подобным образом от посягательств на ее руку Аттилы, Гонория была приговорена к пожизненному тюремному заключению.
Глава 45
Ужасная орда Аттилы — воинственные ругии, дикие гепиды, скиры, гунны, тюринги — разлилась по твоим равнинам, о Белгика.
Сидоний Аполлинарий. Панегирик Авиту. 458 г.Крепко держа за древко старый отцовский angon — заершённый, с длинным железным наконечником, дротик, Клеф лежал, прижавшись к земле, за дубом, росшим на краю расчищенного под пашню участка леса. Росчисть эту надвое делила дорога, по которой вскоре должен был проехать Гизульф. Тишину Тюрингского леса, занимавшего большую часть территории, на которой проживало племя Клефа, тюринги, нарушал лишь стук дождевых капель по земле, все еще — несмотря на то, что уже пришла весна, — покрытой желтыми осенними листьями.
С холодной, контролируемой яростью Клеф припомнил тот летний день годичной давности, когда от руки Гизульфа, заносчивого, неотесанного юноши из comitatus местного вождя, погиб его отец, простой kerl, земледелец. Когда Гизульф беспечно проскакал по колосящемуся яровой пшеницей полю, отец Клефа сделал ему вполне обоснованное замечание. Гизульф же в ответ наотмашь ударил старика толстым концом своего копья. Тяжелое, обитое железом древко угодило прямо в голову, пробив череп — непреднамеренное, но все же убийство. Позднее, столкнувшись с Клефом, Гизульф бросил к ногам парня римский solidus.
— Wergeld, за смерть твоего отца, — надменно произнес воин. — Гораздо больше, чем он, простой kerl, стоил.
— Я не возьму его, — ответил Клеф и плюнул на монету.
Гизульф лишь пожал плечами и, смеясь, поехал дальше. Solidus так и остался валяться в грязи.
«Я обязательно отомщу, — подумал Клеф, — но лишь тогда, когда буду к этому готов». В течение многих недель отслеживал он привычные перемещения Гизульфа, но ничего не предпринимал, давая воину возможность почувствовать себя в безопасности — мнимой. В последнее время Гизульф взял за привычку каждый божий день наведываться в соседнюю деревушку, к одной богатой вдовушке. Несколько раз проследив за своим врагом, Клеф точно знал, по какой дороге тот будет возвращаться, и теперь, спрятавшись в укромном месте, предвкушал сладкий миг расплаты.
Наконец он раздался: приглушенный — из-за сырой после прошедшего дождя земли — стук копыт. Затем на росчисти появился Гизульф, крупный юноша на тощем боевом коне. Подняв angon, Клеф отвел державшую его руку назад, дожидаясь, когда враг проедет мимо дуба, и его широкая спина будет представлять собой отличную мишень.
Вдруг Клеф услышал слабый, глухой рокот — трубили в рог! Звуки эти были ему знакомы: то Этцель[58], предводитель гуннов, призывал всех присягнувших ему на верность, как гуннов, так и германцев, немедленно явиться на место сбора. Мгновенно опустив angon, Клеф повернулся и со всех ног побежал сквозь лесную чащу в том направлении, откуда доносились трубные звуки. Месть подождет, сказал он себе. Пусть Гизульф поживет еще немного — взаймы. Время его истечет, когда он вернется домой из похода, в который их поведет Этцель.
* * *
От Свевского моря до Данубия, от рейнских земель до предгорий Имая, где бы ни звучали горны Аттилы, люди откладывали на потом то, чем были заняты, и поспешали к местному месту сбора. Рыбак, закидывавший сети в устье реки Виадуа, отбрасывал их в сторону и греб к берегу; пастух оставлял свои стада у сарматских возвышенностей; крестьянин, вспахивавший росчисть в Боярии, распрягал плуг и в спешке покидал поле; птицелов в топях реки Вистулы забывал про свои силки; охотник в горах Кавказа, уже изготовившийся пустить стрелу в каменного козла, давал тому уйти… Незыблем был авторитет Аттилы! Повиновения, немедленного и абсолютного, требовал он от своих подданных; малейшая же непокорность каралась сажанием на кол либо распятием на кресте. Но сколь суровым был он правителем, столь и великодушным: преданная и бесстрашная служба часто вознаграждалась дорогим подарком, вроде кольчуги, украшенного драгоценными камнями кубка или же золотого блюда.
Из каждого уголка огромного королевства Аттилы стекались на берега Верхнего Данубия реки вооруженных мужчин: наездники-гепиды с сарматских предгорий, темнокожие аланы, голубоглазые скиры и тюринги, конные остроготы, бесчисленные гунны из раскинувшихся у Каспийского моря, Понта Эвксинского и нижнего Данубия безграничных степей. Все эти и другие, более малочисленные, племена, признававшие Аттилу своим вождем, слились, в конце концов собравшись вместе на северном берегу Нойзидлер Зее, что в Паннонии, в одну огромную орду.
Когда прибыли туда последние контингенты, это великое воинство, во главе которого, покрытый простой накидкой из шкур животных и безоружный, встал сам Аттила, двинулось на северо-запад, к бельгийским провинциям Галлии.
Глава 46
Много городов было разрушено: Алуатика, Метис…
Гидаций. Хроники. XI в.Даже в марте того судьбоносного года, когда консулами были Маркиан Август и Адельфий и шел тысяча двести пятидесятый год с основания Рима[59], льдины все еще сновали по Рейну там, где в него впадает Никра. Стоя на вершине холма, у подножия которого и соединялись две этих реки, Бауто, пастух-алеманн, плотнее запахнул полы плаща и в который уже раз с тревогой посмотрел на свое стадо. Наученный горьким опытом прошлых лет, он понимал, что после столь суровой зимы в ближайшие несколько недель нужно особенно бдительно присматривать за новорожденными овечками: голодная лиса смела и бесстыжа. Тогда-то его острый глаз и уловил нечто необычное: казалось, на предгорья Вотанланда, чьи вершины определяли восточный горизонт, спускается густой туман. Странно, подумал Бауто. День выдался холодным и безоблачным; даже далекие предметы просматривались очень четко. Тумана в такой день быть не может. А что это за звук, похожий на отдаленный шум? Должно быть, ветер. Но шум все нарастал и нарастал, пока наконец не стал походить на барабанный бой или раскаты грома. Казалось, он идет из тумана, который приближался с невообразимой скоростью. Никакой это не туман, догадался Бауто, — огромный поток пылевых облаков, в которых икрятся и сверкают мириады огней. То была армия. Но такая, какой не видели еще люди; она насчитывала не просто тысячи, а десятки, возможно, сотни тысяч воинов. В благоговейном трепете наблюдал Бауто за тем, как это несметное воинство перевалило через горные ущелья и, расплывшись по долине, устремилось к Рейну. Забыв об овцах, он повернулся и со всех ног побежал под гору, — нужно было предупредить жителей Мангейма.
* * *
— С римлянами Аттила не враждует — лишь с визиготами, — заявил Валентиниан Аэцию. Разговор их проходил в приемных покоях равеннского дворца императора. Словно в подтверждение своих слов, Валентиниан помахал свитком пергамента. — Он заверил меня в этом в своем письме, из которого со всей определенностью следует, что Аттила желает быть моим другом. другом, — продолжал император со злорадным ликованием. — О тебе, патриций, он даже и не вспоминает.
— Вы проявляете ужасную недальновидность, господин, — сухо ответил Аэций; заставить себя называть Валентиниана, которого он презирал, «ваша светлость», полководец не мог. — Неужели вы столь слепы, что не видите, какую игру он ведет? Разделяй и властвуй, или, в его случае, побеждай. Он пытается настроить визиготов и римлян друг против друга, как, впрочем, и вас — против меня. В вашем случае он, судя по всему, преуспел. Полагаю, Теодорид в Толозе тоже, как и вы здесь, получил письмо, в котором Аттила убеждает его, что у него есть лишь один враг — римляне. — Дальше он решил говорить без обиняков. — Я заметил, что вы благоразумно «забыли» то, о чем также говорится в этом письме: что Аттила настаивает на том, что его женитьба на Гонории непременно должна состояться, а в качестве приданого хочет получить половину Западной империи — в общем, все то, на что правительство уже ответило отказом. Кроме того, он жаждет стать командующим войсками в Галлии — вместо меня.
От изумления у Валентиниана едва глаза на лоб не вылезли.
— Откуда ты это знаешь? — завопил он. — Письмо было послано мне лично.
— У меня свои источники; в консистории сидят не одни лишь подобострастные тупицы, — парировал Аэций. — Есть там и такие, для кого главное — служение Риму, а не продвижение по службе, которое получают одни лишь лизоблюды и льстецы.
— Кто эти изменники? — продолжал бушевать император. — Мне нужны их имена. Я сошлю их на острова — нет, казню, отрублю им головы.
— Вы что, серьезно думаете, что я вам их назову? — в голосе Аэция звучало полное презрение. — У некоторых из нас еще есть принципы, даже если у вас их уже не осталось. — После смерти Плацидии, ушедшей из жизни около четырех месяцев назад, Валентиниана постоянно преследовали навязчивые, усиливающиеся с каждым днем, страхи. Несмотря на всю ее ограниченность и недостатки — а их было много, — императрице-матери удавалось обуздывать худшие стремления сына. Теперь, когда Плацидии не стало, характер молодого императора заметно ухудшился. Получив возможность удовлетворять самые низменные из своих порывов, он начал походить — беспричинно жестокими поступками и нездоровым влечением к колдовству и черной магии — на двух своих печально известных предшественников, Калигулу и Гелиогабала. Гораздо же более серьезным, по убеждению Аэция, было то, что Валентиниан находил поддержку у большей части придворных и советников в Равенне. Сейчас же, когда Западная империя стояла перед величайшим в ее долгой истории кризисом, римское правительство просто обязано было выступить против Аттилы единым фронтом.
— Все это — пустые разговоры, господин, — терпению Аэция пришел конец. — Пока мы тут спорим, Аттила триумфально шествует по нашим бельгийским провинциям. Пали Алуатика и Метис, жителей их вырезали как скот. Огромная орда Аттилы — гунны, ругии, герулы, тюринги, остроготы и гепиды, — численностью приближающаяся к пятистам тысячам голов, уже перешла Секвану и осаждает Аврелиан. Дальше он пока не пойдет — подождет, пока зазеленеет трава и будет чем кормить лошадей, — так что небольшой запас времени у нас есть. Но дальнейшее промедление смерти подобно. Не остановим его сейчас — рискуем потерять всю Галлию.
— И у тебя, конечно же, есть план, — фыркнул Валентиниан.
— Сами по себе римские войска, стоящие в Галлии, с Аттилой не справятся. Попытаюсь убедить Теодорида выступить на нашей стороне. Согласится, тогда у нас появится шанс.
— Я уже говорил тебе, что именно визиготов Аттила и намерен уничтожить, — раздраженно сказал император. — Племя, представляющее наибольшую угрозу для Рима. Мы будем законченными глупцами, если станем мешать ему в этом.
— Как вы не можете понять очевидного? — разочарованно воскликнул Аэций. — Что ж, с вашей или без вашей помощи, но я намерен вести войска в Галлию. Возьму с собой все имеющиеся в распоряжении полки. В том числе, господин, и ваши, палатинские.
— Моего разрешения на это ты не получишь, полководец, — император злобно улыбнулся. — А будешь настаивать — лично прикажу им тебе не подчиняться.
Ну и пусть, подумал Аэций. Не следует подвергать scholae, дворцовую стражу, проверке на лояльность. Привлеку под знамена вспомогательные полки итальянской армии, пусть даже их и не так много. Иронично поклонившись императору, он прошептал: «Mir der Dummheit kampfen die Gotter selbst vergeblich».
— Я все слышал, — резко произнес император. — А теперь скажи мне, что это означает.
Аэций пожал плечами.
— Если настаиваете, господин, — ответил он, стараясь сохранять невинное выражение лица. — Это высказывание приписывают Алариху, прославленному отцу нашего общего друга Теодорида, и произнес он его после того, как, в годы осады Рима визиготами, сенат отверг те великодушные условия, на которых он готов был подписать мирный договор. Получив отказ, Аларих потерял терпение; Рим пал и был разграблен. А означает оно следующее: «Против глупости даже Боги бессильны». — С этими словами, нарушив все требования протокола, Аэций бесцеремонно повернулся к императору спиной и, мрачно ухмыльнувшись про себя, вышел из комнаты.
* * *
— Что ж, ничего не поделаешь, — смиренно молвил Аэций, едва за посланником Теодорида закрылась дверь и кроме них с Титом в разместившемся во дворце архиепископа Лугдуна штабе полководца никого не осталось. — Мы сделали все, что могли, но этого оказалось недостаточно. Теперь, после решения Теодорида защищать лишь визиготские территории в Аквитании и его отказа выступить вместе с нами против Аттилы, исход предстоящего сражения предсказать несложно.
— Хотите сказать, мы потерпим поражение, господин?
— Почти не сомневаюсь в этом. Без визиготов наши шансы равны нулю. Сначала Аттила сокрушит нас, затем — их.
— А потом? Что будет потом? — впервые за долгое время Титу стало по-настоящему страшно.
Пожав плечами, Аэций одарил Тита безрадостным взглядом.
— Тут двух мнений быть не может: Западной цивилизации придет конец. Гунны сметут все на своем пути и перережут тех, кого не смогут продать в рабство. А затем, когда все разграбят, уйдут, оставив после себя лишь выжженные земли. Сам Аттила, может быть, и лелеет какие-то высокие цели, но даже ему не по силам превалировать над волей всей гуннской нации. Я знаю этих людей, Тит. Они никогда не приспособятся к цивилизации. Они вытянут из нее все, что смогут — золото и рабов, — и уничтожат все остальное.
— И Восток нам не поможет?
— Вряд ли. Мы ведь не пришли им на помощь в трудную минуту, помнишь? Аттила никогда бы не перешел через Рейн, будь у него хоть малейшее опасение, что Восток нападет на его войско с тыла. Если ты еще не составил завещание, я бы советовал тебе поторопиться. Я до последнего надеялся, что Аттила воздержится от похода на Запад. Да и ты, Тит, разве не говорил, по возвращении от Аттилы, что ситуация — обнадеживающая? Хотелось бы мне знать, что заставило его переменить свое мнение.
— Ну, несмотря на всю его власть, вряд ли он свободен в своих действиях, господин, — задумчиво ответил Тит. — Как я понимаю, политика Аттилы зависит от многих, самых разных, факторов. Приск с Максимином, посланники из Восточной империи, восемь лет страдавшей от гуннской агрессии, много о чем мне рассказали. Я на самом деле думаю, что он хотел принять ваше предложение насчет… скажем так, возможного партнерства в управлении Западной империей. Да и подарок ваш Аттиле очень понравился. Он был по-настоящему взволнован, из чего я заключил, что ваша дружба значила для него очень много. Просто на него со всех сторон оказывалось неимоверное давление: король Гейзерих, багауды Арморики, те из франков, кто был недоволен правлением Меровеха, — все они подталкивали Аттилу к вторжению на Запад. Не забывайте, к тому же, что Восток, с его огромными ресурсами и новым императором, вполне способен дать Аттиле самый решительный отпор, что он и доказал у реки Ут, где гуннам прилично досталось. А тут еще эта история с письмом Гонории; она-то и дала Аттиле отличный повод… — Печально улыбнувшись, Тит позволил своей мысли повиснуть в воздухе. — Наверно, у него просто не было другого выхода.
— Верно мыслишь, Тит Валерий, — вздохнул полководец. — Жаль только, Теодорид не видит всей картины целиком.
— Но однажды-то нам уже удалось его переубедить! Помните, господин, после бойни в Толозе визиготы горели желанием отомстить нам, и Авит смог уговорить их заключить с вами мир, а не вступать в кровавую битву, в которой каждая из сторон могла понести серьезные потери. Авит, вот кто нам нужен!
— Да, было такое, — медленно произнес Аэций; лицо его приобрело задумчивое выражение. — Пожалуй, ты прав; это может сработать. Молодец, Тит — как же я сам до такого не додумался? Если кто и может переубедить Теодорида, то только Авит. Дай-ка подумать: срок его полномочий в качестве префекта претория в Галлии истек, и он, по всей видимости, вернулся в Ареверну, в свое имение. Далеко ли мы от Ареверны? В сотне миль? Большая военная дорога из Лугдуна в Дивон проходит недалеко от его виллы. Имперская почта все еще работает — пока. Меняя лошадей, ты будешь там завтра. — Хлопнув Тита по плечу, полководец ухмыльнулся. — Ну что стоишь колом? В дорогу, мой друг!
Глава 47
Да здравствует Авит, спаситель мира!
Сидоний Аполлинарий. Панегирик Авиту. 458 г.Облаченный в сенаторскую тогу — архаичный пережиток, сохранившийся у него с дней Республики, — Авит стоял перед собранием визиготских вождей, выстроившихся позади своего пожилого короля в величественной базилике в Толозе. Чисто выбритые, в далматиках и туниках, если чем и отличались они от римлян, то лишь своим высоким ростом и светлой кожей. Один лишь Теодорид, с длинными усами и ниспадающей на плечи светлой копной волос, выглядел так, как это было принято во времена его предков.
— Ваше величество, благороднейшие из мужей великой визиготской нации, — заговорил Авит, спокойно и дружелюбно, — благодарю вас за то, что вы согласились встретиться здесь со мной, и за то, что нашли в себе мужество и решились выступить против Бича Божьего. Позвольте мне напомнить вам о вашем прошлом. Гунны Аттилы — это все те жестокие дикари, которые, изгнав ваших предков из их жилищ, обрекли всю вашу нацию, словно евреев, на сорок лет скитаний по миру. Но если потомки Авраама могли расставить свои шатры лишь в безжизненной пустыне, то вы имеете возможность жить на широких и прекрасных просторах Римской империи. Допускаю, что за долгие годы вашего здесь пребывания случались моменты, когда Рим поступал с вашим народом несправедливо, как, впрочем, и такие — будем откровенны, — когда вы вели себя нечестно по отношению к Риму. Но были ведь и такие времена, когда мы жили в дружбе и согласии. Римляне приютили вас у себя, когда вы бежали со своих земель, спасаясь от гуннов, ваши же воины пополняли наши легионы и по праву считались одними из самых храбрых и преданных защитников Рима. Стилихон, величайший римский полководец, даровал Алариху жизнь каждый раз, когда громил его войско. Атаульф, брат отца вашего нынешнего короля, был женат на Галле Плацидии, матери сегодняшнего римского императора. Император Констанций, отец Валентиниана, взявший Плацидию в жены после смерти Атаульфа, даровал вам Аквитанию, богатейшую галльскую провинцию. Многое объединяет римлян и визиготов. Прислушайтесь к своим сердцам, и если — а я знаю, что так оно и есть — вы честны, то вы поймете, что все мною сказанное — истинная правда.
Авит замолчал. По рядам собравшихся пронесся одобрительный гул, многие согласно закивали головами. Итак, подумал сенатор, завоевать их симпатию ему уже удалось. Но если он хоть в чем-то ошибется, подобные настроения могут моментально смениться враждебностью. Нужно быть крайне осмотрительным.
— И все же наши народы, которым следовало бы стать друзьями, по-прежнему враждуют. Об этом можно лишь сожалеть, особенно сейчас. — Он позволил себе повысить голос. — Вы полагаете, что сможете победить гуннов, думаете так потому, что одиннадцать лет назад сумели разгромить их шестидесятитысячное войско, разгромить здесь же, у стен этого самого города. Выбросьте подобные мысли из головы! Забудьте прошлое! На сей раз Аттила приведет вдесятеро большую орду; уж не думаете ли вы, что сможете совладать с шестью сотнями тысяч кровожадных дикарей? Конечно, вы будете сражаться отважно и доблестно — иначе и не умеете. Но у вас все равно нет против них ни единого шанса. Да и кому нужна такая жертва? Ваши жены потеряют мужей, дети — отцов. Что ждет их дальше? Смерть или рабство. Ваши жилища сровняют с землей, над святынями — надругаются. Визиготская нация исчезнет с лица земли, словно ее никогда и не было. Этого ли вы хотите? А, поверьте мне, именно это и случится, если вы и дальше будете придерживаться намеченного курса. — Здесь сенатор вновь взял паузу, прислушиваясь к настроениям слушателей. В базилике царила мертвая тишина.
— Мое предложение таково: все мы, римляне и визиготы, забудем о существующих между нами разногласиях и выступим единым фронтом против общего врага, — продолжил Авит еще более громким голосом. — А там, возможно, и другие федераты — франки, аланы и бургунды, — глядя на наш пример, пожелают к нам присоединиться. Разбить Аттилу мы сможем лишь в том случае, если против него выступят все живущие в Галлии народы. — Закончил свое выступление сенатор такими словами: — Лишь объединившись, мы победим! Визиготы, отомстите за ваших предков!
С беспокойством ждал Авит реакции аудитории. Несколько секунд все хранили молчание, затем Теодорид повернулся лицом к своим соплеменникам.
— Авит говорил мудро. Римляне нам не враги. — Слова его потонули в одобрительном гуле, от которого, казалось, содрогнулись стены толозской базилики.
Облегченно вздохнув, Авит понял, что весь дрожит, и вытер сбегавшую по щеке струйку пота.
Глава 48
Я не сомневаюсь в исходе — вот поле, которое сулили нам все наши удачи! И я первый пущу стрелу во врага. Кто может пребывать в покое, когда Атилла сражается, тот уже похоронен!
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica. 551 г.— Ничего, господин, — сказал посыльный Аниану, епископу Аврелиана, известному своей пылкой набожностью. — Боюсь, ничто не говорит о том, что кто-то спешит нам на помощь.
— Если они не придут в самое ближайшее время, будет слишком поздно, — вскричал епископ полным отчаяния голосом. — Вот, послушай. — Издалека доносились систематические глухие звуки ударов: то бились о городские стены большие стенобитные орудия гуннов, спроектированные и построенные пленными римлянами, и с каждым ударом из стен вылетал новый кусок каменной кладки. — Но мы должны сохранять веру, — пробормотал епископ, скорее самому себе, нежели собеседнику, — веру в то, что Святой Пастырь не оставит свое стадо на растерзание скифским волкам. Возвращайся на укрепления, друг мой, а я возобновлю мои мольбы Отцу нашему.
С осознанием бесполезности данного занятия посыльный поспешил вернуться из заполненного обеспокоенными горожанами форума на свой пост на крепостной стене и устремил взор на юг. Как он и думал (и опасался), горизонт по-прежнему был пуст от всего, что бы двигалось. Хотя… Что-то там, несомненно, было: на грани поля зрения, крошечное тусклое пятнышко, которое, казалось, росло по мере того, как он в него вглядывался. Облако пыли! С участившимся пульсом он побежал обратно, в форум, с трудом протолкнулся сквозь огромную людскую толпу и доложил об увиденном Аниану.
— Господь услышал мои молитвы! — воскликнул епископ. Тут же его возглас был подхвачен собравшимися в форуме горожанами, которые, во главе со своим духовным лидером, потоком хлынули к крепостной стене. Облако пыли, теперь уже ясно видимое, внезапно унеслось в сторону с порывами ветра, и взору аврелианцев предстали сжатые ряды одетых в доспехи римлян, марширующих под своими штандартами вперемежку со светловолосыми великанами, вооруженными лишь копьями и щитами.
— Аэций и Теодорид! — объявил Аниан дрожащим от волнения голосом. — Встаньте на колени, люди добрые, и воздайте благодарность Господу нашему, даровавшему нам спасение. Пусть этот четырнадцатый день июня навечно останется праздничным в календаре, в ознаменование благоволения, оказанного Господом городу нашему, Аврелиану.
— Смотрите, они уходят! — закричал один из солдат, указывая на разбросанные за стеной городские предместья. Гунны не стали дожидаться, пока армия противника подойдет к городским воротам и, оставив осадные орудия, унеслись прочь, на восток, к Секване.
* * *
— Они перешли Секвану, господин, — доложил разведчик, остановив взмыленного коня перед Аэцием.
— И?
— И движутся на северо-восток, господин — даже быстрее, чем раньше, я бы сказал.
Когда солдат ускакал прочь, Аэций погрузился в думу. Аттила увидел, что они подтянули к Аврелиану огромные силы, не только римлян и визиготов, но и франков, бургундов, аланов и армориканцев. Будучи столь же осторожным, сколь и смелым, король гуннов решил отступить. Возможно ли, что Аттила, устрашенный этим, рожденным «благодаря» его набегам, мощным союзом, решил вернуться на свои земли?
— Что скажешь, Тит? — спросил он у своего помощника, человека проверенного, прошедшего много кампаний. — Он идет к Рейну?
Глядя на осунувшееся, изборожденное морщинами лицо полководца — ведь Аэцию приходилось не только делать все возможное для того, чтобы не допустить развала Западной империи, и то и дело усмирять федератов в Галлии, но и противостоять враждебным махинациям Валентиниана, — Тит почувствовал внезапный приступ жалости. Окажись он на месте полководца — несомненно, пытался бы ухватиться за любую соломинку. Но для Аэция это стало бы опасной роскошью. Разбирательства с требованиями и прошениями истощили полководца до такой степени, что, не будь он человеком волевым и сильным, наверняка бы сломался. Поэтому в том, что на какое-то время здравомыслие оставило его, не было ничего удивительного. Внезапно Тит понял, в чем заключается его долг. Он должен вернуть своему господину трезвость ума и суждений, пусть даже ради этого придется разрушить ложные надежды, за которые пытается уцепиться Аэций.
— Не думаю, господин, — осторожно ответил Тит. — Это было бы не похоже на Аттилу. Раз вторгшись в западные территории, он не сможет позволить себе с них уйти; это пошатнуло бы его престиж, и гунны избрали бы нового вождя.
— Но ты же видел, что случилось в Аврелиане, — возразил Аэций почти жалобным тоном. — То было два дня назад, а он все продолжает и продолжает отступать.
— Это не отступление, а тактический отход, господин. Если б он остался, то оказался бы зажатым между силами наших армий и стенами враждебного города — худшей позиции и представить себе невозможно. Если б он принял бой, то рисковал бы оказаться разбитым в самом сердце Галлии, не имея шансов на отступление. Поверьте мне, господин, он остановится и сразится с нами, как только найдет благоприятное для себя место.
Покачав головой, Аэций провел ладонью по лицу.
— Ты, конечно же, прав, — признал он с усталой улыбкой. — И о чем я только думал? — Он похлопал Тита по плечу. — Спасибо тебе, Тит Валерий — ты настоящий Виктор при своем Юлиане[60]. «Благоприятное для себя место», говоришь. Наверное, это будет какая-нибудь большая плоская равнина, где его конные лучники смогут проявить все свое умение. — Полководец задумался, и на лбу у него появились глубокие морщины. — В этих краях есть одно только место, подходящее под это описание: Мавриакские — их еще называют Каталаунскими — поля, огромная равнина к югу от Дурокаталауна — это небольшой городок милях в пятидесяти к северо-востоку отсюда.
Так оно и оказалось. В ночь на 19 июня стремительное отступление Аттилы замедлилось: его арьергард настигли передовые части вражеского войска, что вылилось в кровавую стычку между франками и гепидами. Пока, при свете луны, они выявляли победителя, Аэций, доверив контроль над ситуацией полководцам Эгидию и Мажориану[61], выехал на предполагаемое место сражения — произвести рекогносцировку. Дело рискованное, но, решил Аэций, оправданное. Хотя он и намеревался объехать позиции гуннов стороной, опасность нарваться на один из вражеских пикетов все же существовала.
Забрезживший рассвет явил его взору огромную и — на первый взгляд — абсолютно плоскую равнину, простирающуюся, в какую сторону ни глянь, до самого горизонта. Почва под ногами была твердой и сухой, а поднимавшееся в нескольких милях к югу громадное облако пыли позволяло сделать вывод, что именно там и находились гунны. Аэций упал духом. Мавриакские поля просто идеально подходили для маневров гуннской конницы, что давало Аттиле ощутимое преимущество над ведомой римлянами коалицией, чьи лошади были не столь выносливыми. Согласно полученным сообщениям численность гуннского войска достигала полумиллиона голов, что, безусловно, являлось преувеличением. Тем не менее даже по самым скромным подсчетам, Аттила располагал более чем ста тысячами воинов. Против которых Аэций мог выставить двадцать тысяч римлян, двадцать тысяч визиготов и, возможно, подобное же число вооруженных солдат от всех прочих союзников. Итого — шестьдесят тысяч, что в лучшем случае составляло чуть более половины от войска Аттилы.
Пав духом, Аэций осознал, что стоит перед суровым фактом: если он не сумеет найти способ, позволяющий уравнять силы, поражение союзников неизбежно. Затем, совершенно внезапно, он заметил нечто такое, что мгновенно подняло его настроение до небес. Епископ Аниан, несомненно, приписал бы увиденное им Провидению Божьему, непочтительно подумал Аэций. Криво усмехнувшись, он пришпорил коня и помчался к римским позициям.
* * *
В тайной комнате императорского дворца в Равенне Валентиниан, бледный и взволнованный, просматривал последние донесения из Галлии.
— Он давал нам слово, Гераклий, — закричал он дрожащим голосом стоявшему рядом весьма упитанному евнуху. — В своем письме Аттила уверял нас, что враждует лишь с соседями Рима, визиготами. А теперь мы узнаем, что против Аттилы выступили все, за исключением рипурианских франков, федераты Галлии. Что все это означает?
— Это означает, ваша светлость, — пояснил Гераклий, фаворит и главный советник императора, — что Аттила вас обманул. — Лживость и науськивание одного врага против другого — вот его главное оружие. Боюсь, он собирается завоевать не только Аквитанию, но и, вне всякого сомнения, всю Галлию целиком, а также, возможно, Италию и даже Испанию.
— Но почему мы об этом не знали? — запричитал Валентиниан. — Мы окружены одними лишь глупцами и трусами, и главный из них — Аэций. Он должен был предвидеть намерения Аттилы и сделать все возможное, чтобы помешать ему. Может ли он остановить гуннов, как думаешь?
— Я бы не стал на это рассчитывать, ваша светлость, — невозмутимо ответил евнух. — В этом отношении достижение восточной армии — случай воистину беспрецедентный.
— Тогда мы должны приготовиться к отъезду! — воскликнул император. — Немедленно поезжай в Классис, Гераклий. Зафрахтуй судно, самое быстрое, какое сможешь найти. Мы сегодня — все мы: я, Августа с дочерьми, члены Совета, все слуги и дворцовая стража — отправляемся в Константинополь.
— А также тот, чьей главной обязанностью является забота о благополучии вашей светлости? — вкрадчиво предложил Гераклий.
— Ты что ли? Да, да, конечно, но поторапливайся. Другие тоже могут прочесть сие предсказание.
— Будет исполнено, ваша светлость. Час-полтора — и корабль в вашем распоряжении. Но, пока я еще здесь, позвольте предостеречь вас от немедленного отплытия.
— Это еще зачем? — раздраженно спросил Валентиниан.
— А что, если Аэций все же одержит верх над Аттилой, ваша светлость, и, вернувшись в Италию, обнаружит, что трон свободен?.. — Гераклий пожал плечами и развел руки в стороны — остальное, мол, вы и сами можете додумать.
— Понимаю, Гераклий, понимаю, — беспокойно произнес Валентиниан после паузы. — Аэций давно уже желает сместить нас и узурпировать нашу власть. Думаешь, он попытается воспользоваться нашим отсутствием для того, чтобы забрать трон себе?
— История Рима, ваша светлость, полна печальными примерами того, как тщеславные полководцы завладевали императорским пурпуром — узурпатор Иоанн, к примеру, в те годы, когда вы были совсем еще ребенком.
— Хорошо, — неохотно уступил император. — Зафрахтуй судно, но с отплытием мы пока повременим. Полагаю, если Аттила победит, мы узнаем об этом еще до того, как он перейдет Альпы.
— Очень мудрое решение, ваша светлость.
«Лагерь союзников близ Дурокаталауна [написал Тит в “Liber Rufinorum”], провинция Лугдунская Сенония, диоцез Галлии. Год консулов Маркиана Августа и Адельфия, XII июльские календы[62].
Наша помощь жителям Аврелиана подоспела весьма кстати. Когда римляне и их союзники подошли к городу, гунны были уже в его предместьях. Не дав нам возможности блокировать его войско у крепостных стен, Аттила, всегда проявлявший себя осмотрительным стратегом, снял осаду и отступил за Секвану. Важная победа Аэция и неудача Аттилы: взятие Аврелиана позволило бы обосновавшимся там гуннам предпринять со временем наступление на Аквитанию, вотчину визиготов.
Не перестаю восхищаться Аэцием. Узнав о том, что визиготы решили в конце концов присоединиться к нам, он немедленно затеял переговоры с прочими федератами Галлии, что повлекло за собой массу утомительных поездок и всевозможных уловок, призванных склонить федератов к принятию нашего предложения. Итог: собранная за предельно короткий промежуток времени огромная армия, единая в своем страхе и ненависти к гуннам. К римской армии и их могущественному союзнику, визиготам, добавились большие контингенты аланов, франков, бургундов и даже армориканцев (последние, наверное, в конечном счете осознали, что римское правление предпочтительнее “освобождения” Аттилы). Вот уж действительно странное зрелище: римские солдаты, мирно общающиеся с бывшими врагами. Единственным нашим слабым звеном мне видится Сангибан, король аланов, который, вступив в соглашение с гуннами, пытался предательски сдать Аттиле Аврелиан. К счастью, заговор был вовремя раскрыт; Сангибан снова с нами, но, полагаю, все уже поняли, что с ним и его людьми следует держать глаз востро.
Федераты, особенно франки и визиготы, похоже, неплохо вооружены. У каждого из их воинов имеется круглый щит и либо копье, либо несколько дротиков, не говоря уж о ножах и метательных топориках. Почти все они по-прежнему с презрением относятся к доспехам, но вот шлемами обзавелись уже многие. Те, кто побогаче, могут позволить себе мечи и лошадей. Понятие “дисциплина” нашим германским союзникам не знакомо, но вот храбрости их и решительности позавидовал бы любой римлянин. Наши, римские, войска гораздо лучше обучены, но вот обмундирование солдат и их оружие оставляют желать лучшего, — многие продолжают обходиться тем, что уже давно следовало превратить в лом. Беда в том, что одни наши военные fabricae, вроде тех, что расположены в Аугуста-Тревероре или Лауриаке, которые стоят на оставленных или федератов территориях, больше не функционируют, а галльские же — к примеру, дурокорторская и стратисбургская (до недавнего разграбления этих городов Аттилой) — из-за недостаточного финансирования выпускали в последнее время меньше продукции, чем ее требовалось армии. Большая часть нашего обмундирования поступала в последнее время с fabricae в Северной Италии — кремонской, веронской и т. д. Но пару месяцев назад прекратились и эти поставки, почему — никто объяснить не может. (Аэций полагал, что это дело рук завистника Валентиниана.) Тем не менее, когда полководец уличил трех управляющих армейскими фондами в растрате государственных денег (они были немедленно уволены со службы и осуждены), поставки чудесным образом возобновились.
В Северной Галлии царит полное опустошение: ситуация гораздо хуже, чем то можно было предположить по донесениям. Большинство поселений между Рейном и Секваной выгорело дотла; за взятием того или иного города, как и заведено, следовало беспорядочное истребление людей. От рассказов о зверствах, совершенных тюрингами, кровь стынет в жилах: жертв своих они привязывали между двумя лошадьми, и, когда те уносились в разные стороны, людей разрывало на части, или же бросали связанными на дорогу, под колеса обозов. Впрочем, от рассказов этих есть и позитивный эффект: уже и у союзников наших не осталось никаких сомнений в том, что с несущим лишь зло Аттилой следует покончить — раз и навсегда.
Уйдя из Аврелиана, Аттила отозвал войска из Неметака и Везонцио и, преследуемый армией коалиции, решил дать нам битву чуть южнее Дурокаталауна, на благоприятствовавшей его коннице территории. Местность эта представляет собой огромную равнину, плоскую и унылую; ее монотонную однообразность нарушают лишь растущие то тут, то там тополя и изгибистые притоки реки Матрона, на которой стоит этот город. После легкого ночного столкновения нашего передового отряда с одними из германских сторонников Аттилы мы разбили лагерь в непосредственной близости от стоянки гуннов. Мало кто сомневается в том, что сегодня нас ждет крупная и кровавая битва. Боевой дух наших войск высок как никогда, хотя, я бы сказал, что в настроениях солдат преобладает скорее мрачная решимость, нежели возбужденный оптимизм. За исключением прошлой ночи, когда он выезжал изучать рельеф местности, Аэция можно увидеть везде: переговаривающимся с солдатами у лагерного костра, советующимся с предводителями федератов, навещающим больных и раненых, проверяющим запасы продовольствия и т. д. Энергия бьет из него ключом. При одном лишь виде его знаменитой расплющенной кирасы и небрежно повязанного пояса у солдат открывается второе дыхание.
Хотя официально я в сражении не участвую, моя курьерская должность гарантирует, что я увижу его в больших подробностях, чем любой из солдат. Я уже написал завещание и отправил его управляющему делами виллы Фортуната с инструкциями, что, в случае моей смерти, вся моя собственность должна отойти моему сыну Марку, который, будучи уже приятной наружности юношей, изучает право в Риме. Ему же я отписал и “Liber Rufinorum”, наш семейный архив, вести который, надеюсь, он продолжит. Я помолился моему Богу, Воскресшему Христу, и обрел спокойствие. Держа в руке амулет с литерами “Хи — Ро”, врученный мне много лет назад в равеннском соборе, я чувствую, что души моей дорогой жены Клотильды и отца моего Гая смотрят на меня с небес, и это придает мне силу и мужество, которые так понадобятся в предстоящей битве.
На сим вынужден закончить; вернувшийся из разведывательной экспедиции Аэций требует меня к себе».
Вернувшись в расположение римской армии после осмотра Каталаунских полей, Аэций препоручил запыхавшегося коня заботам конюха и приказал разыскать Тита. Оглянувшись вокруг, он отметил, что Эгидий и Мажориан с разбитием лагеря справились «на отлично». Вызвало его одобрение и то, как — четкими, аккуратными рядами, не забыв про караулы, окопы и частокол — поставили свои кожаные палатки легионеры. Траян бы ими гордился, подумал Аэций. Даже в рядах федератов наблюдался относительный порядок — по крайней мере, для германских диспозиций. Тут появился Тит, и Аэций поручил ему два задания: донести до bucinatores приказ играть «подъем» и попросить предводителей союзников явиться в палатку главнокомандующего.
Глядя на пестрые наряды шеренгой вошедших в палатку германских воинов и римских офицеров, Аэций с трудом сдержал улыбку. Что бы подумали Адриан и Константин, стань они свидетелями того, как римский полководец собирается обсуждать тактику с одетыми в меха варварами?
— Доброе утро, господа, — бодро сказал он. — Надеюсь, вы выспались. Прошу прощения, если мой вызов заставил вас отложить завтраки, но могу вас заверить, что времени на еду у вас будет предостаточно. Гунны еще спят, и это дает мне повод полагать, что спешить со сражением Аттила не будет. По всей видимости, он все еще не пришел в себя от шока, который испытал в Аврелиане при виде нашей армии — такой могучей она еще не была никогда. Думаю, он не отдаст приказ выдвигаться до самого вечера в надежде на то, что спустившиеся сумерки позволят ему отвести — если будет такая необходимость — войско без лишних потерь. Я обнаружил, что правее гуннских позиций имеется возвышенность. Если мы сумеем занять холм, пока они не готовы, то получим огромное преимущество. Торисмунд, — он улыбнулся высокому светловолосому парню, стоявшему позади отца, короля Теодорида, — как тебе такое задание?
— О таком и мечтал, господин, — горячо отозвался юноша.
— Превосходно. Что ж, давай дерзай. Удачи, и да поможет тебе Бог.
— Ваше величество, — молвил Аэций, повернувшись к Теодориду, когда Торисмунд отправился собирать своих людей, — полагаю, все со мной согласятся, что вам должна принадлежать честь командования правым флангом нашего войска. Я же, вместе с римлянами и другими нашими союзниками, за исключением аланов, встану на левом краю.
— Теперь, что касается вас, Сангибан, — продолжил он тоном, каким обращаются к старому и верному другу, — для вас я оставил самый важный пост — центр. Именно туда, по всей видимости, Аттила направит всю мощь атаки, используя свои лучшие силы — гуннов. А кому, как не королю аланов, противостоять королю гуннов? — Предложение Аэция было встречено диким хохотом как германцев, так и римлян: о том, что Сангибан пытался дезертировать к Аттиле, знали все до единого. Королю аланов, чей темный цвет лица намекал на азиатские корни Сангибана, не оставалось ничего другого, как безрадостно кивнуть в ответ. — Но не волнуйтесь, — утешительно сказал Аэций, — на каждом из флангов будут находиться ваши друзья, они за вами присмотрят. — Тонко скрытый намек на то, что, повторить свое предательство Сангибану не удастся, вызвал новый взрыв смеха.
— Ну вот, похоже, и все, — заключил полководец. — Возможности менять тактику во время битвы у нас, скорее всего, не будет. Поэтому победа придет к той из сторон, которая не дрогнет. Шеренги наши будут столь длинными, что использовать свой любимый прием — окружить нас — гунны просто не смогут. Пусть ваши люди плотно поедят и хорошенько отоспятся — будут лучше сражаться. Разведчики держат меня в курсе того, что делают гунны; когда наступит время выходить на боевые позиции, я дам вам знать. Приятного аппетита, господа!
* * *
Глядя на огромное море повозок, за которыми разместились его люди, Аттила чувствовал, как его охватывает необъяснимое уныние. И это несмотря на то, что и тактически, и стратегически он не сделал ничего такого, что мог бы вменить себе в вину: позиции гуннов были очень крепкими. В сложившихся обстоятельствах его решение отступить от Аврелиана представлялось мудрым, как, впрочем, и нежелание навязывать бой франкскому авангарду армии Аэция. Равнина, на которой он стал лагерем, должна была позволить гуннской и остроготской коннице проявить их лучшие качества. Воинство его значительно превосходило численно силы римлян и их союзников. В чем же причина столь подавленного настроения?
В какой-то мере оно было вызвано крайней усталостью. Ну разобьет он Аэция сегодня — а все говорило в пользу того, что так оно и будет, — и что дальше? Что, за порабощением всей Западной империи последует эпическое соперничество между ним и Гейзерихом за право называться хозяином варварского мира? Подобному соперничеству никогда не будет конца, в отчаянии подумал Аттила. Вместе со своим народом он оказался вовлеченным в вечную кампанию по кровавым завоеваниям, в которой война становится собственным себе оправданием, а поступательное движение — единственным выходом. Да и сами гунны, как он успел заметить, разделяли угнетенность своего вождя, возможно — из-за ухода от Аврелиана. Для его невежественных соплеменников, не обладавших терпением римлян, которые собирались с новыми силами даже после самых жестоких поражений, отступление ничем не отличалось от неудачи. Возможно, решил Аттила, их моральный дух смогут повысить благоприятные предсказания гадателей…
Собрав шаманов, Аттила спросил у них, что сулит его людям ближайшее будущее. Авгуры долго вглядывались то во внутренности зарезанных овец, то в какие-то жилки на обскобленных костях, но хранили зловещее молчание. Лишь когда Аттила пообещал посадить их всех на кол, шаманы объявили, что гуннам грозит беда. Аттила, который был не столь суеверным, как прочие его соплеменники, в подобное предсказание не поверил, поэтому, взяв с гадателей обещание хранить пророчество в тайне, он позволил шаманам спокойно удалиться, а сам, для укрепления боевого духа, решил обратиться к своему войску с воодушевляющей речью. Армия его была столь огромна, что лишь первые ряды всадников могли слышать своего предводителя, но один вид обращающегося к ним Аттилы должен был произвести на воинов нужный эффект.
Когда огромное войско собралось вокруг него, Аттила взошел на трибуну, возведенную на станине одной из телег.
— Преданные гунны, верные остроготы, отважные ругии, храбрые тюринги, смелые скиры и герулы, соратники! Сегодня мы одержим великую и славную победу, равных которой еще не знали, над римлянами и их введенными в заблуждение друзьями, из числа которых лишь визиготов нам следует опасаться. Что до собственно римлян, то они не представляют никакой угрозы; слабые и нерешительные, они не осмеливаются сражаться по-мужски, а сжимаются в тесные ряды, словно раки в железных панцирях. Сражайтесь храбро, и ваши боги защитят вас! Я первым пущу стрелу во врага, и тот, кто не последует моему примеру, будет приговорен к смерти. Но что-то мне подсказывает, что таковых среди вас нет. Скажите, что я не ошибся.
Ответом ему был одобрительный гул, вылившийся в конце концов в громоподобный рев целой армии. Когда шум стих, Аттила распустил солдат, и они вернулись на свои места. Убедившись в том, что уверенность и боевой дух войска полностью восстановлены, Аттила и сам пришел в приподнятое настроение.
Он уже собирался вернуться в свой шатер и немного отдохнуть перед предстоящей битвой, когда увидел, что к нему спешит один из разведчиков.
— Неприятная весть, господин, — выдохнул он. — Визиготы вот-вот займут холм, возвышающийся над нашим правым флангом.
Мысли вихрем закружились в голове у Аттилы. Какой холм? Ему докладывали, что выбранная местность совершенно плоская и нерельефная. Но эти равнины такие широкие, что уединенную возвышенность можно и не заметить, особенно в предрассветной мгле. Конечно, ему следовало самому изучить местность; он бы не пропустил ничего тактически важного. Вот что бывает, когда вождь теряет концентрацию, мрачно подумал Аттила. Уже через несколько секунд он был в седле, выкрикивая указания — занять холм прежде, чем на него взберутся визиготы, но внутренний голос подсказывал Аттиле, что он опоздал.
Глава 49
Сходятся врукопашную; битва — лютая, переменная, зверская, упорная.
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica. 551 г.Укрывшись в ивняке на берегу Матроны, Тит наблюдал за тем, как визиготы Торисмунда, припадая к земле, подошли к холму и начали на него взбираться. Они были уже на полпути к вершине, когда их заметили из гуннского лагеря. Подлетевшие к горе уже через считаные мгновенья всадники-гунны оставили лошадей у подножия холма, и начали карабкаться на него параллельным германцам курсом. Но люди Торисмунда достигли верхушки горы раньше своих преследователей. Развернувшись, визиготы оказали гуннам такой прием, что те скатились с горы, даже не успев как следует вступить в бой. Волна за волной накатывались гунны на засевших на вершине германцев, но лишь множили свои потери, и вскоре прекратили атаки. Должно быть, Аттила счел дальнейший штурм столь неприступной позиции бессмысленным, подумал Тит. Используя прибрежные деревья и кустарники в качестве укрытия, он вернулся в лагерь и доложил об увиденном Аэцию.
— Первый раунд за нами, — сказал полководец. — Будем надеяться, удача нас не оставит и впредь. — Он окинул курьера проницательным взглядом. — Ты и сам, конечно, понимаешь, что у Аттилы есть одно — но огромное — надо мной преимущество.
— Если и было, то теперь — все в наших руках, господин.
— Я тронут, Тит, тем, что ты в меня так веришь. Я скажу тебе, в чем оно заключается: для его сторонников слово Аттилы — закон, что позволяет ему держать всю свою армию под полным контролем. Я же о подобном могу только мечтать. За исключением римлян, мне никто не подчиняется. Федераты явились сюда по доброй воле, явились, когда их германские головы прониклись сознанием того, что, пойдя против Аттилы единым фронтом, они потеряют гораздо меньше, чем, если будут сидеть и ждать, когда он сам к ним придет. Они в любую минуту вольны развернуться и уйти, и с этим я ничего не могу поделать.
— Но этого же не случится?
— Будем надеяться, что нет. Я ни на йоту не верю этому Сангибану, но, полагаю, мы нашли способ его успокоить. Остальные щадить себя не станут — в этом я уверен.
* * *
Солнечный, безоблачный, с легким бризом, не позволявшим ему стать невыносимо жарким, день тянулся медленно. Пошел седьмой час; уже и стоявшее в зените солнце поползло вниз, а за нагромождением телег, позади которых стояли палатки гуннов, не наблюдалось никакого движения. Наконец, в девятом часу, прискакавшие к палатке главнокомандующего разведчики доложили Аэцию, что войско Аттилы начало готовиться к битве. Как и предсказывал Аэций, гунны заняли центр. Справа от них встали ругии, герулы, тюринги, гепиды и те франки и бургунды, которые не присоединились к римлянам. Правым крылом командовал Ардарих, король гепидов. В левом крыле войска Аттилы стояли остроготы, под предводительством трех братьев, совместно правивших племенем — Валамира, Теодемира и Видимира.
Пока гунны и подчиненные им народы выдвигались на позиции, Тит вскочил на коня и доставил вождям федератов приказ Аэция занять отведенные им посты. Не прошло и нескольких минут, как Каталаунские поля стали походить на растревоженный муравейник: повсюду снующие туда-сюда люди; но даже в этой суете стройные шеренги одетых в доспехи римлян выделялись на фоне свободных построений федератов. Воздух наполнился резкими звуками готских военных горнов и звонкими тонами римских труб.
— Что теперь, господин? — спросил Тит, доложив, что задание выполнено.
— Будем ждать, Тит, будем ждать, — тихо ответил полководец. — Теперь от меня ничего не зависит: все, что мог, я уже сделал. Как ты уже слышал, федераты мне не подчиняются. Главное, чтобы они придерживались установленного плана. Но есть и хорошее предзнаменование: разведчики доложили мне, что Аттила лично встал во главе гуннов.
— А что в этом хорошего?
— Это говорит о том, что он нервничает. Прежде Аттила никогда — ни разу — не принимал активного участия в сражениях; это за него делали его командиры. Видимо, он полагает, что, если не поведет воинов в бой лично, гунны могут потерпеть поражение. — На лице полководца отразилась печаль. — Мне и в голову не приходило, что такое когда-нибудь может случиться, Тит, — сказал он тихо. — Что мы с Аттилой, моим самым лучшим другом, пойдем друг на друга с оружием в руках. Есть в этом что-то от Каина с Авелем, тебе не кажется? — Затем лицо Аэция просветлело, и он резко выпалил: — Я хочу, чтобы ты присоединился к Торисмунду. Оттуда, с возвышенности, все поле боя будет перед тобой как на ладони. Заметишь что-нибудь важное — разрыв в линиях с нашей или с их стороны, к примеру, — немедленно докладывай мне.
С вершины холма, под завязку забитого белокурыми воинами, большая часть которых, растянувшись на траве, отдыхала или спала, Тит обвел взглядом равнину. Прежде всего, поразило его то, что позиции обеих противоборствующих армий растянулись едва ли не до линий противоположных горизонтов — шесть огромных неровных групп, состоявших из людей и животных. Слева от него стояли остроготы, напротив них — их сородичи, визиготы; в центре расположились гунны Аттилы и — с другой стороны — аланы Сангибана; разместившиеся под правую от него руку прочие племена Аттилы смотрели на то, как примерно в миле от них выстраиваются в боевом порядке римляне Аэция и остальные союзники-федераты.
Минут с тридцать два громадных войска оставались недвижимыми, молча созерцая друг друга, но затем в центре гуннских позиций уныло зазвучали трубы, и гуннская конница устремилась вперед. Последовал обычный маневр: всадники последовательными волнами подлетали к римским шеренгам, уводили лошадей в стороны — кто вправо, кто влево, — и, выпустив колчан стрел, отступали.
* * *
Сангибан, стоявший в третьей шеренге аланов, с беспокойством наблюдал за несущимся на них передовым отрядом гуннов, во главе которого встал сам Аттила. Земля задрожала, когда стук пятисот тысяч копыт перерос в устойчивый грохот. Пара секунд — и он смог разглядеть врагов ясно: маленькие, непропорционально широкие люди с восточными лицами, управляющие лошадьми при помощи одних лишь коленей, в то время как руки прилаживают стрелы к тетивам луков. Искривленные луки являлись смертоносным оружием, которое, в сочетании с непревзойденным умением держаться в седле, делало гуннов самыми опасными воинами в мире. Теоретически Сангибан знал, что, пока пехота держит свой строй под «черепахой» щитов, конница ни за что не полезет на выставленные пехотинцами вперед копья. Причиной тому было то, что, в отличие от людей, лошади к самоубийственным поступкам не предрасположены. Но долго ли его люди смогут держать строй? Они знали, что, как и их король, лишились доброго расположения соратников, а потому были деморализованы и подавлены.
Внезапно, с громким шипением, какое доносится обычно из гнезда рассерженных змей, небо потемнело от стрел. Большая их часть вонзалась в щиты или отскакивала от шлемов, но были и такие, которые достигали цели: стоило лишь на мгновение опустить щит — и допустивший оплошность воин падал с пробитым горлом или глазом.
Устрашающий вид свирепых всадников, безжалостный град стрел и крики раненых мало-помалу делали свое нехорошее дело. К ужасу Сангибана, худшие его страхи подтвердились: несмотря на яростные усилия офицеров, передовые позиции аланов начали терять свою целостность. По двое и трое, затем целыми группами, его люди поворачивались и пытались пробить себе путь назад, сквозь шеренги позади идущих, дабы избежать страшного обстрела.
Сначала медленно, затем — все быстрее и быстрее, передовая линия аланов гнулась, гнулась и наконец отступила. Паника охватила и другие шеренги, и вскоре уже весь аланский блок превратился в спасающуюся бегством толпу. Заключенные, словно овцы, между визиготами с одной стороны и римлянами — с другой, мечущиеся аланы не находили спасения от беспрестанного дождя стрел, и гунны без труда смели остатки армии Сангибана с поля боя.
Тем временем, на правом фланге союзной армии, визиготы тоже отбивали наскоки конницы, — с той лишь разницей, что то была конница остроготская. Отважные, сильные духом, ведомые героическим и уважаемым ветераном, в отличие от аланов, визиготы не отступили ни на пядь. Используемый ими метод был прост, но эффективен и придавал каждому из воинов дополнительное мужество, что было отнюдь не лишним — ведь всем им, вместе, предстояло сдержать атаки целого полчища всадников. Метод заключался в следующем: соединив свой щит со щитами соседей по шеренге, каждый из воинов выставлял вперед правую ногу и втыкал копье тупым концом в землю так, чтобы острие его оказывалось между его собственным щитом и щитом товарища, стоявшего в шеренге по его правую руку. Вновь и вновь налетали остроготские всадники на это деревянное препятствие и метали дротики в надежде нарушить визиготский строй, но каждый раз вынуждены были уводить лошадей в сторону за пару шагов до торчавших из первых рядов оборонявшихся смертоносных копий.
— Стоять, герои! — прокричал пожилой Теодорид, скача вдоль шеренг своего войска. — Держите строй, и они никогда нас не одолеют.
Столь бесстрашное выставление себя напоказ врагу стоило королю жизни. Перелетевший через передние ряды защищавшихся тяжелый angon попал ему в грудь, выбив убеленного сединами воинами из седла. Рана оказалась смертельной.
Смерть короля не обескуражила визиготов — наоборот, придала им сил. Горя желанием отомстить, они бросились вперед, позабыв о защитной стене из щитов и обнажив клинки. Столь яростной и решительной была их атака, что остроготы вынуждены были отступить, но продолжали сражаться. Обе противоборствующие стороны, будучи представленными исключительно германцами, с презрением относились ко всякого рода доспехам, что вылилось в ужасающие раны и бесчисленное число павших.
На левом фланге, безмолвные, неподвижные, стояли римляне: конница, состоявшая из легких разведывательных эскадронов, более тяжелых vexillationes и панцирников, «Equites Cataphractarii Ambianenses»; пехота в лице нескольких старых легионов, над которыми все так же гордо реяли их орлы, и новых подразделений — петулантов, корнутов, бракиатов и многих прочих. Позади римлян расположились их союзники-германцы, главным образом вооруженные копьями и щитами и не носящие доспехов пехотинцы. Вожди германцев обзавелись лошадьми; многие из них были в Spangenhelms, кольчуге и с мечами.
К Аэцию, который, сидя на коне, наблюдал за развитием битвы с римских позиций в компании своих заместителей, Эгидия и Мажориана, подбежал курьер.
— Господин, аланы отступают! — выдохнул посыльный. — Аттила обратил их в бегство.
— Замечательно, — отозвался Аэций, загадочно улыбнувшись.
— Они отступают, господин.
— Спасибо, трибун, — твердо ответил Аэций, — я слышал, что ты сказал. А теперь отправляйся на правый фланг, узнай, что там происходит.
— Что ж, господа, похоже, Аттила заглотил наживку, — не скрывая удовлетворения, обратился полководец к своим командирам. — Теперь все зависит от того, как справится со своей ролью молодой Торисмунд.
Прискакавший вскоре трибун сообщил, что на правом фланге идет ожесточенное сражение, и постепенно перевес склоняется на сторону визиготов.
— Передай трубачам, пусть трубят наступление, — приказал ему Аэций. — На позиции, господа, — сказал он, повернувшись к своим заместителям, и пожав каждому из них руку, добавил: — И да поможет нам Бог. Юпитер или Христос? Наверно, не имеет значения, как мы будем Его называть, так как Он, несомненно, услышал наши молитвы и дарует нам сегодня победу.
Едва стихли последние звуки bucinae, как весь левый фланг — пехота — в центре, конница — по бокам — пришел в движение. Пешие римляне и германцы пошли вперед атакующим строем, cunei, который, несмотря на свое название, представляет собой широкую колонну, а не треугольный клин. Закованные в латы, идущие нога в ногу, римские колонны походили на гигантских металлических многоножек. Враг — подчиненные Аттиле германские племена — хлынул навстречу шедшим впереди римлянам, распевая свой боевой клич и стуча толстыми концами копий о щиты. Когда зазор между двумя армиями сузился, римские campidoctores начали выкрикивать свои ритуальные наставления: «Silentium; mandata captate; non vos turbatis; ordinem servate — Тишина; слушаться приказаний; сохраняйте хладнокровие; держать позицию».
По команде «Jacite» из римских шеренг вылетел град легких копий и отягощенных свинцом дротиков, и тут же римляне сомкнули щиты спереди и вверху, сформировав старую, но проверенную testudo, «черепаху», против которой вражеские снаряды оказались бессильны. (Римский залп оказался более удачным: германцы Аттилы понесли большие потери). Затем началась битва, от которой содрогнулась земля. Какое-то время сражение проходило с переменным успехом; чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Но, постепенно, неумолимо, силы союзников, укрепленные стойким и вымуштрованным римским контингентом, начали теснить Ардариха и его гепидов.
* * *
С занятого Торисмундом холма Тит наблюдал битву от начала до конца. Когда стоявшие в центре аланы Сангибана, не выдержав неослабевающего натиска гуннов, дрогнули и побежали, у него мелькнула предательская мысль, что выбранная Аттилой наступательная тактика вполне может оказаться эффективной.
Затем началось противоборство остроготов и визиготов; располагавшиеся по правую от Тита руку фланги обеих армий в сражение вступать не спешили. Захваченный страшным, но оттого не менее завораживающим зрелищем, Тит заметил, что постепенно у битвы начинает проявляться собственный рисунок и ритм. В центре гунны продвигались все дальше и дальше, тогда как слева, после нескольких безжалостных стычек, остроготы начали отступать. Чуть позже, справа от Тита, пришли в движение и римляне с примкнувшими к ним союзниками; навстречу им выдвинулись подчиненные Аттиле германские племена во главе с Ардарихом. Какое-то время исход боя оставался непонятным. Затем фланги войска Аттилы, его слабые места, стали крошиться и, на удивление быстро, сначала левый, а затем и правый, превратились в текущую с поля брани бесформенную массу, вслед за которой катился темный ком победителей. Окружавшие Тита визиготы по команде Торисмунда расположились в шеренги и устремились вниз — добивать бегущую армию Аттилы с тыла.
Теперь, когда оба вражеских крыла оставили поле боя, ушедший далеко вперед центр Аттилы оказался открытым для атаки с обоих флангов.
Внезапно Тит понял, в чем заключался гениальный план Аэция: предвидя то, что аланы окажутся слабым звеном союзников, он обратил первоначальный успех Аттилы в его поражение. Предоставив Торисмунду и его людям возможность разобраться с разбитыми флангами Аттилы, оставшиеся визиготы, римляне и другие федераты прекратят преследование и ударят по центру гуннов с другой стороны. Скатившись с холма, Тит со всех ног рванул к тому месту, где оставил привязанным своего коня.
* * *
Потеряв десятки тысяч человек убитыми, гунны все же сумели вернуться в свой лагерь, откуда, из-за сваленных в кучу телег, их лучники продолжали обстреливать врага до наступления темноты, вынудившей союзников отступить.
Даже несмотря на понесенные огромные потери, гуннская армия по-прежнему представляла собой грозную силу, но Аттила понимал: первое в жизни поражение он уже потерпел. Странно, но мысль эта совершенно его не беспокоила — наоборот, он понял, что чувствует облегчение. Не будет больше борьбы, не будет бесконечных, обращенных к нему, вождю гуннов, требований завоевания новых и новых земель, дававших его народу пастбища, золото, трофеи. Он устал быть королем гуннов и готов сложить с себя эту ношу. Завтра римляне и их германские союзники окружат его лагерь, готовые убивать, словно охотники, преследующие загнанного льва. Но он лишит их главной добычи — себя. Его, Аттилу, не закуют в цепи, не выставят, привязанного к римской колеснице, на обозрение глумящейся толпы — нет, столь позорной смертью он не умрет. Он расстанется с жизнью величественно, так, как подобает королю, так, чтобы и спустя многие века о том, как умер Аттила, люди рассказывали с благоговейным восхищением.
Он приказал соорудить огромный погребальный костер из конских седел и собственных ценнейших трофеев и дал указания наиболее преданным из своих командиров разжечь огонь, когда противник прорвется в гуннский лагерь — в том, что на следующий день это случится, Аттила не сомневался. Затем, взобравшись на вершину этой гигантской пирамиды, он приготовился переждать там ночь, последнюю ночь в его жизни.
Взошедшая луна явила его взору ужасное зрелище. На пространстве между мерцающими мириадами огней лагерями враждующих сторон образовались густые завалы трупов; погибшие лежали там, где и пали, так как прекратившаяся лишь в сумерках битва сделала погребение невозможным. Перед глазами у Аттилы проплыла вся его долгая и богатая на события жизнь. Вспоминать о несбывшихся мечтах о Великой Скифии он не хотел; мысли о ней он давно уже выбросил из головы. На память Аттиле пришли самые важные моменты из того периода его жизни, когда он был здоров и молод, а чувства его — обострены до предела; когда он сталкивался лицом к лицу с испытаниями, так или иначе менявшими его восприятие мира.
Он припомнил, как, десятилетним мальчуганом, бросился на рысь, напавшую на охраняемое им стадо. Огромная рычащая кошка раздирала когтями его руки и грудь, но он все же исхитрился вытащить нож и всадить его в ее шею. Первый набег на лагерь противника, коим в том случае были сарматы: отец взял его, тогда еще подростка, с собой, и Аттила все еще помнил тогдашнее свое изумление при виде того, как пущенные его крепким изогнутым деревянным луком (подарок отца) стрелы, одна за другой, сражали наповал могучих воинов. Помнил он и Марг, где склонил римлян к подписанию постыдного для них договора, заработав себе непререкаемый авторитет среди соплеменников. Хорошо помнил он и все то, что связывало его с Аэцием, некогда другом, а теперь — таковы странные превратности судьбы — смертельным врагом: великую охоту, во время которой Карпилион, сын римского полководца, повстречался с медведем; спуск по порогам Данубия у Железных Ворот…
Покачнувшись, Аттила пришел в себя: его бил озноб, конечности онемели. Луна зашла. Забрезжил, но вновь куда-то исчез рассвет; стало еще темнее, чем раньше. Наконец вдали, на востоке, залился румянцем горизонт, и широкие просторы Каталаунских полей омыло первыми лучами утреннего солнца. Время пришло, сказал себе Аттила, но я встречу смерть радостно, без сожалений.
Прошел час.
Когда разбитый у его ног лагерь очнулся ото сна и ласкающее июньское солнце осветило безмолвное, усеянное лишь трупами, поле боя, Аттила понял, что римляне не придут. Ему было позволено уйти. Глубочайшее разочарование охватило утомленного старого воина. Борьба будет продолжена, и ему вновь придется взвалить на себя бремя по руководству своим народом, бремя, ставшее почти невыносимым.
* * *
Начав отступать к Рейну, Аттила вновь услышал последние слова пророчества Ву-Цзы: «На помощь орлу приходит кабан, и совместно они вынуждают осла отступить». Орел — это Рим; кабан — любимый символ германских воинов; дикий осел степей — гунны. Значение пророчества стало ему понятным: Рим и Германия объединились, чтобы вместе разбить гуннов. «Предсказание старца сбылось», — мрачно подумал Аттила. Похоже, человек все же не может быть творцом собственной судьбы.
* * *
— Вы дали ему уйти, господин! — недоверчиво воскликнул Тит. — Но почему?
Аэций отвел взгляд от равнины, на которой еще недавно кипело сражение, и внимательно посмотрел на Тита. По полю боя сейчас передвигались лишь небольшие группы людей, собиравшие трупы и составлявшие списки павших. Все они были римлянами, визиготы и прочие союзники ушли с Каталаунских полей в родные земли. Торисмунд, избранный королем на поле брани после смерти отца, хотел остаться, но, по совету, вернулся в Толозу, — не принимавшие участия в сражении братья юноши могли оспорить его восшествие на престол.
— Так будет лучше всего, — сказал Аэций. Он кивнул в сторону круживших над полем канюков. — Хочешь, чтобы их пир продолжался? То была самая кровавая победа в истории Рима. Еще одно такое сражение — и мы потеряем оставшиеся легионы, когорты и auxilia[63] нашей армии. Аттила сейчас похож на раненого тигра — пусть уходит, зализывает раны. Возможно, он все еще опасен, но уже никогда не будет столь грозным, как прежде. Кроме того, он нам нужен. — Полководец наградил своего курьера загадочной улыбкой.
— Нужен нам?
— Безусловно. Не станет Аттилы — и федераты, забыв о том, что еще недавно дрались бок о бок с римлянами, будут пытаться урвать себе все новые и новые территории. Пока у Запада не появится новой армии, на которую, как ты знаешь, у государства нет денег, остановить я их буду не в силах. Потому я и убедил Торисмунда как можно скорее возвратиться домой — кто знает, что может ему сейчас взбрести в голову?
— Подло же вы обошлись с самым верным нашим союзником, — произнес Тит, не сумев скрыть отвращения, которое внушил ему неприкрытый цинизм полководца. — Без визиготов мы бы, вероятно, потерпели поражение.
— Не «вероятно», а «безусловно», — признал Аэций. — Чтобы поберечь мое римское войско, которое, будучи фактически невосстановимым, слишком дорогостоящее, чтобы им можно было так легко разбрасываться, я сделал так, чтобы основная тяжесть сражения легла на плечи визиготов. Натравливание варваров друг на друга — любимая политика римских полководцев в отношении федератов, позволяющая значительно сократить потери римской армии. Визиготы заслуживают самых добрых слов: со своей ролью они справились просто безукоризненно.
— Но не будет ли все это иметь опасных последствий? Ведь они могут и догадаться, что их использовали.
— Вот почему я и хотел, чтобы они как можно скорее отсюда удалились, — словно лектор, объясняющий элементарный логический факт, заметил Аэций. — Сейчас, несмотря на огромные потери, они воодушевлены победой. Негодование придет позднее — чувство обиды на меня, на Рим. Но это — цена, которую я готов заплатить за победу над Аттилой.
— Понимаю, — только и смог вымолвить Тит; столь продуманное коварство полководца вызвало у него целую гамму чувств — от восхищения до шока. Помолчав немного, он тихо сказал: — Но вы ведь не только для того отпустили Аттилу, чтобы держать в узде федератов, не так ли?
Аэций пожал плечами, и губы его расползлись в задумчивой улыбке.
— Ты, как всегда, прав. Есть и другая, гораздо более важная, причина: он был моим другом.
Часть четвертая Рим 451 — 455 гг
Глава 50
И вдохнул Господь жизнь в мертвую и безжизненную руку, и потянулась она к посланию.
Феофилакт. Хроники. VII в.— Халкедон! — вскричал Валентиниан и, подавшись вперед, навел скипетр на стоявшего перед троном крепкого пожилого мужчину в папских одеждах. — Направить к берегам Боспора судно с епископами! Ты слышал это, Гераклий? — Император повернулся к своему главному советнику, полному, приземистому евнуху, ни на шаг не отходившему от своего господина. — Да он разорить нас хочет. Есть ли у вас хоть малейшее представление, — продолжил император, обращаясь уже к папе, — во что обойдется нам эта экспедиция? А питание? А жилье? И ради чего? Ради того, чтоб, нежась на солнышке, эти духовники занимались теологическим буквоедством.
Папа Лев из последних сил старался сохранять терпение.
— Со всем уважением, ваша светлость, хочу заметить, что установление истинной природы Христа вряд ли можно назвать буквоедством, — возразил он. Льву приходилось иметь дела и с предшественниками Валентиниана: Гонорием, набожным и кротким дядей нынешнего императора, его дедом, великим Феодосием, на коленях просившим у епископа Медиолана Амвросия прощения за прежние прегрешения, — но столь тяжелый разговор вести ему еще не доводилось. В принципе, о том, какой прием его ожидает, папа догадался, едва ступил в приемный покой римского дворца Домициана, которому Валентиниан отдавал предпочтение перед другой своей резиденцией — равеннской: вдоль стен стояли громадные статуи языческих богов и императоров. До Льва, конечно же, и ранее доходили слухи о том, что Валентиниан — христианин лишь по имени, что он тайно занимается черной магией и колдовством, но в подобных случаях папа предпочитал доверять не людской молве, а собственным глазам.
— Вопрос закрыт, — отрезал Валентиниан. — Этого государство себе позволить не может. Скажи ему, Гераклий.
— Полагаю, ваша светлость, казначейству удастся изыскать необходимую сумму, — вкрадчиво сказал евнух. — Разгромив в прошлом месяце Аттилу, мы сэкономили часть средств, предназначавшихся армии. Кроме того, расходы государства на эту поездку едва ли будут значительными. Доходы Церкви от денежных пожертвований столь внушительны, что большую часть затрат на экспедицию она в состоянии покрыть сама. Да и ваш императорский престиж, ваша светлость, поднимется, когда мир увидит наконец, что Рим диктует условия Константинополю.
— Вряд ли нам удастся диктовать условия, — начал было протестовать Лев, но, поймав предостерегающий взгляд Гераклия, вовремя остановился. Жесткий и опытный переговорщик, Лев сразу же догадался, какую игру ведет Гераклий. Тщеславный, распутный и порочный, возглавляющий коррумпированное и неэффективное правительство, Валентиниан был крайне непопулярен. Воспрепятствовав отъезду папской делегации в Константинополь, он бы нанес серьезное оскорбление не только епископам Западной империи, но и всей их пастве. И тогда и так уже запятнанной репутации Валентиниана был бы нанесен непоправимый ущерб. Епископы — люди могущественные, обладающие сильным влиянием на общественное мнение, а в последнее время — в силу того, что отягощенные обязанностями декурионы все чаще и чаще ударялись в бега либо записывались в армию — привлекаемые еще и к работе гражданских администраций. Гераклий хитер, понял Лев, и знает, что любой кризис повлияет не только на Валентиниана, но и на его, евнуха, собственные позиции, и в результате он вполне мог оказаться козлом отпущения.
— Я, конечно же, ваша светлость, приложу все усилия для того, чтобы мои делегаты заявили на Соборе, что они приехали туда лишь с вашего позволения, — тактично сказал Лев. — И с вашего, надеюсь, благословения.
— Ну, коль такое дело, езжайте — езжайте! — закричал император, и в голосе его послышались капризные нотки. — Опустошайте казну, доводите до нищеты ваши епархии — стоит ли думать о деньгах, когда речь идет о служении Христу? — Прикрыв одной рукой глаза, император эффектно взмахнул скипетром — счастливой, мол, дороги. — Займись приготовлениями, Гераклий, и проследи, чтобы они поскорее отчалили.
* * *
— Что происходит с римским миром, друг мой? — поинтересовался Маркиан, пожилой император, у Аспара, своего магистра армии, во время прогулки по саду главного императорского дворца в Константинополе. — Люди, похоже, гораздо больше готовы спорить об истинной природе Христа, нежели отражать натиски гуннов или германцев. Когда я был ребенком, трон занимал первый Феодосий, и империя была единой. Феодосия, может быть, и преследовали мысли о повсеместном насаждении ортодоксального католичества, но безопасность государства всегда оставалась его приоритетом. Он умер, оставив границы невредимыми и хорошо защищенными. Боже, как же все изменилось! — Он уныло уставился вниз, на стену Септимия Севера, возведенную пару веков назад и являвшуюся теперь частью морских укреплений. — Запад стоит на краю гибели, Восток занят копанием в теологических мелочах — это, полагаю, наследие греческой философии. Народ, по-моему, больше внимания обращает на стоящего на столпе Даниила, чем на мои указы. А империю тем временем, словно треснувшую льдину, продолжает относить в сторону. Для того чтобы положить этому гниению конец, мне пришлось созвать этот чертов собор, но, поверь мне, толку от него будет не много. А ведь у меня есть и более важные дела — восстановление опустошенной Аттилой страны, к примеру.
— Что касается собора, господин, то у вас просто не было выбора, — попытался успокоить императора Аспар. (Эти двое знали друг друга так долго, что почтительное «ваша светлость» в их разговорах никогда не звучало.) — Мы, простые солдаты, можем его не любить, но не забывайте, что живем-то мы теперь в новом мире, в котором нашлось место и всем этим религиозным обсессиям — простите, позициям.
— Да я уже вообще, если честно, позабыл, зачем мы созвали этот совет, — тяжело вздохнув, Маркиан похлопал Аспара по плечу. — Напомни мне, пожалуйста, друг мой. Это ведь была твоя идея.
— Возможно, вы помните, господин, был тут у нас один такой архимандрит — Евтихий. Так вот, он заявлял, что человеческое начало в Христе поглощено божественным и что пострадал за человечество не богочеловек, а бог. Три года назад Евтихия обвинили в ереси. Флавиан, патриарх Константинопольский, созвал небольшой церковный собор, на котором Евтихия низложили. Флавиана поддержал римский папа Лев, резко осудивший учение Евтихия. Тем не менее год спустя вопрос этот вновь был поднят на Эфесском соборе. Председательствовал там александрийский патриарх Диоскор, разделявший взгляды Евтихия, да и вообще, сторонников последнего там хватало — главным образом, среди египтян и палестинцев.
— Не сложно догадаться, какое они вынесли решение.
— По-другому и быть не могло, господин. Евтихия оправдали, Флавиана осудили, а на послание папы Льва — так называемый «Томос» — не обратили никакого внимания.
Маркиан нахмурил брови.
— Прости, если я чего-то не понимаю. Это, что, так важно?
Аспар рассмеялся.
— Признаюсь, у меня и самого голова немного пошла кругом. Если говорить по существу, то это скорее политический, нежели религиозный вопрос, и суть его — Константинополь, столица империи, твой город. Унизив Флавиана Константинопольского, Диоскор Александрийский не только выказал пренебрежение по отношению к папе, но и бросил вызов твоей власти.
— Спасибо, — поблагодарил Аспара император. — Я все понял. Диоскора следует проучить и — сообща — поставить на место. Пусть у всех, в обеих империях, рассеются даже малейшие сомнения в том, что в вопросах как правления, так и веры решающее слово остается за Константинополем, городом, в котором находятся резиденции императора и патриарха. Нужно будет вновь вынести на обсуждение учение Евтихия. Стравив, фигурально выражаясь, Льва и Диоскора в публичных дебатах, обеспечив победу папы, мы упрочим нашу верховную власть самым убедительным — из возможных — образом. Вот, думаю, какую позицию нам следует занять. Что скажешь?
— Коротко и ясно, господин. Полагаю, даже Флавиан бы не выразился лучше.
— Тогда выпьем-ка за успех нашего предприятия. — Приказав рабу принести вина, император посмотрел вдаль, туда, где, всего в двух милях, на противоположном азиатском побережье мерцал белизной под теплыми лучами октябрьского солнца небольшой городок Халкедон. — Спокойное местечко, — пробормотал он. — Но уже через несколько дней, когда в его доках высадятся папские делегаты, там разразится смертельная война, в которой каждая из сторон будет сражаться до последнего. Но с нами Рим, поэтому не думаю, что у наших противников есть шансы. Ага, вот и вино. — Наполнив кубки, невольник поднес их императору и его гостю. Перед тем как отпить из своего, Аспар вылил немного вина на землю.
— Аспар? — на лице Маркиана отразилось замешательство.
— Либация, господин. На тот случай, если за нами наблюдают прежние боги. Возможно, нам понадобится и их поддержка.
* * *
Симон и Георгий, мальчики-певчие церкви, названной в честь святой Евфемии, замученной в годы Великих Гонений Диоклетиана, смотрели на лежавшую в открытом гробу мумию страдалицы со смесью восторга и отвращения. Черная и ужасная, похожая на череп голова мумии жутко скалилась в ответ.
— Уффф! — содрогнулся Симон, младший. — Что-то мне расхотелось, Георгий. Вернемся-ка лучше домой.
— Боишься, что когда-нибудь, темной ночью, она тебя схватит? — Замахав, словно крыльями, руками, Георгий протяжно завыл. — Ладно, ладно, прости, — поспешно сказал он, увидев, как побледнел его друг. — Успокойся. Вот увидишь, будет смешно — только подумай, какие у них будут лица, когда я потяну за шнур.
— Ну, хорошо, — нерешительно согласился Симон. — Только больше так не шути.
— Слово хориста, — торжественно пообещал Георгий. — Сможешь сам завязать узел и накинуть его на ее палец? — Кивнув, Симон достал нож и моток черной бечевки. Пройдя в заднюю часть церкви, Георгий по лестнице спустился в склеп и спрятался под решеткой, через которую туда из нефа поступал воздух. Ухватив протянутый ему через решетку конец шнура, мальчик спросил:
— Готов?
— Готов, — прозвучал сверху голос Симона.
Георгий потянул за шпагат — никакого эффекта. Поднявшись наверх, мальчик подошел к товарищу.
— За кромку цепляется, — пояснил Симон.
Георгий ощупал переднюю часть гроба, — поверхность ее была неровной, с зазубринами.
— Ничего, сейчас пойдет как по маслу, — взяв одну из стоявших на алтаре зажженных свечей, он поднес ее к гробу, наклонил, и воск частыми каплями застучал по дереву. Вернувшись в склеп, Георгий вновь — по сигналу — потянул за бечевку. На сей раз она пошла легче, и, после того как мальчик дернул сильнее, в руке его оказался весь шнур целиком.
— Классно вышло, — сказал Симон, показав вернувшемуся в неф Георгию большой палец; правая рука святой лежала на ее иссохшей груди. Придав мумии прежнее положение, ребята, со смешками и шутками, выбежали из церкви.
* * *
Вслед за свещеносцами, певчими, алтарниками и пономарями, ведомые императором и императрицей, в халкедонскую церковь Святой Евфемии торжественно проследовали отцы и делегаты Четвертого Вселенского собора. Представители монархической епархии Рима и патриархата Константинополя заняли места по правую сторону от алтаря, депутаты от патриархатов Иерусалима и Александрии разместились слева. Между двумя этими группами, на установленных позади алтаря скамьях, расположились отцы собора, десять священников и двадцать семь сенаторов. Перед алтарем, словно безмолвный и зловещий председатель, лежал в открытом гробу ссохшийся труп святой Евфемии. На груди мумии покоилась копия «Томоса» римского папы Льва.
Выступив с краткой напутственной речью, Маркиан приветствовал ассамблею и попросил Господа помочь делегатам прийти к правильным решениям, после чего они с императрицей Пульхерией покинули церковь. Председатель объявил Собор открытым и, суммировав антагонистические позиции римской и александрийской делегаций, предоставил римлянам право обосновать свою точку зрения.
Первым взял слово какой-то седой галльский епископ.
— Христа, пусть и породил его Святой Дух, родила женщина, — начал он, говоря с сильным южногалльским акцентом, — из чего, несомненно, следует, что в Нем смешались две природы — божественная и человеческая. К тому же, сотворен Он из той же материи, что и Отец, и ни в чем ему не уступает.
— Воистину так, — раздался дрожащий голос делегата от Фракии. — Несторий, которого я знал еще тогда, когда он был простым пресвитером в Антиохии, прав был, однако он учил, что Иисус Христос был не Богочеловеком, а лишь Богоносцем: от Девы Марии родился не Бог, а только одежда, которая должна была облекать Сына Божия, храм, в котором Он мог обитать. Пресвятая Дева Мария не может называться Богородящей, а должна называться Христородящей.
— Присядь-ка, ты, старый дурак, — зашипел на фракийца сосед. — Предыдущий, Третий Вселенский собор объявил несторианство ересью. — Поднявшись, он обратился к комиссии. — Прошу вас извинить моего многоуважаемого друга из Филиппополя. В силу своего почтенного возраста он забыл о Двенадцати Анафемах, произнесенных на Нестория Феофилом Александрийским и одобренных папой Целестином.
— Вот именно эти, сформулированные моим предшественником, Двенадцать Анафем и легли в основу учения Евтихия, в котором говорится, что у Христа есть лишь одно начало — божественное! — прокричал с противоположных рядов изнуренный старец с горящими глазами — Диоскор. — Того самого Евтихия, чьи убеждения вы сейчас пытаетесь осудить.
— Тишина! — проревел председатель. — Я не потерплю столь непристойных вмешательств. Патриарх Александрийский еще получит возможность высказаться, но — в свое время. Что же касается делегата из Филиппополя, — продолжил он, смерив провинившегося церковника строгим взглядом, — то будем считать его упущение непреднамеренным. Тем не менее он должен принять во внимание, что столь уважаемый им Несторий томится сейчас в ссылке в Великом Оазисе Египта.
А теперь для того чтобы пролить свет на проблемы, которые мы собрались здесь обсудить, предоставляю слово моему эрудированному коллеге по комиссии, Зенобию Мопсуестскому. Он детально изложит все те доктрины, которые станут предметом нашей дискуссии: an-homois, утверждающую, что Сын и Отец не есть одно и то же; homois — согласно ей Сын по существу подобен Отцу, — и homo-usios, указывающую на то, что Сын един с Отцом в своей сущности…
* * *
Ранним утром последнего дня собора, как только ризничий открыл двери церкви Святой Евфемии для того, чтобы убедиться, что все в порядке, Симон и Георгий пробрались внутрь и спрятались. Когда ризничий удалился, они занялись подготовкой «розыгрыша», после чего Георгий спустился в склеп, а Симон притаился за той из колонн, из-за которой отлично просматривался весть интерьер церкви и от которой было рукой подать до лестницы, так что мальчик свободно мог в подходящий момент подать другу сигнал к действию.
* * *
— … Выслушав и тщательно взвесив все приведенные полемизирующими сторонами аргументы и приняв во внимание преобладающую точку зрения, отцы Четвертого Вселенского собора постановили… — взяв небольшую паузу, председатель оглядел приехавших в Халкедон делегатов: сторонники Льва выглядели довольными и возбужденными, поборники Диоскора — замкнутыми и подавленными.
— … Исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве, совершенного в человечестве, истинно Бога, истинно человека, того же из разумной души и тела, единосущного Отцу по Божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха.
Таким образом, то вероучение, согласно которому у Христа есть лишь одно начало — божественное, отныне провозглашается ересью, а все те, кто его разделяют, считаются еретиками.
Вердикт Эфесского собора, оправдавший учение Евтихия, объявляется потерявшим законную силу.
Сверх того, мы постановляем, что Диоскор и поддержавшие его в Эфесе египетские епископы должны быть осуждены и низложены; остальным же, коих мы сочли лишь сбившимися с пути истинного, даруется прощение.
Позвольте поблагодарить от вашего имени Их Светлости Маркиана и Валентиниана, Соправителей нашей Единой и Неделимой Империи, Льва, Монархического Епископа Рима, и Флавиана, Патриарха Константинопольского. Именем Отца, Сына и Святого Духа объявляю собор закрытым.
Едва председатель закончил свое выступление, как в нефе поднялся шум, раздались изумленные возгласы. По всей церкви вскакивали на ноги делегаты, указывавшие на гроб, в котором лежало тело святой Евфемии. Невероятно, но факт: ее сухая, как ветка, рука взмыла в воздух, зависла на пару секунд в вертикальном положении, а затем упала на грудь мумии, цепляясь ногтями за «Томос»…
* * *
— Чудо? — вне себя от гнева, Маркиан расхаживал взад-вперед по атрию расположенной в «Дубах», престижнейшем предместье Халкедона, уединенной виллы. В этой шикарной резиденции он поселился на время заседания собора и имел возможность следить за прениями в спокойной обстановке. — Только этого нам не хватало, Аспар. Кто ж после такого станет воспринимать решения собора всерьез? Доверчивые глупцы. Чтобы рука мертвеца тянулась к «Томосу»?! В жизни не слышал большей чепухи!
— Я озадачен не меньше вашего, господин, — ответил полководец. — Но все они, все до единого, клянутся, что видели это — за исключением тех, кто дремал в задних рядах. Не думаю, господин, что мы можем просто выбросить это из головы. И Иоанн Антиохийский, и наш Флавиан тоже утверждают, что видели, как это случилось, а больших прагматиков и не сыщешь.
— Тогда, должно быть, это какой-то фокус, — раздраженно сказал Маркиан. — Все мы слышали о пиалах с «кровью» святых, в определенные дни превращающейся в жидкость, или статуях девы Марии, вроде бы плачущих настоящими слезами в Страстную пятницу. Судя по всему, здесь мы имеем дело с чем-то подобным, либо… Возможно, мышцы руки начали сокращаться потому, что в нефе было гораздо теплее, чем в склепе, где до того покоилось тело. Ради бога, Аспар, не смотри ты на меня такими глазами — я и сам знаю, что все эти аргументы притянуты за уши. Но чудо? Нет, в чудеса я не верю.
— Может, нам стоит самим взглянуть на тело? — предложил полководец.
— А что, отличная идея. Показывай дорогу.
— Ничего необычного, господин, — объявил Аспар, закончив осмотр гроба.
— Вынужден с тобой согласиться, — неохотно произнес Маркиан, смахивая пыль с коленей. — А мне, с моим артритом, такие наклоны вообще противопоказаны. Эй, а это что такое? — неожиданно спросил он, указывая на кромку передней части гроба.
— Обычные восковые пятна, наверное, от свечи, — сказал, приглядевшись, Аспар.
Забыв про артрит, Маркиан склонился над гробом.
— Какая-то отметина, — он ткнул пальцем в проделанную в заляпанном воском дереве небольшую выемку. — Есть что-то странное во всем этом, Аспар.
— Знаете, господин, — на лице Аспара заиграла невинная улыбка, — полагаю, не стоит нам так уж стараться доказать, что никакого чуда не случилось. В конце концов, произошедшее можно толковать и как проявление божьего одобрения решений, принятых на соборе. Разумно представленное, «чудо святой Евфемии» принесет нам скорее пользу, нежели вред.
— Вот уж не думал, что могу услышать от тебя такое, Аспар, — возмутился Маркиан. — Никогда в жизни я не поддержу… — Тут он запнулся, покачал головой, а затем громко рассмеялся. — Что ж, возможно, ты и прав: не стоит будить спящую собаку. Ах ты, старый плут, а я уж начал в тебе сомневаться.
Глава 51
… Он лежал, плавая в крови, которая обыкновенно шла у него из ноздрей, но теперь была задержана в своем обычном ходе и, изливаясь по смертоносному пути через горло, задушила его.
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica. 551 г.Очнувшегося ото сна Аттилу душил страх. Тело его не слушалось. Каждый мускул был недвижим — казалось, на него обрушилось все железо мира. Собрав в кулак волю, Аттила попытался заставить плоть повиноваться; медленно, но верно к членам начала возвращаться способность двигаться — вот уже он смог пошевелить руками и ногами и, сморщившись от боли, поднялся с лежака. Подобного рода ощущения — а вызваны они были перенапряжением мышц от долгого пребывания в седле — Аттила испытывал вот уже несколько лет; с каждым годом они становились все более и более мучительными, и теперь еженощно, отходя ко сну, он трепетал при мысли, что на следующее утро его обнаружат живым, но парализованным. Ничего ужаснее этого Аттила и представить себе не мог. Все равно, что быть погребенным заживо! Нет, хуже; в этом случае все закончится быстро, тогда как проснувшись обездвиженным, он навсегда останется живым мертвецом.
Приказав подать коня, Аттила стрелой промчался мимо тех своих соплеменников, коим довелось нести ночную вахту, направив скакуна в далекую степь. Поводья вождь гуннов натянул, лишь оказавшись у подножия Сарматских гор — он всегда находил там прибежище, желая побыть наедине с самим собой. В молчаливом отчаянии вновь и вновь он мысленно возвращался к событиям последних месяцев; думал Аттила и о том, что ждет его в будущем. После разгрома, учиненного его войску Аэцием, он страстно, всей душой, желал лишь одного — заключить мир с римлянами и провести остаток дней в укреплении своей могущественной империи. Возможно, ему удалось бы претворить в жизнь хоть малую толику отложенных до лучших времен планов по строительству Великой Скифии. Но, похоже, эта дорога закрылась для него навсегда. Так распорядилась судьба, и как бы ему ни хотелось иного, он должен и дальше вести свой народ по бесконечному пути завоевательных войн. Как то было в прошлом году, когда, усталый и подавленный, он вторгся в Италию. Союзная армия федератов Аэция отказалась прийти на помощь Галлии, а ограниченный контингент римских войск воспрепятствовать гуннской орде был не в силах. Обычное оружие римлян оказалось неэффективным, и они прибегли к средствам духовным; свирепый папа (очень кстати названный Львом, подумал Аттила), встреча с которым произошла у озера Бенак, убеждал его незамедлительно покинуть Галлию. Иначе, говорил Лев, гунны рискуют навлечь на себя кару Божью. Однако Господь не прогневался и после того, как была разрушена Аквилея, разграблены Медиолан и Тицин, частично выплачено римлянами приданое Гонории (замененное золотом), что позволило Аттиле вернуться домой, не потеряв лица. Но и этого гуннам показалось мало. Теперь Совет настаивал на новом набеге на Италию — в том случае, если сенат откажется выдать им уже саму Гонорию.
Я похож, думал Аттила, изнуренный и смиренный, на акул, что плавают в Океане, громадном море, окружающем землю: они обречены либо продолжать свое движение, либо уйти на глубину и умереть под напором немыслимой массы обрушившейся сверху воды. Зачем все это было? — вопрошал Аттила у самого себя. Я прожил долгую жизнь, хотя она и не принесла ничего из непреходящих ценностей. Я достиг славы; имя Аттилы долгие столетия будет отдаваться эхом. Но на чем основывается эта слава — на десятках тысяч безжалостно убиенных, на несчетном числе разоренных городов и выжженных земель? К такой ли славе стоило стремиться? Самых близких мне людей — брата Бледу, чью жизнь меня вынудили забрать, Аэция, единственного преданного друга, ставшего теперь злейшим врагом, — я потерял. За счет непреклонной воли и жесткого руководства мне удалось создать огромную империю — уцелеет ли она после моей смерти? Или же сыновья мои перессорятся из-за наследства и, ослабленные и не пришедшие к согласию, не сумеют удержать рвущиеся к свободе покоренные народы, которые и растащат империю на части? Эллак и Денгизих, наиболее способные из его сыновей, храбры и решительны, но все же не столь сильны характером, чтобы объединить всех своих братьев и не допустить развала гигантской державы.
Унылый и безрадостный, возвращался Аттила домой. Он предпочел бы подольше задержаться в горах, но то был день его свадьбы, и в шатре его ждала невеста, последняя из многих, замечательной красоты девушка по имени Ильдико. Аттила подозревал, что она была выбрана Советом — для того, чтобы показать гуннам, что их пожилой король все еще остается мужчиной, сильным и дееспособным. На миг Аттила почувствовал обиду на то, что дожил до такого: он, вождь гуннов, человек, которого некогда все боялись, Бич Божий, должен шествовать перед своими подданными, словно племенной бык на базаре — лишь для того, чтобы потворствовать ожиданиям пребывающих в неведении соплеменников, чей моральный дух можно поддержать лишь благодаря мифу о всемогущем короле. «Наверно, — криво улыбнулся собственным мыслям Аттила, — я становлюсь похожим на царя-цаплю из притчи, рассказанной невольником-греком».
* * *
При въезде в деревню, куда Аттила вернулся уже после полудня, его встретили девицы, шедшие рядами под тонкими белыми и очень длинными покрывалами; распевая скифские гимны и песни, они сопроводили Аттилу в его деревянный дворец. За главными воротами, окруженная толпой слуг и вереницами прибывших на свадьбу гостей, его ждала молодая невеста. Один из рабов преподнес королю чашу с вином, водруженную на небольшой серебряный столик. Аттила пригубил вино, коротко кивнул будущей жене, совсем еще юной девушке с испуганным взором, скрыть который не могла даже пышная свадебная вуаль, и спешился.
После того как шаман исполнил свадебный обряд, жених и невеста, свита новобрачной и гости проследовали через ворота в огромную залу, украшенную мягкими восточными коврами и накинутыми сверх варварских одежд тканями с вышитыми на них разноцветными узорами. У стен комнаты, с обеих сторон, стояли кресла для дорогих гостей. Ложе, на котором предстояло сидеть Аттиле, а вместе с ним и королевский стол, находились — как и на приеме, устроенном для римских посланников пять лет тому назад, — посреди залы, на небольшом возвышении. Стол Аттилы был уставлен деревянными тарелками и кубками, прочим же варварам и многочисленным гостям подавались чаши золотые и серебряные, кушанья подносились на круглых серебряных блюдах.
Певцы, жонглеры и шуты сменяли друг друга, за одним роскошным кушаньем следовало другое, еще более изысканное (каждое из блюд представляло собой новую вариацию предыдущего; основу всех их составляли три ингредиента — баранина, козлятина и просо). Непрестанно звучали тосты — во славу самого Аттилы, его невесты, всех ее родственников и наиболее знатных персон из числа гостей. Пили всё — и забродившее кобылье молоко, и бузу, и римское вино. Несмотря на то что Аттила — как и всегда — ел и пил умеренно, бесчисленное количество тостов и кушаний начали в конце концов сказываться и на его крепком телосложении. Но, являясь хозяином и женихом, он вынужден был вежливо и учтиво отведывать все подаваемые напитки и кушанья, не имея возможности покинуть пиршество до его конца. Первые лучи солнца уже пробивались сквозь деревянные ставни залы, когда были убраны со столов последние блюда, и, больной и изнуренный, Аттила смог наконец удалиться с невестой в свои покои.
С чувством огромного облегчения растянулся король на своем ложе, указав Ильдико, что ей не следует присоединяться к нему и она может отдохнуть на соседнем лежаке. На Аттилу вдруг накатила волна сострадания к бедняжке, с замиранием сердца ожидавшей, что вот-вот наступит момент, когда ей придется отдаться человеку, годившемуся ей в деды. Он избавит ее от страха. Пусть уж лучше заведет себе любовника, молодого красивого парня из числа слуг, а чтобы Совет и соплеменники оставались довольными, он, Аттила, признает их сыновей — если таковые, конечно, появятся — своими. Легкая улыбка пробежала по лицу грозного старого воина, и он уснул.
* * *
Аттила проснулся от ужасной пронзающей боли в груди. Он попытался позвать на помощь, но смог издать лишь слабый гортанный звук. Аттила попробовал встать на ноги, но онемевшие мышцы не желали подчиняться его воле. Боль усиливалась, становясь нестерпимой. Вдруг он почувствовал, как что-то в его груди разорвалось на части, и пищевод наполнился теплой жидкостью; Аттила пытался дышать, но ему не хватало воздуха…
На следующий день, когда миновала уже большая его часть, Баламир, верный и преданный слуга Аттилы, обеспокоенный отсутствием хозяина, ворвался в королевские покои и обнаружил своего господина мертвым; вокруг короля гуннов разлилась огромная лужа крови. Ильдико, с опущенным на лицо покрывалом, рыдала над телом великого воина, чьей женой ей довелось быть всего несколько часов. Сомнений в том, что Аттила умер своей смертью, от излияния крови, ни у кого не возникло.
* * *
Погребение Аттилы проходило с размахом, достойным его великих подвигов. Тело его поместили в шелковый шатер, разбитый посреди степи. Отборнейшие всадники гуннского племени, со сбритыми волосами и обезображенными глубокими надрезами лицами, объезжали кругом то место, где был положен их усопший вождь, поминая его деяния в погребальных песнопениях. Ночью труп, заключенный в три гроба — первый из золота, второй из серебра, третий из железа, — был тайно предан земле, там, где еще накануне протекала река Тиса, отведенная в другое русло пленными римлянами. Затем воды вернули в естественное русло, а пленных казнили, чтобы навеки сохранить в тайне место погребения Аттилы.
Весть о смерти короля гуннов, с быстротой молнии распространившаяся по римским землям, повсюду была встречена дружными вздохами облегчения. Но особенно ей обрадовались на Востоке, которому Аттила поклялся ужасно отомстить за нежелание платить ему подать.
Глава 52
Кольцо останавливается скачками на отдельных буквах, проходя определенные промежутки, и образует эпические стихи, соответствующие вопросам и сложенные в ритме и размере, сходными с Пифийскими или получаемыми из прорицалища Бранхиадов.
Аммиан Марцеллин. Деяния. 395 г.Ночь была уже в самом разгаре, когда в убогий, густонаселенный Четвертый район Рима, Субуру, прокрались, стараясь оставаться незаметными, двое в cuculli, плащах с капюшонами: один — коренастый и мускулистый, другой — высокий и подтянутый. Окруженные высоченными insulae, стремившимися, казалось, к небу, установленными друг на друга корявыми, беспрестанно загоравшимися и оседавшими доходными домами, узкие улочки, крайне редко посещаемые частными мусороуборочными бригадами Субуры, буквально утопали в грязи и нечистотах. Канули в лету прежние коммунальные службы, еще недавно содержавшие все четырнадцать районов города в чистоте и порядке. Правопорядок, пожаротушение, уборка городских улиц и общественное здравоохранение — всем этим занимались теперь заключавшие контракты с городским префектом частные лица, которыми двигала лишь жажда наживы.
Первый из мужчин — благодаря широченным плечам и хорошо развитым предплечьям его вполне можно было принять за уличного грабителя — брел по лабиринту узких улочек и переулков Субуры с уверенностью человека, проведшего здесь всю свою жизнь. Наконец он остановился у входа в огромное строение, по сравнению с которым все соседние дома казались карликами. То была знаменитая Инсула Феликула, самый высокий из римских домов, поглазеть на который в Рим съезжалось не меньше народу, чем в Египет — на пирамиды.
— На ноги и легкие не жалуетесь, ваша светлость? — хохотнул крепыш, чьи непринужденные манеры граничили с нахальством. — Смотрите, как бы не пришлось потом жалеть — нам взбираться на шестнадцатый этаж.
— Тебе платят за работу, Статарий, а не за разговоры, — откинув назад скрывавший лицо капюшон, император смерил своего спутника неприязненным взглядом. — Твое дело — показывать дорогу.
— Как скажете, ваша светлость, — смутить Статария было сложно. — Я лишь хотел дать дружеский совет.
До чего ж самонадеянный малый, думал Валентиниан, поднимаясь вслед за Статарием по крутой лестнице. Эти на-глецы-возничие, столь любимые всякой чернью, считают себя ровней любому, даже своему императору. Сейчас с подобной непочтительностью придется смириться. Никуда не денешься — лучшего помощника, чем возничий, в столь грязном деле ему не найти. Статарий же, «Копуша», как иронично прозвали этого, самого быстрого возничего в Риме, славился еще и тем, что водил знакомства с самыми темными личностями.
Ничем более постыдным императору заниматься еще не приходилось. Обстоятельства, убеждал себя Валентиниан, обстоятельства толкают его на это. Всю свою жизнь он страдал от унижения, вызванного тем, что им постоянно руководили, сначала — мать, потом — Аэций. Плацидия, по крайней мере, всегда руководствовалась его интересами; ее, Августы, престиж вынуждал Аэция действовать так, как того требовал император. Но теперь, когда Плацидии не стало, патриций демонстрирует открытое неповиновение императору, словно именно он, Аэций, простой полководец, правит Западом. Дошло до того, что посланцы и властители направляют своих представителей прямо к нему, в обход равеннского двора, будто бы император — пустое место, ничтожество, нуль, человек, ни на что не годный. Так дальше продолжаться не может. Еще хуже то, размышлял Валентиниан, что опасность нависла и над ним самим. Теперь, когда Плацидии нет рядом, что мешает Аэцию сделать последний шаг и попытаться заполучить императорский пурпур? Вся бурная история империи доказывает лишь одно: свергнутым с престола императорам жизнь не даруют. Вот и нужно выяснить, думал Валентиниан, какая судьба нам уготовлена: мне и магистру моей армии. Вдруг звезда Аэция уже закатилась? Со смертью Аттилы Запад задышал намного свободнее; так, может, и Аэций империи уже не нужен?
Все выше, и выше, и выше поднимались они, пока наконец не оказались на шестнадцатом этаже. Валентиниан не без удовольствия отметил, что дышит гораздо менее учащенно, нежели его провожатый. Он гордился своим телом и, стараясь держать себя в форме, регулярно посещал термы. Статарий постучал в одну дверей. Когда та распахнулась, взору императора предстал убеленный сединами, сутулый старец, дряхлым которого, однако, назвать было никак нельзя. Черные его глаза излучали такую энергию, что Валентиниан даже слегка растерялся: казалось, еще немного, и старик снимет с него показную маску надменного равнодушия и раскроет все душевные тайны.
— Найэлл Маккулл, ваша светлость, — объявил Статарий. — Скотт, родом из Ирландии. Для некоторых из этих кельтов не составляет труда приподнять завесу, отделяющую наш мир от следующего, и пообщаться с теми, кто живет за Стиксом или Иорданом.
Приказав Статарию ждать снаружи, Валентиниан проследовал за старцем в пыльную, практически пустую комнату. Исключение составляли лишь несколько слабо мерцавших ламп, низенькая кровать на колесиках и необычный аппарат, стоявший посреди комнаты.
— Что ж, давай начнем, — император старался держаться уверенно, но, встречаясь взглядом с проницательными глазами старца, чувствовал себя не в своей тарелке; собственные слова звучали для него назойливой просьбой вздорного мальчугана.
— Немного терпения, господин, — ответил провидец, вежливо, но без раболепия. — Сначала я сам должен связаться с потусторонним миром. Будем надеяться, что какой-нибудь дух сможет ответить на те вопросы, которые вы пожелаете ему задать. — Закрыв глаза, он что-то забормотал на незнакомом Валентиниану языке — то ли молитву, то ли заклинание.
Чувствуя, что было ему не свойственно, необходимость подчиниться, а сейчас, когда момент истины был близок, еще и заметно дрожа от страха, Валентиниан прошел к единственному в комнате окну, не прикрытому этой теплой июльской ночью ставнями: внизу, в двухстах шагах от него, освещенная луной, мирно спала западная часть Вечного города: огромная глыба Капитолия; Марсово поле, ограниченное описывавшим большую петлю Тибром и усыпанное театрами, цирками и термами, которые при лунном свете выглядели как-то необычно и расплывчато.
— Теперь — самое время, — произнес провидец, открывая глаза.
Валентиниан подошел к стоявшему посреди комнаты прибору. Он представлял собой поставленное на треножник совершенно круглое металлическое блюдо, по окружности которого были искусно, на точно отмеренных расстояниях, вырезаны двадцать четыре буквы алфавита. Держа на весу укрепленное на очень тонкой льняной нитке легкое кольцо, предсказатель стал над треножником.
— Звезды благоволят нам сегодня, — сказал он. — Спрашивайте, что хотите.
Валентиниан облизнул ставшие вдруг сухими губы; ладони его вспотели. Открыл рот, чтобы задать приготовленный заранее вопрос, но так и не смог произнести ни звука. С третьей попытки ему удалось наконец выдавить из себя:
— Кто умрет первым, Аэций или я?
Недоверчивым взглядом наблюдал он за тем, как описывавшее круги кольцо слегка приостановилось на литере «Ф», затем на буквах «Л», «А», «В»… «Флавий», в ужасе подумал Валентиниан, первое из его собственных имен! Затем он вспомнил, что praenomen Аэция — тоже Флавий. Смутные опасения не позволили ему дождаться появления следующего имени; хрипло прокричав: «Хватит!», император взмахнул рукой и, швырнув сосуд на пол, в ужасе выскочил вон из комнаты.
* * *
От Статария нужно избавиться, думал Валентиниан, следуя за возничим по темным закоулкам, — они возвращались во дворец. Гадание, колдовство, да как ты это ни назови — любая попытка предсказать будущее или повлиять на последующие события при помощи контактов с душами умерших считалась серьезным преступлением. Конечно, к нему, императору, это не относится, но, даже стоя — в известном смысле — выше закона, императоры, как предполагается, не должны его, этот закон, нарушать. Прав был Амвросий: «Император устанавливает закон, который он же первым и должен соблюдать». Валентиниан знал, что императоры, которые действовали неприемлемо или деспотично, либо же открыто не считались с мнением сената, никогда не умирали своей смертью: Нерон, Калигула, Гелиогабал, Галлиен… Список этот был длинным — и отрезвляющим. Если Рим узнает о том, что Валентиниан баловался черной магией, его, императора, авторитет окажется сильно подорванным. И тогда, возможно, его постигнет та участь, которой он так опасался и которую побоялся для себя открыть.
Может ли он доверять Статарию? Будет ли тот держать язык за зубами? Вряд ли. Всем известно: возничие — народ хвастливый и надменный. Положиться на благоразумие человека подобного сорта — все равно, что сделать себя заложником фортуны. На такой риск он пойти не может. «Несчастный случай» — вот единственный выход. Следует подумать, как его устроить: народ Статария просто обожает, и его подозрительная смерть может вызвать у толпы, низших слоев общества, которые, благодаря подачкам государства, не желают работать и думают лишь о цирке и Играх, безудержную ярость. Валентиниан помнил, что его дед, Феодосий, едва не лишился трона за то, что лишил свободы одного такого популярного возничего. Осторожность и осмотрительность — вот чем он должен руководствоваться.
* * *
Ворота конюшен римского цирка Максима распахнулись, и четыре колесницы, представляющие соперничащие команды Голубых, Зеленых, Белых и Красных, вырвались на арену. Каждый из возничих тут же предпринял попытку занять внутреннюю, ближайшую к spina, сооруженному в центре арены длинному заградительному барьеру, который колесницы должны были обогнуть семь раз, дорожку. Триста тысяч человек, собравшиеся в цирке, не жалели своих глоток; громче же всего кричали болельщики Голубых, цвета которых в этом забеге защищал Статарий. Колесницы прогромыхали вдоль восточной трибуны, и, объехав spina, устремились в обратном направлении. Когда они совершили второй вираж, erectores убрали закрепленные на столбах на возвышении центральной части арены изображения дельфина и огромного яйца, извещая о том, что первый круг пройден.
Гонка продолжалась. Статарий придерживался своей любимой тактики: держась позади, он ждал, когда представится возможность прошмыгнуть мимо увлекшихся соперничеством друг с другом противников и, выскочив на внутреннюю дорожку, уйти в отрыв — крайне опасный маневр, требующий высочайшего мастерства и предельного хладнокровия. Валентиниан наблюдал за гонкой из императорской ложи, кусая губы, — таким взволнованным его давно не видели. Убрали уже четырех дельфинов — а Статарий по-прежнему на круге. Наверное, этот болван, sparsor, мывший колесницу Голубых, не сумел надпилить колесную ось, думал император, а ведь такие деньги за это взял, паскуда!
От беспокойных мыслей императора отвлек громкий вздох толпы. Усмотрев зазор между двумя опережавшими его колесницами, Статарий, подстегнув своих четырех лошадей, рванул вперед и теперь уже шел наравне с лидером. Щелкнув хлыстом, он заставил ускориться лучшего из четверки гнедых, centenarius, лошадь, выигравшую более ста гонок. Бежавшего слева centenarius, быстрого и выносливого, держали лишь стропы, в отличие от двух центральных лошадей, которые были впряжены в колесницу, поэтому он без труда вырвался вперед, потянув за собой остальных. Четвертое, поставленное справа, животное тоже, как и centenarius, бежало в стропах, что придало маневру нужную координацию.
Внезапно колесная ось затрещала и разломилась надвое в том месте, где и была подпилена. Лошади, возничий, колесница — все смешалось в кучу отчаянно молотящих по воздуху конечностей и расщепленного дерева, и куча эта, дважды перевернувшись, с грохотом врезалась в spina. Не дожидаясь, пока служители цирка разберут образовавшийся после naufragium, «крушения», завал, Валентиниан послал сидевшего рядом с ним, в ложе, распорядителя гонок узнать, как чувствует себя Статарий.
— Мертв, ваша светлость, — объявил посыльный, вернувшись в ложу. — Умер мгновенно — сломал шею.
— Слава богу, — выдохнул Валентиниан, испытав невероятное облегчение.
— Ваша светлость? — от изумления у распорядителя гонок отвисла челюсть.
— Я рад, что он не мучился.
Лицо распорядителя просветлело.
— Понимаю, ваша светлость. Вот уж действительно повезло Риму: его император беспокоится обо всех своих подданных — даже о простом невольнике и возничем.
Глава 53
Вы поступили как человек, левой рукой отрубивший себе руку правую.
Ответ советника императора Валентиниану III, спросившему, одобряет ли тот убийство Аэция. 454 г.«Никогда я не видел Аэция столь уверенным в себе и оптимистичным [писал Тит в “Liber Rufinorum”, находясь во дворце Коммода в Риме], как в дни, предшествующие его выезду в Рим, где патриций должен был встретиться с Валентинианом. Ехал он туда для того, чтобы обсудить — впрочем, все и так уже было решено — предстоящую женитьбу его сына Гауденция на дочери императора, Евдокии; женитьбу, которая объединила бы фамилию Аэция с королевской линией Феодосия.
И все-таки чувствовалось, что он чем-то опечален. Подозреваю, ему было немного грустно оттого, что он никогда больше не увидит Аттилу, некогда — лучшего его друга, а в последние годы — заклятого врага, новости о преждевременной смерти которого дошли до нас несколько месяцев назад. Впрочем, на людях Аэций своих эмоций не выказывал. Не проявлял он особого беспокойства — по крайней мере, открыто — и по поводу той неопределенности политической ситуации, которая возникла в империи после ухода Аттилы с исторических подмостков. А такому беспокойству было откуда взяться: решив одну проблему, смерть короля гуннов породила проблему другую, и, возможно, даже более серьезную. Одно лишь имя Аттилы вызывало ужас у всех без исключения жителей Римской империи, и живший в их сердцах страх позволял Аэцию объединять федератов и римлян для борьбы с общим противником. Теперь же, когда одна угроза миновала, возник другой вопрос: сможет ли обескровленная римская армия (после сражения на Каталаунских полях ряды ее значительно поредели) что-либо противопоставить федератам, начни они вновь мутить воду в Галлии? Похоже, ответ на этот вопрос даст лишь время.
Я же тем временем уже проследовал из Лугдуна, где стоит войско Аэция, в Рим — для того, чтобы подобрать подходящее жилище и передать во дворец сообщение о приезде патриция».
— Благодаря этому ты сможешь воспользоваться услугами cursus velox, — с этими словами Аэций вручил Титу некий свиток. — Маршрут твой таков: следуешь вниз по реке Родан до Арелата, далее — по Юлия Аугуста до ее пересечения с Виа Аурелиа в Италии. Оттуда, уже по Виа Аурелиа, доскачешь до Рима. Со сменами лошадей на почтовых станциях доберешься за неделю. Договоришься о встрече с магистром оффиций и предупредишь его о моем приезде; раз уж император в Риме, двор и консистория тоже должны были перебраться туда из Равенны. Пусть устроит тебе встречу с префектом претория, у которого ты испросишь разрешения на использование мной и сопровождающими меня лицами дворца Коммода. К моему приезду дворец должен быть готов.
— Валентиниану это не понравится, господин, — нерешительно возразил Тит. — Разве императорские дворцы не находятся в его личной собственности?
Аэций пожал плечами.
— Плевать я хотел на то, что он об этом подумает. Магистру пехоты и конницы отказать он не сможет. Так или иначе, префект Боэций — мой друг. Если с Валентинианом возникнут какие-то проблемы, он все уладит. — Он бросил взгляд на стоявшую на тумбе клепсидру. — Нет еще и двух. — Ухмыльнувшись, Аэций похлопал Тита по плечу. — Поторопишься — окажешься в Арелате еще до заката солнца.
* * *
В одной из комнат Домус Августана — центрального строения огромного, мощеного кирпичом и бетонированного дворца Домициана, стоявшего на Палатинском холме в Риме, — Валентиниан держал совет со своим amicus principis, своим фаворитом, евнухом Гераклием.
— Требует предоставить ему наш дворец Коммода, — кипел от ярости император. — Самоуверенность этого человека не знает границ! Вдобавок ко всему — подумать только, — позволяет себе пренебречь формальной просьбой и посылает одного из своих прислужников, этого агента Тита, для того, чтобы сообщить нам, что намеревается занять один из наших дворцов. Похоже, он уже забыл, кто здесь император…
— Осмелюсь с вами не согласиться, ваша светлость. Уж об этом-то он точно помнит, — ответил Гераклий. — И все же, я бы вам посоветовал принять дополнительные меры для обеспечения личной безопасности. Сегодня — дворец Коммода, завтра — дворец Домициана? — Евнух улыбнулся. — Надеюсь, вы не находите меня слишком капризным? Не хотелось бы причинять вашей светлости чрезмерное беспокойство, но, полагаю, об этом стоит подумать. Вспомните, что случилось с Грацианом и вторым императором, носившим ваше имя — оба они были свергнуты тщеславными полководцами. Ни для кого не секрет, что Аэций на все готов пойти ради того, чтобы получить ваше согласие на брак его сына, Гауденция, с вашей дочерью Евдокией. Возникает вопрос: почему это так для него важно? А что, если в результате этого союза родится мальчик?..
— Хватит ходить вокруг да около, Гераклий, — резко оборвал его Валентиниан. — На что ты намекаешь?
— Ни на что, ваша светлость, так, размышляю вслух, — вкрадчиво произнес евнух. — Хочу лишь заметить, что если то будет ребенок королевских кровей, Аэций может и не устоять перед соблазном.
— Не устоять перед соблазном? — переспросил Валентиниан, бледнея. — Соблазном узурпировать наш трон, прикрываясь именем внука? Это ли ты хотел сказать?
— Я лишь то хотел сказать, что вашей светлости следует быть крайне осторожным, — мягко, заискивающе произнес Гераклий. — На всякий случай. Аэций, как мы знаем, человек нелицеприятный: уничтожил Бонифация, унизил вашу матушку, плюет на ваши указы. Кто знает, на что он готов пойти ради собственной выгоды? Мой совет: будете с ним встречаться, не оставайтесь наедине, или, по крайней мере, не забудьте вооружиться.
— Благодарю тебя, Гераклий, — сказал император. — Ты верный друг. Хотелось бы нам, чтобы все наши советники так заботились о нашем благополучии! А теперь можешь нас оставить. Нам нужно обдумать твои слова.
Отвесив поклон, евнух исчез за дверью; на губах его играла злорадная улыбка. Как и его хозяин, ранее он часто становился объектом насмешек Аэция. Что ж, вскоре, возможно, ему удастся поквитаться!
* * *
Протянув меч сопровождавшему его centenarius, Аэций отпустил охрану, дюжину молодых, статных германцев, не раз доказывавших свою верность и отвагу. Безоружный, направился он к воротам дворца Домициана. Оказавшись по другую их сторону, он вспомнил предостережение Тита и прочих агентов, настоятельно советовавших ему не встречаться с Валентинианом, не приняв дополнительных мер безопасности. Император раздражен, подозрителен и психически неуравновешен, говорили они, и не скрывает своего возмущения тем, что патриций пожелал явиться в Рим без приглашения. Но Аэций от этих предупреждений лишь отмахнулся. Что может ему сделать Валентиниан? Наорать на него? Угрожать? Если император попытается его арестовать, его телохранители — едва слухи об этом выйдут за пределы дворца — тут же придут на выручку. С охраной Валентиниана они справятся в считаные минуты — та хоть и носит красивую форму, напоминает скорее кучку игрушечных солдатиков, нежели настоящих бойцов.
Аэций уверенно вошел в левый — для официальных приемов — блок состоявшего из трех строений дворца, где его уже ожидал silentiary, один из римских вельмож, выполнявший функции начальника дворцовых служб. Он проводил патриция через триклиний и перистиль в приемный покой, отделанную разноцветным мрамором огромную залу, вдоль стен которой рядами стояли гигантские статуи. На установленном в дальнем конце залы троне восседал Валентиниан. К удивлению Аэция, император был не один: со всех сторон его окружали придворные и евнухи, среди которых выделялся своими округлыми формами любимец Валентиниана, Гераклий.
Внезапно Аэций ощутил беспокойство — он-то рассчитывал переговорить с императором наедине, — но уже через пару секунд тревога его сменилась презрением. Понятное дело: Валентиниан испуган, не знает, как быть, и, для получения моральной поддержки, собрал вокруг себя подхалимов и лизоблюдов, готовых поддержать его в любом решении. И все же, сказал себе Аэций, проявлять истинные чувства ему не следует. Королевский брак — вопрос деликатный и важный; тут, прежде всего, нужно быть дипломатом. Размеренной поступью он подошел к трону и, остановившись в паре шагов от него, отвесил императору поклон.
— Полагаю, ты пришел заявить о притязаниях твоего сына на руку моей дочери, — произнес Валентиниан, подавшись вперед. В его прозвучавшем чересчур громко голосе звучал не вопрос, скорее — утверждение.
— Я бы не стал говорить о каких-то притязаниях, ваша светлость, — спокойно ответил Аэций. Впервые он, понимая, что лишь такт может помочь ему добиться своего, обратился к императору так, как того требовал этикет. — Насколько я понимаю, принцесса Евдокия хочет этого брака не меньше Гауденция.
— Сказал бы уж: «не меньше меня самого», — накинулся на него Валентиниан. — Уверен ли ты, что речь идет лишь о счастье наших детей, а никак не о твоих собственных амбициях?
— О каких амбициях вы говорите, ваша светлость? — спросил Аэций, слегка озадаченный. — Безусловно, породниться с прославленным родом Феодосия — огромная честь для моей семьи. Но, за исключением престижа, который дает мне этот брак, я не получаю ничего более.
— Ты лжешь! — закричал император. — Этот брак для тебя — первый шаг к императорской мантии; если уж не для тебя лично, так для твоего сына, или внука, если такой родится. Породнившись со мной, ты получишь возможность обрести трон на законных основаниях.
— Со всем уважением, ваша светлость, заявляю: это полная чепуха, — возразил Аэций. — Если кто и выиграет от такого союза, то не я, а империя. Вы сами, к искреннему сожалению всех ваших подданных, до сих пор — надеюсь, лишь пока — не имеете наследника-сына. Если, к несчастью, ваша супруга так и не родит вам такового, и в том случае, если в результате брака моего сына с вашей дочерью у них появится ребенок-мальчик, династия Феодосия, правящая уже на протяжении семидесяти лет, продолжит свое существование. А это, ваша светлость, принесет нам стабильность — бесценный дар. Солдаты всегда выступают за преемственность во власти, потому что она является гарантией выплат им жалованья и бенефиций. Соответственно, становится ничтожной и угроза узурпации трона, что всегда несло Риму одни лишь беды. Неужели вы считаете, что я, человек, всю жизнь свою желавший Западной римской империи лишь процветания, могу поставить государство под опасность ради получения собственной выгоды?
— Да ты жаждешь этого! — вскричал Валентиниан, брызжа слюной. — Твои гладкие речи, изменник, не введут меня в заблуждение. Постоянно, всю свою жизнь, ты пытался лишить мою мать и меня власти, которая принадлежит нам по праву. Но нет же, главного — пурпура и диадемы — ты не получишь никогда.
С этими словами Валентиниан выхватил кинжал, спрятанный в складках его одежд, и, набросившись на Аэция, вонзил лезвие в его грудь. Тут же, стараясь не отставать от своего хозяина, на полководца налетела, словно стая коршунов, и вся императорская свита. Уже через пару секунд кровь хлестала из десятков ран, испещривших тело патриция; не успев вымолвить и слова, он замертво свалился к ногам Валентиниана.
«Только что узнал я ужасную новость — убили Аэция [написал Тит в “Liber Rufinorum”]. Для меня это не меньшая утрата, чем смерти Гая и Клотильды. Он олицетворял собой все лучшее, что есть в Риме: отвагу, честь, стойкость; о большей привилегии, чем служить ему, я и мечтать никогда не смел. И вот он пал от руки этого аморального труса, Валентиниана! Как же все это отвратительно и бесчестно!
О смертоубийстве во дворце говорят следующее: тайно приглашенных туда друзей Аэция перерезали едва ли не сразу, как они явились, всех до единого. Был среди них и Боэций, префект претория. Народу объявили, что Аэций напал на Валентиниана, и тот вынужден был убить его, защищаясь. Никто в это не верит; телохранители Аэция клянутся, что тот входил во дворец безоружным и совершенно умиротворенным. Рим кипит от возмущения; не удивлюсь, если его разъяренные жители пойдут на штурм Домус Августана.
Убийство это будет иметь просто-таки катастрофические последствия для Запада. Замены Аэцию я не вижу. Можно сказать, что, убив его, Валентиниан собственноручно подтолкнул империю к краю пропасти. Больше сейчас писать не могу; в голове моей — сумбур от горя и смятения».
Глава 54
Его свита численностью 200 человек и три близких друга, считая бесчестьем пережить царя[64] и не умереть за него, если выдастся такая судьба, дали схватить себя.
Аммиан Марцеллин. Деяния. 395 г.«Словно Геракл, убивший огнедышащего великана Какуса за то, что тот украл у него коров [написал Тит в “Liber Rufinorum”], отомстил Вадомар за смерть своего хозяина, Аэция. Отомстил, отправив на тот свет — на тридцать первом году его правления и тридцать седьмом году его никчемной жизни — Валентиниана, третьего из императоров, правивших Западной Римской империей под этим именем. Кто-то (хотя, полагаю, таковых найдется немного) назовет это убийством; для меня же это не более чем кара за гнусное преступление. Возможно, до вас доходили слухи, что убийство совершили два служивших Аэцию гунна, Оптила и Фраустила? Чистейшей воды пропаганда — фальсификация, призванная снять вину с дворцовой стражи. Я изложу вам рассказ самого Вадомара, слово в слово, а там — судите сами».
«Родился я, полагаю (мы, германцы, в этих вопросах разбираемся не так хорошо, как вы, римляне), в тот год, когда Гейзерих повез вандалов в Африку, таким образом, сейчас мне лет двадцать пять — двадцать шесть, не более. Отец мой возделывал землю и, когда потребовалось, стал воином, в краю Гундомара, вождя — или regulus, как сказали бы вы — небольшого алеманнского племени. В отличие от бургундов или даже саксов, алеманны, как можно понять из названия, это не один народ, а целое сборище гермундуров, свевов и прочих, которые живут на старых agri decumates, “Десятинных полях”, между верховьями Рейна и Данубия. Гундомар, чья крепость Рундер Берг стоит на высоких холмах у реки Никры, совсем не похож на воинственного господина; прислуживают ему главным образом убеленные сединами ветераны, некогда воевавшие в римских армиях. Оставшись в родных местах, я бы вряд ли мог рассчитывать на хороший заработок или известность, к которой так стремятся отважные и дерзкие юноши. Будучи парнем неугомонным и решив, что тяжелый труд пахаря не многим отличается от рабства, уже в восемнадцатилетнем возрасте присоединился я к одному из военных отрядов Арминия, с которым перешел через Рейн, в провинцию Максима Секванор, что в Восточной Галлии. Половина римских армий сгинула в войнах против готов, и затыкать образовавшиеся бреши вашему императору пришлось за счет войск, которые стояли у границ, так что помех на своем пути мы не встретили.
К сожалению, Арминию явно недоставало знаний и коварства его великого тезки, который во времена вашего императора Августа наголову разбил в Тевтобургском лесу легионы Вара. Разбив лагерь на одной заброшенной вилле, мы жили тем, что совершали набеги, пользы от которых, правда, было немного, на близлежащие деревушки. Земля там — тощая; местные жители давно оставили свои хозяйства и виллы ради более безопасных городов. Вместо того чтобы перебраться в более богатую местность или углубиться в центр Галлии, лелеявший мысль о легкой добыче Арминий решил взять в кольцо окружения Аргентарию, что было крайне глупо; германцы, народ нетерпеливый, никогда не умели — все это знают — брать защищенные стенами города. Арминий, похоже, думал, что горожане либо быстро капитулируют, либо отдадут нам все свое золото за то, чтобы мы оставили их в покое. Когда, через три недели, ничего из этого не случилось, отряд наш потихоньку начал распадаться. Сердитые и голодные, многие из сторонников Арминия отправились назад, за Рейн, и остановить их он уже не мог. Не пожелав возвращаться домой без солида за пазухой, я и мой хороший товарищ — простой, но очень надежный парень, всегда готовый разделить с тобой последнюю краюху хлеба, — решили попытаться устроиться на военную службу в Риме. Наши, алеманны, всегда были на хорошем счету у римских военачальников. Чем черт не шутит. Подумав так, мы, Вадомар и Гибвульт, отправились на поиски месторасположения галльской армии. После утомительного перехода через Возег и недельного скитания в долинах рек Мозелла и Моза мы наткнулись на патруль, совершавший обход границ у франкского поселения во Второй Белгике.
Должно быть, норны, что плетут паутину судьбы, в тот день к нам благоволили. Часовые, на которых мы наткнулись, вели нас по направлению к лагерю, когда на опушку, где мы проходили, выскочил огромный кабан; за ним, вовсю пришпоривая коня, несся, с копьем наперевес, высокого звания, судя по серебристым доспехам, римский офицер. Завидев нас, кабан на секунду остановился, а затем рванул обратно, в сторону своего преследователя. Лошадь от страха встала на дыбы и сбросила всадника. Хряк еще только подлетал к беспомощно распростертому на земле офицеру, намереваясь вонзить в него свои немалые клыки, а мое копье уже свистело в воздухе — метать его, должен признаться, за долгие месяцы тренировок я научился отменно. Вонзилось оно ему точно в шею; зверюга зашатался и свалился наземь. Не успел он опомниться, как мы с Гибвультом уже были рядом. Мгновение — и кабан затих навсегда.
Поднявшись на ноги, римский офицер нетвердой походкой подошел к нам и, поочередно, пожал каждому из нас руку.
— На волосок был от смерти, — сказал он, криво улыбнувшись. (Несмотря на то, что из уст офицера лилась латынь, мы оба, и Гибвульт, и я, понимали его достаточно неплохо — язык этот был нам знаком из разговоров с соплеменниками, ветеранами римских кампаний.) — Если бы не вы двое, я был бы уже мертв либо тяжело ранен, что, возможно, еще хуже. Так что я теперь ваш должник. Могу я что-то для вас сделать?
Поведав ему о нашем желании вступить в легион, мы услышали следующий ответ:
— Рим всегда рад добровольцам, особенно — храбрым молодым германцам. В эти суровые времена немногие идут под наши орлы и знамена по собственному выбору. Но вот ходить в атаку с копьем наперевес, замыкая шеренгу? Ничтожное вознаграждение за услугу, которую вы мне сегодня оказали. — Попросив одного из часовых одолжить ему вощеную дощечку, офицер черкнул на ней несколько строк и вернул патрульному со словами:
— Проследи за тем, чтобы она попала к полководцу.
Повернувшись к нам, он пояснил:
— Я написал, что настоятельно рекомендую зачислить вас в его личную охрану.
Проворно вскочив в седло, офицер махнул нам рукой в знак прощания, и, пришпорив лошадь, был таков.
Стоявший рядом с нами часовой лишь присвистнул и завистливо произнес:
— Везет же некоторым. Знаете, кто это был? Комит Мажориан, вот кто. Правая рука полководца Аэция, самого влиятельного человека во всей империи.
Так мы оказались в римской армии. Но перед тем как присоединиться к охранявшим Аэция bucellarii — по большей части, франкам и алеманнам, набранным из auxilia palatina и vexillationes palatinae, лучших армейских подразделений, — нам пришлось пройти серьезную подготовку.
Некоторые германцы (но лишь те, кто никогда не дрался с римлянами) полагают, что раз уж Рим сейчас слаб, то и солдаты его должны быть трусливыми или плохо тренированными. Как человек, служивший в расквартированной в Галлии римской армии, могу со всей определенностью заявить, что подобные предположения абсолютно не соответствуют действительности. Вместе с другими рекрутами мы научились метать копья и дротики и драться на мечах. Практиковались сначала на фигурах людей и животных, вырезанных из дерева; затем, используя притупленное оружие, — друг на друге. Нас обучали дисциплине и строевой подготовке, причем инструкторы попадались такие беспощадные, что некоторые рекруты теряли сознание прямо на тренировочных площадках. Ни со мной, ни с Гибвультом подобного никогда не случалось, — с оружием мы, как и все германцы, умели обращаться с раннего детства, да и тяжелые тренировки нам были не в диковинку. Прежде всего, нас обучали дисциплине: держать строй и повиноваться приказам. Дисциплина — бич всех германцев; именно ее отсутствие приводило к тому, что из почти всех битв с римлянами мы выходили проигравшими. Понимаешь, Тит Валерий, в отличие от вас, римлян, мы, германцы, никогда не боимся оказаться наказанными или даже выпоротыми нашими школьными наставниками. Именно поэтому, полагаю, мы более отважны в бою; вы же — более дисциплинированны. Как бы то ни было, пройдя все испытательные тесты, мы с Гибвультом были зачислены в личную охрану полководца. Тут же нам, новоиспеченным bucellarii, выдали великолепное обмундирование: кольчугу, шлем греческого, или аттического, типа, гораздо более тяжелый, нежели те шлемы с гребнями, что носят обычные солдаты, spatha из превосходной испанской стали, прочный овальный щит, копье и дротик.
Об Аэции, которого я сопровождал во время его последних галльских кампаний и на чьей стороне сражался на Каталаунских полях, могу сказать лишь одно: лучше человека я не встречал. Храбрый, искренний, великодушный, никогда не требовавший от других того, чего он сам не мог сделать, — мы, германцы, служили ему с удовольствием. За него я бы без раздумий отдал свою жизнь. К сожалению, возможности такой не представилось, так как, пойдя на встречу с императором, он нас с собой не взял.
Рим же ваш действительно великий Stadt. Мы (то есть Аэций с охраной и небольшой свитой, состоявшей из офицеров и слуг) въехали в город с севера, по Фламинианской дороге; справа от нас нес свои воды Тибр. Стоящий посреди унылой равнины, Рим защищен высокой кирпичной стеной, возведенной по приказу императора Аврелиана в годы нашествий моего племени, алеманнов. Проскакав под огромной аркой Фламинианских ворот, с каждой из сторон которых высились могучие башни из белого мрамора, мы устремились вниз по все той же дороге (теперь уже улице), миновали гигантский мавзолей Августа со стоящими перед ним двумя высокими колоннами из Египта, проехали через арку Марка Аврелия и под громадным акведуком Аква Вирго. (Сам понимаешь, то был мой первый визит в город, и названия всех этих строений я узнал много позднее.)
Наконец, оставив позади себя Капитолий с венчавшими его вершину величественными строениями, мы оказались у Римского форума, окруженного десятками храмов, базилик и статуй. Оттуда мы выскочили на пролегавшую под Палатином Священную дорогу и, проехав под аркой Тита, очутились у Колизея, самого грандиозного сооружения из тех, что мне когда-либо доводилось видеть. Можно ли, спросил я тогда себя, словами описать это чудо? У ехавшего рядом со мной Гибвульта, помню, от изумления аж челюсть отвисла. “Да это же сыр — огромный сыр!” — пробормотал он, не скрывая восторга. Я уже собирался в шутку обозвать его невежественным варваром, когда вдруг понял, что мой друг недалеко ушел от истины. Колизей действительно — по крайней мере, на расстоянии — был похож на гигантский кусок сыра, который бы украсил стол самого Одина.
От Колизея, или амфитеатра Флавиев, как его еще называют, до дворца Коммода, где нам должно было остановиться, мы добрались за пару минут. К нашему приезду все во дворце было уже готово. (Как я понимаю, об этом позаботился ты, Тит.) Что думал об этом “заимствовании” императорской собственности Валентиниан, я могу лишь догадываться.
Для нас с Гибвультом, никогда иначе как деревенской или лагерной жизнью не живших, все там было в диковинку. Ели мы в мраморных залах, спали на мягких перинах. Аэций, требовательный и жесткий, когда то было нужно, но беспечный и снисходительный, когда дела шли хорошо, готовясь к своей встрече с императором (о цели которой мы, конечно же, ничего не знали), позволил нам дежурить во дворце по очереди, так что мы с Гибвультом несколько раз выбирались в город осматривать достопримечательности. Я мог бы целую книгу написать (если б был обучен грамоте), рассказывая о Риме и его красотах. Но чтобы не утомлять тебя, Тит, друг мой, перечислю лишь то, что произвело на меня наибольшее впечатление: Колизей (его я уже видел — издалека); термы Каракаллы и Диоклетиана, размерами с некоторые галльские города; цирк Максима, едва ли не с милю длиной; форум Траяна, окруженный множеством крытых рынков, торговых лавок и галерей; величественный Пантеон с его громадным куполом; базилика Святого Петра, стоящая у холма Ватикана, по ту сторону городской стены (о ней говорят, что это крупнейший храм империи); доходные дома — знаменитая Инсула Феликула — по высоте превосходящие колонну Траяна и считающиеся одним из чудес римского мира; и, прежде всего, громадные акведуки, расползшиеся по городу, словно Ормы[65].
И все это создали простые смертные! Я-то, признаюсь, всегда считал, что подобное по силам лишь Богам или титанам. Вот и думаю теперь: как мог народ, сотворивший такое великолепие, допустить, чтобы город, на который не посмел напасть даже Ганнибал, был взят готами? (Впрочем, за исключением нескольких больших вилл на Целии, которые — ввиду того, что сильно пострадали и не могут быть приведены в прежнее состояние — кое-как были отремонтированы и теперь используются в качестве приютов для смертельно больных, почти ничто в Риме не напоминает сегодня о Великом Разграблении, хотя память о нем и сейчас живет в сердцах римлян.) Язычники твердят, что Боги покинули город, после того как были закрыты их храмы. Может, так оно и есть, не знаю. Очевидно лишь одно: нынешние римляне мало походят на своих предков, тех, что завоевали Карфаген, а затем и весь мир.
Каждый день я наблюдал одну и ту же картину: сотни бедняков (а зачастую, что весьма постыдно, и людей отнюдь не бедных) толкутся на лестницах в ожидании краюхи хлеба, куска мяса или амфоры масла. Получить их может каждый свободный глава семьи, предъявивший специальный жетон, tessera. Находясь на содержании государства, эти избалованные тунеядцы не изъявляют никакого желания работать; дни свои они проводят в термах (попасть куда можно всего за пару монет), где свободно общаются с людьми известными и состоятельными. Случается, что в цирке или на арене проводятся Игры — как правило, за счет императора либо же квесторов, преторов, сенаторов и консулов, — тогда эти приживальщики ручьем стекаются туда, целыми днями делая ставки на исход гонок. На подобного рода представления тратятся огромные суммы; слышал, что у Петрония Максима (к нему я еще вернусь) на организацию одного из таких ушло не менее четырех тысяч фунтов золота.
Разве не патриции должны подавать плебеям, как назывались в прежние времена высшие и низшие слои граждан, теперь именуемые honestiores и humiliores, пример того, как следует себя вести? Так нет же: нобилитет думает лишь об удовольствиях и развлечениях, похваляясь своими богатыми одеяниями и золотыми либо серебряными экипажами, в которых эти толстосумы на бешеной скорости гоняют по городу, нисколько не заботясь о безопасности прохожих.
Под одну из таких колясок едва не угодили и мы с Гибвультом. В один из вечеров мы мирно прогуливались по одной из узких улочек района, называемого Субурой, когда из-за угла прямо на нас вылетел один из подобных экипажей, управляемый неким юнцом в развевающейся шелковистой мантии. При виде этого лихача, которому, судя по всему, не давали покоя лавры Диокла[66], простолюдины бросились врассыпную, попрятавшись по порталам близлежащих строений. Мы же с моим другом, переглянувшись, решили этого самодовольного молокососа проучить.
Сходить с дороги мы не стали, так и стояли прямо по ее середине, хотя сердце мое, признаюсь, забилось раза в два быстрее обычного. Лошадь же животное хоть и благородное, но не всегда смелое. Завидев препятствие, она всегда стремится рвануть в сторону от него, чему мы с Гибвультом не раз становились свидетелями во время тактических занятий, когда коннице противостояла легкая пехота. Так случилось и на сей раз: прямо перед нами пара гнедых встала на дыбы, и, не удержавшись на своем месте, юный погонщик приземлился в грязи, смытой прошедшим чуть ранее дождем с крыш домов и с камней мостовой. Ухватившись за поводья, мы кое-как усмирили животных, затем, смеясь, пошли своей дорогой. Юный спесивец кричал нам вслед какие-то угрозы, но нам на них было наплевать; мы знали, что vigiles, городские когорты, распущены и заменены vicomagistri, ночной стражей. Да и кто бы посмел арестовать двух отважных молодых германцев, служивших магистру армии?
Наконец наступил день, когда Аэций должен был встретиться с императором. Мы, его охрана, сопроводили патриция до дворца Домициана, грандиозного сооружения, стоящего на Палатинском холме. У дворцовых ворот Аэций снял пояс, на котором висел его меч (с оружием к императору не допускали), и передал его нашему centenarius.
— Дальше, парни, я пойду один, — сказал он. — Задержусь там, по меньшей мере, часа на два, так что до начала пятого можете быть свободны. Вы двое, — пристально посмотрев на нас с Гибвультом, он с мнимой укоризной покачал головой, — постарайтесь до тех пор избежать неприятностей. Да, кстати, — улыбнулся Аэций, — слышал, вы неплохо повеселились в Субуре. — Затем, обращаясь уже ко всей нашей группе, добавил. — Итак, ждите меня здесь в начале пятого. А теперь — разойдись! — С этими словами Аэций направился к воротам, которые признавшие полководца стражники уже открывали.
Больше его я не видел.
* * *
Примерно через час, когда мы с Гибвультом бродили среди прилавков Боарийского форума, я обратил внимание на доносившийся с Палатинского холма неясный шум. Он все нарастал и нарастал, пока не перерос в самый настоящий рев: звук множества голосов, беспокойных и вопрошающих. Вдруг по окружающей нас толпе пронесся ропот; сердце мое едва не остановилось, когда я уловил обрывки фраз: “Он мертв… Кто — мертв?.. Говорят, патриций… погиб от руки самого императора… Я слышала, то был Боэций, префект… Нет, говорю же тебе, Аэций — заколот Валентинианом…”
Не веря своим ушам, застыл я на месте; весь мир, казалось, поплыл у меня перед глазами. Затем, помню, мы с Гибвультом бежали, пробиваясь сквозь кричащую толпу, к тому месту, откуда и шел весь этот шум. У дворца Домициана уже собрались сотни разгневанных римлян. За запертыми воротами в три ряда, с копьями наперевес и побелевшими лицами, выстроились испуганные стражники. Несколько наших товарищей из личной охраны Аэция подтаскивали к воротам огромное бревно — судя по всему, для того, чтобы использовать его в качестве тарана.
— Бросьте его! — прорвался сквозь гул и гам властный голос нашего centenarius. — Хотите прорваться внутрь? Тогда вам придется начать с меня. Через час я провожу перекличку в казармах. Те, кого там не будет, пойдут под трибунал. Всем все понятно?
К перекличке не опоздал никто. Чуть позже centenarius собрал нас всех вместе и, с трудом сдерживая эмоции, сказал буквально следующее: “Слухи подтвердились, парни: патриций мертв. И, предвосхищая ваши вопросы, заявляю: да, его убил император Валентиниан. И — нет, никто из вас, вообще никто, ничего не может с этим сделать, так как император стоит выше закона”.
В ответ раздались недовольные выкрики:
— Это не должно сойти ему с рук… Аэций стоил десяти таких, как он… Валентиниана должна постигнуть судьба Аттала и Иоанна!
Centenarius дождался, пока ярость и негодование поутихли, затем, подняв руку, призвал нас к молчанию.
— Я чувствую то же, что и вы, парни, — сказал он. Сняв с шеи именной медальон, он поднял его высоко над головой. — Вы все получили такие, когда вступали в армию. И все вы дали клятву, что будете…
— …хранить верность императору, — пробормотал кто-то.
— Точно. Так помните же это. — Помолчав немного, он задумчиво продолжал. — Конечно, если бы что-то — Боже упаси! — с Валентинианом все же случилось, полагаю, вам пришлось бы всего лишь посягнуть на верность тому, кто примерит на себя императорский пурпур. — Подмигнув нам, он добавил. — Если что, вы этого не слышали. Разойдись!
* * *
Еще долгие недели и месяцы город пребывал в состоянии напряженного затишья. Продолжая квартировать во дворце Коммода, мы узнали, что, помимо Аэция, лишились жизней Боэций, префект претория, и несколько ближайших друзей и соратников патриция. Рим словно вернулся в мрачные дни Суллы: повсюду висели проскрипции со списками “изменников”, одно за другим следовали публичные заявления (к которым народ относился с явным недоверием), где говорилось, что император едва не стал жертвой подлого заговора и лишь благодаря собственной отваге сумел умертвить предполагаемого убийцу. Высказывая множество предположений, почему император убил безоружного патриция, сходились мы лишь в одном: Валентиниан всегда завидовал Аэцию и питал по отношению к нему необъяснимую злобу. Будучи простыми солдатами, мы, личная охрана полководца, находились в относительной безопасности, — по крайней мере, до тех пор, пока о себе не напоминаем, как не переставал твердить нам centenarius.
Кто же теперь, после смерти Плацидии и Аэция, правит империей? Теперь, когда Валентиниан проводит в Риме времени больше, нежели в Равенне, не переедет ли туда весь правительственный аппарат? Кто будет новым магистром пехоты? (Наиболее предпочтительными выглядели позиции Авита.) А самое главное — кто бы ни занял этот пост, — будет ли он нуждаться в наших услугах или предпочтет собственную свиту? Ответов на эти вопросы, казалось, не знал никто. Тем не менее колеса административной машины все еще крутились — со скрипом, следует признать, но крутились. Жалованье нам часто выплачивали с задержками, но в конце концов мы его все же получали. Полагаю, происходило это во многом благодаря настойчивости одного из agentes in rebus Аэция, напоминавших казначею о нашем существовании. (Сейчас я думаю, не ты ли это был, Тит?)
Самым же, наверное, удивительным в это удивительное время стало то, что сенату удалось вернуть себе часть былого могущества. Сенату, этому беззубому тигру, чья единственная функция на протяжении четырехсот лет заключалась в легитимации того, кто приходил к власти! Но теперь, когда Валентиниан, вызывавший отвращение у всех без исключения жителей империи, прятался в своем дворце, кто-то должен был принимать решения, и этим “кем-то” стал сенат, коллективный орган. Как правило, ораторствовал от лица этого августейшего собрания некто Петроний Максим. О нем-то, как о человеке, повлиявшем на всю мою дальнейшую жизнь, я и собираюсь тебе сейчас поведать.
Петроний Максим — состоятельный сенатор, дважды консул, трижды префект претория Италии, представитель древнего и знатного римского рода Анициев, образованнейший мужчина, либеральный руководитель, щедрый хозяин, чье имя было на устах у всего Рима; мог ли столь исключительным набором качеств обладать один человек? Ответ мой будет таков: мог, если человека того звали Петроний Максим.
Первая моя встреча с ним произошла примерно так. Мы, охрана убиенного Аэция, как раз вкушали свой дневной prandium, состоявший из хлеба и холодного мяса, когда появился biarchus, приказавший нам с Гибвультом следовать за ним. Вместе с ним мы вышли из дворца, где, на улице, нас ожидал невольник-нубиец.
— Пойдете с этим малым, — сказал biarchus. — Похоже, вас желает видеть какой-то сенатор; зачем, не знаю.
Озадаченные и заинтригованные, проследовали мы за рабом по узким улочкам, крутым откосам Целия, под арками акведука Клавдия, через один из проходов в стене Сервиана, пока наконец не очутились в Пятом квартале, одном из наиболее престижных районов города. Вскоре мы вошли в частный сквер, украшенный статуями, за которыми виднелся величественный особняк. Нас провели через галерею залов, в пятом из которых, tablinum, нам был подан знак остановиться. То была просторная комната, с открытыми стенными шкафами, сверху донизу наполненными свитками и кодексами. Мебели там оказалось не много, но имевшиеся в наличии предметы обстановки были превосходно вырезаны из металла или редких пород дерева. В стенных нишах стояли несколько красивых бронзовых статуэток.
Посреди этого утонченного изящества, за письменным столом, восседал, с палочкой для письма наперевес, средних лет мужчина, в незамысловатом, но дорогом с виду далматике. Взмахом руки он предложил нам присесть на скамью и еще какое-то время продолжал писать; затем, бросив взгляд на стоящие перед ним водяные часы, отложил стиль в сторону и поднял глаза. Взору моему предстало волевое лицо римского типа, обрамленное гривой седых волос.
— Четыре часа — на письмо, четыре — на приобретение новых знаний, четыре — на друзей и отдых, еще четыре — на деловые операции, — произнес он с улыбкой. — Из этого, помимо сна, и складывается мой день. Каждый должен делать то, что ему причитается, — ни больше ни меньше. Я — Петроний Максим. Возможно, вы обо мне слышали?
Не слышали о нем, наверно, только глухие либо совсем безмозглые. Все, даже мы, неотесанные германцы, знали об этом выдающемся сенаторе.
— Кто ж в Риме не слышал, ваше сиятельство? — ответил я, употребив правильную, хотя и нелепо звучащую форму обращения.
— Фронтон, принеси нашим гостям вина, — отдав приказание невольнику, сенатор повернулся к нам. — Вы, должно быть, гадаете, зачем я за вами послал. — Он обвел нас оценивающим взглядом. — Объясняю: у меня возникла одна проблема, помочь решить которую могут двое молодых парней. Они должны быть храбрыми, уметь себя контролировать, но главное, что мне от них требуется, — это надежность. Я переговорил с вашим centenarius, и он рекомендовал мне вас. Кроме того, до меня дошли слухи, что вы слегка подрезали крылья одному молодому повесе — то, кстати, был мой племянник, — опрометчиво лихачившему в Субуре. Хвалю: с этого юнца давно следовало сбить спесь. Но, что более важно, ваш поступок свидетельствует о том, что вы именно те, кто мне нужен. Остановить мчащуюся во весь опор пару гнедых — для этого необходимо обладать определенным мужеством! Разрешите задать личный вопрос: сколько вы сейчас получаете?
— Тридцать solidi в год. Плюс рацион, обмундирование и фураж для наших лошадей.
— Что бы вы ответили, если б я предложил вам втрое больше?
Мы с Гибвультом переглянулись.
— Что мы согласны, — сказали мы хором. — Заранее, — добавил я.
«В чем здесь загвоздка?» — лихорадочно соображал я. Раз уж речь идет о такой сумме, где-то обязательно должна быть загвоздка.
В ту же секунду вернулся Фронтон, — с подносом, на котором стояли серебряный кувшин и два стеклянных кубка, украшенных рельефами со сценами охоты. Поставив поднос на стол, Фронтон наполнил кубки, передал один мне и уже протянул Гибвульту другой, когда тот выскользнул из его руки и, упав на мозаичный пол, разлетелся на мелкие осколки. Раб задрожал, и его черная кожа мгновенно стала темно-серой.
— Ох, Фронтон, — проворчал Максим, качая головой, но снисходительность его тона не ввела меня в заблуждение, — глаза его пылали сердитым огнем. — Рейнское стекло — ему ведь цены нет!
Пол быстро подмели, Гибвульту подали новый кубок, но этот незначительный инцидент уже сказал мне многое о нашем хозяине. Неспешно попивая вино — приличную, скажу тебе, кислятину, — я понял и то, что он считает нас с Гибвультом невежественными варварами, которым не по силам ни понять то, что они пьют вино самого позднего урожая, ни догадаться разбавить его водой, на римский манер. Реакции Максима и невольника-слуги на разбившийся кубок говорили о том, что Фронтон будет строго наказан. Максим явно был человеком высокомерным, придирчивым и жестоким, и я осознал: вся его репутация благосклонного и учтивого мужа — не более чем показной фасад.
— Что мы должны делать, ваше сиятельство? — поинтересовался я.
— Для начала вас переведут из вашего нынешнего подразделения в scholae, дворцовую гвардию. Многие сочли бы это завидным продвижением по службе.
— Что, служить Валентиниану? — вне себя от гнева, мы с Гибвультом вскочили на ноги. Лицо моего друга покраснело, глаза налились кровью. — Боюсь, сенатор, вы ошиблись в своем выборе.
К моему удивлению, Максим просиял от радости.
— Великолепно, просто великолепно, — заявил он, потирая руки. — Именно на такую реакцию я и рассчитывал. То, что вы и сейчас, после смерти Аэция, храните верность своему хозяину, весьма и весьма похвально. Пожалуйста, выслушайте меня до конца. Я все объясню.
Не знаю уж, какие там свои связи Максим пустил в ход для того, чтобы перевести нас с Гибвультом в scholae (доступ куда получали главным образом отпрыски знатных фамилий), но думаю, что для него, человека влиятельного, это оказалось несложно. Скажу лишь, что уже через неделю после встречи с сенатором мы несли вахту в составе scholae во дворце Домициана. Нам выдали роскошное парадное обмундирование: шлем с гребнем и тяжелый чешуйчатый панцирь, изготовленные barbaricarii, кузнецами, которые обычно куют доспехи лишь для офицеров. Служба наша оказалась непыльной: главным образом, приходилось стоять по стойке смирно у главного входа во дворец либо же сопровождать императора в тех редких случаях, когда он его покидал. На первых порах некоторые их наших новых товарищей пытались над нами насмехаться, видя в нас, полагаю, выскочек, к тому же — низкого происхождения. Кончилось все тем, что в драке, проходившей на поляне в Тибертине, в Четырнадцатом квартале, если быть точным, мы с Гибвультом одолели двух их чемпионов, после чего вмиг для всех в scholae стали своими.
Что касается задания, ради которого нас и выбрали, то мы сначала должны были лишь обращать внимание на то, как император ведет себя по отношению к своей жене, Августе Евдоксии, доброй, спокойной женщине, дочери Феодосия, последнего восточного императора. Максим заверил нас, что целью нашего пребывания в scholae является не служение императору, а способствование свершению правосудия в память об Аэции; подробности он обещал открыть нам позднее. Общаться с сенатором нам было строжайше запрещено; он заявил, что, когда придет время, сам выйдет на связь с нами. Несмотря на то, что Максим и его красавица-жена были частыми гостями во дворце императора, ни разу — ни словом, ни взглядом — не выдал сенатор того, что знаком с нами.
Со смерти Аэция не прошло и года — мы с Гибвультом как раз отдыхали после дневного дежурства, — как в наших казармах показался невольник-слуга Максима, заявивший, что сенатор желает нас видеть.
— Надеюсь, служба во дворце вам не в тягость? — спросил Максим, когда мы вновь очутились в его tablinum.
— Грех жаловаться, ваше сиятельство, — сказал я. — Да и оплачивается неплохо.
— Ja, sehr gut, — подтвердил Гибвульт. Латынью он владел не так хорошо, как я, из-за чего вынужден был время от времени переходить на германский.
— Как императрица?
— Валентиниан ее всецело игнорирует, она же, вне всякого сомнения, своего мужа любит; почему, даже не могу себе представить.
— Обращается он с ней постыдно — хуже, чем с собакой, — горячо сказал Гибвульт. — В Германии такой человек был бы Ausgestossene, изгоем. Она же — такая милая дама, всегда с улыбкой или Trinkgeld к нам, Soldaten.
— Понятно, — задумчиво произнес Максим. — Значит, по-вашему, брак этот — лишь притворство, по крайней мере — со стороны императора. Другими словами, Валентиниан больше не проявляет интереса к своей жене?
— Так точно, — подтвердил я. Странно, но мне показалось, что подобное утверждение сенатора очень обрадовало.
— И, вполне возможно, он удовлетворяет свои желания на стороне?
— Чего не знаю — того не знаю, — сказал я. К чему это он клонит? — Scholae никогда не бывает рядом с императором, когда речь идет о его интимных делах. Дворцовые евнухи осведомлены об этом гораздо лучше нас — особенно Гераклий; он у императора в любимчиках ходит. Но я очень удивлюсь, если вы окажетесь неправы, ваше сиятельство. В конце концов, Валентиниан — мужчина видный, здоровый и довольно-таки молодой.
Вскочив на ноги, Максим стал расхаживать по комнате взад и вперед, затем остановился и, нахмурив брови, о чем-то надолго задумался.
— Вы доказали, что не болтливы и заслуживаете доверия, — произнес он наконец так тихо, словно говорил с самим собой. Обернувшись, он смерил нас оценивающим взглядом. — Что ж, видимо, пришло время посвятить вас в мою проблему. Уверен, вам не нужно напоминать о том, что все, о чем здесь будет сказано, не должно выйти за пределы этой комнаты.
Мы с Гибвультом заверили сенатора, что будем держать рты на замке.
— Тогда знайте: император давно уже положил глаз на мою жену. Она — само воплощение чести и верности и никогда сознательно мне не изменит. Но Валентиниана это не остановит; для него желание чего-то есть лишь прелюдия к обладанию этим. Честь и благородство для него — пустые слова; представься ему такая возможность — и он без раздумий затащит мою жену в свою опочивальню. Я же, хоть и сенатор, ничем не могу ему помешать. В конце концов, он — император.
Мы с Гибвультом обменялись обеспокоенными взглядами. Знать подобное было чрезвычайно опасно.
Максим, должно быть, это заметил, так как продолжил:
— Зачем я вам все это рассказываю? Что ж, не буду ничего от вас скрывать. Если Валентиниан все же добьется моей жены, я буду вынужден постоять за честь моего gens, Анициев.
— Убив императора? — спросил я напрямик.
Максим криво улыбнулся и пожал плечами.
— Я — римлянин, к тому же — Аниций, а значит, буду лишен выбора.
— А мы нужны вам как исполнители, — догадался я. План Максима должен был принести ему пурпурную мантию императора — не больше и не меньше, и замысел этот, в силу огромной непопулярности Валентиниана, вполне мог увенчаться успехом. Месть за поруганную честь жены — убедительный мотив для убийства Валентиниана, а симпатии римлян Максиму удалось бы завоевать без особых проблем. Все встало на свои места. Сведения, которые мы сообщили сенатору, убедили его, что пришло время использовать жену в качестве наживки для страстно желавшего ее императора. Нас же с Гибвультом Максим выбрал потому, что мы не раз доказывали свою верность Аэцию, даже после его смерти, и еще потому, что мы мало чего боялись. «Да ладно, — подумал я, — какая разница. Если план сенатора, на чем бы он там ни основывался, позволит нам отомстить за смерть столь любимого нами Аэция, большей привилегии мы и не попросим». Взглянув на Гибвульта, я понял, что он думает о том же.
Повернувшись к Максиму, я выдохнул:
— Только скажите, когда.
— Превосходно. Рад, что мы поняли друг друга, — встрепенулся он. — Инструкции получите в свое время. А пока постарайтесь справляться со своими обязанностями во дворце так же хорошо, как и раньше. Лишние проблемы нам ни к чему. И не волнуйтесь — вы будете хорошо вознаграждены.
Внутри меня словно что-то разорвалось.
— Вы, римляне, полагаете, что все продается! — воскликнул я, не сдержавшись. — Как вы не поймете, что существует еще и такое понятие, как честь? Пойдем, Гибвульт.
Круто повернувшись, с гордо поднятыми головами, мы вышли из tablinum.
Вскоре после второй нашей встречи с Максимом, Рим сотряс скандал, подробности которого сенатор даже и не пытался скрыть; в сущности, он сделал все, что было в его силах, для того, чтобы они были разглашены. Случилось же следующее. Во время очередной игры с императором в ludus latrunculorum, Максим так сильно проигрался, что не смог сразу расплатиться. Валентиниан настоял на том, чтобы сенатор в качестве залога оставил ему свой перстень, который впоследствии Максим мог бы выкупить. Не прошло после этого инцидента и пары часов, как жена Максима получила письмо, в котором говорилось, что с ней, по какому-то срочному делу, желает переговорить императрица Евдоксия. Так как к посланию прилагался перстень Максима, жена сенатора решила, что письмо — от него. Ни о чем не подозревая, она поспешила во дворец, где, в одной из уединенных спален, Валентиниан над ней надругался. Как и ожидалось, когда весть об этом разнеслась по городу (а Максим постарался, чтобы это случилось как можно скорее), императора невзлюбили даже те, кому раньше до его персоны не было никакого дела.
Несмотря на скандал, не считаясь с общественным мнением, император объявил, что в скором времени намеревается лично открыть военные Игры, которые должны были состояться на Марсовом поле, огромной равнине к западу от Рима, между Тибром и городскими холмами. За день до этого события ко мне подошел один из рабов Максима. Он передал мне записку, содержавшую всего три слова: “Когда упадет mappa”.
Взволнованный, я бросился разыскивать Гибвульта. Он был в казармах.
— Завтра император, открывая Игры, бросит белый платок, — сказал я ему. — Тогда-то мы и нанесем удар.
Гибвульт новость воспринял спокойно.
— Тогда нужно удостовериться, что нам завтра нужно заступать на дежурство, — проворчал он, не поднимая глаз от панциря, который начищал пастой из мелкого песка и уксуса. — И убедиться, что наши мечи по-прежнему остры.
В силу того, что на всякого рода церемонии нам следовало являться в парадной, идеально начищенной форме, не многие из наших товарищей по scholae горели желанием сопровождать императора на Игры, поэтому, увидев себя в списках тех, кому на следующий день предстояло нести службу, мы не особо удивились.
* * *
Холодным, хотя и солнечным мартовским утром наша процессия — император с супругой, охрана и целая толпа придворных и слуг — покинула Палатин. Поехав по Священной дороге, мы сначала миновали Римский форум, где к нам присоединились, великолепные в своих архаических тогах, сенаторы (во главе с Максимом), затем — Капитолий, после чего направились вверх по Фламинианской дороге. Свернув влево с этой широченной улицы у арки Диоклетиана, мы проехали мимо Пантеона и стадия Домициана и оказались наконец на Марсовом поле, огороженной канатами территории, где уже собрались соперничащие военные подразделения. Первыми должны были демонстрировать свое мастерство конные лучники, отборные части vexillationes palatinae, цвет кавалерии. Участники выстроились в сотне шагов от ряда мишеней, которые они, пустив лошадей галопом, и должны были поразить на ходу.
Сопровождаемый Гераклием и избранными представителями scholae (я позаботился, чтобы в их число вошли и мы с Гибвультом), Валентиниан взошел на подий. Гераклий протянул ему белый платок, который император поднял высоко над головой. Выглядел он, несмотря на всю свою подлую сущность, я должен признать, весьма импозантно: высокий, хорошо сложенный, в пурпурной мантии и сверкающей диадеме — словом, настоящий римский император.
— Полагаю, Гераклий тоже заслуживает смерти, — прошептал Гибвульт. Я кивнул, сердце мое забилось в бешеном темпе. Все знали, что Гераклий постоянно настраивал Валентиниана против патриция. Если бы не евнух, Аэций, возможно, был бы жив и поныне.
Mappa упала.
Время, казалось, остановилось, когда, выхватив мечи, мы набросились на Валентиниана. Не успев даже опустить руку, император повернулся в нашу сторону, и глаза его едва не выкатились из орбит, когда он увидел блестящие на солнце, готовые вот-вот пронзить его клинки. Смутно помню, что всадники в тот момент уже сорвались с мест и собравшиеся на арене люди повскакивали, подбадривая своих любимцев. Удар мой был таков, что меч пробил Валентиниану грудную клетку. Кровь хлынула из раны ручьем; бросив взгляд в сторону, я заметил окрашенный в красный цвет клинок Гибвульта. Валентиниан издал булькающий хрип, зашатался и осел. Перешагнув через умирающего императора, мы прирезали Гераклия еще до того, как тот успел понять, что происходит. На все ушло не более десяти секунд.
Новости об убийстве императора распространились по арене довольно-таки быстро, и шум затих. Глубокую тишину нарушил громоподобный голос Максима: “Жители Рима, вы свободны. Тиран Валентиниан мертв”[67].
Почти тут же из сенаторской ложи прокричали: “Римляне, приветствуйте нового Августа, Петрония Максима!”
На какие-то мгновенья на арене вновь воцарилась тишина, потонувшая затем в реве тысяч глоток: “Максим Август! Максим Август! Максим Август!”
С разрешения нового императора (получившего пурпур не без нашего участия), мы оставили scholae и, достаточно пресытившись как Римом, так и его жителями, уже собирались вернуться в родную Германию, когда получили послание, что некто Тит Валерий Руфин, прежде служивший под началом Аэция, желает нас видеть. Почему бы и нет, подумали мы. Я решил, что буду говорить за нас обоих, и встреча состоялась.
Остальное ты знаешь, Тит Валерий, друг мой».
«Рассказ мой окончен [написал Тит в “Liber Rufinorum”], а вскоре, если сбудется пророчество Ромула, придет конец и Рима. Увиденные Ромулом двенадцать грифов символизировали, если верить авгуру Веттию, двенадцать столетий, отведенных этому городу на существование. Может быть, это и миф, но я не думаю, что Западная империя надолго переживет человека, благодаря гению которого она все еще существует. Максим — не Аврелиан; вряд ли ему удастся покорить варваров и возродить государство. Да и в Галлии уже визиготы и франки то и дело норовят выбраться за пределы собственных поселений, а наш армейский контингент там крайне малочислен, да и содержать его особо нечем. Испания разорена багаудами и свевами, Африка — в руках вандалов, Британия давно уже потеряна, и неизвестно, будет ли когда-то возвращена обратно. Лишь в Италии, Провинции и центральной Галлии все обстоит более или менее нормально. Но надолго ли? Войск у нас становится все меньше и меньше; казна пуста; мы ждем помощи с Востока — а ее как не было, так и нет.
Пусть мой сын Марк, если то будет ему угодно, продолжит вести эту книгу. Но взгляд свой он должен обратить в сторону Константинополя, а не Равенны. Западная Римская империя, может быть, и падет, Восточная же будет жить, в этом я не сомневаюсь. Vale».
Послесловие
Убийство Валентиниана III положило конец династии Феодосия, которая, несмотря на все свои недостатки, все же придавала разрушавшейся Римской империи необходимую стабильность. Лишенная вдохновенного лидерства «великого спасителя Западной империи», как называл один из византийских летописцев Аэция, империя стремительно полетела навстречу своему окончательному закату. Преемник Валентиниана, Петроний Максим, продержался на троне лишь три месяца, после чего был линчеван разгневанной толпой, когда вознамерился бежать из Рима незадолго до очередного нашествия на город вандалов[68]. После него пурпурную мантию на какое-то, крайне непродолжительное время примерил на себя Авит, некогда верой и правдой служивший Аэцию в Галлии, но не нашедший, уже будучи императором, общего языка с упивавшимся временным возрождением собственных властных полномочий сенатом и приговоренный этим национальным собранием к смерти. Впоследствии германские военачальники неоднократно пытались усадить на престол своих марионеточных правителей (многообещающим из всех этих непродолжительных правлений выглядело лишь нахождение у власти Мажориана, еще одного из сослуживцев Аэция). Низложение в 476 году последнего из них, Ромула Августа, и означало конец Западной римской империи.
Гейзерих, более кого-либо другого способствовавший краху Запада, пережил эту империю всего на год. Как и о гуннах, о вандалах в исторических летописях сохранились лишь негативные воспоминания; имя их навеки связано с жестокостью и разрушениями. Не прошло и шестидесяти лет после смерти Гейзериха, как они были разбиты в Восточной римской империи армией Юстиниана и, как и гунны, больше уже не оказывали влияния на ход истории. (После смерти Аттилы гуннское государство стремительно развалилось, и теперь мы вспоминаем о нем лишь «благодаря» тем опустошительным набегам и разорениям территорий, с которыми и ассоциируется у нас имя Аттилы, Бича Божьего.)
Так что, получается, все стремления Аэция так ни к чему и не привели? Отнюдь нет. Несмотря на то что, судя по всему, он появился на политической арене слишком поздно для того, чтобы спасти Западную империю, ему не только удалось защитить Европу от азиатского господства, но и сделать возможным будущее гармоничное сосуществование германцев и римлян на территориях, относившихся некогда к Римской империи. Битва на Каталаунских полях стала величайшим (хотя и последним) триумфом Западной империи. Победа в ней была достигнута за счет того, что римляне и германцы вместе выступили против общего врага, что само по себе явилось важным новшеством, резко контрастировавшим с прежней политикой римлян по отношению к «гостям» — федератам: визиготов и франков они вынуждены были терпеть на своей земле, бургундов же систематически и нещадно подавляли. Впредь политическая динамика заключалась в конструктивном взаимодействии двух означенных народов, и процесс этот не закончился даже с развалом самой империи.
Обращение франкского короля Хлодвига в католическую веру (496 г.), примеру которого последовали и другие германские монархи, устранило последнее серьезное препятствие, стоявшее на пути германцев и римлян к сотрудничеству. (Прежде франки, как и прочие германские племена, придерживались арианства, соответственно, были еретиками в глазах римлян.) Аэций заложил фундамент, на котором Теодорид (не путать с его тезкой, королем визиготов!) смог выстроить удачный римско-германский синтез в остроготской Италии. Из него развилась европейская средневековая цивилизация, политическим средоточием которой стали империя Карла Великого и Священная Римская империя. (Их преемником мы, вероятно, можем считать Европейский союз.)
Рим оставался центром европейской цивилизации все две тысячи лет нашей эры. Западная империя существовала почти четверть этого времени, Восточная — около трех четвертей, до 1453 года, когда пал Константинополь. (К примеру, король Генрих VIII родился менее чем через полвека после сего события, а это, с точки зрения длинной исторической перспективы, — позавчерашний день.) Влияние Рима на архитектуру, право, языки, искусство, религию, формы правления и т. д. и т. п. безмерно — и долговечно. Возьмем лишь один пример: почти два столетия у власти в Британской Индии находились молодые люди, получившие классическое образование и правившие страной по той же модели, какая была свойственна Римской империи; и в целом, что бы там ни говорили о моральных принципах империализма, управляли этим субконтинентом довольно-таки грамотно. Рим оставил нам замечательное наследие, и немалая заслуга в сохранении и передаче его принадлежит Аэцию — «последнему из римлян», как сказал о нем Прокопий.
Примечания автора
Рассматривая историю Римской империи в V веке, мы довольно хорошо осведомлены о том, что именно случилось, но не всегда — почему или как это произошло. Это вынуждает автора исторической книги «оживлять» состоящую из подлинных фактов основу произведения при помощи собственных гипотез и догадок, что позволяет лучше показать мотивировку и индивидуальные черты реальных персонажей. К примеру, нам неизвестно, действительно ли Аттила планировал создать «Великую Скифию» — это не более чем мое личное предположение. Тем не менее, то, что он мог этого желать, — вполне возможно. Величайшие завоеватели — Александр, скажем, или Наполеон — всегда стремились удовлетворить свои амбиции за счет разграбления городов и захвата чужих территорий.
Несмотря на немалое количество гипотетических отступлений, в своей работе я — за исключением некоторых отдельных случаев — старался строго придерживаться известных исторических фактов. (История Аттилы и Аэция столь необычна сама по себе, что и не нуждается в каком-либо приукрашивании.) Тем не менее кое-где мне пришлось слегка исказить реальность. Так, в моей книге бургунды перебрались в Савой за несколько лет до того, как это случилось на самом деле. Мой Констанций совмещает в себе черты двух реально существовавших персонажей, носивших это имя. Даже Гиббон допускает, что двух Констанциев «легко можно было спутать»; так что я не чувствую за собой особой вины за то, что объединил их. Именно его я сделал ключевой фигурой заговора, вынашиваемого Хрисафием с целью убийства Аттилы, а не Эдекона или Бигилу (Вигилия), двух агентов, более тесно участвовавших в этих интригах. Встреча Амвросия с Германом — лишь моя догадка, но, несомненно, не лишенная определенной вероятности, даже несмотря на всю ту сложность, которая возникает с датированием событий, происходивших в тот исторический период в Британии. Некоторые ученые (Винбольт, Мюссе и др.) считают, что имя Амвросия следует рассматривать в связи с событиями, имевшими место ближе к середине V века; другие (к примеру, Клири) выводят его на политическую арену в конце того же столетия. Как и Аэций, Амвросий Аврелиан (иногда называемый Аврелием Амвросием), по некоторым предположениям — сын консула, удостоился эпитета «последний из римлян». Предполагаемая дата второго посещения Германом Британии (440–444 гг.) практически совпадает с той, когда последовал третий призыв о помощи к Аэцию (445 г.), что, на мой взгляд, позволяет связать их между собой в романе. Эрнака я изобразил ребенком, а не юношей, каков он у Приска. Даниила, монаха-аскета, стоявшего в Константинополе на столпе, я поместил в этот город за десять лет до того, как он появился там в действительности. Кроме того, я произвел несколько незначительных топографических изменений: часть обнаруженного в Тарквиниях (южной столице этрусков) некрополя перенес на сотню миль западнее — но все еще в пределах Этрурии, — в долину Гарфаньяна; рассказывая о поездке Гая в Шварцвальд, слегка видоизменил рельеф местности (так, водопад Триберг стал располагаться на несколько миль южнее), и переместил Гиммельрайх из западной в восточную часть долины Хелленталь. Вышеупомянутые сдвиги были сделаны в интересах драматической эмфазы и гладкого повествования — и, полагаю, вполне простительны.
Что касается источников, то в основном я опирался на «Закат и падение Римской империи» Гиббона (рекомендую: захватывающее чтение обеспечено), «Историю Аттилы и гуннов» Э. — А. Томпсона и «Позднюю Римскую империю» моего бывшего преподавателя, А. — Х. — М. Джонса. Из множества книг, любезно предоставленных мне моим соиздателем, Хью Эндрю, особенно ценными оказались следующие: «Галлия в пятом веке» (серия статей, изданных Джоном Дринкуотером и Хью Элтоном); «Древние германцы. Быт, религия, культура» Малькольма Тодда; «Мир в древние века» Питера Брауна; «Варварские нашествия на Европу: германский натиск» Люсьена Мюссе и — настоящее сокровище! — «Рим: падение, которого не было» Стивена Уильямса и Джерарда Фрилла. Много полезной информации я почерпнул и из первоисточников: «Notitia Dignitatum», реестра армейских и гражданских должностей для обеих половин империи, составленного в 400 г. н. э.; «Деяний» Аммиана Марцеллина, самым замечательным образом повествующих о жизни Римской империи в эпоху домината; «Географии» Птолемея и «Византийской истории» Приска Панийского, бывшего свидетелем пребывания послов Восточной империи при дворе Аттилы.
Р. Л.
Приложение 1 По праву ли Аттилу называют «Бичом Божьим»?
В нашем понимании прозвище Аттилы — Flagellum Dei, Бич Божий — характеризует его как безжалостного предводителя варваров, стоявшего во главе орды кровожадных дикарей, разграблявших Римскую империю. Доля правды в подобном образе, конечно же, присутствует. Тем не менее для современников Аттилы этот эпитет имел несколько иное значение. Аттила был для них справедливой карой, ниспосланной Богом в наказание христианскому римскому миру за некий (неустановленный) коллективный проступок или упущение. Катастрофы, вне зависимости от того, каким — человеческим или природным — фактором они определялись, люди в то время склонны были рассматривать как следствие божественного порицания. Это, возможно, дает новую перспективу интерпретации прозвища Аттилы. Считали ли бы Аттилу Бичом Божьим, будь он христианином, а не язычником? Вопрос спорный. Правителя вандалов Гейзериха, который был христианином и не уступал Аттиле в жестокости и стремлении к разрушениям, иначе как по имени никогда не называли.
Если мы будем отталкиваться от стандартов древнего мира, Аттила, возможно, и не покажется таким чудовищем, каким представляется нам сейчас. «Величие» в те времена определялось количеством побед, числом убитых или обращенных в рабство врагов — поэтому и называли «Великими» Александра, Помпея и прочих. Римские полководцы торжественно въезжали в город лишь в том случае, если число поверженных противников превышало пять тысяч человек. (Юлий Цезарь хвастался тем, что убил более миллиона галлов.) Исходя из этого критерия, мы, безусловно, можем считать Аттилу законным кандидатом на пальмовую ветвь первенства! «Аттила Великий» — звучит несколько абсурдно, но, возможно, лишь потому, что он не оставил ничего после себя. Не распадись выстроенная Аттилой огромная империя сразу же после его смерти, возможно, он имел бы сегодня другую славу. В конце концов, история пишется победителями.
На персональном же уровне Аттила выгодно смотрится в сравнении со многими «цивилизованными», по общему мнению, греками и римлянами. Легендарная простота одеяния и образа жизни (одежда из кожи, деревянные чаши и блюда) являли собой полную противоположность показному великолепию и богатству имперских дворов Константинополя и Равенны. Несмотря на то что наказания его отличались особой жестокостью (любимыми их формами были распятие на кресте и сажание на кол), Аттила мог — как и подобает благородному правителю, не опускающемуся до мелочной мести — проявить милосердие и даровать прощение. К примеру, когда перед ним оказался Бигила/Вигилий, глава заговорщиков, замышлявших убийство Аттилы, король счел его столь ничтожным, что даже не стал наказывать. Эти, безусловно, в определенной степени характеризует Аттилу как человека благородного и не идет ни в какое сравнение с завистливой мстительностью Валентиниана III, собственноручно лишившего жизни своего главного полководца, Аэция, или злобной недоброжелательностью императрицы Евдоксии, подвергнувшей святого Диона Хризостома таким гонениям, что они свели его в могилу.
Аттила, знаменитый своими набегами на Восточную, а затем и на Западную Римские империи, видится нам рвущимся к власти мегаломаньяком. В действительности же у него просто не было другого выбора. Вместе с гуннским троном он унаследовал и склонность своих предков к войне. Именно она, беспрестанная и успешная, была тем единственным средством, которое объединяло гуннскую нацию и позволяло самому Аттиле поддерживать личную власть, не забывая при этом вознаграждать своих сторонников. Окажись он неспособным сохранить этот импульс — тут же был бы заменен кем-то другим (и почти наверняка — убит). Благодаря столь пространной реинтерпретации истории Аттила предстает перед нами скорее человеком своей эпохи и заложником обстоятельств, нежели Бичом Божьим.
Приложение 2 Почему восточной империи удалось уцелеть, тогда как западную ждал крах?
Последний шаг в пропасть Запад сделал в 476 году, Восток же пережил его на многие столетия. Почему? За сотню лет до коллапса Запада Рим все еще представлял собой грозную силу с огромной армией, способной справиться с любым врагом и воевать на нескольких фронтах одновременно. Сражаться приходилось на огромной территории, растянувшейся на тысячи миль, от Рейна до Евфрата, как рассказывает Аммиан Марцеллин, армейский офицер, ставший историком, в своих «Деяниях» — великолепной картине жизни позднего римского мира в те времена, когда именно Запад считался более сильной половиной империи. Страницы этого труда изобилуют яркими и живыми картинами, но единственный намек на приближающуюся катастрофу мы находим в том месте, где автор описывает Адрианопольское сражение и последствия этого конфликта (приведшего к уничтожению армии Восточной империи и смерти ее императора), которые — по крайней мере, как казалось в начале — никоим образом не должны были сказаться на Западе. Тем не менее события следующих нескольких десятилетий показали, как обстояла ситуация в империи на деле: Запад имел серьезные, бессимптомные слабости, проявившиеся лишь после смерти Феодосия I (395 г.), тогда как Восток оказался гораздо более сильным и стабильным, чем то виделось в 378 году, когда, собственно, и произошло Адрианопольское сражение. Лучше понять эти различия мы сможем, сравнив две части империи по трем критериям.
Первый — границы. Запад с его чрезвычайно длинной границей — весь Рейн и Верхний Дунай — был в гораздо большей степени подвержен набегам варваров, нежели Восток, единственной головной болью которого оставался Нижний Дунай. (Персия, у ее восточной границы — потенциально представлявшая собой гораздо большую угрозу, чем любой варварский союз — являлась в то время цивилизованным и сильным государством, в целом соблюдавшим условия заключенных соглашений.) В отличие от Востока, бедные балканские провинции которого могли выступать в качестве своеобразной буферной зоны, амортизировавшей нападения варваров, что позволяло не только более богатым восточным и южным провинциям, но и Константинополю сохранять свою неприкосновенность, вся Западная империя — кроме, разве что, Африки — была полностью открыта для проникновения варваров: им стоило лишь перейти границу. К тому же, зачастую пресыщенные разграблением Балкан захватчики (к примеру, Аларих и визиготы) обращали свой взор в сторону Запада, чему на Востоке были только рады.
Критерий второй — экономика. Восток был гораздо более богатым и плодородным, нежели Запад, где огромные территории занимали леса и неосушаемые земли. Более того, на Востоке достаток, с его, в целом, справедливой налоговой системой и обеспеченными землевладельцами-крестьянами, был гораздо более равномерно распространен, чем на Западе, где богатые аристократы-сенаторы жили в необыкновенной роскоши, в то время как большая часть населения едва сводила концы с концами. Вдобавок ко всему, именно на бедняков, по большей части — возделывавших небольшие наделы земли крестьян, выпадала основная доля налогового бремени, — и это с учетом того, что им приходилось платить еще и ренту крупным землевладельцам, у которых они арендовали свои делянки. На большинстве западных территорий жили германские племена, которые, хотя и обосновались там на правах федератов, вообще не платили налогов. Сжатая до предела налоговая база, трудности с вербовкой в армию и огромные людские потери вследствие войн с варварами делали задачу западного правительства по созданию сильной, боеспособной римской армии практически неразрешимой. Налицо были все признаки усиливавшегося неравенства между двумя частями империи: на Западе — недовольство и снижение патриотизма, бегство тысяч бедняков в имения, принадлежавшие могущественным собственникам (что позволяло укрыться от сборщиков налогов и избежать продажи в рабство за долги), беззаконие или открытый бунт наподобие «Крестьянского восстания» багаудов; на Востоке — однородное, процветающее и постоянное население.
И наконец, третий критерий — управление. На Западе власть то и дело узурпировали честолюбивые римские полководцы или политики: Фирмий, Магн Максим, Евгений, Гильдо, Константин III, Констанс, Аттал, Иовин, Иоанн, Петроний Максим. Для сравнения: на Востоке за тот же самый период, 364–476 годы, произошло всего две попытки узурпации власти (Прокопием — в самом его начале, и Василием — в самом его конце), но оба захватчика оставались на троне недолго. На Востоке штат государственных гражданских служащих комплектовался за счет квалифицированных профессионалов, вышедших из средних слоев общества и потому менее склонных к взяточничеству, нежели их западные коллеги. На Западе продажа должностей (suffragium) носила эндемический характер, что в конце концов создало коррумпированную бюрократию, более озабоченную набиванием золотом своих карманов, чем служением государству. Родовые же общества, так называемые курии, когда-то составлявшие основу западной администрации, оказались деморализованными и дезорганизованными в результате неумеренных аппетитов Равенны. На Востоке же вся власть была сосредоточена в Константинополе, где сенат (состоявшей на государственной службе аристократии — сравните с западным клубом «великих господ»!) — наряду с армией, патриархатом, императором и консисторией — представлял собой часть единого, хорошо отлаженного механизма, осуществлявшего общее управление империей. Все части этого механизма вынуждены были работать в тесном взаимодействии, что позволило установить в государстве систему сдержек и противодействий. Более того, подотчетность и сотрудничество, существовавшие между всеми государственными департаментами, с годами лишь укреплялись. На Западе же, где государственный аппарат был более слабым и разобщенным, этого не случилось.
Приняв во внимание вышеприведенные различия, вы без труда поймете, почему Запад — переживавший административный, экономический и социальный упадок и обладавшей слабой армией, неспособной противостоять вторжению варваров, в 476 году потерпел крах, тогда как благополучный и стабильный Восток продолжал существовать еще более тысячи лет.
Комментарии
Глава 1
«Год консулов Асклепиодота и Мариниана, IV окт. иды…»
Римляне датировали важные события «от основания города» — «ab urbe condita» (753 г. до н. э.), но в самых значимых случаях использовали для датировки имена консулов, избираемых в центуриатных комициях сроком на один год и обладавших верховной властью (империем), которая включала в себя высшие военные, судебные и административные полномочия. Один из консулов представлял Рим, другой — Константинополь. Летоисчисление от Рождества Христова было введено Дионисием Малым лишь в 527 г. В каждом из месяцев древнеримского календаря имелись три фиксированных дня, которые служили для счета дней в месяце: календы, первый день месяца, ноны (пятый или седьмой) и иды (тринадцатый или пятнадцатый). Счет велся от этих дней назад. (В марте, мае, июле и октябре ноны выпадали на 7 е число, иды — на 15 е; в оставшихся месяцах — на 5 е и 13 е соответственно.) Таким образом, если в январе иды приходились на 13 е число, следующий день у римлян считался не 14 м, а 19 м до февральских календ, и при подсчете считались все дни, т. е. и 14 е января, и 1 е февраля. Исключение составлял лишь последний день каждого из месяцев, который назывался pridie (накануне) Kalendas.
Глава 2
«… шлемы с высокими гребнями…»
Подобные шлемы пришли на смену классическому «аттическому» шлему (знакомому каждому, кто видел любой из голливудских фильмов о древних римлянах) примерно в 300 г. Исключение составляла лишь Восточная, более греческая часть империи, где «аттические» шлемы сохранялись в обиходе едва ли не до правления Юстиниана (527–565 гг.). Для удобства и быстроты сборки «чаша» шлема состояла из двух частей, соединяемых центральной планкой, «гребнем». Во времена Диоклетиана с его многотысячной армией подобные шлемы изготавливались в рамках своего рода «госзаказа» в военных мастерских (fabricae) по всей империи, причем, судя по всему, с использованием техники, подобной нынешнему сборочному производству.
Глава 3
«… Иордан “О происхождении и деяниях гетов. Getica”…»
Это произведение представляет собой краткое изложение другого, гораздо более полного труда (к сожалению, до нас не дошедшего), «De rebus Geticis», автором которой был римлянин, Магн Аврелий Кассиодор, историк и государственный деятель остроготского государства, советник короля остроготской Италии Теодорида, являвшийся проводником политики сближения остроготов и римлян. Вполне вероятно, что, работая над «Историей готов», Кассиодор лично общался с ветеранами битвы на Каталаунских полях. В 551 г. Кассиодор уполномочил Иордана, гота по происхождению, пересказать свое сочинение вкратце. Так и родилась «Гетика».
Глава 4
«… Августин Аврелий, благочестивый и набожный епископ Гиппона…»
Августин оказал глубокое влияние на западную философскую мысль (особенно в том, что касается христианской веры) — как на древнеримскую, так и на современную нам. Его учение о предопределении (в центре которого стоит теория «Избранных») повлияло на мировоззрение самых разных людей, от Кальвина и Витгенштейна до Хейга, небезызвестного «убийцы с кислотной ванной». Блестяще развил мысли Августина Джеймс Хогг, автор знаковой «Исповеди грешника в свое оправдание».
«… ludus latrunculorum…»
Латрункули (букв. «игра солдатиков/наемников») — древнеримская игра шашечного типа. Играют два игрока. Доска 8x12, 7x8, 8x8; 16 (либо 32) фигуры. В игре появляется дамка, если простая шашка достигнет т. н. Реки, последней линии. Простые фигуры ходят по четырем сторонам, но не по диагоналям. Если простая шашка окружена с четырех сторон, то есть не может сделать ход, она снимается с доски. Дамка может делать сложный ход, «перешагивая» через простые фигуры. Игра завершается, если соперник не может сделать ход (шашки уничтожены или блокированы).
«… одного из цепочки фортов, возведенных Диоклетианом…»
Их хорошо сохранившиеся остатки можно увидеть и сегодня.
«… застала еще сражение у Милвианского моста…»
У Милвианского моста, неподалеку от Рима, Константин одержал в 312 г. победу над своим соперником Максентием; там же ему было видение, заставившее обратиться в христианскую веру. Мост функционирует и ныне.
«… рейтузы…»
Принято было считать, что римские солдаты — как и воины-горцы — нижнего белья не носили. Тем не менее недавно обнаруженные «таблички из Виндоланды», где, до постройки Стены Адриана, находилось одно из главных военных укреплений, сооруженных у северных границ Британии, позволяют нам с уверенностью заявлять о том, что иногда, все же, рейтузы они надевали.
«… блемми…»
Блемми проживали в Нубии, к югу от Египта. То было частично семитское, частично африканское племя.
«… cursus velox…»
Cursus Publicus, или имперская почта, представляла собой очень организованный и эффективный институт и охватывала около 54 000 миль дорог. Несмотря на то что первичной ее функцией была доставка правительственных или военных донесений, служба также обеспечивала транспортировку имперских грузов и перевозку официальных лиц. Если информацию надлежало доставить адресату в срочном порядке, использовалась специальная система распространения — cursus velox, или экспресс-почта. Меняя лошадей каждые 8 — 12 часов, хороший наездник мог покрывать до 240 миль в день. Особенно развита эта система была в IV веке, но в V веке, из-за постоянных нашествий варваров, дала трещину.
«… за тем лишь исключением, что был построен под землей…»
Хорошо сохранившиеся остатки этой виллы, известной как «Дом Амфитриты», можно увидеть и сегодня. Дошли до нас и другие, не менее примечательные «подземные» строения.
«… изображения которых украшали знаменитую Арку Константина…»
Изображенные на арке солдаты носят, как правило, классические доспехи и шлемы (вышедшие к тому времени из употребления на Западе, но еще долгие годы использовавшиеся на Востоке). Некоторые из панелей арки украшали ранее монументы времен правления императора Траяна.
Глава 5
«Затея его потерпела полный крах…»
Существуют письменные свидетельства того, что Августин действительно на протяжении двух с половиной часов выступал перед жителями Карфагена, призывая отказаться от празднования календ — тщетно. На Западе этот праздник продолжали отмечать и тогда, когда Римскую Африку завоевали арабы, а произошло это, к слову, в VII веке.
Глава 8
«… пробивали даже самые прочные доспехи…»
Иллюстрации большинства книг (к сожалению, грешат подобным художественные фильмы и телевизионные передачи), описывающих римских солдат любого периода с 200 г. до н. э. до 400 г. н. э., изображают их повсеместно носящими «обручные доспехи», lorica segmentata, вместе с (как и следовало ожидать) классическими шлемами и выпуклыми прямоугольными щитами. Этот эффективный тип брони римляне использовали в начале первого столетия (образцы не так давно были обнаружены в Калкризе, где, как полагают, в 9 г. н. э. потерпела сокрушительное поражение от германских племен армия Вара). В последний раз подобные латы можно было наблюдать у римских солдат эпохи Александра Севера (ок. 230 г. н. э.), так что использовались они на протяжении всего двухсот пятидесяти лет, а не шестисот, как полагают некоторые. Сегментарная лорика была заменена чешуйчатыми доспехами (lorica squamata), цепной кольчугой (lorica bamata) и пластинчатыми латами (маленькие вертикальные железные пластинки) — возможно, потому, что была слишком громоздкой, и из-за того, что чересчур сложная конструкция lorica segmentata замедляла и удорожала ее производство.
Глава 10
«… претензии германца… на власть…»
Не имея возможности взойти на римский престол на законных основаниях, германцы могли править лишь через марионеточных правителей римского происхождения. А вот испанцам, африканцам, иллирийцам и даже одному арабу в разные времена примерить императорский пурпур все же удавалось — несмотря на этнические или культурные отличия, никакого отторжения у римского народа они почему-то не вызывали.
«… из знатного римского рода Анициев…»
Аниции, как и Симмахи, являлись одной из тех римских фамилий, чье влияние ощущалось во всех коридорах власти самого высокого уровня. Они были связаны кровными узами с — помимо многих прочих — Епархием Авитом (императором, 455–456 гг.), через брак — с императорами Феодосием I и Петронием Максимом (455 г.), с Евдоксией, вдовой Валентиниана III и, возможно, с испанским узурпатором Магном Максимом.
«А Гай Валерий Руфин обзавелся неофициальным agnomen…»
О римлянах иногда говорят как о «людях с тремя именами». С первых лет существования империи они переняли сабинскую практику использования praenomen, или личного имени (выбираемого из крайне ограниченного набора имен — Тит, Квинт, Марк и т. д. и обычно сокращаемого до Т., К., М. и т. д.), за которым следовало трибутное (племенное) имя, gentile, заканчивавшееся на «ий» — Юлий, Клавдий, Туллий и т. д. Патриции же имели и третье, родовое, имя, cognomen, как правило, говорившее о неких личных качествах: Цезарь (тот, у кого копна волос), Цицерон и т. д. Иногда, в знак признания каких-либо заслуг, к этим именам добавлялся второй cognomen или почетный agnomen, вроде «Африкан» («Africanus») или «Германик» («Germanicus»). К V веку подобная система сделалась менее строгой: перечень личных имен стал гораздо более широким; многие предпочитали иметь два (а иногда, и более) родовых имени. В целом, тем не менее, практика именования оставалась консервативной и последовательной на всем протяжении существования Римской империи. Между прочим, сами римляне никогда бы не назвали Гая Юлия Цезаря «Юлием Цезарем», как зачастую звучит это имя в наше время. У них он был бы либо Гаем, либо Цезарем, либо Гаем Юлием, либо Гаем Цезарем, но никогда бы его имя не звучало в виде комбинации трибутного и родового имен.
«… из сената убрали Алтарь Победы…»
Против выноса Алтаря из сената категорически возражал Симмах, городской префект Рима, консул, оратор, человек образованный и широко эрудированный, выдающийся представитель одной из наиболее влиятельных римских семей, Симмахов.
«… провожу… свой otium…»
Самообразованием в свободное время занимались многие представители сенаторской аристократии и крупные землевладельцы не только в Риме и латинских провинциях, но и в Восточной империи. Это привело к рождению единообразной, хотя и малоэффективной, классической культуры, существовавшей в Западной империи до самого ее краха (476 г.) и даже позже.
«Многие из их вождей носят римские одежды; они переняли наши манеры и хотят, чтобы их сыновья изучали латынь…»
Сидоний Аполлинарий, бывавший частым гостем при дворе визиготского короля Теодорида, отзывается об этом монархе в самом комплиментарном тоне. По его словам, принимая у себя галло-римских вельмож, визиготские придворные демонстрировали учтивые манеры и остроумие, которым мог бы позавидовать цвет римского высшего общества.
Глава 11
«… как и Цинциннат много веков назад…»
Цинциннат — древнеримский политический деятель, патриций, консул, диктатор и полководец. В полулегендарной истории Рима V века до н. э. Цинциннат выступает в качестве типичного героя, простого землевладельца, который бросает плуг в грозный для отчизны час. Этот эпизод относится к 458 г. до н. э., когда эквы окружили римское войско на реке Алгид. Цинциннат был назначен диктатором и возглавил посланный на выручку отряд, с которым нанес поражение эквам, после чего оставил должность и вернулся к мирным занятиям.
Глава 13
«… проехал по длинному, в пять пролетов, Ариминскому мосту из белого мрамора, миновал триумфальную арку…»
Мост функционирует и сегодня, а арка по-прежнему простирается над главной из ведущих в Римини дорог.
Глава 14
«Ad Kalendas Graecas!»
Римляне в календы обычно платили долги, арендную плату и т. п. У греков же существовала другая система подсчета дней, поэтому откладывание платежей «до греческих календ» следовало понимать, как нежелание платить. Вошедшее в обиход при императоре Августе, выражение стало синонимом слова «никогда».
Глава 15
«… его зять Себастиан…»
«Добродетельный и верный Себастиан» (как писал о нем Гиббон) подвергся впоследствии суровым гонениям со стороны агентов Аэция и вынужден был перебираться «из одного королевства в другое, пока не погиб, находясь на службе вандалам».
«… тут же будет объявлен вне закона…»
После сражения у Пятого Миллиария Аэцию и остаткам его армии удалось отступить в Галлию. Потерпевший поражение, покрытый позором и объявленный Плацидией бунтовщиком, Аэций счел за благо ретироваться в унаследованное им от отца укрепленное имение, где намеревался держаться до конца. Имение осаждали императорские войска, сам он едва не погиб в результате покушения, предпринятого Себастианом, и вскоре пришел к выводу, что позиции его довольно-таки шатки. В сопровождении нескольких верных сторонников он тайно покинул фамильное гнездо и бежал в Паннонию, где нашел убежище у своих преданных друзей, гуннов.
Глава 17
«… меч подарил ему пастух…»
Подробно эта история рассказана в «Византийской истории» Приска Панийского, в ярких красках описавшего свой визит ко двору Аттилы.
«… Аристотель и Арриан для Аттилы-Александра…»
Аристотель был наставником молодого Александра Македонского, Арриан — его биографом.
«… их носят даже китайские конники…»
Примерно начиная с 300 г. до н. э. туника и штаны получили широкое распространение среди китайского населения, заменив традиционные свободные платья и тесную обувь. Сегодня этот, повсеместно распространенный, стиль в одежде уступает дорогу западному одеянию, появившемуся в Британии во времена Карла II (перенято у персов): длинная, открытая спереди верхняя одежда, надеваемая поверх жилета и брюк — своего рода прообраз костюма — «тройки».
«Если Птолемей прав…»
Величайший древнегреческий географ, Птолемей Клавдий жил в первой половине II века. В труде «География» дал свод географических сведений античного мира. Земля, по его представлению, простиралась от Канарских островов и Исландии до Восточной Азии; Африку и Китай Птолемей поместил на юге. Индийский океан показан на его картах как огромное море, не соединяющееся с Океаном. Скандинавия была для Птолемея островом, а Азовское море и остров Шри-Ланка были представлены чересчур большими. На юге Индийского океана находился, по его мнению, неизвестный материк. Огромным вкладом Птолемея в развитие географии точных количественных методов явилось изобретение конической проекции. Его интересовали вопросы определения размеров планеты, координат пунктов в целях создания карты Земли и разработки картографических проекций.
«… напитком, называемым чай…»
Чай, как полагают, был завезен в Китай из Индии до 500 г. «Кирпичный чай» (обработанные паром и спрессованные в «кирпичики» чайные листы) представлял собой идеальный торговый продукт.
«… носорогов и слонов…»
Речь идет о шерстистых носорогах и мамонте. Джон Ледьярд в своем «Путешествии по России и Сибири» отмечал, что видел множество костей этих животных в окрестностях Иркутска. Мамонтовая кость имела в то время значительную коммерческую ценность.
«… позволено же Афинским школам обсуждать такого рода проблемы…»
Довольно-таки скоро ситуация кардинально изменилась. Во времена правления Юстиниана школы были закрыты императорским указом, оставшись в народной памяти лишь символом ликвидированной классической культуры.
Глава 18
«… между Сциллой и Харибдой!»
В «Одиссее» Гомера Сцилла и Харибда — два чудовища, жившие по обеим сторонам узкого пролива и губившие проплывающих между ними мореходов. Сцилла, дочь Гекаты или Ехидны, скрывается в пещере на крутой скале. У нее шесть собачьих голов на шести шеях, зубы в три ряда и двенадцать ног. Харибда — олицетворение страшного водоворота, трижды в день поглощает и трижды в день извергает воды. Выражение «между Сциллой и Харибдой» следует понимать так: оказаться в таком положении, когда опасность угрожает с двух сторон. Синонимы: между двух огней; между молотом и наковальней.
Глава 22
«… одного из тех легендарных германских богов…»
Бургундская кампания тоже была сюжетом одной из таких саг, «Песни о Нибелунгах» («Nibelungenlied»), в которой рассказывается о нескольких отдельных событиях и одним из главных персонажей которой является Аттила.
Глава 23
«… Аврелиану удалось вытеснить из Италии алеманнов…»
Обладавший как сильным характером, так и мощным телосложением Аврелиан сумел, как и его предшественник Клавдий II и его преемник Диоклетиан, вытащить (в III в.) уже, казалось бы, катившуюся в пропасть Римскую империю. Рим и сейчас окружают мощные защитные стены (сохранилась большая их часть), построенные по его приказу во времена алеманнских нашествий.
Глава 25
«… благодаря племени нецивилизованных союзников…»
В то время, когда Сидоний писал эти строки, визиготы штурмовали Ареверну (ныне Клермон-Ферран в Оверне), епископом которой Сидоний, зять Авита, как раз и был.
«… армия прошла отмечавший центр Галлии миллиарий…»
Впоследствии для того, чтобы обозначить предполагаемый географический центр Франции, его перенесли на несколько миль, в сторону города Брюэр-Аллишан, что чуть южнее Бурга.
«У Ревессия…»
Также известный как Руэссио или Руэссий, город Ревессий был столицей племени веллавий, союзников выступившего против Юлия Цезаря Верцингеторикса.
«… потомки драчливых и непостоянных арвернов…»
От них, ведомых Верцингеториксом, Юлий Цезарь потерпел единственное свое поражение (в Герговии в 52 г. до н. э.).
«Когда армия проходила мимо Авитака, имения сенатора Авита…»
Сидоний Аполлинарий, зять Авита, оставил нам подробное описание этих мест: живописные холмы и чарующие окрестности озера Айдат, горячие ванны, надворные постройки, жилища прислуги и летний домик. Сидоний рассказывает, как потягивал холодное как снег вино, наблюдая за рыбачившими на озере сельскими жителями, описывает звуки, издаваемые представителями местной фауны: лягушками, курицами, лебедями, гусями, дикими птицами и крупным рогатым скотом. Словом, перед нами предстает ироничная картина сельской жизни в стремительно катившейся к краю пропасти Западной империи, вызывающая в памяти «Георгики» Вергилия.
Глава 26
«… недавно введенный Закон Цитат…»
Этот сборник был составлен в 426 г., при Валентиниане III, в попытке упорядочить множество зачастую противоречивых римских законов; усовершенствованный вариант, Кодекс Феодосия (составленный в Восточной империи), появился на свет в 438 г. Базовую основу римского права — в том виде, в котором мы ее знаем сегодня и которая формирует базис шотландского права и законодательств других стран, — составляют «Дигесты» Юстиниана, извлечения классических римских юристов, от Адриана до более поздних. Возложенная на специальную комиссию задача по написанию «Дигест», состоявших из 50 книг и вобравших в себя цитаты почти 2 тысяч сочинений 39 юристов, была выполнена к концу 533 г.
«… при равенстве голосов все решало мнение Папиниана…»
Эмилиан Папиниан (ок. 150–212) — выдающийся римский юрист и государственный деятель. В 426 г. сочинениям Папиниана была предана обязательная юридическая сила. 595 фрагментов из сочинений Папиниана вошли в состав «Дигест» Юстиниана.
Глава 28
«Нарбо мог стать еще одной Замой…»
Около Замы, что в Северной Африке, армия Сципиона Африканского-старшего разбила в 202 г. до н. э. карфагенское войско Ганнибала, решив исход Второй Пунической войны в пользу Рима. В том продолжительном и ожесточенном сражении римляне проявили самые лучшие качества своего характера, вызвав патриотический настрой, сравнимый по силе разве что с «духом Дюнкерка» или настроениями, описанными в поэме «Роберт Брюс — шотландцам перед битвой в Баннокбёрне» Роберта Бёрнса.
«Сея драконьи зубы?..»
Намек на греческий миф о золотом руне, где воины возникали из земли, засеянной драконьими зубами.
«… послал за Орестом, своим молодым нотарием-римлянином…»
Человек отважный и талантливый (после смерти Аттилы он немало преуспел, став магистром пехоты и конницы в Италии), Орест был отцом последнего императора Западной Римской империи, Ромула Августа, названного так в честь основателя Рима и его первого императора.
Глава 29
«Разграбив город, гунны сравняли его с землей…»
Захваты и разрушения больших городов вроде Сирмия, считавшихся недоступными, становились огромным психологическим шоком для римлян, доводя их до состояния отчаяния и сея в их рядах невообразимую панику.
«… цирковой фракции Зеленых…»
Зеленые и Голубые представляли собой соперничащие группировки болельщиков, поддерживающие разные команды, участвовавшие в гонках на колесницах в Константинополе. Эти болельщицкие фракции обладали огромным влиянием и по ходу начавшегося в 532 г. восстания «Ника» едва не свергли с престола императора Юстиниана. Куда уж тут фанатам «Селтика» и «Рейнджерс»! Голубые отождествлялись с приближенными к императору вельможами и патрициями, Зеленые состояли из представителей городских низов.
Глава 30
«… победоносно шествуя на запад, гунны окончательно ушли из родных степей…»
Последние открытия подтверждают тот факт, что гунны, в итоге, крайне далеко ушли от мест начального проживания (предположительно, то был север Кореи). На северо-западе Венгрии, последней из покорившихся им территорий, были обнаружены маленькие золотые фигурки лошадей, идентичные тем, которых находили в Восточной Европе, Азии и даже на востоке Сибири.
«… с причудливо расширенным горбатым носом…»
Сайгак, единственная европейская антилопа, некогда в огромных количествах встречался в сухих степях и полупустынях Азии и Восточной Европы. Почти исчезнувший во время суровой зимы 1829 г., вид все же сохранился и сейчас, будучи внесенным в Международную Красную книгу, считается охраняемым. Огромный нос сайгака — теплообменник, защищающий зимой дыхательные пути бегущих животных от леденящего ветра.
«… огромный акведук…»
Сооружен императором Валентом в 375 г. Большей частью сохранившийся, использовался по прямому назначению вплоть до конца XIX века. Построенный в классическом римском стиле, акведук эффектно перекрывает долину двойными рядами совмещенных арок.
«… венчают ее четыре огромные бронзовые лошади…»
Некогда украшавшие триумфальную арку Нерона в Риме, в 1204 г. они были вывезены из Вечного города дожем Венеции Дандоло в качестве военного трофея и теперь венчают крышу притвора венецианского собора Святого Марка.
Глава 31
«… ушли под предводительством короля Клодия…»
Клодий был прадедом Кловиса (Хлодвига), чье правление следует отметить по двум причинам: а) при нем франки стали доминирующей силой в Галлии, впредь известной как Франция; б) в 493 г. Кловис женился на бургундской принцессе Клотильде, ортодоксальной католичке, склонившей мужа, до того придерживавшегося арианской веры, к обращению в христианство. В 496 г. Кловис, вместе с другими франками, принял крещение, что способствовало единению проживавших в его королевстве галлов и германцев.
«… собрал вокруг себя могущественный comitatus…»
В этом военном сообществе ранних германцев можно усмотреть отдаленную параллель с объединением горных кланов, так называемых «Приграничных Грабителей» в Шотландии. И в том, и в другом случае харизматичному лидеру удавалось привлечь под свои знамена целые полчища вооруженных последователей, перенимавших его имя.
Глава 32
«Эратосфен… вроде бы даже сумел высчитать длину ее окружности…»
Эратосфен считал, что Земля имеет форму шара, и решил вычислить окружность этого шара. Будучи географом, Эратосфен знал, что Александрия — город в котором он жил, — находится к северу от города Сиена и что расстояние между ними, в пересчете на современные меры, составляет 750 км. Во время летнего равноденствия, в полдень, лучи солнца падают в Сиене перпендикулярно поверхности Земли. Это означает, по мнению Эратосфена, что солнце находится в этот момент в зените. В этот же самый момент в Александрии лучи солнца имели направление под некоторым углом к вертикали. Солнце находится очень далеко от Земли, поэтому мы можем считать его лучи параллельными. С помощью гномона Эратосфен высчитал, что дуга, соединяющая оба города, соответствует центральному углу в 7,5 градуса, равна 1/48 части окружности. Таким образом, если 1/48 часть окружности имеет длину 750 км, то вся окружность Земли равна 36 000 км (750 км × 48).
Глава 36
«К Эгидию, трижды консулу, взывают бритты…»
Возможно, из-за сходства имен, Гильда путает Эгидия (Aegidius) с Аэцием (Aetius), к которому в действительности и обращались с жалобами бритты. Эгидий в то время служил под началом Аэция в Галлии, как, к слову, и Мажориан, будущий император. Эгидию же суждено было стать «магистром пехоты и конницы всей Галлии».
«Патруль был уже у Андериды…»
Певенси — римляне называли город Андеридой — продержался до 491 г. В относящейся к этому году записи «Англо-саксонской летописи» говорится: «В том году Элла и Цисса осадили Андериду и убили всех ее жителей; ни один бритт не выжил».
Глава 37
«То был момент величайшего кризиса, но Константин не растерялся…»
Решал возникшую проблему и император — единственным известным ему способом. Феодосий, босой, лично встал во главе десятитысячной процессии, которая, с гимнами, иконами и мощами, направилась во дворец Гебдомона, где состоялась большая служба, на которой император обратился к богам с мольбами о помощи.
«… и не абы как, а в виде неприступной твердыни…»
Следует отдать дань уважения инженерному гению римлян — стена стоит и сейчас. На протяжении тысячи лет сдерживала она напоры врагов, пока наконец не пала под натиском турок в 1453 г. Имя Константина увековечено выбитой на Стене надписью: «Constantinus avans haec moenia firma locavit [Твердыню эту воздвиг Константин-Победоносец]». Часть Стены недавно была отреставрирована.
Глава 38
«… Аттила, должно быть, хорошенько подумает, стоит ли ему вновь воевать с римской армией…»
Действительно, сражение на реке Ут стало последней битвой, в которой гуннам удалось взять верх над римлянами.
Глава 39
«… гуннам отошла полоса территорий южнее Данубия, от Сингидуна до Новы…»
Вероятно, Аттила хотел не занимать эти территории, а создать там «зачищенную зону», что облегчило бы гуннам будущие вторжения в Римскую империю.
Глава 40
«… Констанций должен был убить меня, и подкупил его Хрисафий…»
Подробнее о заговоре, организованном Хрисафием, читайте в книге Гиббона «Закат и падение Римской империи», глава 34.
Глава 42
«… candidatus лучшего полка константинопольской scholae…»
Базировавшаяся в Константинополе личная охрана императора состояла из семи элитных конных полков, известных как scholae. Из числа этих конников отбирались сорок человек, candidati, входивших в персональную свиту императора. Отдельные представители scholae зачастую выступали в качестве имперских агентов, выполняя различные миссии в провинциях.
«… гористое плато между Понтом Эвксинским и Каспийским морем…»
Армения выступала в качестве своеобразного интерфейса в «Большой Игре», разыгрываемой в римском мире. Армению следует воспринимать как нынешний Афганистан, Рим — как Великобританию, Персию — как Россию. Будучи оккупированной самыми разными могущественными державами, от Рима и Персии до Турции и Советского Союза, на протяжении почти двух тысячелетий Армения в конце концов вновь обрела автономию.
«Что это — нейтральная зона или оспариваемая территория, — решай сам…»
В пятом столетии в римском мире, особенно в Константинополе, осознали наконец, что их империя является лишь одним из множества существовавших в то время государств, что в корне расходилось с тем мнением, что бытовало в Риме IV веке, где считали, что Римская империя включает в себя весь цивилизованный мир. Ослабление Западного Рима и его усиливающиеся разногласия с восточным партнером, новое появление на политической арене Персии, обретшей при Сасанидах былое могущество, внезапный подъем огромной империи Аттилы — все это способствовало разрушению этой удобной иллюзии. Новую реальность хорошо иллюстрируют дипломатические миссии в Рим, Нубию и к берегам Днепра Олимпиодора Фивского, которого сопровождал попугай, говоривший на чистом классическом греческом языке.
«… заключен он должен быть до того, как состоится конференция…»
Что касается Совета Халцедона, то он прошел в следующем, 451 г., когда персы совершили вторжение в Армению.
«Нечто похожее, наверное, говорил и ваш Регул…»
Регул, римский полководец, консул. Попав в плен к карфагенянам во время Первой Пунической войны, прожил там 5 лет. В 250 г. до н. э., после поражения при Панорме, нанесенного Карфагену Луцием Цецилием Метеллом, карфагеняне командировали в Рим послов для ведения переговоров о мире на выгодных для них условиях. Регул был отправлен в Рим вместе с этим посольством в качестве посредника со следующим условием: он должен возвратиться в Карфаген, если его посредничество не будет иметь успеха. В Риме Регул пытался убедить сенат не принимать условий карфагенян, за что по возвращении последние подвергли его истязаниям и казнили.
«Возможно, пришло время двум этим великим державам окончательно выяснить, кто из них сильнее…»
Позже время для выяснения отношений действительно пришло, но длились эти выяснения недолго. «Окончательное разрешение» многовекового конфликта между Римом и Персией оказалось сколь неожиданным, столь и катастрофичным. В начале VII веке беспощадный персидский полководец Шахрвараз вторгся в южные провинции Восточной Римской империи, но, одержав победы в целой серии блестящих кампаний, героический император Гераклий сумел вернуть себе уже, казалось бы, утраченные территории. Затем, в 630 е гг., юг наводнили армии вдохновленных речами Мухаммеда арабов-фанатиков, за считаные годы поглотившие Персию и превратившие Восточную Римскую империю в придаток Анатолии. Римское христианство в Африке, Египте, Палестине и Сирии надолго было заменено исламом.
Глава 49
«На левом фланге, безмолвные, неподвижные, стояли римляне…»
То было последнее крупное сражение, проведенное римской армией на Западе. (Римские войска Мажориана (в его императорские годы) и Сиагрия (после краха Западной империи в 476 г.) представляли собой фактически частные армии.) И все же остатки римской армии пережили империю, продолжая существовать и после ее падения. В 482 г. в Италию за окончательным расчетом явились солдаты данубийского полка. В 550 е гг., через сто лет после сражения на Каталаунских полях, Прокопий Кесарийский писал о солдатах, состоявших на службе короля франков, но ностальгически хранивших верность старой легионерской структуре с ее штандартами и традиционной римской униформой. Даже в Британии, оставленной легионами в 407 г., полки limitanei продолжали храбро сражаться до тех пор, пока последний из них не был уничтожен саксонскими захватчиками (491 г.).
Глава 50
«… мы упрочим нашу верховную власть самым убедительным — из возможных — образом…»
Существует мнение, что Халкедонский собор (октябрь 451 г.), на котором было осуждено монофизитство, безвозвратно расколол на части Восточную Римскую империю и, в конечном счете, способствовал завоеванию мусульманами Египта, Палестины и Сирии (VII в.). Это заблуждение. Власть, сосредоточенная в руках одного человека — императора, героическая борьба против Аттилы (а позднее — и борьба Гераклия против агрессивной Персии) — все это привело к образованию сильного, единого и патриотического государства, в котором император, со времен Маркиана и далее, выступал в роли своего рода «отца» народа и честного арбитра в теологических диспутах. Несмотря на то что решения собора — с этим никто не спорит — создали определенную напряженность в империи, они не могли причинить серьезного вреда ее общественному устройству.
«… правая рука святой лежала на ее иссохшей груди…»
Некоторые места, похоже, обладают способностью не только приостанавливать процесс разложения трупа, но и сохранять гибкость мышц и связок. Поразительный пример — церковь Святого Михана в Дублине. Лежащие там трупы (предполагаемых) крестоносцев находятся в отличном состоянии, конечности их по-прежнему пластичны — по всей видимости, благодаря хорошо поглощающему влагу известняковому своду склепа.
Глава 51
«Весть о смерти короля гуннов… повсюду была встречена дружными вздохами облегчения…»
После кончины Аттилы в 453 г., его германские подданные взбунтовались, и империя гуннов стремительно распалась на части. Если и вспоминаем мы сейчас об Аттиле и гуннах, то лишь «благодаря» той кровавой резне и опустошительным набегам, за счет которых они и прославились.
Глава 52
«Валентиниан подошел к стоявшему посреди комнаты прибору…»
Подробно спиритический сеанс с использованием прибора подобного типа описан Аммианом Марцеллином в «Деяниях» (книга II). Он невероятно похож на современный спиритический сеанс с использованием «говорящей доски» или же, в качестве альтернативы, круглого столика с нанесенными на него (по кромке) буквами алфавита и фужером либо бокалом без ножки в центре.
«… едва не лишился трона за то, что лишил свободы одного такого популярного возничего…»
Этот акт был осуществлен командующим армией в Фессалонике, которого затем линчевала толпа. В качестве наказания Феодосий I приказал казнить семь тысяч жителей этого города. В результате Амвросий, епископ Медиолана, отказался допускать императора к мессе до тех пор, пока тот не подвергнется епитимье. Впечатляющая демонстрация усиливающейся власти Церкви и предвестник средневекового учения «о двух мечах»! Феодосий, преклоняющий колени перед Амвросием, — как тут не провести параллель с германским императором Генрихом IV, вынужденным под давлением князей пойти на покаяние к папе Григорию VII в Каноссу.
Глава 54
«… за исключением нескольких больших вилл на Целии, которые… используются в качестве приютов для смертельно больных…»
Среди них был и небезызвестный Дом Валериев, остававшийся бесхозным и никому не нужным на протяжении нескольких лет после разграбления Рима.
«… двенадцать столетий, отведенных этому городу на существование…»
Общепризнанной датой образования Рима считается 753 г. до н. э. Двенадцать веков, следовательно, должны были истечь в 447 г. н. э. В действительности же, Западная империя пала в 476 г. Допуская некоторую погрешность в датировании столь далекого события, как образование города, можно считать пророчество сверхъестественно точным.
Послесловие
«… ему не только удалось защитить Европу от азиатского господства…»
Последствия завоевания гуннами Римской империи могли быть сколь опустошающими, столь и долговременными. Гиббон приводит отдельные примеры того, как некоторые территории Центральной Азии всего за несколько лет были превращены оккупантами-кочевниками в необитаемые пустыни, причем леса, ирригационные каналы и прочая инфраструктура уничтожались целиком и полностью, и на восстановление их ушли долгие века.
«Из него развилась европейская средневековая цивилизация…»
Во времена поздней империи компоновочные блоки средневекового христианского мира находились уже в процессе формирования. Феодализм — защита в обмен на службу — являлся сопутствующей реакцией на утрату безопасности и стабильности; могущественные землевладельцы рекрутировали целые отряды вооруженных «слуг», или bucellarii, а работавшие в coloni сельские жители спасались бегством от варваров или алчных римских сборщиков налогов. Германцы же, в основной своей массе, были людьми честными и благородными, бесстрашными и умелыми в бою, уважительно относились к женщинам — все эти качества разовьются со временем в средневековый Кодекс Рыцарства. А воинствующая Церковь с ее учением «о двух мечах» начала представлять реальную силу уже во времена Феодосия Великого — он и сам был вынужден преклонить колени перед Амвросием, епископом Медиолана, прося прощения за грехи. Много веков спустя, после убийства архиепископа Кентерберийского Фомы Бекета, в шкуре Феодосия пришлось побывать английскому королю Генриху II.
Глоссарий латинских терминов и географических названий
Примечание. Краткая форма составных географических названий вроде Аугуста-Треверор — Аугуста.
adscriptus glebae — (буквально: привязанный к земле) раб, невольник
adventus Saxonum — приход саксов
agens (мн: agentes) in rebus — «императорские агенты», выполнявшие контрольные и полицейские функции
ala — военное «крыло»
angon — заершённый дротик
auxilium — вспомогательное подразделение пехоты
ballista — баллиста, гигантская метательная машина
barbaricum — территория варваров
barbaricarii — мастера, изготавливавшие доспехи
barritus — боевой клич
biarchus — провиант-комиссар
bora — северный ветер
bucellarii — личные «слуги» землевладельца, как правило, вооруженные
bucellatum — печенье, входившее в паек солдата
bucina — рог, витая труба
bucinator — трубач (в армии)
byrrus — плащ с капюшоном
calidarium — помещение в древнеримских термах; зал с бассейном для горячей воды
campidoctores — инструкторы высшего ранга, обучавшие солдат военному мастерству (низший офицерский чин, заменивший центурионов Древнего мира)
canonicarius — финансовый контролер
capsarius — конный санитар с походной аптечкой и с седлом
carae epistolarum — лица, занимающиеся финансовой отчетностью
carbonarii — угольщики
cardo — главная улица
catafractarius — «одетый в панцирь», «покрытый броней»; панцирный конник
centenarius — а) сотник; б) лошадь, выигравшая более 100 забегов
circitor — человек, отвечающий за bucellarii
clibanarius — вооруженный всадник; кирасир
colonus — землевладелец
comes — комит
comes rei privatae — комит частного имущества
comes sacrarum largitionum — комит священных щедрот, главный казначей
comitatus — свита, группа сопровождающих
compulsores — сборщики задолженностей по налогам
conductor — смотрящий, старший мастер
consularis — правитель провинции в ранге консула
cuculli — плащи с капюшонами
cuneus — строй, боевой порядок при наступлении на противника
cuniculi — сточные канавы
curialis — известный человек
cursor — вестник, глашатай, посыльный
cursos velox — служба доставки корреспонденции
decemprimi — десять первых членов муниципального совета
decurion — а) военное звание; б) член городского совета
defensor, defensor civitatis — должностное лицо, член городского совета
ducenarius — офицер, начальник отряда в 200 человек, особенно в императорской охране
feminalia — кальсоны, подштанники
erectores — распорядители гонок на колесницах
foederatus — друг, союзник
foedus — а) союз, альянс; б) клятва на верность
follis — мешочек с деньгами
francisca — метательный топорик
gladius — короткий меч
harpastum — игра в мяч
insulae — высокие строения
irugatio — поземельный налог
iugerum — мера земельной площади
kontos — тяжелое копье
laetus — военнопленный
lanista — инструктор гладиаторов
lares et penates — статуэтки, изображающие богов-хранителей домашнего очага
latrocinium — кража, грабеж
limitanei — пограничные войска
lituus — труба (в конных войсках)
ludus duodecim scriptorum — «игра двенадцати линий», римская разновидность триктрака
ludus latrunculorum — латрункули, настольная игра (с доской в качестве игрового поля)
Magister militum — магистр армии; командующий войсками
mansio — место отдыха, привал, ночлег
mappa — маппа, полотнище белого цвета, знак власти на публичных соревнованиях и празднествах
murcus — «уклонист»; человек, нанесший себе увечье с целью избежать призыва в армию
naufragium — (буквально: крушение) неудача, провал на гонках на колесницах
numerarius — чиновник, занимающийся финансами
numerus — подразделение пехоты
nummi — монеты
onager — (буквально: дикий осел), вид катапульты
otium — досуг
palatini — центральные группы римской армии
papilio — армейская палатка
pedites — пехотинцы
perditi — преступники, правонарушители
pilleus pannonicus — солдатский головной убор
praenomen — имя
praepositus — командир полка, воинской части
pridie — накануне
primicerius — примицерий (старшее воинское звание офицеров, входивших в резерв римской армии)
princeps — высший чин в курьерской службе
principales — внутренний комитет
protector — офицер императорской гвардии и телохранитель императора
procuratores — надсмотрщики, смотрители
quaestor — а) квестор; человек, следивший за казной; б) магистрат; должностное лицо, расследовавшее и разбиравшее уголовные дела
res private — личный доход императора
Sacrae largitiones — «священные щедроты», финансовое ведомство, отвечавшее за денежную систему и драгоценные металлы страны
scholae — личный телохранитель императора
scriptorium — мастерская письма; место, где делаются и хранятся рукописи
scutarii — легкая конница
solea ferrea — подкова
solidus — солид, золотая монета высшего достоинства
sparsor — человек, в чьи обязанности входит уход за колесницами
spatha — меч
spina — обнесенный перилами центр цирка
sponsio — взятка, подкуп
status belli — состояние войны
suffragium — плата, которую давали за ходатайство о назначении на ту или иную должность
susceptores — сборщики налогов
taberna — постоялый двор
tablinum — рабочий кабинет, библиотека (комната)
tabula — табула, настольная игра, разновидность нард
tessera — игральная кость, жетон; кусочек дерева, стекла и т. п.
tractator — посредник
tremissis — золотая монета номиналом в 3/8 солида
triclinium — обеденный зал
venatores — охотники, обеспечивавшие дичью своих товарищей по легиону
vexillatio — конное подразделение
vicomagistri — ночные стражники
vigiles — городская полиция, отряды по обеспечению безопасности
Аврелиан (Aurelianum) — совр. Орлеан
Аквинк (Aquincum) — совр. Будапешт
Алуатика (Aluatica) — совр. Тонгерен
Андерида (Anderida) — совр. Певенси
Арар (Arar) — совр. Сонна (река)
Аргентария (Argentaria) — совр. Хорбург, Эльзас
Аргенторат (Argentorate Stratisburgum) — совр. Страсбург
Ардуэнна Силва (Arduenna Silva) — совр. Арденны (горы)
Ареверна (Arevernum) — совр. Овернь
Арелат (Arelate) — совр. Арль
Аримин (Ariminum) — совр. Римини
Арморика (Armorica) — совр. Бретань
Аугуста-Тауринор (Augusta Taurinorum) — совр. Турин
Аугуста-Треверор (Augusta Treverorum) — совр. Трир
Аутиссиодор (Autissiodorum) — совр. Осер
Базилия (Basilia) — совр. Базель
Баутис (Bautisus) — совр. Обь (река)
Бенак, озеро (Lacus Benacus) — совр. Гарда (озеро)
Бореал (Boreal) — совр. дальний Cевер, Арктика
Борисфен (Borysthenes) — совр. Днепр (река)
Боярия (Boiaria) — совр. Бавария
Бранодун (Branodunum) — совр. Бранкастер
Бриганция, озеро (Lacus Brigantinus) — совр. Боденское озеро
Везонцио (Vesontio) — совр. Безансон
Вектис (Vectis) — совр. остров Уайт
Виадуа (Viadua) — совр. Одер (Одра) (река)
Визургис (Visurgis) — совр. Везер (река)
Возег (Vosegus Mons) — совр. Вогезы (горы)
Галиция (Gallicia) — совр. Галисия
Галльский пролив (Fretum Gallicum) — совр. Дуврский пролив (Па-де-Кале)
Гараннон (Garannonum) — совр. Берг-Касл, Норфолк
Геллеспонт (Hellespontus) — совр. Дарданеллы (пролив)
Гем (иногда — Гемимонт), (Haemus Mons) — совр. Балканские горы
Германский океан (Oceanus Germanicus) — совр. Северное море
Гиберния (Hibernia) — совр. Ирландия
Гринник (Grinnicum) — совр. Канн
Дакия (Dacia) — совр. Трансильвания, Румыния
Данубий (Danubius) — совр. Дунай (река)
Дева (Deva) — совр. Ди (река)
Дивон (Divonum) — совр. Кагор
Дор (Dor) — совр. Доре (река)
Дурокаталаун (Durocatalaunum) — совр. Шалон на Марне
Дурокортор (Durocortorum) — совр. Реймс
Имай, горы (Imaus Mons) — совр. Уральский хребет
Каледония (Caledonia) — совр. Шотландия
Камбрак (Cambracum) — совр. Камбре
Камбрия (Cambria) — совр. Уэльс
Кантий (Cantium) — совр. Кент
Картаго Нова (Carthago Nova) — совр. Картахена
Каталаунские, или Мавриакские, поля (campi Catalaunici, campi Mauriaci) — совр. равнина в Шампани к западу от города Труа и левого берега Верхней Сены
Колхида (Colchis) — совр. Западная Грузия
Лауриак (Lauriacum) — совр. Лорьх
Лерина (Lerina) — совр. Лерин
Лексовия (Lexovium) — совр. Лизьё
Лигер (Liger) — совр. Луара (река)
Лимон (Limonum) — совр. Пуатье
Лугдун (Lugdunum) — совр. Лион
Лука (Luca) — совр. Лукка
Массилия (Massilia) — совр. Марсель
Матрона, река (Matrona) — совр. Марна (река)
Медиолан (Mediolanum) — совр. Милан
Метис (Metis) — совр. Мец
Моза (Mosa) — совр. Мез (Маас) (река)
Мозелла (Mosella) — совр. Мозель (река)
Наисс (Naissus) — совр. Ниш (Сербия)
Нарбо-Мартий (Narbo Martius) — совр. Нарбонн (город)
Нарбоннская провинция (Narbonensis) — совр. Нарбонн (провинция)
Немаус (Nemausus) — совр. Ним
Неметак (Nemetacum) — совр. Аррас
Никра (Nicer) — совр. Неккар (река), правый приток Рейна
Новиомаг (Noviomagus) — совр. Чичестер
Новы (Novae) — совр. Стъклен около Свиштова (Систова), Болгария
Пад (Padus) — совр. По (река)
Паралия (Paralia) — совр. Малабар
Пельсо (Pelso) — совр. оз. Балатон
Плаценция (Placentia) — совр. Пьяченца
Понт Эвксинский (Pontus Euxinus) — совр. Черное море
Порт Адурни (Portus Adurni) — совр. Портчестер
Порт Дубрис (Portus Dubris) — Дувр
Провинция (Provincia) — совр. Прованс
Пропонтида (Propontis) — совр. Мраморное море
Ра (Rha) — совр. Волга (река)
Раурарис (Rauraris) — совр. Эро (река)
Ревессий (Revessium) — совр. Сент-Полиен
Регульбий (Regulbium) — совр. Рекулвер
Родан (Rhodanus) — совр. Рона (река)
Рутупие (Rutupiae) — совр. Ричборо
Саба (Saba) — совр. Йемен
Самаробрива (Samarobriva) — совр. Амьен
Сапаудия (Sapaudia) — совр. Савойя
Свевское море (Mare Suevicum) — совр. Балтийское море
Секвана (Sequana) — совр. Сена (река)
Сердика (Serdica) — совр. София
Сингидун (Singidunum) — совр. Белград
Сирмий (Sirmium) — совр. Митровица, Косово
Скалдис (Scaldis) — совр. Шельда (река)
Суфес (Sufes) — совр. Сбиба, Тунис
Суфетула (Sufetula) — совр. Сбейтла, Тунис
Тамеза (Tamesa) — совр. Темза (река)
Танаис (Tanais) — совр. Дон (река)
Тапробана (Taprobana) — совр. Шри-Ланка
Тар (Tarus) — совр. Таро (река)
Тигерны (Tigernum Castrum) — совр. Тир
Тицин (Ticinum) — совр. Павия
Толоза (Tolosa) — совр. Тулуза
Тузурос (Thusuros) — совр. Тозёр, Тунис
Турнак (Turnacum) — совр. Турне
Ут (Utus) — совр. Вит (река)
Фрудис (Phrudis) — совр. Сомма (река)
Херсонес Фракийский (Chersonesus) — совр. Галлипольский полуостров
Цебенна (Cebenna) — совр. Севенны (горы)
Цезародун (Caesarodunum) — совр. Тур
Чосон (Choson) — совр. Корея
Элавер (Elaver) — совр. Алье (река)
Эмилия (Aemilia) — совр. Ломбардия
Энция (Entia) — совр. Энца (река)
Эстуарий Метариса (Metaris Aestuarium) — совр. Уош (залив в Северном море, у восточного побережья Великобритании)
Этрурия (Etruria) — совр. Тоскана
Эхард — совр. Иртыш (река)
1
С 212 г. н. э. все свободные жители империи считались римлянами.
(обратно)2
Девять часов у римлян соответствуют пяти-шести часам вечера по нашему времени. Римский день — от рассвета до заката — был разделен на двенадцать часов, которые варьировались по продолжительности в зависимости от сезона. Полдень соответствовал шести часам у римлян.
(обратно)3
12 октября.
(обратно)4
Подробно об этом случае рассказывается в книге Гиббона «Закат и падение Римской империи», глава 33.
(обратно)5
То есть 2414 км.
(обратно)6
День пути — мера длины, равная примерно 28, 7 км. (Примеч. ред.)
(обратно)7
25 июня 427 г.
(обратно)8
31 декабря 406 г.
(обратно)9
31 августа 431 г.
(обратно)10
1 сентября 431 г.
(обратно)11
Пер. переводчика.
(обратно)12
Римская миля равнялась примерно 1, 5 км. (Примеч. ред.)
(обратно)13
5 октября 431 г.
(обратно)14
«До греческих календ», то есть «никогда». (См. Комментарии в конце книги).
(обратно)15
Известная сегодня как Кастельнуово, по названию расположенного поблизости одноименного города.
(обратно)16
Не путать с Аммианом Марцеллином, солдатом и историком IV в.
(обратно)17
6 июля 432 г.
(обратно)18
Более известная как «Песня римского центуриона». (Примеч. пер.)
(обратно)19
443 г.
(обратно)20
Вероятно, за счет добавления в него при изготовлении хрома — металла, являющегося сегодня необходимым компонентом в процессе производства нержавеющей стали.
(обратно)21
Слово «Скифия» в данной книге употребляется для обозначения всего степного региона.
(обратно)22
В 434 г.
(обратно)23
16 мая.
(обратно)24
Римский фут (pes) равнялся 29, 62 см. (Примеч. ред.)
(обратно)25
2 июня.
(обратно)26
Остров Туле (Thyle) или Фуле — вероятно, один из Шетлендских островов, хотя некоторые полагают, что то могла быть Исландия.
(обратно)27
20 июня.
(обратно)28
Саяны — горная страна в Южной Сибири.
(обратно)29
Экскурс — отступление от главной темы изложения для освещения побочного или дополнительного вопроса. Любимый прием классических авторов. Пример: «Экскурс о гуннах» в «Деяниях» Аммиана Марцеллина.
(обратно)30
Пифей (Питеас) — греческий мореплаватель, который во времена Александра совершил плавание вдоль части северных и западных берегов Европы.
(обратно)31
В 429 г.
(обратно)32
5 апреля 434 г.
(обратно)33
Римские финансовые годы.
(обратно)34
«Так проходит мирская слава» (лат.).
(обратно)35
«Тебя пою и буду петь вечно, покуда жив; можно ли быть счастливым, забыв тебя» (Клавдий Рутилий Намациан «О моем возвращении», 417).
(обратно)36
«Времена меняются» (лат.).
(обратно)37
Та частота, с которой обновлялись (становясь все более и более суровыми) законы в поздней Западной Римской империи, показывает, сколь слабой была в те годы центральная власть.
(обратно)38
13 ноября 440 г.
(обратно)39
В 438 г. Один из последних крупных публичных строительных проектов, осуществленных в Западной империи.
(обратно)40
Последнее официально совершенное языческое жертвоприношение.
(обратно)41
Отец последнего императора Западной Римской империи, Ромула Августа. (См. Комментарии в конце книги)
(обратно)42
443 г.
(обратно)43
10 августа 444 г.
(обратно)44
То есть 38 624 км.
(обратно)45
Предшественник существующего здания, известного как Хагия София (Святая Мудрость), построенного во времена Юстиниана (VI в.). Ныне там располагается мечеть.
(обратно)46
Гильда ошибся: Аэцию (См. Комментарии, глава 36).
(обратно)47
Стоунхендж возле Старого Сарума (покинутое поселение близ Солсбери).
(обратно)48
447 г.
(обратно)49
4 июня 449 г.
(обратно)50
Орест, как уже говорилось, был отцом последнего западного римского императора, Ромула Августа. Едекон приходился отцом Одоакру, который низложил Ромула и первым из варваров стал королем Италии. Зловещее совпадение.
(обратно)51
Договор этот делил Армению между Римом и Персией; Сапор (Шапур II) был «царем царей» династии Сасанидов.
(обратно)52
К сожалению, в начале 2001 г. по решению реакционного правительства талибов Афганистана статуи Будды в Бамиане были уничтожены.
(обратно)53
Цейлон (Шри-Ланка) и Малабар.
(обратно)54
Йемен.
(обратно)55
Эфиопия и Северный Судан.
(обратно)56
По сей день является самой большой из украшающих фасады зданий арок в мире. Незадолго до ввода американских войск в Ирак в 2003 г. развалившийся фасад дворца был реконструирован Иракским департаментом древностей.
(обратно)57
Один из удивительных «столпных святых», которые жили на вершинах колонн. Самый известный из них — Симеон Стилит, занимавший вершину столпа у Антиохии с 420 по 459 г.
(обратно)58
Так звали Аттилу германцы.
(обратно)59
451 год.
(обратно)60
Виктор, один из полководцев Юлиана в персидской кампании, не побоялся навлечь на себя осуждение императора, мудро посоветовав тому не предпринимать необдуманное нападение на город Ктесифон.
(обратно)61
Император Запада с 457 по 461 г., когда был низложен и казнен.
(обратно)62
20 июня 451 г.
(обратно)63
Когорта — подразделение старого легиона. Auxilium (полк) — одна из новых организационных армейских единиц, заменивших легион.
(обратно)64
Хнодомар, король алеманнов, разбитый римлянами в битве у Страсбурга в 357 г.
(обратно)65
В германской мифологии Ормы, или Вормы, были гигантскими змеями.
(обратно)66
Знаменитый возничий, первым выигравший тысячу гонок на колесницах.
(обратно)67
16 марта 455 г. Жуткое совпадение: почти ровно через пять столетий после убийства Юлия Цезаря (убит в мартовские иды (15 марта) 44 г. до н. э.).
(обратно)68
Результатом их набегов стало Второе (и гораздо более разрушительное, нежели то, что случилось в 410 г.) разграбление Рима.
(обратно)
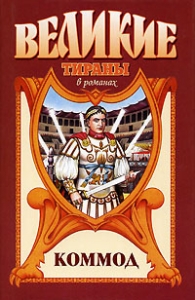






Комментарии к книге «Аттила, Бич Божий», Росс Лэйдлоу
Всего 0 комментариев