Валерий Брюсов Огненный ангел
Огненный ангел
или
Правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, астрологией, гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, написанная очевидцем
Non illustrium cuiquam virorum artium laude doctrinaeve fama clarorum at tibi domina lucida demens infelix quae multum dilexeras et amore perieras narrationem haud mendacem servus devotus amator fidelis sempiternae memoriae causa dedicavi scriptor.
He кому-либо из знаменитых людей, прославленных в искусствах или науках, но тебе, женщина светлая, безумная, несчастная, которая возлюбила много и от любви погибла, правдивое это повествование, как покорный служитель и верный любовник, в знак вечной памяти посвящает автор.
(Пер. Брюсова)Предисловие к русскому изданию
Автор «Повести» в своем Предисловии сам рассказывает свою жизнь. Он родился в начале 1505 г. (по его счету в конце 1504 г.[1]) в Трирском архиепископстве, учился в Кельнском университете, но курса не кончил, пополнил свое образование беспорядочным чтением, преимущественно сочинений гуманистов, потом поступил на военную службу, участвовал в походе в Италию в 1527 г., побывал в Испании, наконец, перебрался в Америку, где и провел последние пять лет, предшествовавшие событиям, рассказанным в «Повести». Самое действие «Повести» обнимает время с августа 1534 по осень 1535 года.
Автор говорит (гл. XVI), что он писал свою повесть непосредственно после пережитых событий. Действительно, хотя уже с самых первых страниц он делает намеки на происшествия всего следующего года, из «Повести» не видно, чтобы автор был знаком с событиями более поздними. Он, например, ничего еще не знает об исходе Мюнстерского восстания (Мюнстер взят приступом в июне 1535 г.), о котором поминает дважды (гл. III и XIII), и говорит об Ульрихе Цазии (гл. XII) как о человеке живом († 1535 г.). Сообразно с этим тон рассказа, хотя в общем и спокоен, так как автор передает события, уже отошедшие от него в прошлое, местами все же одушевлен страстью, так как прошлое это еще слишком близко от него.
Неоднократно автор заявляет, что он намерен писать одну правду (Предисловие, гл. IV, гл. V и др.). Что автор действительно стремился к этому, доказывается тем, что мы не находим в «Повести» анахронизмов, и тем, что его изображение личностей исторических соответствует историческим данным. Так, переданные нам автором «Повести» речи Агриппы и Иоганна Вейера (гл. VI) соответствуют идеям, выраженным этими писателями в их сочинениях, а изображенный им образ Фауста (гл. XI–XIII) довольно близко напоминает того Фауста, какого рисует нам его старейшее жизнеописание (написанное И. Шписсом и изданное в 1587 г.). Но, конечно, при всем добром желании автора, его изложение все же остается субъективным, как и все мемуары. Мы должны помнить, что он рассказывает события так, как они ему представлялись, что, по всем вероятиям, отличалось от того, как они происходили в действительности. Не мог избежать автор и мелких противоречий в своем длинном рассказе, вызванных естественной забывчивостью.
Автор говорит с гордостью (Предисловие), что, по образованию, не почитает себя ничем ниже «гордящихся двойным и тройным докторатом»[2]. Действительно, на протяжении «Повести» разбросано множество свидетельств разносторонних знаний автора, который, согласно с духом XVI в., стремился ознакомиться с самыми разнообразными сферами науки и деятельности. Автор говорит, тоном знатока, о математике и архитектуре, о военном деле и живописи, о естествознании и философии и т. д., не считая его подробных рассуждений о разных отраслях оккультных знаний. Вместе с тем в «Повести» встречается множество цитат из авторов, древних и новых, и просто упоминаний имен знаменитых писателей и ученых. Надо, впрочем, заметить, что не все эти ссылки вполне идут к делу и что автор, по-видимому, щеголяет своей ученостью. То же надо сказать о фразах на языках латинском, испанском, французском и итальянском, которые автор вставляет в свой рассказ. Сколько можно судить, из иностранных языков он действительно был знаком лишь с латинским, который в ту эпоху был общим языком образованных людей. Испанский язык он знал, вероятно, лишь практически, а знания его в языках итальянском и французском более чем сомнительны.
Автор называет себя последователем гуманизма (Предисловие, гл. X и др.). Мы можем принять это утверждение только с оговорками. Правда, он часто ссылается на различные положения, ставшие как бы аксиомами гуманистического миросозерцания (гл. I, IV, X и др.), с негодованием говорит о схоластике и приверженцах миросозерцания средневекового, но все же в нем самом еще очень много старинных предрассудков. Идеи, воспринятые при беспорядочном чтении, смешались у него с традициями, внушенными с детства, и создали мировоззрение крайне противоречивое. Говоря с презрением о всяких суевериях, автор порою сам обнаруживает легковерие крайнее; насмехаясь над школами, «где люди занимаются приискиванием новых слов», и всячески восхваляя наблюдение и опыт, он, по временам, способен путаться в схоластических софизмах и т. д.
Что касается до веры автора во все сверхъестественное, то в этом отношении он только шел за веком. Как это ни кажется нам странным, но именно в эпоху Возрождения началось усиленное развитие магических учений, длившееся весь XVI и XVII вв. Неопределенные колдования и гадания Средних веков были в XVI в. переработаны в стройную дисциплину наук, которых ученые насчитывали свыше двадцати (см., например, сочинение Агриппы: «De speciebus magiae»[3]). Дух века, стремившийся все рационализировать, сумел и магию сделать определенной рациональной доктриной, внес осмысленность и логику в гадания, научно обосновал полеты на шабаш и т. д. Веря в реальность магических явлений, автор «Повести» только следовал лучшим умам своего времени. Так, Жан Бодэн, знаменитый автор трактата «De republica»[4], которого Бокль признавал одним из замечательнейших историков, в то же время автор книги «La Demonomanie des sorciers»[5], подробно исследующей договоры с Дьяволом и полеты на шабаш; Амбруаз Парэ, преобразователь хирургии, описал природу демонов и виды одержания; Кеплер защищал свою мать от обвинения в ведовстве, не возражая против самого обвинения; племянник знаменитого Пико, Джованни-Франческо делла Мирандола, написал диалог «Ведьма», с целью убедить образованных, неверующих людей в существовании ведьм; по его словам, скорее можно сомневаться в существовании Америки, и т. д. Папы издавали специальные буллы против ведьм, и во главе известного «Malleus maleficarum»[6] стоит текст: «Haeresis est maxima opera maleficarum non credere», т. е.: «Не верить в деяния ведьм — высшая ересь». Число этих неверящих было очень невелико, и среди них на видное место должно поставить упоминаемого в «Повести» Иоганна Вейра (или, по другой транскрипции его имени, Жана Вира), который первый признал в ведовстве особую болезнь.
Валерий Брюсов
Amico Lectori[7], предисловие автора, где рассказывается его жизнь до возвращения в немецкие земли
Мне думается, что каждый, кому довелось быть свидетелем событий необычных и малопонятных, должен оставлять их описание, сделанное искренно и беспристрастно. Но не одно только желание содействовать такому сложному делу, как изучение загадочной власти Дьявола и области ему доступной, побуждает меня предпринять это, лишенное прикрас, повествование о всем удивительном, что пережил я за последние двенадцать месяцев. Меня привлекает также возможность — открыть, на этих страницах, свое сердце, словно в немой исповеди, пред неведомым мне слухом, так как больше не к кому мне обратить свои печальные признания и трудно молчать человеку, испытавшему слишком много. Для того же, чтобы было видно тебе, благосклонный читатель, насколько можешь ты доверять бесхитростному рассказу и насколько способен я был разумно оценивать все, что наблюдал, хочу я в коротких словах передать и всю мою судьбу.
Прежде всего скажу, что я не был юношей, неопытным и склонным к преувеличениям, когда повстречался с темным и с тайным в природе, так как переступил уже через грань, разделяющую нашу жизнь на две части. Родился я в Трирском курфюршестве в конце 1504 года от Воплощения Слова, февраля 5, в день Святой Агаты, что было в середу, — в небольшом селении, в долине Гохвальда, в Лозгейме. Дед мой был там цирульником и хирургом, а отец, получив на то привилегию от нашего курфюрста, практиковал как медик. Местные жители всегда высоко ценили его искусство и, вероятно, по сей день прибегают к его внимательной помощи, заболев. В семье нас было четверо детей: два сына, считая со мной, и две дочери. Старший из нас, брат Арним, успешно изучив ремесло отца дома и в школах, был принят в корпорацию Трирскими медиками, а обе сестры удачно вышли замуж и поселились — Мария в Мерциге, а Луиза в Базеле. Я, получивший при святом крещении имя Рупрехта, был в семье самым младшим и оставался еще ребенком, когда брат и сестры стали уже самостоятельными.
Образование мое никак не может быть названо блистательным, хотя ныне, имев в жизни много случаев приобрести познания самые разнообразные, не почитаю я себя ничем ниже некоторых, гордящихся двойным и тройным докторатом. Отец мой мечтал, что я буду его преемником и что мне передаст он, как богатое наследство, и свое дело и свой почет. Едва обучив меня грамоте, счету на абаке и начаткам латыни, он стал посвящать меня в тайны медикаментов, в афоризмы Гиппократа и в книгу Иоанникия Сирийского. Но мне с самого детства были ненавистны занятия усидчивые, требующие одного внимания и терпения. Только настойчивость отца, который со старческим упрямством не отступал от своего намерения, и постоянные увещания матери, женщины доброй и робкой, принудили меня сделать некоторые успехи в изучаемом предмете.
Для продолжения моего образования отец, когда мне было четырнадцать лет, послал меня в город Кельн, на Рейне, к своему старому другу Отфриду Герарду, думая, что мое прилежание возрастет от соревнования с товарищами. Однако университет этого города, откуда доминиканцы только что вели свою постыдную борьбу с Иоганном Рейхлином, не мог оживить во мне особое рвение к науке. В то время там хотя и начинались некоторые преобразования, но среди магистров почти вовсе не было последователей новых идей нашего времени и факультет теологии все еще высился среди других, как башня над кровлями. Мне предлагали учить наизусть гекзаметры из «Doctrinale»[8] Александра и вникать в «Copulata»[9] Петра Испанского. И если за годы моего пребывания в университете я научился чему-либо, то, конечно, не из школьных лекций, а только на уроках оборванных, странствующих преподавателей, которые появлялись порой и на улицах Кельна.
Не должен я (то было бы несправедливо) назвать себя лишенным способностей, и впоследствии, обладая хорошей памятью и быстрой сообразительностью, я без труда входил в рассуждения наиболее глубоких мыслителей древних и наших дней. То, что мне случилось узнать о работах нюренбергского математика Бернгарда Вальтера, об открытиях и соображениях доктора Теофраста Парацельса, а тем более об увлекательных воззрениях живущего во Фрауенбурге астронома Николая Коперника, позволяет думать, что благодетельное оживление, переродившее в наш счастливый век и свободные искусства и философию, перейдет в будущем и на науки. Но пока не могут они не быть чужды каждому, сознающему себя, по своему духу, современником великого Эразма, путником долины человечности, vallis humanitatis[10]. Я, по крайней мере, и в годы отрочества — бессознательно, и взрослым человеком — после размышлений, всегда не высоко ценил знание, почерпнутое новыми поколениями из старых книг и не проверенное исследованием действительности. Вместе с пламенным Джованни Пико Мирандолою, автором блистательной «Речи о достоинстве человека», готов я послать проклятие «школам, где люди занимаются приискиванием новых слов».
Чуждаясь в Кельне университетских лекций, я, однако, с тем большей страстностью предался вольной жизни студентов. После строгости отчего дома мне очень по вкусу пришлись и удалое пьянство, и часы с покладистыми подругами, и картежная игра, захватывающая дух сменами случайностей. Я быстро освоился с разгульным времяпрепровождением, как и вообще с шумной городской жизнью, преисполненной вечной суетни и торопливости, которая составляет отличительную особенность наших дней и на которую с недоумением и негодованием смотрят старики, вспоминая тихое время доброго императора Фридриха[11]. Целые дни проводил я с товарищами в проказах, не всегда невинных, переходя из питейных домов в веселые, распевая студенческие песни, вызывая на драку ремесленников и не гнушаясь пить чистую водку, что тогда, пятнадцать лет назад, далеко не было так распространено, как теперь. Даже влажная темнота ночи и звон замыкаемых уличных цепей не всегда заставляли нас идти на покой.
В такую жизнь был я погружен почти три зимы, пока не кончились для меня эти забавы несчастно. Неискушенное мое сердце разгорелось страстью к нашей соседке, жене хлебопекаря, бойкой и красивой, — со щеками, как снег, посыпанный лепестками роз, с губами, как сицилийские кораллы, и зубами, как цейлонские перлы, если говорить языком стихотворцев. Она не была неблагосклонна к юноше, статному и острому на слово, но желала от меня тех маленьких подарков, на которые, как отметил еще Овидий Назон, падки все женщины. Денег, посылаемых мне отцом, недоставало, чтобы выполнять ее прихотливые причуды, и вот, с одним из самых отчаянных своих сверстников, вовлекся я в очень нехорошее дело, которое не осталось скрытым, так что мне грозило заключение в городскую тюрьму. Только благодаря усиленным хлопотам Отфрида Герарда, пользовавшегося расположением влиятельного и очень замечательного по уму каноника, графа Германа фон Нейенара[12], был я освобожден от суда и отправлен к родителям для домашнего наказания.
Казалось бы, что этим должны были кончиться для меня школьные годы, но на деле тут только и началось для меня то учение, которому обязан я своим правом называться человеком просвещенным. Мне было семнадцать лет. Не получив в университете даже степени бакалавра, поселился я дома в жалком положении тунеядца и запятнавшего свою честь человека, от которого все отступились. Отец пытался приискать мне какое-либо дело и заставлял помогать ему в составлении лекарств, но я с упрямством уклонялся от нелюбезной мне профессии, предпочитая терпеть упреки в дармоедстве. Однако в уединенном нашем Лозгейме нашел я верного друга, полюбившего меня кротко и выведшего меня на новую дорогу. То был сын нашего аптекаря, Фридрих, юноша, немного меня старше, болезненный и странный. Отец его любил собирать и переплетать книги, особенно новые, печатные, и тратил на них весь излишек своих доходов, хотя сам читал редко. Фридрих же с самых ранних лет предавался чтению, как упоительной страсти, и не знал высшей радости, как повторять вслух любимые страницы. За это почитали Фридриха в нашем городе не то юношей полоумным, не то человеком опасным, и был он столь же одинок, как я, так что нисколько не удивительно, что мы с ним сдружились, словно две птицы в одной клетке. Когда я не бродил с самострелом по кручам и склонам окрестных гор, шел я в маленькую каморку своего друга, на самом верху дома, под черепицами, и мы часы за часами проводили среди толстых томов древности и тоненьких книжек современных писателей.
Так, помогая друг другу, то вместе восхищаясь, то упорно споря, читали мы, и в зимние прохладные дни, и в летние звездные ночи, все, что могли достать в нашем захолустье, обращая чердак аптеки в Академию. Несмотря на то что оба мы не очень-то были сильны в грамматике Цинтена, прочли мы немало латинских авторов, причем и таких, о которых не было речи в Университете ни на ординариях, ни на диспутах. У Катулла, Марциала, Кальпурния нашли мы, навсегда непревосходимые, образцы красоты и вкуса, до сих пор ярко живущие в моей памяти, а в творениях богоподобного Платона заглянули в самые глухие глубины человеческой мудрости, не все понимая, но всем потрясенные. В сочинениях нашего века, менее совершенных, но более нам близких, научились мы сознавать то, что уже раньше, не имея слов, жило и роилось в нашей душе. Мы увидели свои собственные, до тех пор еще туманные, взгляды, — в неистощимо-забавной «Похвале Глупости», в остроумных и благородных, что бы там ни говорили, «Разговорах», в мощном и неумолимом «Торжестве Венеры» и в тех «Письмах темных людей», которые мы не раз перечли от начала до конца и которым сама древность может противопоставить разве одного Лукиана[13].
Между тем то были те самые времена, о которых теперь говорят: кто в 23 году не умер, в 24 не утонул, а в 25 не был убит, — должен благодарить бога за чудо. Но нас, занятых беседами с благороднейшими умами, почти не увлекали черные бури современности. Мы нисколько не сочувствовали нападению на Трир рыцаря Франца фон Зикингена[14], которого некоторые прославляли как друга лучших людей, но который на деле был человек старого закала, из числа разбойников, ставящих дешевой ставкой свою голову, чтобы ограбить проезжего. Наш архиепископ дал отпор насильнику, показав, что времена Флоризеля Никейского[15] стали дедовскими преданиями. Точно так же, когда два следующих года по всем немецким землям, словно в сатанинской пляске, проносились народные мятежи и буйства и в нашем городе только и разговоров было, что об исходе восстаний, мы наших занятий не нарушали. Мечтателю Фридриху сначала казалось, что эта огненная и кровавая буря поможет установить в нашей стране больше порядка и справедливости, но скоро и он уверился, что ждать нечего от немецких крестьян, слишком еще диких и невежественных. Все свершившееся оправдало горькие слова одного из писателей: rustica gens optima flens pessima gaudens[16].
Некоторые раздоры вызывали между нами первые слухи о Мартине Лютере, этом «непобедимом еретике»[17], имевшем уже тогда немало сторонников среди владетельных князей. Уверяли, будто девять десятых Германии восклицало в те дни «Да здравствует Лютер», а позднее, в Испании, говорили, что у нас религия меняется, как погода, и майский жук летает между тремя церквами. Меня лично нисколько не занимал спор о благодати и пресуществлении, и я никогда не понимал, как Дезидерий Эразм, этот единственный гений, мог интересоваться монашескими проповедями. Сознавая вместе с лучшими людьми современности, что вера заключается в глубине сердца, а не во внешних проявлениях, я по тому самому, ни в юности, ни в возрасте зрелом, никогда не чувствовал затруднения ни в обществе добрых католиков, ни среди исступленных лютеранцев. Напротив, Фридрих, которого в религии на каждом шагу пугали мрачные пропасти, находил какое-то непонятное мне откровение в книжках Лютера, правда, цветистых и не лишенных силы слога, — и наши споры переходили порой в обидные ссоры.
В начале 26 года, тотчас после святой Пасхи, приехали к нам в дом сестра Луиза с мужем. Жизнь при них стала для меня совсем нестерпима, так как они без устали осыпали меня упреками за то, что в двадцать лет остаюсь я ярмом на плечах отца и жерновом на очах матери. Около того же времени рыцарь Георг фон Фрундсберг, славный победитель французов[18], по поручению императора, вербовал в наших краях рекрутов. Тогда пришло мне на ум стать вольным ландскнехтом, так как не видел я другого способа изменить свою жизнь, которая готова была застояться, как воды пруда. Фридрих, мечтавший было, что я сделаюсь видным писателем, — ибо оба мы с ним делали опыты подражать нашим любимым авторам, — очень опечалился, но не нашел доводов разубедить меня. Я объявил отцу, решительно и настойчиво, что выбираю военное ремесло, ибо мне более пристал меч, чем ланцет. Отец, как я и ожидал, пришел в гнев и запретил мне и думать о военном деле, сказав: «Всю жизнь я поправлял человеческие тела и не хочу, чтобы мой сын уродовал их». Своих денег, чтобы купить вооружение и одежду, не было ни у меня, ни у моего друга, и потому я решил покинуть родной кров тайно. Ночью, помнится, на 5 июня, незаметно вышел я из дому, взяв с собой 25 рейнских гульденов. Мне очень запомнилось, как Фридрих, проводив меня до выхода в поле, обнял меня, — увы, последний раз в жизни! — плача, у серой ветлы, бледный, в лунном озарении, как мертвец.
Я в тот день не чувствовал на сердце тяготы разлуки, так как сияла передо мной, как глубь майского утра, новая жизнь. Был я молод и силен, вербовщики приняли меня без спора, и я вступил в итальянское войско Фрундсберга. Все легко поймут, что потянувшиеся затем дни были не легки для меня, если только вспомнят, что такое наши ландскнехты: люди — буйные, грубые, неученые, щеголяющие пестротой одежды да затейливостью речи, ищущие только, как бы напиться пьянее да поживиться получше добычей. Почти страшно было после утонченных, как игла, шуток Марциала или возвышенных, как полет коршуна, соображений Марсилио Фичино[19] участвовать мне в безудержных забавах новых сотоварищей, и иногда казалась мне тогда моя жизнь сплошным удушливым сном. Но начальники мои не могли не заметить, что я отличаюсь от товарищей и знаниями и обхождением, а так как я притом хорошо владел аркебузой и не гнушался никаким делом, — то меня всегда отличали и поручали мне должности, более мне подходящие.
Ландскнехтом совершил я весь трудный поход в Италию, когда приходилось в зимнюю стужу переходить через снежные горы, идти вброд через реки по горло в воде и по целым неделям стоять лагерем в топкой грязи. Тогда же я участвовал во взятии приступом, соединенными испанскими и немецкими войсками, Вечного города, 6 мая 27 года. Мне довелось своими глазами видеть, как озверевшие солдаты грабили церкви Рима, совершали насилия в женских монастырях, ездили по улицам, надев митры, на папских мулах, бросали в Тибр Святые Дары и мощи святых, устроили конклав и провозгласили папой Мартина Лютера. После того я около года провел в разных городах Италии, ближе узнав жизнь страны, истинно просвещенной, остающейся блистающим образцом для других. Это дало мне возможность ознакомиться с пленительными созданиями современных итальянских художников, столь опередивших наших, кроме разве единственного Альбрехта Дюрера, — в том числе и с произведениями вечно оплакиваемого Рафаэля д’Урбино, достойного его соперника Себастиано дель Пиомбо, молодого, но всеобъемлющего гения Бенвенуто Челлини, с которым нам пришлось столкнуться и как с врагом, и несколько пренебрегающего красотою форм, но все же сильного и своебытного Микель-Анджело Буонаротти[20].
Весною следующего года лейтенант испанского отряда, дон Мигуэль де Гамес, приблизил меня к себе, как медика, ибо я уже несколько освоился с испанским языком. Вместе с доном Мигуэлем пришлось мне отправиться в Испанию, куда он был послан с тайными письмами к нашему императору, и эта поездка определила всю мою судьбу. Найдя двор в городе Толедо, мы повстречали там и величайшего из наших современников, героя, равного Аннибалам, Сципионам и другим мужам древности, — Фердинанда Кортеца, маркиза дель Валье-Оахаки[21]. Прием, устроенный гордому завоевателю царств, а также рассказы людей, прибывших из страны, увлекательно описанной Америго Веспуччи, убедили меня искать счастия в этой обетованной для всех неудачников земле[22]. Я присоединился к одной дружеской экспедиции, которую затеяли немцы, поселившиеся в Севилье, и поплыл с легким сердцем через океан.
В Вест-Индии первоначально поступил я на службу к Королевской Аудиенсии[23], но вскоре, убедившись, сколь недобросовестно и неискусно ведет она дела и как несправедливо относится к дарованиям и заслугам, предпочел исполнять поручения тех немецких торговых домов, которые имеют свои отделения в Новом Свете, преимущественно Вельзеров, владеющих на Сан-Доминго медными рудниками, но также и Фуггеров, Эллингеров, Кромбергеров, Тецелей[24]. Я совершил четыре похода на запад, на юг и на север, в поисках за новыми жилами руды, за россыпями драгоценных камней, — аметистов и изумрудов, — и за месторождением дорогих деревьев: дважды под начальством других лиц, а дважды лично руководя отрядом. Таким образом исходил я все страны от Чикоры до гавани Тумбес[25], проведя долгие месяцы среди темнокожих язычников, видев в туземных бревенчатых столицах такие богатства, пред которыми все сокровища нашей Европы ничто, и несколько раз избежав нависавшей гибели почти что чудом. Пришлось мне изведать и жестокие душевные потрясения в любви к одной индейской женщине, под темной кожей скрывавшей сердце привязчивое и страстное, но было бы здесь неуместно рассказывать о том подробнее. Скажу кратко: как тихие дни, проведенные за книгами с милым Фридрихом, воспитали мою мысль, так тревожные годы странствий закалили на огне испытаний мою волю и дали мне самое драгоценное качество мужчины: веру в себя.
Конечно, ошибочно воображают у нас, что за океаном золото надо просто, нагибаясь, подбирать на земле, но все же, проведя пять лет в Америке и Западной Индии, я, благодаря неуклонному труду, и не без поддержки счастия, собрал достаточные сбережения. Тогда-то овладела мною мысль поехать вновь в немецкие земли, не с тем, чтобы мирно поселиться в нашем, словно дремотном, городке, но не без суетного намерения похвалиться своими успехами перед отцом, который не мог не считать меня бездельником, его обокравшим. Не скрою, впрочем, что я испытывал и язвительную тоску, которой никогда не ожидал, по родным горам, где я, бывало, озлобленный, бродил с самострелом, и что страстно желал я увидеть как свою добрую мать, так и своего покинутого друга, ибо еще надеялся застать его живым. Однако у меня уже тогда было твердое решение, посетив родное селение и восстановив связи с семьей, вернуться в Новую Испанию, которую почитаю своим вторым отечеством.
Ранней весной 34 года отплыл я на корабле Вельзеров из гавани Вилла Рика де ла Вера-Крус и после бурного и трудного плавания прибыл в богатый Антверпен. Несколько недель ушло у меня на выполнение разных принятых на себя поручений, и только в августе месяце мог я, наконец, пуститься в путь в Прирейнскую область. С этого времени, собственно, и начинается мой рассказ.
Глава первая Как я в первый раз встретился с Ренатой и как она рассказала мне всю свою жизнь
Из Нидерланд решил я отправиться сухим путем и выбрал дорогу через Кельн, так как мне хотелось увидеть еще раз этот город, где я знавал немало привлекательных часов. За тридцать испанских эскудо[26] купил я себе добрую лошадь, которая без труда могла везти меня и мои вещи, но, опасаясь разбойников, постарался принять облик небогатого моряка. Пестрое и сравнительно роскошное платье, которым щеголял в пышном Брабанте, я сменил на простую матросскую одежду темно-коричневого цвета и перевязал шаровары у колен. Не расстался я только со своей надежной длинной шпагой, потому что полагался на нее не менее, чем на святую Гертруду, покровительницу всех путешественников по суше. На дорожные издержки я оставил себе малую сумму денег в серебряных иоахимсталерах, а сбережения зашил внутри широкого пояса, в золотых пистолях.
Через пять дней приятного пути, со случайными попутчиками, ибо ехал я без лишней торопливости, переправился я через Маас в Венло. Не скрою, что овладело мною несколько недостойное мужчины волнение, когда достиг я местностей, где замелькали передо мною немецкие одежды и слуха моего, так привычно, коснулась бойкая родная речь! Выехав из Венло рано, рассчитывал я к вечеру добраться до Нейсса, почему попрощался в Фирзене со своими спутниками, желавшими заехать в Гладбах, и свернул, уже один, на Дюссельдорфскую дорогу. Так как надо было спешить, то стал я понукать лошадь, но она, споткнувшись, зашибла о камень бабку — и это ничтожное происшествие повело за собой, как прямая причина, длинный ряд поразительных событий, какие мне пришлось пережить после того дня. Но я уже давно заметил, что только ничтожные случаи бывают первыми звеньями в цепи тяжких испытаний, которую незримо и беззвучно кует порою для нас жизнь.
На хромавшей лошади я мог подвигаться вперед лишь медленно и был еще задалеко от города, когда стало уже плохо видно в сером сумраке, а с травы поднялся едкий туман. Я проезжал в это время густым, буковым лесом и не без опаски помышлял о ночлеге в местности, мне совершенно незнакомой, как вдруг с поворота увидел, у самого края дороги, на небольшой просеке, весь скривившийся деревянный домик, одинокий, словно заблудившийся там. Ворота его были плотно заперты, и нижние окна походили скорее на большие бойницы, но под крышей болталась на веревке полуразбитая бутыль, указывавшая, что это — гостиница, и, подъехав, я начал колотить в ставню рукоятью шпаги. На мой решительный стук и на ожесточенный лай собаки выглянула хозяйка дома, но долго отказывалась впустить меня, расспрашивая, кто я и зачем еду. Я, совсем не подозревая, какого будущего сам добиваюсь для себя, настаивал с угрозами и бранью, так что наконец мне отперли дверь, а лошадь мою отвели в стойло.
По шаткой лестнице, в темноте, меня проводили в маленькую каморку второго этажа, узкую и неравномерную в ширину, как футляр для виолы. В то время как в Италии, даже в самых дешевых гостиницах, можно найти и мягко постланную постель, и вкусный ужин с бутылкою вина, у нас проезжающим — кроме богачей, везущих за собой на мулах десятки набитых тюков, — все еще приходится довольствоваться черным хлебом, плохим пивом и ночлегом на старой соломе. Душным и тесным показался мне первый мой приют на родине, особенно после чистых, точно полированных спален в домиках тех нидерландских купцов, к которым доступ открывали мне рекомендательные письма. Но я знавал и худшие ночи во время трудных странствий по Анагуаку[27], так что, покрывшись своим кожаным плащом, постарался поскорее с головою уйти в сон, не слушая, как в нижней зале пьяный голос напевал новую песенку, слова которой, однако, запомнились мне:
Ob dir ein Dirn gefelt, So schweig, hastu kein Gelt[28].Как бы я тогда был изумлен, засыпая, если бы некий пророческий голос сказал мне, что то был последний вечер одной моей жизни, за которым должна была начаться для меня жизнь другая! Моя судьба, перенеся меня через океан, задержала в пути ровно нужное число дней и подвела, словно к назначенной заранее мете, к далекому от города и деревень дому, где ждало меня роковое свидание. Какой-нибудь ученый монах-доминиканец увидел бы в этом явный промысл божий; ярый реалист нашел бы повод скорбеть о сложной связи причин и следствий, не укладывающихся в вертящихся кругах Раймунда Луллия[29]; а я, когда думаю о тысячах и тысячах случайностей, которые были необходимы, чтобы в тот вечер оказался я на пути в Нейсе, в бедной придорожной гостинице, — теряю всякое различие между вещами обычными и сверхъестественными, между miracula и natura. Полагаю только, что первая моя встреча с Ренатою по меньшей мере столь же чудесна, как все необыкновенное и потрясающее, что впоследствии пережили мы с нею вместе.
Полночь, наверное, уже давно миновала, когда я внезапно проснулся, разбуженный чем-то для меня неожиданным. В моей комнате было достаточно светло от синевато-серебряного света луны, и кругом стояла такая тишина, словно вся земля и самые небеса умерли. Но затем, в этом безмолвии, различил я в соседней комнате, за дощатой перегородкой, женский шепот и слабые вскрики. Хотя дельная пословица и говорит, что путешественнику довольно заботы о своей спине и нечего жалеть о чужих плечах, и хотя никогда не отличался я чрезмерной чувствительностью, но с детства свойственная мне любовь к приключениям не могла не увлечь меня на защиту обиженной женщины, на что, как человек, проведший в боях целые годы, имел я рыцарское право[30]. Встав с постели и наполовину высвободив из ножен шпагу, вышел я из своей комнаты и в темном проходе, в котором оказался, легко разыскал дверь, за которой слышался голос. Громко я спросил, не нуждается ли кто в покровительстве, и, когда повторил эти слова во второй раз и никто не отозвался, ударил в дверь и, сломав слабую задвижку, вошел.
Тогда-то я увидел в первый раз Ренату.
В такой же неприветливой комнате, как моя, и тоже озаренной достаточно ясно месячным сиянием, стояла, в потрясающем страхе, распластанная у стены, женщина, полураздетая, с распущенными волосами. Никакого другого человека здесь не было, потому что все углы были освещены отчетливо и тени, лежащие на полу, резки и ясны; но она, словно кто наступал на нее, простирала вперед руки, закрывая себя. И в этом движении было что-то до крайности устрашающее, ибо нельзя было не понять, что ей угрожает невидимый призрак. Заметив меня, женщина вдруг, с новым вскриком, кинулась мне навстречу, опустилась на колени передо мною, словно я был посланцем с неба, охватила меня судорожно и сказала мне, задыхаясь:
— Наконец, это ты, Рупрехт! У меня нет более сил!
Никогда до того дня не встречались мы с Ренатой, и она видела меня столь же в первый раз, как я ее, и, однако, она назвала меня по имени так просто, как если бы мы были друзьями с детских лет. Впоследствии сообразил я, что она могла услышать мое имя, когда я называл себя хозяйке гостиницы, но тогда был я поражен крайне. Однако, постаравшись, по примеру стоиков, не выказать нимало удивления, спросил я эту неизвестную женщину, коснувшись осторожно ее плеча, правда ли, что ее преследует видение. Но она не в силах была отвечать мне, то рыдая, то смеясь, и только указывала дрожащею рукою туда, где для моих глаз не было ничего, кроме лунного луча. Я не должен отказываться здесь, что необычность всей обстановки и сознание близости нечеловеческих сил — охватили все мое существо темным ужасом, какого я не испытывал с раннего отрочества. Больше, чтобы успокоить безумную даму, чем потому, чтобы я сам верил в это средство, я обнажил совершенно шпагу и, взяв ее за лезвие, устремил перед собою крестообразным эфесом, так как слышал, что таким движением можно оборонить себя от приступов злой силы. Женщина же, затрепетав, словно в предсмертном борении, вдруг упала ниц.
Я не почел приличным для своей чести бежать оттуда, хотя и понял скоро, что злой демон овладел этой несчастной и начал страшно пытать ее изнутри. Никогда до того дня не видел я таких содроганий и не подозревал, что человеческое тело может изгибаться так невероятно[31]! На моих глазах женщина то вытягивалась мучительно и против всех законов природы, так что шея ее и грудь оставались твердыми, как дерево, и прямыми, как трость; то вдруг так сгибалась вперед, что голова и подбородок сближались с пальцами ног, и жилы на шее чудовищно напрягались; то, напротив, она удивительно откидывалась назад, и затылок ее был выворочен внутрь плеч, к спине, а бедра высоко подняты. Позднее я несколько раз бывал свидетелем таких мучений Ренаты, каким подвергали ее нападавшие на нее демоны, но в тот день зрелище ужаснуло меня своей новизной. Я смотрел на страдания и корчи незнакомой мне женщины, словно обращенный, вместе с женою Лота, в некий столп, не двигаясь с места, ибо не знал совершенно, чем мог бы тут оказать помощь или облегчение.
Понемногу женщина перестала биться о жесткие доски пола, и искаженные черты ее лица понемногу стали осмысленнее; но она все еще сгибалась в судорогах, опять прикрывая себя руками, как от врага. Тогда, предположив, что Дьявол вышел из нее и находится вне ее тела, я, привлекши женщину к себе, стал говорить слова святой молитвы, «Libera me, Domine, de morte aeterna»[32], единственной, которая тогда мне пришла на память. Тем временем месяц уже закатывался за вершины леса, и по мере того как утренний сумрак завладевал комнатой, передвигая тень от стены к окну, женщина, лежавшая в моих руках, приходила в себя. Но темнота веяла на нее, словно холодная трамонтана Пиренейских гор, и она вся дрожала, как от зимней стужи.
Я спросил, удалился ли призрак.
Открыв глаза и обведя ими комнату, как после обморока, дама отвечала мне:
— Да, он рассеялся, видя, что мы хорошо вооружены против него. Он не может посягнуть на твердую волю.
Это были вторые слова, которые услышал я от Ренаты. Сказав их, она начала плакать, дрожа в лихорадке, и плакала так, что слезы безудержно лились у нее по щекам и мои пальцы стали совсем влажными. Видя, что дама не согреется на полу, я, несколько успокоенный, поднял ее без труда на руки, ибо она была маленького роста и исхудалая, и перенес на постель, стоявшую подле. Там я укрыл ее, чем мог найти в комнате, и уговаривал спокойными словами.
Но она, все продолжая плакать, перешла вдруг к новому волнению и, схватив меня за руку, сказала:
— Теперь, Рупрехт, я должна рассказать тебе всю мою жизнь, потому что ты спас меня и должен знать обо мне все.
Я попытался возразить, что теперь не время для такого повествования, но Рената, как казалось, даже не расслышала моих слов и, крепко сжимая мои пальцы, однако смотря в сторону от меня, начала говорить быстро-быстро. Первое время я почти не понимал ее речи, с такой стремительностью сменялись у нее мысли и так неожиданно переходила она от одного предмета к другому. Но постепенно научился я различать основное течение в неудержимом потоке ее слов и понял, что она действительно рассказывает мне о себе.
Никогда после, даже в дни самой доверчивой нашей близости, не передавала мне Рената с такой последовательностью истории своей жизни. Правда, и в ту ночь она не только умолчала о своих родителях и о месте, где прошло ее детство, но даже, как мне пришлось потом с несомненностью убедиться, многие позднейшие события частью утаила, частью изложила неверно, — не знаю, намеренно ли, или по болезненному своему состоянию. Однако все же я долгое время знал о Ренате только то немногое, что сообщила она мне в этом горячечном рассказе, почему и должен передать его здесь подробно. Только я не сумею точно воспроизвести ее беспорядочную речь, торопливую и несвязную, которую должен буду заменить своим более последовательным повествованием.
Назвав свое имя, то единственное, под которым я ее знаю, и упомянув о первых годах своей жизни так бегло и неясно, что слова ее не удержались в моей памяти, Рената тотчас перешла к тому происшествию, которое сама считала для себя роковым.
Было Ренате лет восемь, когда впервые явился ей в комнате, в солнечном луче, ангел, весь как бы огненный, в белоснежной одежде. Лицо его блистало, глаза были голубые, как небо, а волосы словно из тонких золотых ниток. Ангел назвал себя — Мадиэль. Рената нисколько не испугалась, и они играли в тот день с ангелом в куклы. После того ангел стал приходить к ней часто, почти каждый день, всегда был весел и добр, так что девочка полюбила его больше всех своих родных и сверстниц. С неистощимой изобретательностью забавлял Мадиэль Ренату шутками или рассказами, а когда она бывала огорчена, утешал нежно. Иногда с Мадиэлем появлялись его товарищи, тоже ангелы, но не огненные, одетые в плащи пурпурного и лилового цвета; но они были менее ласковы. Строго запрещал Мадиэль рассказывать о своих тайных посещениях, да если Рената и нарушала его требование, ей все равно не верили, думая, что она выдумывает или притворяется.
Не всегда Мадиэль показывался в облике ангела, но часто и в других образах, особенно если Ренате мало приходилось оставаться одной. Так, летом Мадиэль не раз прилетал большой огненной бабочкой с белыми крыльями и золотыми усиками, и Рената прятала его в своих длинных волосах. Зимой иногда принимал ангел форму прялки, чтобы девочка могла неразлучно носить его всюду с собой. Еще узнавала Рената своего небесного друга то в сорванном цветке, то в уголечке, выпавшем из очага, то в разгрызенном орешке. Порой вечером ложился Мадиэль в постель с Ренатою и проводил с ней, прижимаясь, как кошка, время до утра. В такие ночи случалось, что ангел уносил Ренату на своих крыльях далеко от дому, показывал ей другие города, славные соборы или даже неземные, лучезарные селения, — на рассвете же она, сама не зная как, всегда оказывалась на своей кровати.
Когда Рената несколько подросла, Мадиэль возвестил ей, что она будет святой, как Лотарингская Амалия[33], и что именно затем он и послан к ней. Он много говорил ей о жертве Иисуса Христа, о блаженной покорности Девы Марии, о сокровенных путях к запечатленным вратам земного рая, о святой Агнессе, неразлучной с кротким агнцем, о святой Веронике, вечно предстоящей пред образом Спасителя, и о многих других лицах и вещах, которые могли навести только на благочестивые размышления. По словам Ренаты, если и были у нее прежде сомнения, правда ли, что ее таинственный гость — посланник неба, они не могли не рассеяться дымом после этих речей, так как слуга Сатаны, конечно, не мог бы произносить такого количества святых имен без крайнего для себя мучения. Мадиэль же однажды сам явился Ренате во образе Христа Распятого, и из его огненных, пронзенных рук струилась багрово-огненная кровь.
Ангел усердно заклинал Ренату вести строгую жизнь подвижницы, искать чистоты сердца и просветления ума, и она начала соблюдать все постные дни, установленные святой церковью, посещать каждый день мессу и много молиться наедине, в своей комнате, перед изображением распятия. Нередко Мадиэль заставлял Ренату подвергать себя жестоким испытаниям: выходить обнаженной на холод, голодать и воздерживаться от питья по нескольку суток подряд, бичевать себя узловатыми веревками по бедрам или терзать себе груди остриями. Рената проводила по целым ночам на коленях, а Мадиэль, оставаясь подле, укреплял изнемогающую, как ангел Спасителя в саду Гефсиманском. По усиленной просьбе Ренаты коснулся Мадиэль ее рук, и у нее на ладонях означились язвы, как бы знаки Христовых крестных мук, но она эти раны скрывала ото всех людей тщательно. В те дни, благодаря божественной помощи, открылся у Ренаты дар чудотворения, и она исцеляла многих, словно благочестивейший король французский[34], одним прикосновением руки, так что во всей округе слыла девушкой, весьма угодной господу.
Придя в возраст и видя, что девушки ее лет имеют женихов или возлюбленных, Рената приступила к своему ангелу с настойчивой просьбой, чтобы он сочетался с нею и телесно, так как, по его собственным словам, выше всего любовь, а что может быть грешного, если любящие будут связаны сколь можно теснее? Мадиэль живо опечалился, когда Рената высказала ему свои страстные пожелания: его лицо — так она рассказывала — стало при ее словах пепельно-огненным, словно солнце, на которое смотришь сквозь закопченную слюду. Он твердо воспретил Ренате даже думать о плотском, напоминая ей о безмерном блаженстве праведных душ в раю, куда не может вступить никто, предававшийся плотским соблазнам. Рената, не посмев настаивать открыто, порешила достичь своей цели хитростью. Как в дни детства, упросила она Мадиэля провести с нею ночь в постели, и там, обняв его и не выпуская из рук, всеми путями принуждала соединиться с собой. Но ангел, исполнясь великим гневом, развился в огненный столп и исчез, опалив Ренате плечи и волосы.
После того ангел много дней не являлся вовсе, и Рената пришла в крайнее уныние, потому что любила Мадиэля больше всех людей, больше всех бесплотных существ и самого Господа Бога. Дни и ночи проводила она в слезах, всех окружающих изумляя своим неутешным отчаяньем, лежала долгими часами как мертвая, билась головой о стены и даже искала добровольной смерти, думая хотя на единый миг в другой жизни увидеть своего возлюбленного. Неотступно обращала она к Мадиэлю мольбы, заклиная его вернуться к ней, обещая торжественно во всем подчиняться его благим решениям, только бы снова ощущать его близость. Наконец, когда силы уже покидали Ренату, показался ей Мадиэль в сновидении и сказал: «Так как ты хочешь быть со мною в телесном союзе, то я явлюсь тебе в образе человека; жди меня семь недель и семь дней».
Приблизительно через два месяца после этого видения узнала Рената приехавшего в их местность молодого графа из Австрии. Одевался он в белые одежды; глаза у него были голубые, а волосы словно из тонких золотых ниток, так что Рената тотчас признала, что это — Мадиэль. Но приехавший не хотел показать, что они знают друг друга, и называл себя графом Генрихом фон Оттергейм. Рената всеми способами стремилась привлечь на себя его внимание, не отказываясь даже от пособий ворожеи и приворотных зелий. Неизвестно, эти ли средства помогли, или граф сам искал Ренату, только он открылся ей в сердечной любви и потребовал, чтобы она покинула с ним тайно родительский кров. Рената не могла колебаться ни одной минуты, и граф ночью увез ее и поселился с нею, по ее словам, в своем родном замке, на реке Дунае.
В замке графа Рената провела два года, и за это время они были так счастливы, как никто в мире после грехопадения нашего праотца в раю. Жизнь их всегда была близка к миру ангелов и демонов, и были они заняты великим делом, которое должно было принести счастие всем людям на земле. Печалило Ренату только одно: Генрих ни за что не хотел сознаться, что он — Мадиэль и ангел, упорно выдавая себя за верного подданного герцога Фердинанда[35]. Однако к концу второго года их жизни душой Генриха внезапно овладели темные мысли; он стал сумрачным, унылым, печальным и однажды ночью, совершенно неожиданно, не предупреждая никого, покинул свой замок, уехав неизвестно куда. Рената ждала его несколько недель; но без своего руководителя не умела она защищаться от нападения злых духов, и они стали мучить ее беспощадно. Не желая оставаться в замке, где она не была хозяйкой, Рената порешила уйти и вернуться к родителям. Враждебные силы не оставляли ее и на пути, преследовали в поле и на ночлегах, но в то же время добрые духи-покровители всячески обороняли ее и предупреждали, что скоро она повстречает рыцаря Рупрехта, который будет истинным защитником ее жизни.[36]
Так рассказывала Рената, и я думаю, что речь ее заняла много больше часа, хотя я и передал теперь все гораздо короче. Говорила Рената не глядя на меня, не ожидая от меня ни возражений, ни согласия, словно даже обращаясь не ко мне, а исповедуясь пред незримым духовником. Передавая о таких событиях, какие, без сомнения, потрясли ее жестоко, или сообщая о вещах, которые многим показались бы постыдными и которые большинство женщин предпочло бы утаить, не выказывала она ни волнения, ни стыда. Я должен заметить, что первая половина рассказа Ренаты, хотя сначала она говорила непоследовательнее и сбивчивее, запомнилась мне отчетливо. Напротив, все, что случилось с нею после ее бегства из родительского дома, осталось для меня тогда очень неясным. Впоследствии узнал я, что именно в этом месте своей повести она особенно многое утаила и особенно многое передала несогласно с действительностью.
Едва проговорив последние слова, Рената вдруг вся ослабла, точно сил у нее было ровно столько, чтобы произнести все до конца. Она перевела на меня удивленный взгляд, потом глубоко вздохнула, поникла лицом на подушку и закрыла глаза. Я хотел встать с ее ложа, но она, ласково охватив меня руками, нежным насилием заставила лечь с нею рядом. Я уже не удивлялся ничему более в ту необычайную ночь и, повинуясь, опустился на постель около этой тогда совсем незнакомой мне женщины, не зная, как мне к ней относиться. Она любовно обвила мою шею и, прижавшись ко мне своим почти обнаженным телом, тотчас заснула, глубоко и безмятежно. Было уже светло от голубых лучей рассвета, и, после испытанного, я почти смеялся, видя, как лежим мы двое, чужие, в незнакомой гостинице, в лесной глуши, обнявшись, в одной постели, словно в родном доме сестра и брат.
Когда я убедился, что Рената спит покойно, я осторожно высвободился из ее объятий, так как чувствовал необходимость освежить голову и остаться наедине. Внимательно посмотрел я в лицо спящей, и оно мне явилось нежным и невинным, как детские лики на картинах брата Беато Анжелико во Фьезоле, и почти невероятным мне показалось, что этой женщиной еще так недавно владел Дьявол. Тихо вышел я из комнаты, надел свою высокую шляпу и спустился вниз, а так как в доме все еще спали, сам отодвинул засов у двери и оказался прямо в лесу. Там пошел я уединенной тропинкой среди тяжелых буковых стволов, которые были мне милее, чем стройные пальмы или бакауты Америки, слушая раннее щебетание наших птиц, звучавшее мне как понятный язык.
Я никогда не принадлежал к числу людей, которые, следуя философам перипатетической школы, утверждают, что в природе нет бесплотных духов, отрицая существование демонов и даже святых ангелов. Я всегда находил, хотя до встречи с Ренатою и не был очевидцем ничего чудесного в жизни, что самое наблюдение и опыт, эти первые основания всякого разумного знания, доказывают неопровержимо присутствие в нашем мире, рядом с человеком, других духовных сил, которые христианами признаются за бесплотное воинство Христово и за служителей Сатаны. Помнил я также слова Лактанция Фирмиана[37], уверяющего, что иногда ангелы-хранители соблазняются прелестью тех девушек, души которых они должны бы оберегать от греха. Однако многие подробности в странном рассказе Ренаты с самого начала представились мне маловероятными и не допускающими признания. Видя, что встреченная мною женщина действительно находится во власти дьявольской, не знал я, где кончались обманы злого духа и где начиналась ложь ее слов.
Так, мучаясь догадками и недоразумениями, бродил я довольно долго по тропам незнакомого леса, и солнце поднялось уже высоко, когда я вернулся к придорожной гостинице, где провел ночь. У ворот стояла хозяйка дома, женщина дородная, с красным лицом, сурового вида, похожая больше на предводительницу разбойников, которая, однако, признав меня, приветствовала учтиво, называя господином рыцарем. Я решил воспользоваться услужливым случаем, чтобы разведать о непонятной даме, и, подойдя ближе, спросил, голосом беспечным, словно бы мне хотелось лишь поболтать от нечего делать, — кто та женщина, комната которой была рядом с моей.
Вот, приблизительно слово в слово, то неожиданное, что ответила мне хозяйка гостиницы:
— Ах, господин рыцарь, лучше не спрашивайте про нее, потому что это мое доброе сердце заставило меня, может быть, совершить смертный грех, давая приют еретичке и подписавшей договор с Дьяволом! Она хотя нездешняя, но я знаю ее историю, потому что мне все рассказал один хороший мой приятель, странствующий купец из их мест. Женщина эта, которая прикидывается скромницей, на деле просто потаскушка и разными происками проникла в доверие графа Оттергейма, человека из самой благородной семьи, чей замок пониже Шпейера, на Рейне. Так она околдовала молодого графа, еще в раннем детстве лишившегося родителей, людей достойных и чтимых, что он, вместо того чтобы взять себе добрую жену и служить господину своему, курфюрсту Пфальцскому, занялся алхимией, магией и другими черными делами. Поверите ли, что с того дня, как поселилась у него в замке эта девка, они каждую ночь перекидывались — он в волка, а она в волчиху — и бегали по окрестностям; сколько за это время загрызли детей, жеребят и овец — сказать трудно[38]! Потом они наводили порчу на людей, лишали коров молока, вызывали грозу, губили урожай у своих врагов и совершали чародейской силой сотни других злодейств. Только вдруг графу в видении явилась святая Кресценция Дидрихская[39] и обличила все его грешное поведение. Тогда граф принял на себя крест и ушел босым ко святому Гробу Господню, а свою сожительницу приказал слугам прогнать из замка, и она пошла, скитаясь из селения в селение. Если я дала ей убежище, господин рыцарь, то только потому, что ничего тогда из этого не знала, но, видя теперь, как она тоскует и стонет днем и ночью, так как грешная ее душа не может успокоиться, не буду я ее держать у себя более ни одних суток, потому что не желаю быть пособницей Врага человеческого!
Эта речь домовой хозяйки, сказавшей еще много другого, поразила меня крайне, ибо не мог я не увидеть тотчас, как во многом обманывала меня моя ночная собеседница. Так, например, рассказывая мне ночью свою жизнь, уверяла она меня, будто замок ее друга стоял в Австрийском эрцгерцогстве, тогда как из слов хозяйки выходило, что этот замок был поблизости, на нашем Рейне. Мне представилось тогда, что моя соседка по комнате, приметив во мне человека приезжего и простого моряка, пожелала надо мной посмеяться, и эта мысль так отуманила мне голову негодованием, что я позабыл даже явные знаки одержания несчастной Дьяволом, чему был сам недавним свидетелем.
Но пока стоял я перед хозяйкой, продолжавшей свои жалобы, и не знал, что предпринять, вдруг раскрылась дверь дома, и появилась на пороге сама Рената. Она одета была в длинный плащ из шелка, синего цвета, с капюшоном, который покрывал ей лицо, и в розовую кофту с белыми и темно-синими украшениями — как одеваются благородные дамы в Кельне. Держала она себя гордо и свободно, как герцогиня, так что я едва узнал в ней мою ночную бесноватую. Найдя меня глазами, Рената прямо направилась ко мне, своей легкой походкой, напоминавшей полет, и, когда я снял перед дамой шляпу, она сказала мне торопливо, но повелительно:
— Рупрехт! нам надо ехать отсюда сейчас же, немедленно. Я более не могу оставаться здесь ни одного часа.
При звуке голоса Ренаты сразу исчезли из моей головы все рассуждения, только что роившиеся там, а из души то чувство негодования, которым я был полн за минуту пред тем. Слова этой женщины, еще вчера мне совершенно незнакомой, представились мне внезапно приказом, которого ослушаться невозможно. И когда хозяйка гостиницы, вдруг переменив свой вежливый голос на очень грубый, стала требовать с Ренаты должных ей за комнату денег, я без малейшего колебания тотчас сказал, что все будет по справедливости уплачено. Потом я спросил Ренату, есть ли у нее лошадь, чтобы продолжать путь, так как в этой глуши, конечно, не легко разыскать хорошую.
— У меня нет лошади, — сказала мне Рената, — но отсюда недалеко до города. Ты можешь посадить меня на свое седло и вести коня на поводу. В городе же нетрудно будет купить другую лошадь.
Эти распоряжения Рената отдала с такой уверенностью, как если бы между нами уже было условлено, что я должен служить ей. И всего замечательнее, что я, в ответ на эти слова, только поклонился и пошел в свою комнату — сделать последние приготовления к отъезду.
Только очутившись наедине, я вдруг опомнился и с изумлением спросил себя, почему я так покорно принял роль, предложенную мне моей новой знакомой. Одно время подумал я, что она повлияла на меня каким-либо тайным магическим средством. Потом, посмеявшись в душе над своей легковерностью, я, чтобы оправдаться перед самим собою, сказал себе так:
«Что за беда, если я истрачу несколько денег и несколько лишних дней в пути! Эта девушка привлекательна и стоит такой жертвы; а я после трудностей путешествия могу позволить себе обычное развлечение. К тому же она вчера забавлялась мною, и надо показать ей, что я не такой неуч и невежда, каким она меня почитает. Теперь я позабавлюсь с нею в пути, пока она мне не наскучит, а после брошу ее. А до того, что ее преследует Дьявол, мне нет особого дела, и я не побоюсь никакого демона в сношениях с красивой женщиной, если не боялся краснокожих с их отравленными стрелами».
Постаравшись убедить себя, что моя встреча с Ренатой только забавное приключение, одно из тех, о которых мужчины, посмеиваясь, рассказывают приятелям в пивных домах, я нарочно с важностью пощупал свой тугой и тяжелый пояс и напомнил себе песенку, которую слышал вечером:
Ob dir ein Dirn gefelt, So schweig, hastu kein Gelt.Вскоре затем, подкрепив свои силы в гостинице молоком и хлебом, мы собрались в путь. Я помог Ренате сесть на свою лошадь, совершенно оправившуюся за ночь. К свертку с моими вещами прибавилась еще поклажа моей новой спутницы, впрочем, весьма не тяжелая. Рената была тем утром весела, как горлинка, много смеялась, шутила и дружелюбно прощалась с хозяйкой. Когда наконец мы двинулись в дорогу, Рената — на лошади, я — идя рядом с ней, то держа лошадь за узду, то опираясь на луку седла, все обитатели гостиницы столпились у ворот, провожая нас и прощаясь с нами не без насмешки. Помню, что мне стыдно было, повернув голову, взглянуть на них.
Глава вторая Что предсказала нам деревенская ворожея и как провели мы ночь в Дюссельдорфе
От гостиницы дорога еще некоторое время шла лесом. Было прохладно и тенисто, и мы с Ренатою, тихо подвигаясь вперед, разговаривали, не уставая. Несмотря на жизнь воина, я не был чужд общества, ибо случалось мне в итальянских городах посещать и карнавальные маскарады, и театральные исполнения, а позднее, в Новой Испании, бывал я на вечеровых собраниях в местных богатых домах, где царит вовсе не варварство дикой страны, как думается многим, а, напротив, где изящные дамы играют на лютнях, цитрах и флейтах и танцуют с кавалерами альгарду, пассионезу, мавританский и другие новейшие танцы. Стараясь показать Ренате, что под моей грубой матросской курткой скрывается человек, не чуждый просвещению, был я счастливо удивлен, найдя в своей собеседнице остроту ума и много знаний, не совсем обычных у женщины, — так что невольно насторожились все способности моей души, как у опытного фехтовальщика, неожиданно встретившего у своего противника ловкий клинок. О ночных видениях оба мы не произнесли ни слова, и можно было представить, видя, как мы болтаем весело, что я мирно провожаю даму с торжественного турнира.
На вопрос мой, куда следует нам направляться, Рената ответила, не задумываясь, что в Кельн, так как там есть у нее родственники, у которых она хочет остаться некоторое время, — и я был рад, что мне не приходилось менять избранного пути. Мысль, что странное наше знакомство не затянется слишком долго, и уязвила меня больно, и вместе не совсем была мне неприятна; только подумал я втайне, что не должно мне терять времени, если хочу я вознаградить себя за все упущенное накануне. Вот почему разговору постарался я придать легкость и свободу, словно диалогу в итальянской комедии, и, ободряемый благосклонными улыбками спутницы, хотя и сохранявшей некоторую отчужденность существа высшего, я порой отваживался целовать ее руку и делать ей намеки очень лукавые, которые Рената, как мне казалось, принимала с откровенной благосклонностью.
Так как я предложил провести ночь, минуя маленький Нейсс, в Дюссельдорфе, где можно было найти лучшие гостиницы и откуда в Кельн — удобный путь по Рейну, на что Рената согласилась с беспечностью принцессы, то мы свернули из лесу на большую проезжую дорогу, где уже часто стали нам попадаться и отдельные путешественники, и обозы, сопровождаемые стражей. Но переезд через открытое поле, под прямыми лучами дня, был достаточно утомителен как для Ренаты, ехавшей на седле, не приспособленном для дамской посадки, так и для меня, которому надо было поспевать за широким шагом лошади. Чтоб переждать знойные часы, пришлось нам искать приюта в людной деревушке Геердт, лежавшей на нашем пути. Там-то рок и устроил нам вторую засаду, уже замышляя коварно весь ужас следующих дней.
Нам сразу показалось необычным, что в деревне все было приспособлено для отдыха путешественников и что многие из ехавших в одном направлении с нами — тоже остановились в Геердте. Я осведомился о причине этого у крестьянки, в доме которой мы отдыхали и завтракали, и, с гордостью и похвальбой, та объяснила нам, что их селение славится на всю округу ворожеей, гадающей с мастерством удивительным. Не только из ближних мест, по словам говорившей, собираются ежедневно десятки людей, но приходят узнать свою судьбу многие из дальних сел и городов, даже из Падерборна и Вестфалии, так как слава о Геердтской ворожее разошлась по всем немецким землям.
Слова эти были для Ренаты как свист заклинателя для змеи, потому что сразу она, позабыв все наши шутки и предположения, пришла в величайшее волнение и захотела сейчас же бежать к колдунье. Напрасно уговаривал я Ренату отдохнуть, она не хотела даже закончить нашей полдневной меренды[40], торопя меня и повторяя:
— Идем, Рупрехт, идем сейчас, а то она устанет и не будет так ясно видеть в будущем.
Нас проводили к домику на краю деревни. У входа, стоя и разместившись на лежащих бревнах, ждала целая толпа народа, словно на церковной паперти в рождественскую ночь. Были здесь люди самые различные, которым редко случается сходиться вместе: знатные, в шелку и бархате, дамы, прибывшие в закрытых повозках, горожане в темном платье, охотники в зеленых кафтанах, крестьяне в загнутых шапках, даже нищие, воры и всякая голь. Слышался говор на всех прирейнских наречиях, и голландский язык, и, порой, ротвельш[41]. Было похоже, как если бы в маленьком местечке остановился владетельный князь, и это перед его покоями толпились просители и свита.
Надо было ждать своей очереди и поневоле выслушивать шедшие кругом беседы, которые весьма занимали Ренату, но мне казались надоедливыми. Однако здесь в первый раз увидел я, как беспредельно море предрассуждений и как много к справедливому страху пред силой магиков и ухищрениями волшебниц присоединяется детского и пустого предубеждения. Говорили, как то и подобало при таких обстоятельствах, о разных гаданиях и приметах, талисманах и ладанках, тайных средствах и заговорных словах, и все, как богато одетые дамы, так и бродяги без плаща, изумляли меня своими познаниями в этих делах. Мне, как и каждому, случалось в детстве видеть, что женщины кружат кур около печного горшка, чтобы они не убегали из дому, или утром, когда причесываются, плюют на волосы, оставшиеся в гребне, чтобы избавиться от дурного глазу, или слышать, как словами «sista, pista, rista, xista», повторенными десять раз, пытаются излечиться от боли в пояснице, а восклицанием «och, och» от укуса блох, — но тут передо мной разверзлась плотина и затопил меня целый потоп поверий. Наперерыв говорили и о том, как защищаться серой от чародеев, и как приворожить девушку, подкинув ей жабу, и как отводить узелками глаза ревнивому мужу, и как добиться заговором, чтобы урожай винограда был больше, и какие чулки помогают женщине в родах, и из чего отлита пуля, которая всегда попадает в цель, — и приходилось, слушая, думать, что на каждом шагу нас подстерегает примета.
Помню, был там какой-то безбородый, расслабленный старик, одетый, словно лекарь, во все черное; он непрестанно расхваливал ворожею и говорил при этом так:
— Уж мне вы поверьте! Я ли не знаю гадальщиков и ворожей? Больше пятидесяти лет по ним хожу; все искал верных. Был в Далмации и, дальше того, ездил через море в Фец к мухацциминам. Испытал гадание и на костях, и на воске, и на картах, и на бобах[42]; хиромантию, кристалломантию, катоптромантию и геомантию; прибегал к гоетейе и некромантии, а гороскопов сколько мне составляли, — и не упомню! Только всё мне говорили неправду, и десятая доля из предсказаний не сбывалась. Здесь же старуха читает в прошлом, как в печатной книге, а про будущее говорит, словно бывает в совете с Господом Богом каждодневно. Мне рассказала из моей жизни такое, что я сам позабыл, а про то, что ждет меня, прямо по пальцам сосчитала.
Слушая этого дряхлого краснобая, думал я, что, пожалуй, перестал бы верить в гадания, если бы и меня они обманывали добрые полстолетия, а также и то, стоит ли заглядывать в будущее, когда уж по пояс стоишь в могиле. Но никому я не хотел ничего возразить и, пока Рената, все не меняя своего гордого вида, расспрашивала про амулеты и любовные зелья, покорно ждал нашей очереди войти в дом.
Наконец рыжий парень, которого звали сыном ворожеи, поманил нас рукой и, взяв с нас установленную плату, по восемнадцать крейцеров, пропустил в двери.
Внутри дома стоял полумрак, потому что окна были завешаны темно-красными тканями, и душно пахло сушеными травами. Хотя было на дворе очень жарко, в очаге горел огонь. При его свете разглядел я на полу кота — животное, любезное при всех волшебствах; под потолком висела клетка, кажется, с белым дроздом. Сама ворожея, старуха, с морщинистым лицом, сидела за столом у задней стены. Она была одета в особую рубаху, как обычно колдуньи, с изображением крестов и рогов, а голова ее была покрыта красным платком с монистами. Перед ворожеей стояли жбаны с водой, лежали сверточки с кореньями, разные другие вещи — и она, бормоча что-то быстро, перебирала все это руками.
Подняв на нас глаза, впалые и пронзительные, старуха зашамкала приветливо:
— Вы, красавцы, чего пришли искать у бабушки? Тепленькой постельки здесь нет, а доски голые. Но ничего, ничего, потерпите, всему свой черед придет. Было время землянике, а будет и яблокам. Так вам погадать, голубчики?
Я не без разочарования выслушал эти грубые прибаутки, и даже остатки любопытства покинули меня, Рената же отнеслась с самого начала к болтовне ворожеи с непонятным для меня доверием. А старуха, все шепча, как пьяная, пошарила кругом руками, нашла яйцо и выпустила бел́ок в воду, которая замутилась. Глядя в облачные формы, развивавшиеся в воде, ворожея стала нам предсказывать, и мне казалось, что ее слова — плохой обман.
— Вот вам, детки мои, дорога, только не дальняя. Куда едете, туда и поезжайте: ждет вас там исполнение желаний. Один строгий человек угрожает вас разлучить, но вы одним ремешком опоясаны. Будет, будет вам тепленькая постелька, красавцы мои!
Старуха и еще что-то попричитала, а потом поманила нас к себе, говоря:
— Подойдите, птенчики милые, я вам дам травки одной, хорошей травки: раз в году она цветет, равнехонько один, в ночь под самый Иванов день.
Мы, не ожидая дурного, приблизились к ворожее. Но вдруг на сморщенном лице ее рот перекосился, а глаза стали круглые, как у щуки, и черные, как два угля. Она сразу потянулась вперед и, цепкими пальцами, словно железным крючком, захватив мою куртку, уже не забормотала, а, как змея, зашипела:
— Молодчик, это что, это что у тебя? На куртке-то у тебя, и у тебя, красавица, на кофте? Кровь-то это откуда? Столько крови откуда? Вся куртка в крови, и вся кофта в крови. И течет кровь и пахнет!
При этом ноздри горбатого носа старухи раздувались, вдыхая запах, и она тряслась всем телом или от радости, или от страха. Но мне от этого шипа и от этих слов стало не по себе, а Рената так зашаталась около меня, что могла сейчас же упасть. Тогда я рванулся из крепких тисков обезьяны, опрокинул стол, так что стекла разбились и вода потекла, и, подхватив Ренату одной рукой, другой взялся за шпагу, закричав:
— Прочь, ведьма! не то я проколю твое проклятое тело, как рыбу!
Старуха же, в неистовстве, все хваталась за нас, вопя: «Кровь! кровь!»
На шум вбежал к нам сын ворожеи, ударом кулака сшиб свою мать с ног, а нас начал осыпать непристойной бранью. Мне представилось, что такие происшествия были для него не новостью и что он знал, как в этом случае взяться. Я же поспешно повлек Ренату на воздух, и мы, насильственно протиснувшись сквозь толпу, нас окружившую и засыпавшую, как горохом, расспросами о том, что произошло, поспешили к тому дому, где осталась наша поклажа.
Тотчас же я сказал оседлать нашу лошадь, чтобы ехать далее по прерванному пути. Но уже всю веселость и всю говорливость Ренаты точно кто-то срезал серпом, и она не хотела произнести ни слова и почти не подымала глаз. Когда я помогал Ренате подняться на седло, она клонилась, как надломленный стебель, и поводья выпадали из ее рук. Движениями и действиями она, должно быть, в совершенстве напоминала чудесный автомат Альберта Великого[43]. Так печально выехали мы из Геердта и потянулись по дороге к Рейну.
Чтобы разуверить Ренату в гадании ворожеи, попытался я тогда изобразить ей все, что случилось, в смешном зеркале и начал вспоминать всевозможные случаи, о каких только слышал, как предсказания не сбылись или были обращаемы против авгуров: например, о гадателе, который предрек миланскому герцогу Джангалеаццо Висконти[44] скорую смерть, а себе долгую жизнь, но был немедленно умерщвлен герцогом; о человеке, которому провидец объяснил, что он умрет от белой лошади, и который, хотя избегал с тех пор всяких лошадей, даже гнедых, пегих и вороных, погиб оттого, что на него упала на улице трактирная вывеска с изображением белой лошади; о юноше, которому цыганка точно назначила день и час смерти и который нарочно прокутил к этому времени все свое пышное состояние, и потом, видя, что он разорен, а смерть не приходит, покончил жизнь ударом меча, — и другие подобные истории, которыми тешатся горожане в зимние вечера, греясь около разложенного в печи огня.
Но Рената ничем не выражала, что понимает или хотя бы слушает мои речи, и в конце концов не мог не замолчать и я, и остальную часть пути мы совершили в полном безмолвии. Идя около седла, где сидела, в мертвом унынии, Рената, я иногда всматривался внимательно в черты ее лица, с которыми позднее так свыкся мой взор, и разбирал его, как ценитель разбирает мраморные статуи. Я тогда же подметил, что ноздри у Ренаты были слишком тонкими, а от подбородка к ушам щеки уходили как-то наискось, причем самые уши, в которых поблескивали золотые сережки, были посажены неверно и слишком высоко; что глаза были прорезаны не совсем прямо, и их ресницы чересчур длинны, и что вообще все в лице ее было неправильно. Судя по лицу, скорей почел бы я Ренату итальянкой, но на нашем языке говорила она, как на родном, со всеми особенностями мейссенского говора[45]. При всем том была в Ренате некоторая особая прелесть, какое-то Клеопатрово очарование, так что уже в тот день, еще не зная ее вовсе, было мне почти радостно только смотреть на нее, — теперь же, вспоминая об ней, не могу я даже вообразить женского облика, который показался бы мне прекраснее и желаннее.
Наконец после тягостного переезда и после переправы через Рейн достигли мы Дюссельдорфа, столицы Берга[46], города, который так быстро возрастает за последние годы, благодаря заботам своего герцога, и который уже теперь может равняться с красивейшими немецкими городами.
В городе я разыскал хорошую гостиницу под вывеской «Im Lewen»[47] и за щедрую плату получил две самых лучших в доме комнаты, так как хотел, чтобы Рената имела и подходящую ей роскошь обстановки, и все мыслимые в путешествии удобства. Но Рената, казалось мне, не замечала моих стараний, и можно было подумать, что среди полированной мебели, среди изразцовых каминов и зеркал — она чувствовала себя не иначе, чем на скудных, нетесаных скамьях деревенской гостиницы.
Трактирщик, приняв нас за людей богатых, пригласил нас обедать за свой стол, или, как говорят французы, за table d’hote[48], и угощал очень усердно, выхваляя свой добрый Бахарахский рейнвейн. Но Рената, телом присутствуя за нашим столом, была думами далеко, почти не прикасалась к блюдам и не вникала в разговор, хотя я и делал всяческие попытки, чтобы вдохнуть в нее дыхание жизни. Я рассказывал о дивах Нового Света, которые мне довелось видеть, о лестницах в храмах майев с изваянными гигантскими масками, о непомерных кактусах, в стволе которых может отдыхать всадник, об опасных охотах на серого медведя и пятнистого унце и об отдельных своих приключениях, не забывая украсить речь или мнениями современного писателя, или стихами древнего поэта. Трактирщик и его жена слушали разинув рты, но Рената внезапно, на половине моего слова, поднялась из-за стола и сказала:
— Неужели тебе самому не скучно болтать такие пустяки, Рупрехт! Прощайте.
И, не прибавив ни слова, она встала и вышла из комнаты, к большому удивлению всех присутствующих. Тогда мне и в голову не могло прийти рассердиться на ее суровые слова и странный поступок, но испугался я только, как бы не захотела она меня покинуть вовсе. Потому, также вскочив и торопливо произнеся несколько извинений перед сидевшими за столом, я поспешил за нею.
В своей комнате Рената молча села в углу, на стул, и осталась неподвижной и безмолвной, а я, уже не смея заговорить, робко опустился подле нее на пол. Так и остались мы сидеть в уединенной комнате, не начиная беседы, и, вероятно, со стороны показались бы недвижным созданием, искусной рукой вырезанным из окрашенного дерева. Слева от нас в два больших открытых окна виднелись черепитчатые кровли извилистых улиц Дюссельдорфа и торжествующая над домовыми крышами колокольня церкви св. Ламберта. Синева вечера разливалась над этими треугольниками и квадратами, разрушая четкость их линий и соединяя их в бесформенные громады. Та же синева вечера втекала в комнату и обволакивала нас широкими полотнищами темного савана, но в темноте только ярче светились полукруглые серьги Ренаты и более отчетливо вырисовывались ее тонкие, белые руки. Помню, что я смотрел на нее молча, как если бы не мог произнести ни слова, и что мы долго просидели так в безмолвии и бездействии, пока все кругом не стихло по-ночному.
Наконец, сделав такое усилие воли, как если бы мне надо было принять решение величайшей важности или совершить опаснейший поступок, оторвал я свои глаза от Ренаты и произнес какие-то простые слова, кажется эти:
— Быть может, вы устали, благородная дама, и хотите отдохнуть: я уйду…
Мой голос, прозвучавший после долгого молчания, показался мне неестественным и неуместным, но звуки его все же сломали тот волшебный круг, в котором мы были заключены. Рената неспешно обратила ко мне свое тихое лицо, потом губы ее отклеились одна от другой, и она проговорила несколько слов, почти беззвучных, — так, как выговорил бы свой ответ, под влиянием магического чуда, мертвец:
— Нет, Рупрехт, ты не должен уходить, я не могу остаться одна: мне страшно.
Потом, после нескольких минут молчания, словно бы мысли ее катились медленно, Рената прибавила еще:
— Но она сказала, чтобы мы ехали, куда едем, так как там нас ждет исполнение желаний. Значит, мы в Кельне встретим Генриха. Я и раньше знала это, а старуха только прочла в моих мыслях.
Во мне, как огонек из-под пепла, вспыхнула в ту минуту смелость, и я возразил:
— Зачем быть вашему графу Генриху в Кельне, если его земли на Дунае?
Но Рената не заметила жала, скрытого в моем вопросе, и, уловив только одно выражение, схватилась за него лихорадочно.
Она переспросила меня:
— Мой граф Генрих? Как мой? Разве все мое в то же время не твое, Рупрехт? Разве есть между нами грань, черта, отделяющая мое существо от твоего? Разве мы — не одно и моя боль не пронзает твоего сердца?
Я был такой речью ошеломлен, как палицей, ибо хотя уже тогда был весь под чарами Ренаты, но еще ни о чем, подобном ее словам, не думал. Не нашел я даже, что возразить ей, она же, наклонив ко мне бледное свое лицо и положив мне на плечи легкие свои руки, тихо спросила меня:
— Разве ты его не любишь, Рупрехт? Разве можно его не любить? Ведь он — небесный, ведь он — единственный!
Я опять не мог найти ответа, но Рената тут же опустилась на колени и повлекла меня, чтобы и я стал рядом. Потом, обернувшись к открытому окну, к небу и звездам, стала она говорить голосом кротким, низким, но ясным, род литании, настаивая, чтобы на каждое прошение ее я отвечал, как церковный хор.
Рената говорила:
— Дай мне вновь увидеть его глаза, голубые, как самое небо, с ресницами острыми, как иглы!
Я должен был повторять:
— Дай увидеть!
Рената говорила:
— Дай мне услышать его голос, нежный, словно колокола маленького подводного храма!
Я должен был повторять:
— Дай услышать!
Рената говорила:
— Дай мне целовать его руки белые, как из горного снега, и его уста не яркие, словно рубины под прозрачной фатой!
Я должен был повторять:
— Дай целовать!
Рената говорила:
— Дай мне прижать свою обнаженную грудь к его груди, чтобы чувствовать, как его сердце замрет и будет биться быстро, быстро, быстро!
Я должен был повторять:
— Дай прижать!
Рената была неутомима в изобретении все новых и новых прошений своей литании, изумляя затейливостью своих сравнений, как мейстерзингер на состязании певцов. У меня не было власти противиться чародейству ее призывов, и я покорно лепетал ответные слова, которые кололи, как шипы, мою гордость.
А потом Рената, приникнув ко мне, глядя мне в самые глаза, спрашивала меня, чтобы мучить себя своими вопросами:
— И теперь скажи, Рупрехт, ведь он всех прекрасней? ведь он — ангел? ведь я увижу его опять? я буду его ласкать? и он меня? хоть один раз? только один раз?
И я отвечал в безнадежности:
— Он — ангел. Увидишь. Будешь ласкать.
В это время на небо взошла вчерашняя луна и навела столб своего света на Ренату, и под месячным лучом темнота нашей комнаты задвигалась. Голубоватый этот свет сразу воскресил в моей памяти прошлую ночь, и все то, что я узнал о Ренате, и все те обещания, какие раньше я давал сам себе. Ровным, мерным шагом, как строй хорошо обученного войска, прошли в моей голове такие мысли: «А что, если эта женщина еще раз насмехается над тобой? Вчера издевалась она, изображая козни Дьявола, а сегодня, прикидываясь безумной от печали. А через несколько дней, когда останешься ты дураком, она будет с другим шутить над тобой и вольничать, как утром».
Я от этих мыслей стал будто пьяный и, неожиданно схватив Ренату за плечи, сказал ей, улыбаясь:
— Не довольно ли предаваться тоске, прекрасная дама, не вернуться ли нам к времяпрепровождению веселому и приятному?
Рената испуганно отстранилась от меня, но я, ободряя себя мыслью, что иначе могу показаться смешным, привлек ее к себе и наклонился, намереваясь поцеловать.
Рената высвободилась из моих рук, с силой и ловкостью лесной кошки, и крикнула мне:
— Рупрехт! В тебя вселился демон!
Я же отвечал ей:
— Нет во мне никакого демона, но напрасно вы хотите играть мною, потому что я не такой простяк, как вы думаете!
Снова я охватил ее, и мы начали бороться, очень безобразно, причем я так сжимал ее пальцы, что они хрустели, а она била и царапала меня ожесточенно. Одно время я повалил ее на пол, не испытывая в тот миг к ней ничего, кроме ненависти, но она впилась вдруг зубами в мою руку и выскользнула изворотом ящерицы. Потом, ощутив, что я сильнее, она вся согнулась надвое, голова ее упала на колени, и с ней сделался тот же припадок слез, что накануне. Сидя на полу, — так как я смущенно ее выпустил, — Рената рыдала в отчаянье, причем волосы упали ей на лицо и плечи ее дрожали жалостно.
В этот миг один образ встал в моих воспоминаниях: картина флорентийского художника Сандро Филиппепи, которую видел я в Риме случайно, у одного вельможи. На полотне изображена каменная стена, из простых, крепко пригнанных друг к другу глыб; сводчатый вход плотно заперт железными воротами; и перед входом, на выступе, сидит покинутая женщина, опустив голову на руки, в безутешности горя; лица ее не видно, но видны распущенные темные волосы; тут же поблизости разбросаны одежды, и кругом нет никого более[49].
Та картина произвела на меня впечатление сильнейшее, не знаю, потому ли, что живописец сумел в ней передать чувства с особой остротой, или потому, что я смотрел на нее в день, когда сам переживал большую скорбь, — но я ни разу не мог вспомнить об этом произведении без того, чтобы мое сердце не сжалось болезненно и горечь не подступила к горлу. И когда я увидел, как Рената сидит в том же самом положении, уронив голову, и рыдает с той же безутешностью, — оба образа, и явленный мне жизнью, и тот, который создал художник, налегли для меня один на другой, слились и ныне живут в моей душе неразрывно. Тогда же, едва только я представил себе Ренату опять одинокой, покинутой, пред неумолимо запертыми воротами, в мое сердце хлынула жалость неисчерпаемая, и, снова став на колени, я осторожно отвел руки Ренаты от ее лица и сказал ей, задыхаясь сам, но торжественно:
— Простите меня, благородная дама. Действительно, овладел мною демон и ослепил мои чувства. Клянусь вам спасением моей души, что ничто подобное не повторится более! Примите меня вновь как своего верного и покорного служителя или как своего старшего, но усердного брата.
Рената подняла голову и посмотрела на меня сначала как затравленный зверок на охотника, выпускающего его на волю, потом доверчиво и детски, потом охватила ласково мое лицо своими ладонями и ответила:
— Рупрехт, милый Рупрехт! Ты не должен на меня сердиться и требовать от меня того, чего я дать не могу. Я все отдала своему небесному другу, и для людей у меня не осталось больше ни поцелуев, ни страстных слов. Я — опустошенная корзина, из которой другой взял все цветы и плоды, но и пустую ты должен ее нести, потому что нас связала судьба и братство наше давно записано в книге Знающих.
Я еще раз поклялся ей, что никогда более не посягну против ее запрета, и лицо Ренаты стало тотчас радостным и ясным, и то было достаточной наградой мне за мое добровольное отречение. Встав затем с колен, я сказал, что прощаюсь, и хотел уйти в другую нашу комнату, чтобы Рената одна могла отдохнуть свободно. Но она остановила меня, сказав:
— Рупрехт, мне без тебя будет страшно: они опять нападут на меня и будут мучить всю ночь. Ты должен остаться со мной.
Не стыдясь, как не стыдятся дети, Рената быстро сняла платье, скинула обувь и, почти обнаженная, легла в постель, под голубой балдахин, призывая меня к себе, и я не знал, как отказать ей. Эту вторую ночь нашего знакомства мы вновь провели под одним одеялом, но остались столь же далеки друг другу, как если бы нас разделяли железные брусья. Когда же случалось, что понятное волнение побеждало во мне мою волю и я, забыв свои клятвы, опять домогался нежности, Рената успокаивала меня словами печальными и такими бесстрастными и через то жестокими, что вся кровь во мне застывала, и в бессилии я падал ниц, как труп.
Глава третья Как мы поселились в городе Кельне и как были обмануты таинственными стуками
I
Я всегда, когда только можно было, придерживался мудрой поговорки французов: «Lever а six, diner а dix, souper а six, coucher а dix, fait vivre l’homme dix fois dix»[50].
Поэтому на другой день я проснулся много раньше Ренаты, опять осторожно ускользнул из ее сонных объятий и прошел в другую комнату. Там, перед окном, в котором сверкал на утреннем солнце молодой и красивый Дюссельдорф, я обсудил свое положение. Уже чувствовал я, что покинуть Ренату нет у меня сил и что я или приворожен к ней магической силой, или естественно увлечен в тонкие сети матерью любви, Кипридой.
Мужественно взглянув на свое положение, как воин, попавший в опасность, я на этот раз так сказал себе: «Что ж, отдайся этому безумию, если уже ты не можешь преодолеть его, но будь осмотрителен, чтобы не погубить в этой бездне всей своей жизни, а может быть, и чести. Назначь себе заранее сроки и пределы и остерегись переступать их, когда душа будет в огне и ум не в состоянии будет говорить».
Я вынул из пояса зашитые в нем деньги и разделил свои сбережения на три ровные части: одну часть я порешил истратить с Ренатою, другую хотел отдать отцу и третью оставил себе, чтобы, вернувшись в Новую Испанию, начать там самостоятельную жизнь. Вместе с тем определил я, что не останусь близ Ренаты больше трех месяцев, какой бы ни подул на нашу жизнь ветер, ибо после ночных происшествий не вполне доверял я ее словам о родственниках, которые ждут ее и в Кельне: и близкое будущее показало мне скоро, как был я в этом прав.
Так все обдумав, и разумно и трезво, я пошел к хозяину гостиницы и за сходную цену продал ему свою лошадь. Потом направился на речную пристань и сторговался с одной баркой, подымавшейся вверх по Рейну с нидерландскими товарами, чтобы она довезла нас до Кельна. Затем приобрел несколько нужных в путешествии с дамой вещей, как-то: две подушки, мягкие одеяла, съестных припасов и вина — и наконец вернулся в гостиницу.
Рената, увидя меня, проявила настоящую радость, и мне показалось, что она уже думала, будто я тайно бежал, бросив ее. Мы завтракали вдвоем беспечно, опять не поминая о ночных мучениях, как если бы днем мы были совсем другими людьми. Тотчас после завтрака перешли мы на барку, так как была она совсем готова к отплытию. Барка была сравнительно большая, крутобокая, двухмачтовая, и нам была предоставлена на ней обширная каюта, устроенная в носовой части судна, высоко поднятой и кончавшейся острой крышей. Я устлал пол одеялами, и в таком помещении без утомления мог бы путешествовать посол Великого Могола.
От Дюссельдорфской пристани отчалили мы вскоре после полудня и ехали до самого Кельна без больших приключений в течение двух дней и ночи, проведя часы темноты на якоре. За весь этот переезд, днем и ночью, Рената оставалась очень спокойной и рассудительной, и не было в ней ни обманчивой веселости, как в день, когда мы направлялись в Геердт, ни темного отчаянья, как в ночь, проведенную под вывеской «Im Lewen». Она часто со мной вместе прельщалась красотами мест, мимо которых мы проезжали, и вступала со мной в разговор о разных предметах общежития или искусств.
Одни из слов, сказанных мне тогда Ренатою, нахожу я нужным записать здесь, ибо объясняют они многие из ее позднейших поступков.
Было это, когда владелец барки, суровый моряк Мориц Крок, вмешался в нашу беседу и разговор упал на события, свершавшиеся как раз около того времени в Мюнстере. Мориц с первого взгляда не казался неистовым реформатором, был одет в обычную матросскую одежду, как я сам, продолжал свое торговое дело, — но с таким жаром заговорил он о новом лейденском пророке, которого называл «Иоанном Праведным, воссевшим на трон Давидов», что я усомнился, — не из перекрещенцев ли он сам. Рассказав нам о том, как в городе Мюнстере граждане истребили иконы, органы и всякое церковное имущество, а все свое соединили в одно, чтобы пользоваться сообща, как учредили двенадцать старейшин, по числу колен израилевых, и во главе поставили Иоанна Бейкельсзона[51], и о том, как успешно отбиваются мюнстерцы, подкрепляемые воинством небесным, от епископских ландскнехтов, — Мориц продолжал, будто говоря проповедь:
— Долго мы, люди, голодали и жаждали, и сбывалось на нас пророчество Иеремии: «Дети просили хлеба, и никто не дал им его». Мрак египетский обнимал своды храма, но ныне они оглашены победным гимном. Новый Гедеон нанят богом в поденщики по грошу в сутки и наточил серп свой, чтобы пожать зажелтевшие нивы. Выкованы пики на наковальне Немврода, и рухнет башня его. Восстал Илия в Иерусалиме Новом, и вышли пророки истинной апостольской церкви во все страны — проповедать бога не немого, но живого и глаголющего!
Я возразил осторожно на заносчивую речь, что столь же опасно, если высокие мысли, найденные людьми учеными, становятся достоянием народа, как если бы детям для игры раздавать кинжалы. Что, может быть, не все в установлениях церкви, а также в монашестве, часто утопающем в богатствах, действительно соответствует духу учения Иисуса Христа, но что нельзя помочь в этом деле мятежом и насилием. Что, наконец, обновление жизни должно произойти не от опровержения догматов и не от разграбления князей, но путем просвещения умов.
Тут неожиданно и вступила в беседу Рената, хотя мне казалось, что она совсем не слушала слов Морица, занятая просто рассматриванием водных струй, — и сказала:
— Обо всем таком могут говорить только люди, которые никогда и не понимали, что значит верить. Кто хотя один раз лично испытал, с каким счастием погружается душа в бога, — не подумает никогда, что надо ковать пики или точить серпы. Все эти Давиды, идущие на Велиаров, Лютеры, Цвингли и Иоанны — слуги Дьявола и его помощники. Сколько говорим мы о преступлениях других, а что, если бы обратили мы взор на себя, как в зеркало, и увидели бы свои грехи и свой позор? Ведь всем нам, каждому, надо было бы ужаснуться и, как оленю от охотника, бежать в монастырскую келью. Не церковь нам нужно реформировать, а душу свою, которая не способна больше молиться Всемогущему и верить в его слово, а все хочет рассуждать и доказывать. И если ты, Рупрехт, мыслишь, как этот человек, я не могу оставаться с тобой ни одной минуты более и предпочту броситься головой вперед в эту реку, нежели разделять каюту с еретиком.
Слова эти, показавшиеся в то время мне очень неожиданными, Рената произнесла со страстностью и, порывисто встав, быстро отошла от нас. А Мориц, не без подозрительности взглянув на меня, тоже пошел прочь и начал покрикивать на своих сподручников.
Больше к такому разговору мы не возвращались, а Мориц чуждался нас, и мы были на барке в полной обособленности, что мне было всего желаннее. После гневных слов Ренаты старался я выражать ей еще больше внимательности и уступчивости, чтобы явно показать, как дорого ценю ее расположение. Между прочим, всю ночь, которую Рената провела в каюте почти без сна, до самого рассвета, оставался я около нее и, по ее просьбе, тихо гладил ее по волосам, пока рука моя не онемела совсем. Рената, видимо, была признательна мне и обращалась со мной, как в те часы, так и наутро, с приветливостью исключительной. Эта наша дружеская примиренность длилась до самого приезда в Кельн, когда оборвалась внезапно, как снасть под взрывом бури.
На склоне второго дня нашего путешествия выступили вдалеке вышки кельнских церквей, и с сердечным волнением узнавал я и называл Ренате и пик Св. Мартина, и тупую крышу Св. Гереона, и башенку братьев Миноритов, и громадную тяжесть Сенаторского дома, и, наконец, разорванного надвое гиганта, недовершенное величие собора Трех Царей[52]. Когда приблизились мы еще и я стал различать улицы, знакомые дома и старые деревья, внимание мое было возбуждено в высшей степени и готов был я плакать в умилении, на минуту позабыв о Ренате. Это обстоятельство, по всему судя, не укрылось от ее кошачьей наблюдательности, и тотчас она переменила свое ласковое отношение ко мне, стала сурова и непреклонна, словно на стуже отвердевший стебель.
Наша барка причалила у Нидерландской набережной, среди других судов, парусных и гребных, в час наибольшей суматохи на пристани. Попрощавшись с Морицем и выбравшись на берег, попали мы из нашего отчуждения на палубе словно в первый круг Ада Алигиери[53]. Везде лежали разгруженные товары, бочонки и ящики; везде толпились люди, матросы, судорабочие, приказчики торговых домов, носильщики и просто любопытные; тут же подъезжали тележки для перевозки тяжестей; колеса скрипели, лошади храпели, собаки лаяли, люди шумели, кричали и ругались, а нас окружили и торговцы, и евреи, и носильщики, все предлагая свои услуги. Но только что выбрал я среди толпы одного малого и велел ему нести наши вещи, как, безо всякого предуготовления, Рената обратилась ко мне и совсем другим голосом сказала так:
— Теперь я хочу поблагодарить вас, господин рыцарь. Вы оказали мне большую услугу, проводив меня сюда. Поезжайте же далее своим путем, а я найду себе приют в этом городе. Прощайте, да хранит вас бог.
Я подумал, что Рената говорит это из преувеличенной учтивости, и начал учтиво возражать ей, но она ответила уже решительно:
— Зачем вы вмешиваетесь в мою жизнь? Я вас благодарю за хлопоты и помощь, но более в них не нуждаюсь.
Потерявшись, ибо тогда я еще мало знал душу Ренаты, всю сотканную из противоречий и неожиданностей, как ткань из разноцветной пряжи, я напомнил клятвы, какими мы обменялись, но Рената в третий раз обратилась ко мне, с негодованием и не без грубости:
— Вы — не мой отец, и не брат, и не муж: вы не имеете никакого права удерживать меня близ себя. Если вы думаете, что, истратив несколько гульденов, вы купили мое тело, вы заблуждаетесь, так как я — не женщина из веселого дома. Я иду, куда хочу, и угрозами вы не принудите меня быть рядом с вами, когда мне ваше соседство неприятно.
В отчаянье стал я говорить многое, что уже не сумею сейчас повторить, сначала упрекая Ренату, потом униженно ее умоляя и хватая ее за руки, чтобы удержать, но она, с пренебрежением, а может быть, и с брезгливостью, отстранялась от меня, отвечая коротко, но упорно, что хочет остаться одна. К нашему спору стали прислушиваться лица посторонние, и, когда я с особой настойчивостью побуждал Ренату следовать за мною, она пригрозила, что будет искать защиты от моих посягательств у городских рейтаров[54] или просто у добрых людей.
Тогда, решившись на лицемерие, я сказал так:
— Благородная дама! Рыцарский долг не позволяет мне оставить даму одну вечером, среди чужой для нее толпы. Улицы в сумерки небезопасны, ибо встречаются и грабители, и бесчинствующие гуляки. Пред стражей я не боюсь предстать, потому что не знаю за собой никакого преступления, но сейчас удалиться от вас прочь не соглашусь ни за что. Наконец, всем, что есть святого, я клянусь, что, если завтра утром вы того пожелаете, я предоставлю вам окончательную свободу, не буду надоедать своим присутствием и не помыслю следить, куда вы направитесь.
Поняв, должно быть, что я не уступлю, Рената покорилась мне с тем безразличием, с каким слушаются тяжелобольные, которым все равно, и, запахнув свой плащ, чтобы скрыть лицо, последовала за мной через городские ворота. Я приказал нести вещи к одной знакомой мне вдове, Марте Рутман, которая по смерти мужа тем промышляла, что отдавала комнаты приезжим. Жила она неподалеку от церкви Св. Цецилии, в старом, невысоком двухэтажном домике, сама ютясь внизу, а второй этаж предоставляя за деньги. Идти к ней надо было через весь город, и за все время перехода Рената не обронила ни одного слова и не отогнула края своего капюшона.
К моему удивлению, Марта в загорелом моряке признала сразу безбородого студента, в былые годы бражничавшего у нее, обрадовалась мне, как родному, и принялась ублажать меня, приговаривая:
— Ах, господин Рупрехт! Чаяла ли я вас увидеть? Вот за все десять лет не забывала вас! Господин Герард сказывал, что вы бежали с ландскнехтами, и я думала, что только косточки ваши белеются где-нибудь в Италии, в поле. Да какой же вы стали статный, и суровый, и красивый, — ни дать ни взять святой Георгий на иконе! Пожалуйте наверх: у меня комнаты свободные и прибранные: мало дела теперь, — все норовят в гостиницы, да и дела падают, торговля идет на убыль, не как прежде бывало.
Я спокойным голосом велел приготовить все комнаты для меня с моей женой, говоря, что заплачу хорошим рейнским золотом, и Марта, почуяв в моем кошельке деньги, как охотничий пес дичь, сделалась вдвое почтительнее и восхищеннее. Пятясь перед нами, повела она нас во второй этаж, но Рената, пока хлопотала Марта, устраивая нам ночлег и расспрашивая меня с причитаниями, все изображала немую роль в комедии, даже не открывая лица, словно боясь, чтобы ее не узнали. Зато, как только мы остались одни, она тотчас сказала мне повелительно:
— Ты будешь спать, Рупрехт, в той комнате и не смей входить ко мне, пока я не позову.
Я посмотрел Ренате в лицо, не возразил ни звуком, но вышел с такой тяжестью в душе, как если бы приговорен был к клеймению каленым железом. Не то хотелось мне заплакать, не то избить эту женщину, имевшую надо мной странную власть. Я сжимал зубы и говорил себе: «Хорошо же, хорошо же: если ты только поддашься мне, я отплачу тебе альбом за каждый альб»[55], — и в то же время казалось мне райским блаженством опять сидеть близ постели Ренаты и гладить ей волосы до изнеможения руки. Не смея нарушить запрета, мучился я в постели всю ночь, словно пьяный, для которого мир шатается, как палуба каравеллы, пока усталость не поборола моих горько-злобных дум, но помню хорошо, что и во сне, до утра, душили меня тяжелые кошмары.
День, последовавший затем, первый день нашей совместной жизни в Кельне, ни на пядь не приблизил меня к намеченной мною мете. Привычка к походной жизни подняла меня своим барабаном в обычный час, и я успел не только привести себя в порядок, но и досыта надуматься, раньше чем встала Рената, и это стало с того дня обыкновением нашей жизни. Выйдя, наконец, из своей комнаты, Рената отнеслась ко мне крайне сурово, хотя ничем не поминала о своем вчерашнем намерении со мною расстаться. Во время нашего завтрака она презрительными замечаниями прекращала все мои попытки затеять разговор, а едва завтрак был закончен, объявила мне решительно:
— Слушай, Рупрехт! Мы должны найти Генриха сегодня непременно. Я не хочу ждать более ни одного дня. Мы его должны разыскать, хотя бы нам пришлось истоптать весь город. Идем немедленно!
Следовало бы мне на эту повелительную речь возразить, что мало чем могу я быть полезен в розысках графа Генриха, не видев его никогда в лицо, но таков был взгляд Ренаты, что не нашлось у меня ни слов, ни голоса. В знак согласия наклонил я только голову, Рената же начала поспешно собираться на свои поиски. И когда, вновь опустив капюшон на голову, она твердо и быстро устремилась на улицу, я задвигался за ней, как связанная с нею тень.
Ах, клянусь самим господом искупителем, никогда в жизни не забуду я тех исступленных метаний, от церкви к церкви, через все площади и улицы, какие совершили мы в тот день! Не один, а несколько раз обежали мы весь город Кельн, от Св. Куниберта до Св. Северина и от Св. Апостолов до берега Рейна, причем ясно выказалось, что Рената не в первый раз в этом городе[56]. Прежде всего повлекла меня она к собору, но, помедлив там недолго, бросилась в закоулки около ратуши и долго рыскала там, словно бы ее Генрих играл с нами в прятки; потом, пересекши рынок и площадь, мимо Гюрцениха, побежала она к древней Капитолийской Марии и там, присев на ступени, немало времени ждала, молча. Еще после, схватив меня за руку и вглядываясь алчными глазами во всех появлявшихся вдали на улице, потащила меня Рената к Св. Георгу, где дожидалась снова, причем изумленно смотрели на нас каменщики, строившие новую, роскошную паперть. Потом видел нас со своим святым воинством Св. Гереон, вздохнули о нас Одиннадцать тысяч непорочных дев, почиющих со Св. Урсулой, взглянуло на нас громадное око Миноритов, и, наконец, вернулись мы к набережной Рейна, под тень величественной башни Св. Мартина, где Рената опять ждала с такой уверенностью, словно ей было предсказано здесь свидание голосом с Синая, а я тускло всматривался в суетливую жизнь пристани, видел, как подплывают и отплывают суда, как нагружают и выгружают разноцветные барки, как люди хлопочут и суетятся, все куда-то торопятся и чем-то заняты, и думал о том, что нет им никакого дела до двух чужестранцев, притаившихся у церковной стены.
Было, судя по солнцу, далеко за полдень, когда я решился обратиться к Ренате с зовом:
— Не вернуться ли нам домой? Вы устали; нам приготовлен обед.
Но Рената взглянула на меня с презрением и ответила:
— Если ты голоден, Рупрехт, ступай, обедай; мне этого не надо.
Вскоре опять началось наше безудержное бегание из улицы в улицу, но с каждым часом оно становилось все беспорядочнее, ибо Рената сама теряла веру, хотя с упорством и с упрямством еще выполняла свое решение: осматривала проходивших, медлила на перекрестках, заглядывала в окна домов. Передо мной мелькали знакомые здания — и наш университет; и бурсы, где, бывало, жили мои сотоварищи, Кнек-бурса, Лаврентьевская[57], у XVI домов, и другие церкви: пятиглавый Пантелеон, Св. Клары, Св. Андрея, Св. Петра, — хотя и прежде Кельн был знаком мне хорошо, но с этого дня знаю я его так, как если бы и родился и всю свою жизнь провел только в этом городе. Скажу, что я, мужчина, привыкший к трудным переходам по степям, которому случалось по целым суткам гнаться за убегавшим неприятелем или, напротив, самому уходить от преследования, — я чувствовал себя обессилевшим и почти валился от усталости, но Рената казалась неутомимой и неизменной: ею владело какое-то безумие искания, и не было сил, чтобы остановить ее, и не было доводов, чтобы разубедить ее. Не помню уже, после каких концов и кругов очутились мы, к вечеру, снова близ собора, и там, наконец, побежденная, Рената упала на камень, прислонилась к стене и осталась неподвижной.
Я сел где-то неподалеку, не смея говорить, в тупой усталости, наполнявшей мне все члены густым оловом. Так как над моим взором высилась серая громада передней части собора, с временной крышей, с неначатыми башнями, но все же торжественная в своем смелом замысле, то, как это ни странно, но в эту минуту, забыв о своем положении и о Ренате, а также об усталости и голоде, стал я подробно думать о соборе и его постройке. Теперь я помню очень хорошо, что тогда тщательно разбирал я в мыслях планы собора, которые мне случилось видеть, и рассказы о его созидании, называл себе имена славного мастера Герарда[58] и его преподобия архиепископа Генриха фон Вирнебурга. Тогда же пришло мне на мысль, что никогда этому зданию, как и братьям его, собору Св. Петра в Риме и собору Рождества Пресвятой Богородицы в Милане, не суждено воздвигнуться в его настоящем величии: поднять на высоту те тяжести, какие нужны для его окончания, и вывести в совершенстве задуманные стрельчатые башни, это — задачи, далеко превышающие наши силы и средства. Если же когда-либо человеческая наука и строительное искусство достигнут такой меры совершенства, что все это станет возможным и легким, люди, конечно, настолько утеряют первоначальную веру, что не захотят трудиться, чтобы возвысить божий дом.
Мое раздумие нарушила сама Рената, которая сказала мне коротко и просто:
— Рупрехт, пойдем домой.
Я поднялся с трудом и шел за Ренатою, как в оковах, но я ошибался тогда, думая не без облегчения, что на этот день все происшествия кончились: самое поразительное еще стерегло нас впереди.
II
Когда мы добрались к себе, я приказал Марте приготовить нам есть, но Рената почти не хотела прикоснуться ни к чему и словно с большим трудом проглотила несколько вареных бобов и отпила не больше двух глотков вина. Потом, в полном бессилии, перебралась на постель и простерлась на ней как параличная, слабо отстраняя мои прикосновения и только шевеля отрицательно головой на все мои слова. Я же, приблизившись, опустился близ кровати на колени и смотрел, молча, в ее глаза, вдруг остановившиеся и утратившие смысл и выражение, — и так оставался долго, в этом положении, ставшем с тех пор на многие недели обычным для меня.
Когда так были мы погружены во мрак и безмолвие, словно в какую черную глубину, — вдруг раздался над нами в стену странный и совершенно единственный трещащий стук[59]. Я удивленно повел глазами, ибо, кроме нас двоих, в комнате никого не было, и сначала не сказал ничего. Но, спустя некоторый промежуток времени, когда тот же стук повторился вторично, я спросил у Ренаты тихо:
— Слышите ли вы стук? Что это может быть?
Рената ответила мне каким-то безразличным голосом:
— Это ничего. Это часто бывает. Это — маленькие.
Я переспросил ее:
— Какие маленькие?
Она ответила мне спокойно:
— Маленькие демоны.
Таким ответом я был заинтересован настолько, что хотя и смущало меня тревожить обессилевшую Ренату, однако отважился я ее расспрашивать, видя, что она знает нечто такое, о чем я имею понятие лишь очень смутное. С большой неохотой, медленно и с затруднением выговаривая слова, передала мне Рената, что демоны низшие, всегда вращаясь в кругу людей, иногда дают о себе знать тем, кто святой молитвою или заступничеством небесных ходатаев не охранен от их влияния, стуками в стены и в разные предметы или же передвигая разные вещи. При этом Рената прибавила, что, когда были у нее глаза открыты на мир тайный, при близости ее с Мадиэлем, она даже видела сама этих духов, всегда имеющих вид, как люди, и одетых, в противоположность ангелам, в плащи не светлого и не яркого, а темного, серого или дымно-черного цвета, причем, однако, они окружены как бы некоторым сиянием и, передвигаясь, скорее беззвучно плывут, чем идут, а исчезая, тают, как облако.
Не должен я скрыть и скажу теперь же, что позднее Рената дала мне другое объяснение таких стуков, которое многим покажется, быть может, более простым и естественным, но по всему я сужу, что истинным было это, первое, и что, если ошибалась она, то лишь в том, что не усматривала в них обычных хитростей Дьявола, ищущего запутать душу в своих сомнительных тенетах. Тогда же не было у меня времени даже обсуждать сказанное, так как весь отдался я чувству изумления, как близок от нас мир демонов, который для многих кажется лежащим как бы по ту сторону какого-то недоступного океана, переплываемого лишь в ладьях магии и гадания. К тому же во время речи Ренаты над ее постелью в стене раздавались веселые постукивания, словно подтверждавшие ее показания. Но так как никогда и ни в каких обстоятельствах моей жизни не угасал во мне пламенник свободного исследования, возжженный в моей душе книгами великих гуманистов, то, обращаясь к стучащему существу, спросил я его с крайней смелостью:
— Если ты, производящий стуки, действительно демон и если ты слышишь мои слова, постучи три раза.
Тотчас отчетливо раздалось три удара, и в тот миг это было так страшно, как если бы незримый молоток ударял меня сквозь череп по мозгу. Но, быстро преодолев это малодушие, я с новой отвагой, не сознавая той темной бездны, к которой толкал сам себя, спросил снова:
— Ты друг нам или враг? Если друг — постучи три раза.
Тотчас раздалось три удара. После этого и Рената приподнялась в постели, глаза ее стали живыми, и она спросила:
— Именем бога заклинаю тебя, стучащий, скажи: знаешь ли ты что о господине моем, графе Генрихе? Если знаешь, ударь три раза.
Раздалось три удара.
Тогда неодолимая дрожь охватила Ренату, и, сидя, схватив руку мою и сдавив ее тонкими пальцами, быстро стала она задавать незримому нашему собеседнику один вопрос за другим: где граф Генрих? вернется ли он? увидит ли она его? сердится ли он на нее? — восклицания, на которые было очень затруднительно ответить стуками. Но, вмешавшись, я постарался внести порядок в беседу и установил, чтобы всегда три удара значили утверждение, а два удара — отрицание, после чего оставалось нам только так задавать свои вопросы, чтобы можно было разрешить их простым «да» или «нет», и между нами и нашим невидимым гостем произошел длинный разговор.
Мы спросили его: кто он, демон ли? И он отвечал нам, что да. Потом мы спросили, как его зовут, и, перебрав ряд имен и все звуки алфавита, узнали, что его имя Элимер. Потом мы спросили его, знает ли он графа Генриха, и он ответил нам, что да. Мы спросили, в Кельне ли граф Генрих, и он ответил нам, что нет. Мы спросили, приедет ли граф Генрих в Кельн, и он ответил нам, что да. Мы спросили: когда? скоро ли? не сегодня ли? не завтра ли? и узнали, что завтра. Потом, продолжая наши расспросы, мы узнали, что должны ждать графа Генриха завтра вечером, не выходя никуда, в этой самой комнате, что он сам найдет путь к Ренате, что он не забыл ее, не гневается на нее, все простил, любит ее, как прежде, хочет быть с ней.
Все эти ответы были для Ренаты, как слова Спасителя «талифа куми» для мертвой отроковицы. Она тоже ожила и, забыв об усталости, неустанно задавала вопрос за вопросом, почти все об одном и том же, только немного изменяя слова, чтобы слышать еще раз сладкое для себя «да». И когда в утвердительном стуке было для нее особенно много надежды, она с легким стоном, словно в упоении, откидывалась на подушку, на минуту замирала, как после исступленного восторга, и тихо говорила мне: «Ты слышал, Рупрехт, ты слышал?»
Так продолжалось много больше часа, пока стуки, сначала став более слабыми, словно стучал некто утомившийся, не смолкли вовсе. Но и после прекращения их долго Рената не могла успокоиться и, радостная, повторяла, сама себе и мне, свои вопросы и ответы демона, или заставляла их повторять меня, уверяя: «Ведь я знала, что здесь увижу Генриха! Ведь это я чувствовала и говорила! Потому что я пришла к пределу страдания и так томиться больше мое сердце не могло бы!» При этом Рената снисходительно гладила мои волосы и лицо, давала мне целовать свою руку, приникала ко мне, словно приучая себя к будущим ласкам своего возлюбленного, а мне не было другого выхода из моей безнадежности, как слушать ее голос и касаться губами ее пальцев. И это мучительство ее ликования продолжалось далеко за полночь, несмотря на всю нашу усталость, причем я, слушая, как по-детски радовалась Рената, все оставался на коленях у ее постели, так что, когда наконец сказала она мне идти спать, я едва мог стоять на затекших ногах.
Очень понятно, что вторая моя ночь в одинокой моей комнате была ничем не лучше первой, и опять было много причин, чтобы приступом на мою душу шли мысли черные, закованные в железо, с опущенным забралом и взятым наперевес копьем. Вволю предавался я раздумьям и о страшной связи, существующей между жизнью человеков и жизнью демонов, и о новом пути, на который неожиданно свернули события последних дней. Вместе с тем не мог я не опасаться, с крайней тоской, что предвещание стучащего демона исполнится, что граф Генрих на другой день действительно явится к Ренате и что мне тогда уже не будет места близ нее. Эта последняя мысль сгущала всю кровь в моих жилах, и я обмирал пред ней, как под взором василиска.
И вот какую попытку сделал я на следующее утро, сказав себе, что при поражении разбитый должен надеяться только на свою крайнюю покорность и на милость победителя. Когда Рената позвала меня к себе, я произнес следующую речь, обдуманную тщательно и подготовленную вполне:
— Благородная дама! Я хочу высказать открыто то, что, конечно, вы угадали в моем молчании. Не простая услужливость и не рыцарский долг удерживают меня долее близ вас, но нечто гораздо большее, чувство, которого нечего стыдиться ни мужчинам, ни женщинам. Я вам давал клятву быть верным служителем и усердным братом, но я для вас еще всегда останусь благоговейным поклонником. Узнав вас, я понял в совершенстве, что никогда не пожелаю я быть близ другой женщины и нисколько не удерживает меня все то, что вы мне открыли о вашей любви. Ибо я не надеюсь ни на что дерзкое, но более не могу быть без вас и хочу иногда целовать ваши рукава или следить за вашей походкой. Что бы ни случилось, даже если суждено вам стать счастливой, возьмите меня на службу к себе, позвольте быть вашим телохранителем и защищать этой рукой от опасности вас и вашего избранника.
Не скажу, чтобы все до конца в этой речи, немного преувеличенной, было искренно и что я действительно желал бы исполнить сказанное мною, но все же по такому именно склону катились мои думы, хотя и не достигая до дна, — а если бы Рената потребовала осуществления моих обещаний, я, может быть, и исполнил бы воистину все то, что предлагал лишь как на театре. Но Рената, выслушав меня нахмуренно, ответила мне так:
— Ни о чем подобном не смей думать, Рупрехт. Ты — последняя тень этой поры моей жизни, слишком наполненной тенями. Я возвращаюсь в свет, и ты должен исчезнуть, как весь ночной мрак при появлении солнца. Неужели ты думаешь, что, когда со мной будет Генрих, я смогу смотреть на тебя и знать, что ты целовал мои руки и лежал в одной постели со мной? Нет, как только Генрих переступит порог, ты должен будешь выйти в другую дверь, уехать из этого города, уйти в свою неизвестность, так чтобы я не узнала о тебе более ничего и никогда! В этом ты мне должен поклясться крестными муками нашего Спасителя, и если своей клятве ты изменишь, да будет тебе суд строже, чем Иуде!
Тогда я спросил Ренату:
— А что, если утром, выйдя из дома, вы увидите на пороге мой труп и мой собственный кинжал в моей груди? Что вы скажете обо мне вашему Генриху?
Рената ответила:
— Я скажу, что это, вероятно, какой-то пьяный прохожий, и буду рада, когда рейтары уберут тело.
После этого я дал все клятвы, какие она требовала, и уже во всем повиновался Ренате без спора, хотя сам не знал и не желал о том думать, как поступлю вечером. Рената же была, напротив, рассудительна и хлопотлива, как я не ожидал от нее. Она послала меня купить ей платье, так как, кроме того, пышного, которое она носила постоянно, и синего дорожного плаща, у нее не было другой одежды, а также и разных мелких вещей, как для путешествия, так и для украшения лица, видимо, желая воспользоваться всеми средствами, чтобы быть наиболее привлекательной для графа Генриха и наименее ему в тягость. Она обнаруживала великую заботливость и внимание ко всяким мелочам и заставляла меня много раз, несмотря на дождь, не стихавший весь день, возвращаться на рынок и переходить от одного купца к другому.
В таких заботах прошло время до вечера, и не было ничего опущенного к тому часу, когда рано наступившие, вследствие туч, сумерки стали наполнять комнату густой темнотой. Не знаю, были ли похожи мои ощущения на чувства человека, перенесшего в тюрьме пытку и ожидающего определенного часа, когда поведут его на казнь, но мысленно я сравнивал свое положение именно с таким. Я плыл по минутам вниз, как по быстрому потоку лодка, которой не управляет никто.
Едва мрак сгустился ощутительно, как снова послышались постукивания в стену, и Рената с поспешностью спросила — это ли наш вчерашний знакомец Элимер. Был дан ответ, что это точно он. Тогда началось как бы повторение вчерашнего вечера, с той только особенностью, что скоро к одному стучащему демону присоединились другие, которые тоже указали нам свои имена: Риций, Ульрих, еще не упомню. У каждого из них были свои особенности стуков: так, Элимер стучал определенно и четко, Риций чуть слышно, Ульрих такими ударами, что можно было бояться, не разрушится ли стена. Демоны охотно отвечали на все вопросы, сколько то можно было, стуками, и нисколько не смущали их имена святых и самого господа бога, произносимые Ренатою. При этом порою вспыхивали в разных частях комнаты, у пола, огни, как над болотом, и, поднявшись на высоту двух локтей, гасли, расплываясь. Но уже душа моя сама увлекалась ко всему тому, что, по выражению Горация Флакка, scire nefas[60], и даже явные стигматы ада не ужасали меня более и не смущали моей воли.
Ныне я должен сожалеть, что, отважившись на такое сомнительное дело, как сношение со стучащими демонами, не воспользовался я беседой, чтобы узнать что-либо большее об их природе и силе. Но был я в тот вечер, вместе с Ренатою, захвачен ожидаемым приходом Генриха, и не нашлось во мне столько любознательности, чтобы вести длинный допрос. Я успел только узнать, что в их мире есть реки, и озера, и деревья, и нивы; что живут в нем частью дьяволы, сотворенные прежде богом благими, после же отпавшие с Люцифером, а частью — души умерших людей, не достойные ада, но не получившие надежды чистилища и осужденные томиться на земле до второго пришествия; что они всегда рады говорить с людьми, которых видят, как огонек во тьме, но не ко всем могут приступить, а лишь к тем, кто на это способен и кто не закрыт щитом служения богу.
Вот то малое, о чем догадался я спросить. Зато Рената всем из говоривших задавала бесконечное число вопросов, впрочем, опять сводя все их к одному: «Правда ли, что Генрих сегодня придет к ней», — и все отвечающие говорили ей только одно «да». Потом Элимер сказал нам, что ждать Генриха надо в темноте, которая и была вокруг нас; что войдет он ровно в полночь; что сейчас он уже в городе и переодевается. При этом последнем ответе Рената непременно захотела узнать все особенности его новой одежды и без устали поминала все те уборы, какие носил ее Генрих, и также называла все части и принадлежности мужского одеяния и все цвета материй, чтобы мог Элимер простым «да» обрисовать весь образ Генриха. Мы узнали, что на нем зеленый костюм охотника, какой носят в Баварии, с коричневыми застежками, зеленый же капюшон, светлый пояс, унизанный камнями, и синие сапоги.
Потом Элимер сказал, что Генрих вышел из своего дома и идет к нам, что вот он проходит по одной улице, вот по другой, вот подходит к двери нашего дома. Мое сердце билось так сильно, что я слышал его глухие удары, и в последний раз я спросил демона:
— Если граф входит в дверь, постучи три раза.
Раздалось три удара. Я повторил:
— Если граф всходит по лестнице, постучи три раза.
Раздалось три удара. Хриплым голосом Рената сказала мне:
— Рупрехт, уходи и не возвращайся!
Лицо ее показалось мне страшным, и, шатаясь как раненый, я пошел к выходу на галерею, откуда можно было спуститься на двор дома, но, приметив, что Рената не смотрит на меня, вся упоенная ожиданием, я замедлил у двери, ибо неодолимое любопытство побуждало меня хоть раз взглянуть в лицо этого, тогда таинственного для меня, графа. Но проходили минуты, и граф не появлялся, и никаких шагов не было слышно за стеной, и все кругом было тихо и неизменно. Прошло много минут, и осторожно я опять подошел к Ренате, стоявшей у стола.
Задыхаясь, Рената спросила:
— Элимер! Если Генрих близко, ударь три раза!
Ответа не было, и она спросила снова:
— Элимер! Если ты здесь, ударь три раза!
Ответа не было, и с крайним отчаяньем Рената воскликнула третий раз:
— Риций! Ульрих! Отвечайте: придет ли мой Генрих?
Ответа не было.
Вдруг все силы покинули Ренату, и она упала бы на пол, как сраженная пулей, если бы я не подхватил ее. И не знаю, вошел ли в нее тот демон, с которым мы только что дружески беседовали, или давний ее враг, но только вновь был я свидетелем того ужасного мучения, как в деревенской гостинице. Только казалось мне, что на этот раз дух находился не во всем теле Ренаты, но одержал лишь часть его, ибо она могла несколько обороняться, хотя все же тело ее извивалось ужасно, вывертывая члены так, словно кости должны были прорвать мускулы и кожу. Опять не было у меня средств помочь подвергнутой пытке, и я только смотрел на лицо Ренаты, совершенно искаженное, словно бы выглядывал из ее глаз некто другой, и на все чудовищные изгибы ее тела, пока наконец добровольно не отпустил ее демон и не осталась она у меня в руках изнеможенной, как слабая веточка, искрученная в водовороте. Я перенес Ренату в ее комнату, на постель, где она рыдала долго и бессильно, на этот раз в полной немоте, в невозможности вымолвить ни одного слова.
Этим кончился второй день нашего пребывания в Кельне и пятый день моей близости с Ренатой. Эти пять дней, несмотря на множество разнообразных событий, вмещенных в них, остались отчеканенными в моей душе с такой ясностью, что я помню малейшие происшествия, почти все слова, как будто все это происходило лишь вчера. И если бы я не считал нужным быть кратким, ибо описание более поразительных явлений еще стоит предо мною, мог бы я пересказать пережитое мною за это короткое время с гораздо большими подробностями, нежели сделал это здесь.
Глава четвертая Как мы жили в городе Кельне, что потребовала от меня Рената и что я видел на шабаше
I
Вероятно, не одни только страдания, каким подверг Ренату пытавший ее демон, но также и отчаянье, каким сменились ее обольстительные надежды, сделали то, что она обессилела, словно перенеся долгую и сложную болезнь. Утром, после той ночи, когда тщетно ждали мы графа Генриха, Рената была решительно не в силах подняться с кровати, не могла пошевелить левой рукой и жаловалась, что в голову ее словно заколочен острый гвоздь, — так что пришлось ей несколько дней провести в постели. Мне было большим счастием ухаживать за больной, как служителю в госпитале, кормить и поить ее, как слабого ребенка, оберегать ее усталый сон и искать для нее, в своих скудных познаниях по медицине, облегчающих боли средств. Хотя Рената принимала мои услуги с обычною для нее королевской небрежностью, однако и по выражению ее глаз, и по отдельным словам вправе я был заключать, что она ценит мою преданность и мои заботы, чем был я награжден с избытком за все недавние муки. И после первых пяти дней с Ренатою, напоминавших неутихающий водоворот между скал, настали для меня дни тихие, грустные, но сладостные, так все похожие друг на друга, что можно было их принять за один день, только отраженный в нескольких зеркалах.
Возвращаясь теперь мысленно к тому времени, чувствую я, как птичьи когти тоски сжимают мне сердце, и готов я, с ропотом на Творца, признать воспоминание самым жестоким из его даров. Но все же не могу воздержаться, чтобы не описать, хотя бы кратко, и те комнаты, в которых свершилась вся наша трагическая судьба, и тот склад нашей жизни, который, при всех переменах, сохранялся до рокового часа первой разлуки.
Так как Рената не заговаривала со мною ни о родственниках, которые будто бы были у нее в Кельне, ни о своем желании покинуть меня, то озаботился я устроить ей возможно более привлекательное жилище. Я выбрал для нее ту комнату, из трех, бывших во втором этаже, которую предназначала Марта для самых знатных из своих постояльцев, почему и обставила ее с некоторой пышностью. У правой от входа стены, на небольшом возвышении, к которому должно было подыматься по трем ступенькам, стояла там прекрасная деревянная кровать, с деревянным же, убранным материей, полубалдахином, подушками, обшитыми кружевами, и атласным одеялом. Другим значительным сооружением был здесь камин из цветных изразцов, редкой работы, какую не всегда повстречаешь и в Милане, а у внешней стены был поставлен большой шкап для платья, резной, с инкрустациями. Между окнами помещался красивый стол с изогнутыми ножками, в углу за кроватью — складной алтарь, и убранство комнаты довершали стулья, аналой для чтения и большое итальянское зеркало, повешенное слева от входа. Эту обстановку помню я с отчетливостью крайней, — и сейчас, когда пишу эти слова, мне все кажется, что надо лишь встать, отворить дверь, — и я опять войду в комнату Ренаты и увижу ее, поникшую лицом на точеную доску аналоя или прижавшуюся щекой к холодным, стеклянным кружочкам окна.
Комнату Ренаты от моей отделял узкий коридор, выходивший на крытую галерею, которая окружала половину дома, и с которой по лестнице можно было сойти прямо вниз, не проходя через нижний этаж. Моя комната, отводившаяся Мартой для приезжих менее богатых, была обставлена просто, но все же лучше и приветливее, нежели комнаты в торговых гостиницах. Затем была в нашем распоряжении еще третья, меньшая, комната, совсем отдельная, ход в которую был прямо с площадки внутренней лестницы; этой каморкой мы сначала не думали пользоваться, и я оплачивал ее цену лишь затем, чтобы избежать всякого соседства. Действительно, в уединенном домике, где, кроме нас, жила только Марта, женщина, правда, любившая поболтать, но гостей зазывавшая к себе не охотно, — были мы, даже в шумном и веселом Кельне, обособлены от людей не менее, чем Мерлин в волшебном лесу Вивианы.
Старая Марта была уверена, что я услаждаюсь с молодою женою, и, разумеется, не подозревала вовсе, как странно проходили наши дни. Получая от меня щедрую плату, охотно и заботливо прислуживала она нам, исполняя все мои поручения и заботясь о нашем столе: утром, на завтрак, получали мы обычно яичницу, колбасу, сыр, яйца, печеные каштаны, свежие булки, а вечером, к обеду, — баранину, поросят, гусей, карпов, щук; у меня же при этом всегда была бутылка рейнского или мальвазии. Удивляло Марту, что не хотел я ни с кем возобновить знакомства, и неоднократно уговаривала она меня пойти к престарелому Отфриду Герарду, бывшему моему воспитателю, но я, напротив, строго запрещал рассказывать кому бы то ни было о моем прибытии в Кельн. Впрочем, Марта, кажется, не твердо выполняла мой приказ, потому что порой пытались приветствовать меня на улице люди, в которых признавал я не только прежних собутыльников, но даже магистров университета, — однако всегда давал понять, что поклонившийся ошибся и принял меня за другого.
За время болезни Ренаты и в первые дни ее выздоровления проводили мы с ней целые часы в беседах, и теперь она с охотой слушала мои рассказы о Новой Испании, дивясь, как много пришлось мне видеть в жизни. Иногда ласково касалась она моего лица пальцами, приговаривая, словно обращаясь к малому ребенку: «Какой ты у меня умный и ученый, Рупрехт!» Но долгое время ни одним словом не намекали мы ни на графа Генриха, ни на силу враждебных демонов, грозивших Ренате, и когда, — что случалось несколько раз, — приходилось нам вечером, в темноте, услышать опять знакомые постукивания в стену, спешили мы вздуть огонь и заговорить о другом, причем стуки смолкали сами собой. Бывало, впрочем, что явное присутствие незримых врагов смущало жутким опасением не только меня, но и Ренату, и тогда она не отсылала меня в мою комнату, но позволяла провести ночь вместе с ней, — иногда у подножья ее кровати, иногда опять под одним одеялом, хотя все же, как мужчина и женщина, мы оставались чуждыми друг другу. И я даже находил в этой мучительной близости особую сладость и прелесть, как если бы кто наслаждался глубокими порезами острого лезвия, нечувствительно разделяющего тело.
К самому концу августа Рената поправилась настолько, что мы стали совершать прогулки по городу, большею частью шли на берег Рейна, куда-нибудь вверх по течению, за Ганзейскую пристань, и там, сидя на земле, смотрели на всесильные, темные воды великой реки, неизменные со времен перешедшего их Кесаря, но сменяющиеся каждую минуту. Этот однообразный вид, день за днем, приводил все новые мысли в наши головы и новые слова нам на уста, и наша беседа была столь же неисчерпаема, как сам Рейн, хотя возможно и то, что нам только казалось, будто мы беседуем без перерыва. Во всяком случае, я чувствовал явно, что весь тот хаос всяких знаний и сведений, которые вычитал я из разных книг или собрал в переменах жизни, — теперь, встречаясь то с ясной внимательностью Ренаты, то с ее строгими осуждениями, то с ее проницательными поправками, сплавлялся постепенно в одну громадную, но нераздельную массу, словно бы из расплавленного чугуна выливался стройный колокол, который может звучать гулко и далеко.
Однако, при всей кротости и покорности Ренаты, в ней жила неудовлетворимая тоска, не выпускавшая из своих ядовитых зубов ее сердца, так что, по мере того как крепли силы Ренаты, возрождалось в ней и упорство ее желания, устремленного, как стрелка компаса, все к одной точке. У меня не было иного занятия, как следить за ясностью или облачностью на небосклоне души Ренаты, и скоро подметил я, что зловещие признаки предвещают новый шторм, так как уже не был неопытным плавателем под теми широтами. Тем не менее, хотя и был я предупрежден, гроза налетела опять так стремительно, что я не успел взять рифов у парусов, и галеас моей жизни опять закрутился, как детский волчок.
Еще вечером, засыпая после долгой беседы, в течение которой касались мы всего, от судеб нашей империи до лирических стихотворений испанского поэта Гарчильясо де ла Вега[61], говорила мне Рената нежно: «Милый Рупрехт, наконец я немного отдохнула. Я словно уже умерла и живу второй, сверхдолжной жизнью. Во мне нет крови, и не может быть для меня человеческого счастия; но в этом мире еще есть твоя внимательность и ласка». Убаюкиваемый такими словами, уснул я на деревянных досках помоста, подле кровати Ренаты, слаще, чем иные на пуховых ложах, и, ощущая сквозь сон близость атласного одеяла, говорил себе радостно: «Здесь она!»
Но утром, проснувшись вдруг, как от толчка, увидел я над собой угрюмо-тоскливые глаза Ренаты, сидевшей на постели, и ее искривленный рот и, как-то сразу поняв перемену, происшедшую в ней, воскликнул с отчаяньем:
— Рената, что с тобой?
Так я обратился к ней потому, что она сама просила меня называть ее по имени и говорить ей «ты», как друзья между собою, но она отвечала мне:
— Что же со мною может быть? Ровно ничего — то же, что и вчера!
Я возразил:
— Но отчего у тебя такое печальное лицо?
Рената сказала с той грубостью, какая всегда проявлялась у нее во время припадков тоски:
— А ты воображаешь, что я вечно могу смеяться? Я не из тех людей, которые готовы плясать безо всякого повода! Да и чему это мне радоваться? Что такого веселого в моей жизни?
Я вышел из комнаты Ренаты и долго стоял у двери на галерею, смотря на рыжие черепицы соседних кровель, и только после значительного промежутка времени отважился вернуться к Ренате и увидел, что она сидит на подоконнике, но лицо ее мертвенно и безучастно. Сначала я предложил ей завтракать, но она, без слов, покачала головой отрицательно; когда же я позвал ее идти на берег, она мне сказала сурово:
— На что тебе я? Никто тебя не удерживает — ступай себе, если тебе забавно бродить по грязным улицам, среди вонючей толпы, и хочется убедиться, на своем ли месте Рейн!
Считая с этого разговора, Рената на много дней впала в черное уныние, которое нельзя было рассеять никакими доводами и никакими заботами. Когда я пытался убедить ее, что неразумно и губительно предаваться такому отчаянью, она или молчала в ответ, или резко выставляла мне на вид все несовершенство и безобразие мира, обреченного греху и страданию, сравнительно с божественной красотой обетованного Эдема, и указывала, что христианину радоваться нечему и пристойно только плакать. У нее был неистощимый выбор доводов против радостей жизни, и ни один магистр не сумел бы с такой ловкостью вести диспут, с какой она доказывала мне, что есть тысячи причин отчаиваться, — так что я наконец не находил, что возразить, что ответить.
Любимым препровождением времени стало тогда для Ренаты посещение церквей, куда она уходила, запрещая мне следовать за ней. Но я, конечно, нарушал ее волю и, укрываясь за колоннами, следил, в церкви Св. Цецилии, или Св. Петра, или еще иной, как оставалась Рената сведенной в молитве по целым часам, устремив взоры к алтарю, выслушивая всю святую мессу без единого движения. Несмотря на то что вера наших дней и поколеблена сильно реформой и ересями, однако храмы большею частью бывали полны, как скорбными душами, ищущими прибежища у всемогущего, так и праздными посетителями, пришедшими то по привычке, то чтобы повидать кумушку, то чтобы подмигнуть красивой соседке. Весь этот разнообразный сброд скоро выделил нас, как странную пару, и мне случалось слышать, как шепотом передавали о нас разные вздорные слухи. Но Рената, конечно, не замечала любопытства, ею возбуждаемого, а я на него не обращал внимания, ибо мне доставляло неизъяснимое наслаждение только смотреть на Ренату и вбирать глазами ее темный облик среди пестрых церковных украшений и позолоты арок, которыми отличаются кельнские церкви, — подобно тому как вбирает пьяница губами виноградный сок. Здесь-то, когда я слушал мерное пение органа и воображал порой, что то шумят кругом мексиканские леса, впервые зародилась во мне мысль увезти Ренату за океан, и я до сих пор думаю, что, если бы мне удалось исполнить это решение, я мог бы спасти и ее жизнь, и ее душу.
По вечерам, которые мы проводили вдвоем, нам довелось теперь перемениться ролями, как взаимно меняются местами бьющиеся на шпагах, ибо слушателем стал я, а мне Рената без устали говорила о себе, теша и муча себя воспоминаниями. Слишком помню я, как в ее комнате мы двое, при свете двух восковых свеч и при завешанных окнах, сидя друг против друга, за стаканами мальвазии, — ибо Рената, отказываясь от пищи, пила вино охотно, — проводили чуть не напролет ночи. Снова Рената решилась говорить со мною о графе Генрихе, рассказывая мне все новые и новые подробности об нем, описывая его глаза, и брови, и волосы, и тело, повторяя его слова, какие ей запомнились, передавая мелкие события из их жизни, изображая мне их взаимные ласки с такими подробностями, которые распаляли мою ревность в жгучее пламя. Часто начинала Рената сравнивать меня со своим возлюбленным, и ей доставляло великое услаждение выставлять мне на вид всю низменность моей души, всю обыкновенность моего лица рядом с ангельским ликом Мадиэля и божественностью его мыслей. Нередко исступленность слов разрешалась у Ренаты опять неудержными слезами, которые заливали ее щеки и смешивались с вином в ее бокале, и мы оба пили эту смесь мальвазии и слез, пока наконец я не уносил обессиленную Ренату на постель и, тоже плача, целовал ее ноги и платье.
Такая наша жизнь также продолжалась около недели, и я полагаю, что дальше мое сердце не вынесло бы напряженности постоянной боли. Но исступленность чувств у Ренаты оборвалась столь же внезапно, как внезапно возникла, и после того как в воскресенье едва ли не весь день провела она на коленях в церкви Св. Апостолов, а вечером с особой жестокостью осыпала меня попреками, — утром в понедельник перешла она к ласковости, хотя, по всем видимостям, притворной, и, вместо того чтобы идти на мессу, позвала меня, как в другие дни, на Рейн. Я пошел не с легкой душой, и действительно, те наши часы были только изображением прежней дружественности и только подделкой под недавнюю близость. Рената, хотя она — как я часто убеждался — много раз говорила такое, чего нельзя назвать правдой, совсем не умела лгать, задумав ложь, и притворство ее было столь явное, что пробуждало в душе не негодование, а сожаление. Я не подавал виду, что замечаю театральную игру, и ждал, к чему приведет такая завязка, пока дома Рената, после разных незначительных слов, не сказала мне:
— Ответь, Рупрехт, любишь ли ты меня больше спасения своей души?
Я заверил ее клятвой, что люблю, интересуясь, к чему клонится этот вопрос. Но Рената, потребовав несколько раз, чтобы я подтвердил свои слова, не хотела говорить об этом подробнее и только продолжала выказывать мне преувеличенную нежность.
Утром, во вторник (сейчас будет видно, почему я точно помню, в какой это было день), неожиданно спросила у меня Рената, чтобы я дал ей денег, и я поспешил предложить ей золотые монеты. Но она взяла только несколько серебряных иоахимсталеров и, накинув плащ, вышла, особенно строго запретив мне следовать за ней. Хотя я снова не исполнил ее требования, но ей на этот раз удалось обмануть мою бдительность инквизиторского шпиона и затеряться где-то среди узких переходов, близ рынка. Мне пришлось со все возрастающим беспокойством ждать ее одному, причем приходили мне в голову даже страшные мысли, что она меня покинула, и, только когда уже вечерело, она появилась, очень усталая и очень бледная, принеся с собой небольшой мешочек с какими-то вещами. И даже вся радость, совершенно детская, охватившая меня при виде вернувшейся Ренаты, не могла заглушить в моей душе лукавого голоса любопытства.
Против обыкновения, Рената спросила есть, потом хотела пить вино, а еще после придумывала другие отсрочки, откладывая задуманный ею разговор, и только уже при наступающей темноте, всегда придающей отваги, не без торжественности начала говорить. Приблизительно она мне сказала так:
— Милый Рупрехт! Ты хорошо видишь, что так я жить больше не могу. Вся моя душа изойдет слезами: или меня придется положить в гроб, или стану я столь некрасива, что сама не захочу показаться на глаза тому, кого люблю. Надо выбрать что-нибудь одно: или жизнь — и тогда заботиться о жизни, или смерть — и тогда честно подать ей руку. Но ты знаешь, и видишь, и понял, что жить я могу, только если будет со мною Генрих. Чтобы воскреснуть, мне нужно услышать его голос; чтобы стать счастливой, довольно увидеть его глаза. С ним я все могу, и мне самое небо отверсто, но без него мне дышать трудно, как рыбе на земле. Должно мне найти Генриха, и он мне скажет, приговорена ли я к жизни или к смерти. Но где же по всем немецким землям искать нам одного человека, который так могуществен, что может и не быть среди людей? Обегать города и селения в поисках — не все ли равно, что разбирать стог сена, чтобы открыть затерянную шелковинку? Не ясно ли, что делать такие попытки, значит — искушать самого бога?
Изумившись трезвости и последовательности речи Ренаты, которая в иные часы могла говорить как хороший схоласт, я ответил, что нахожу ее рассуждения правильными и жду, какое ergo[62]делает она из своих quia[63]. Тогда, голосом, более взволнованным, и с лицом, воодушевленным более, Рената заговорила так:
— Ты видел также, Рупрехт, что я молилась. Я воссылала творцу все мольбы, какие умела, и давала все обеты, выполнить которые в силах женщина, а может быть, и б́ольшие! Но господь остался глух к моему ропоту, и есть только одна сила, которая может мне помочь — и Один, к которому надлежит мне обратиться. Но никогда не соглашусь я осквернить свою душу смертным грехом, ибо душа моя отдана Генриху, а он — светлый, он — чистый, и ничто темное не должно к нему прикасаться. Поэтому ты, Рупрехт, который поклялся, что любишь меня больше спасения души, должен принять и этот грех, и эту жертву на себя.
Первоначально я не понял до конца этой речи и переспросил Ренату, о какой силе и каком другом думает она, но Рената смотрела на меня загадочно и только приближала ко мне свои большие глаза, не говоря ни слова, пока вдруг я не понял и не вскричал:
— Ты говоришь о дьяволе, Рената!
И Рената ответила мне:
— Да!
Тут между нами произошел спор, ибо, как ни владела мною любовь к Ренате, как ни готов был я повиноваться единому ее знаку, чтобы сделать ей угодное, но такое неслыханное требование всколыхнуло всю мою душу до самых ее глубин. Я сказал прежде всего, что вряд ли господь бог не сумеет отличить истинного виновного и что если даже я погублю свою душу, прибегнув к содействию врага человеческого, то не менее погубит и она свою, посылая на это дело меня, ибо убийца даже менее виноват, нежели подкупивший его; далее — что вряд ли и сам владыка ада может оказать какую-либо помощь в таком предприятии, ибо занят он уловлением человеческих душ, а не переписью населения, кто где живет, да к тому же граф Генрих, будучи, по описанию самой Ренаты, святым, конечно, не подвластен силам преисподней и, по воле, может ослепить и отвести взоры слуг Вельзевула; наконец, — что я решительно не знаю путей в тартар, что многое в рассказах о пактах и договорах с Дьяволом есть бабьи сказки, что, может быть, самая магия есть обман и заблуждение и что, во всяком случае, не легко нанять проводника, который добросовестно укажет дорогу прямо к Сатане.
Говорил все это я в раздражении, порой сам не веря в свои слова и впервые здесь допустив в обращении с Ренатой даже грубое и насмешливое, но она, возражая мне слабо, предложила мне смотреть, что она будет делать. Из принесенного ею мешочка достала она несколько веточек: вереска, вербены, волкозуба, лебеды и еще какой-то травы с белыми цветами, названия которой я не знал. Левой рукой Рената сорвала с веточек лепестки и бросила их через голову на пол, но потом вновь подобрала и расположила на столе кругом. Потом посредине этого круга воткнула нож, обвязала его ручку веревкой, передала эту веревку мне и сказала, глядя на меня внимательно:
— Прикажи трижды, чтобы она доилась, во имя его.
Я, смотревший молча на все эти ведьмовские затеи, невольно проговорил трижды:
— Во имя Дьявола, доись!
Тотчас из-под ножа вытекло несколько капель молока, а Рената радостно всплеснула руками, охватила меня за плечи и восклицала:
— Рупрехт! милый Рупрехт! ты можешь! в тебе есть сила!
Я, совсем в гневе, потребовал, чтобы она не морочила меня фокусами, но Рената, переменив свой ликующий голос на ласкательный, стала уговаривать меня, прижимаясь ко мне, как к возлюбленному, и заглядывая мне в лицо:
— Рупрехт! Что значит спасение души, если ты меня любишь? Не должна ли любовь быть выше всего, и не должно ли приносить ей в жертву все, даже райское блаженство? Сделай, что я хочу, для меня, и после Генриха ты будешь для меня первый во всем мире. И, кто знает, может быть, судия праведный не обвинит тебя за то, что ты возлюбил много, и осудит тебя не на вечную геенну, но лишь на временные муки чистилища. А я с моим Мадиэлем, — клянусь тебе в этом девством Богородицы, — не забуду воссылать за тебя моления даже в кущах рая!
Я мог бы сказать, что поддался обольщению женщины, как Сампсон Далилы или Геркулес Омфалы, но, не желая лгать, признаюсь, что два соображения тогда пришли мне на ум. Первое — что действительно грех, совершаемый за другого, тяжел лишь вполовину на весах справедливости, и второе — что, может быть, в согласии моем не будет и никакого реального греха, ибо вряд ли Рената в самом деле найдет способы поставить меня пред лицом Дьявола. Поэтому я не только уступил нежной настойчивости, но и, как хладнокровный игрок, сделал важную ставку, ответив, наконец, Ренате, что отказывать ее просьбам нет у меня сил и что ее счастию готов я пожертвовать своей жизнью, этой и вечной. Рената же, когда я произнес это свое торжественное обещание, стала глубоко-строгой и вдруг, преклонившись предо мною до земли, униженно поцеловала мне колени, так что охватило меня и смущение и стыд, и я не знал, что делать или что говорить, и воистину пожелал отдать за нее и жизнь и душу!
И когда, немного спустя, я спросил Ренату, каким путем должен я искать содействия Князя Тьмы, и она ответила мне без колебания: «Ведь завтра среда, и ты легко найдешь его на обычном шабаше», — я хотя и не мог не содрогнуться, вспомнив все рассказы о мерзостных и постыдных обрядах, совершаемых на этих запретных собраниях ведьм и демонов, — однако не возразил ни словом и не выказал ничем своего волнения. А Рената в тот вечер была ласкова необыкновенно, и ту ночь я вновь провел на ее постели около ее еще чуждого мне, но все же нежного тела.
II
Все, что произошло на следующий день, хочу я описать с особым тщанием, ибо придется мне рассказывать о вещах спорных, многими в наши дни подвергаемых сомнению и для меня самого не вполне уясненных. До сих пор, отойдя уже на далекое расстояние от того дня, не умею я сказать с полной уверенностью, было ли все пережитое мною — страшной правдой или не менее страшным кошмаром, созданием воображения, и согрешил ли я перед Христом делом и словом или только помышлением. Хотя сам я и склоняюсь ко второму мнению, но не в такой мере, чтобы не искать прибежища у милосердия божия, которое, будучи неисчерпаемым, одно может оправдать меня в случае, если не призрачны были совершенные мною кощунства. Поэтому воздержусь я от всякого решения и буду пересказывать все, что сохранила мне память, — так, как если б то была явная действительность.
С самого утра Рената стала готовить меня к принятому мною на себя делу и, постепенно, словно случайно упоминая то об одном, то о другом, знакомить меня с черной сущностью всего, что я должен был исполнить и о чем я знал лишь весьма неопределенно. Не без смущения узнал я в подробностях, какие богохульные слова должен буду я произнести, какие богопротивные проступки совершить и что за видения вообще ожидают меня на том празднестве. Но в то же время соблазн любопытства, которое Фома Аквинат называет пятым из смертных грехов, разгорался во мне настолько яростнее, что я сам выспрашивал у Ренаты мелкие подробности о том, что могло ожидать меня на собрании, и сердце мое билось столь же упоительно, как у мальчика, впервые идущего в объятия сладострастия. Прибавлю еще, что в такой мере был я тогда ослеплен страстью к Ренате, что, когда, пораженный ее осведомленностью в делах ведовства, спросил внезапно, по своему ли опыту она знает все это, и она ответила мне, что нет, но из признаний одной несчастной, я почти не усомнился в этом отрицании и согласен был верить в ее чистоту.
К вечеру все было у нас готово, и я более порывался ускорить время, нежели медлил. Но Рената, напротив, была грустна, как Ниобея, порою глаза ее наполнялись слезами, и чаще обычного прибавляла она к моему имени слово «милый». Когда же настал час темноты и мне можно было приступить к моему запретному делу, проводила меня Рената до двери в нашу третью уединенную комнату, на пороге ее стояла долго, не решаясь расстаться со мной, и наконец сказала:
— Рупрехт, если есть в тебе хоть капля колебания, оставь это предприятие: я отказываюсь от своих просьб и возвращаю тебе твои клятвы.
Но меня уже не могла бы остановить ni Rey ni Roche[64], как говорят испанцы, и я ответил:
— Исполню все, что обещал тебе, и буду счастлив, если погибну за тебя. Верь, что буду смел и не изменю ни себе, ни тебе. Люблю тебя, моя Рената!
Здесь в первый раз мы сблизили губы и поцеловались, как любовники, а Рената мне сказала:
— Прощай, я пойду молиться за тебя.
Я выразил сомнение, не может ли молитва повредить в таком предприятии, но Рената, печально покачав головой, сказала:
— Не бойся, так как ты будешь далеко отсюда. Только сам остерегайся произносить святые имена…
Оборвав речь, она отстранилась порывисто; я следил взором за ней, уходящей, но, когда она скрылась в свою дверь, почувствовал в себе ту ясность ума и решимость воли, какие всегда испытывал в час опасности, особенно перед решительным боем. Вспоминая наставления Ренаты, я затворил и запер на задвижку дверь комнаты и тщательно закрыл полотном все щели около нее, окно же было раньше завешено наглухо. Потом, при свете сальной лампочки, раскрыл я ящичек с мазью, данной мне Ренатою, и попытался определить ее состав, но зеленоватая, жирная масса не выдавала своей тайны: только исходил от нее острый запах каких-то трав[65]. Раздевшись донага, я опустился на пол, на свой разостланный плащ, и стал сильно втирать себе эту мазь в грудь, в виски, под мышками и между ног, повторив несколько раз слова: «emen — hetan, emen — hetan», что значит: «здесь и там»[66].
Мазь слегка жгла тело, и от ее запаха быстро начала кружиться голова, так что скоро я уже плохо сознавал, что делаю, руки мои повисли бессильно, а веки опустились на глаза. Потом сердце начало биться с такою силою, словно оно на веревке отскакивало от моей груди на целый локоть, и это причиняло боль. Еще сознавал я, что лежу на полу нашей комнаты, но, когда пытался подняться, уже не мог и подумал: вот и все россказни о шабаше оказались вздором и эта чудодейственная мазь есть только усыпительное зелье, — но в тот же миг все для меня померкло, и я вдруг увидел себя или вообразил себя высоко над землею, в воздухе, совершенно обнаженным, сидящим верхом, как на лошади, на черном мохнатом козле.
Сначала все у меня в голове туманилось, но потом я сделал усилие и вполне овладел своим сознанием, ибо только оно одно могло быть мне проводником и защитником в чудесном путешествии, которое я совершал. Освидетельствовав животное, которое несло меня через воздушные сферы, я увидел, что то был совершенно обыкновенный козел, явно из костей и мяса, с шерстью, довольно длинной и местами свалявшейся, и только когда, оборотив ко мне свою морду, он посмотрел на меня, заметил я в его глазах нечто дьявольское. Тогда не подумал я о том, каким образом вышел из своей комнаты, в которой хотя была маленькая печурка, но с трубою очень узкой; однако позднее узнал я, что одно это обстоятельство не может служить доказательством призрачности моего путешествия, ибо Дьявол есть artifex mirabilis[67] и может с неуловимой для глаза быстротой раздвигать и снова сдвигать кирпичи. Равным образом не задумался я во время самого полета над вопросом, какая сила[68] могла поддерживать существо, столь тяжелое, как козел, вместе с тяжестью моего тела, над землею, но теперь думаю, что можно в этом видеть ту же инфернальную силу, которая позволяла подыматься на воздух Симону-волхву, о чем свидетельствует Святое писание.
Во всяком случае, мой адский конь держался в струях атмосферы очень прочно и летел вперед с такой стремительностью, что я, дабы не упасть, принужден был обеими руками вцепиться в его густую шерсть, а от ужасной скорости движения ветер свистел мне мимо ушей и было больно груди и глазам. Освоившись с чувствами летающего человека, стал я смотреть по сторонам и вниз, заметил, что держались мы много ниже облаков, на высоте небольших гор, и различил некоторые местности и селения, сменявшиеся подо мною, словно на географической карте. Разумеется, я совершенно не мог участвовать в выборе дороги и покорно несся туда, куда спешил мой козел, но по тому, что не встречалось на нашем пути городов, заключал я, что летели мы не по течению Рейна, но, скорее всего, на юго-восток, по направлению к Баварии.
Полагаю, что воздушное путешествие длилось не меньше получаса, а то и дольше, потому что успел я вполне привыкнуть к своему положению. Наконец означилась перед нами из мрака уединенная долина между голыми вершинами, освещенная странным синеватым светом, и, по мере того как мы приближались, слышнее становились голоса и виднее фигуры различных существ, сновавших там, по берегу серебрившегося озера. Мой козел опустился низко, почти к земле, и, домчав меня до самой толпы, неожиданно сронил на землю, не с высокого расстояния, но все же так, что я почувствовал боль ушиба, а сам исчез. Но едва успел я подняться на ноги, как меня окружило несколько исступленных женщин, так же обнаженных, как я, которые подхватили меня под руки, с криками: «Новый! Новый!»
Меня повлекли через все собрание, причем глаза мои, ослепленные неожиданным светом, сперва ничего не различали, кроме каких-то кривляющихся морд, пока не оказался я в стороне, у опушки леса, где, под ветвями старого бука, чернела какая-то группа, как мне показалось, людей. Там женщины, ведшие меня, остановились, и я увидел, что то был Некто, сидящий на высоком деревянном троне и окруженный своими приближенными, но во мне не было никакого страха, и я успел быстро и отчетливо рассмотреть его образ. Сидящий был огромен ростом и до пояса как человек, а ниже как козел, с шерстью; ноги завершались копытами, но руки были человеческие, так же как лицо, смугло-красное, словно у апача, с большими круглыми глазами и недлинной бородкой. Казалось ему на вид не больше сорока лет, и было в выражении его что-то грустное и возбуждающее сострадание, но чувство это исчезало тотчас, как только взор переходил выше его поднятого лба, над которым из черных курчавых волос определенно подымалось три рога: два меньших сзади и один большой спереди, — а вокруг рогов была надета корона, по-видимому, серебряная, изливавшая тихое сияние, подобное свету луны.
Голые ведьмы поставили меня перед троном и воскликнули:
— Мастер Леонард[69]! Это — новый!
Тогда послышался голос, хриплый, лишенный оттенков, словно бы говорившему непривычно было произносить слова, но сильный и властный, который сказал мне:
— Добро пожаловать, сын мой. Но приходишь ли ты по доброй воле к нам?
Я ответил, что по доброй воле, как и подобало отвечать мне.
Тогда тот же голос стал задавать мне вопросы, о которых был я предупрежден, но которые не хочу повторять здесь, и шаг за шагом совершил я весь кощунственный обряд черного новициата. Именно: сначала произнес я отречение от господа бога, его святой матери и Девы Марии, от всех святых рая и от всей веры в Христа, спасителя мира, а после того дал мастеру Леонарду два установленных целования. Для первого протянул он мне благосклонно свою руку, и, прикасаясь к ней губами, успел я подметить одну особенность: пальцы на ней, не исключая большого, были все ровной длины, кривые и когтистые, как у стервятника. Для второго он, встав, повернулся ко мне спиной, причем надо мной поднялся его хвост, длинный, как у осла, а я, ведя свою роль до конца, нагнулся и облобызал зад козла, черный и издающий противный запах, но в то же время странно напоминающий человеческое лицо.
Когда же я исполнил этот ритуал, мастер Леонард, все тем же своим неизменным голосом, воскликнул:
— Радуйся, сын мой возлюбленный, приими знак мой на теле своем и носи его во веки веков, аминь!
И, наклонив ко мне свою голову, острием большого рога коснулся он моей груди, повыше левого соска, так что я испытал боль укола, и из-под моей кожи выступила капля крови.
Тотчас приведшие меня ведьмы захлопали в ладоши и закричали от радости, а мастер Леонард, воссев на троне снова, произнес наконец те роковые слова, ради которых предстал я пред ним:
— Ныне проси у меня все, что хочешь, и первое твое желание будет нами исполнено.
С полным самообладанием я сказал:
— Хочу узнать и прошу, чтобы ты сказал мне это, где ныне находится известный тебе граф Генрих фон Оттергейм и как мне найти его.
Говоря так, я посмотрел в лицо сидящему и видел, что оно омрачилось и стало страшным, и уже не он, а кто-то другой, стоявший близ трона, низкого роста и безобразный[70], ответил мне:
— Думаешь ли ты, что мы не знаем твоего лицемерия? Поберегись играть вещами, которые сильнее тебя самого. А теперь иди, и, может быть, после получишь ты ответ на свой дерзкий вопрос.
Нисколько не устрашенный грозным тоном, ибо простота и человекоподобность всего происходившего не внушали мне вообще никакого страха, хотел было я возразить, но мои руководительницы зашептали мне на ухо: «Больше нельзя! после! после!» — и почти силой повлекли меня прочь от трона.
Скоро очутился я среди пестрой толпы, ликовавшей, словно на празднике в Иванов день или на карнавальных веселиях в Венеции. Поле, где происходил шабаш, было довольно обширно и, вероятно, часто служило для той же цели, ибо все было истоптано, так что трава не росла на нем. Кое-где, местами, из земли подымались огни, горевшие безо всякого костра и освещавшие всю местность зеленоватым светом, похожим на свет от фейерверка. Среди этих пламеней сновало, прыгало, металось и кривлялось сотни три или четыре существ, мужчин и женщин, или совсем обнаженных, или едва прикрытых рубашками, некоторые с восковыми свечами в руках, а также отвратительных животных, имевших сходство с людьми, громадных жаб в зеленых кафтанах, волков и борзых собак, ходивших на задних ногах, обезьян и голенастых птиц; под ногами же вились там и сям мерзкие змеи, ящерицы, саламандры и тритоны. В отдалении, на самом берегу озера, заметил я маленьких детей, которые, не принимая участия в общем празднике, пасли длинными белыми жердями стадо жаб меньшего роста.
Одна из голых ведьм, ведших меня, приняла во мне особое участие и не захотела покинуть, когда другие, втащив меня в толпу, разбежались в стороны. Лицо ее привлекало веселостью и задорностью, а молодое тело, хотя и с повисшими грудями, казалось еще свежим и чувствительным. Она крепко держала меня за руку и льнула ко мне, сообщила, что на ночных собраниях зовут ее Сарраской[71], и уговаривала: «Пойдем плясать», — я же не видел причины отказать ей.
Тем временем в толпе раздались крики: «Хоровод! хоровод!» — и все быстро, исполняя привычное дело, стали собираться в три больших круга, заключенных один в другой. Средний из них стоял так, как обычно при деревенских хороводах, но меньший и больший, напротив, обернувшись лицами вовне, а спинами внутрь. Затем послышались звуки музыки, — флейты, скрипки и барабана, — и началась дьявольская пляска, становившаяся с каждой минутой все более быстрой, сначала напоминавшая испанский танец de espadas[72] или сарабанду, а потом не похожая ни на что. Так как с моей подругой попал я в самый внешний круг хоровода, то мог видеть только мельком, что делалось в других кругах: кажется, меньший все время исступленно вращался слева направо, во втором участвующие яростно подпрыгивали, а в нашем главная фигура танца состояла в том, что, становясь вполоборота и не размыкая рук, соседи ударяли задом друг друга.
Я совершенно выбился из сил, когда, наконец, музыка стихла и пляска кончилась, но едва танцевавшие разорвали хороводы, как послышались звуки пения, доносившиеся с той стороны, где был трон. Сидящий, сопровождая свое пение звуками арфы, пел своим хриплым и тяжелым голосом некий псалом, который все мы слушали в почтительном молчании. Когда же он смолк, все сразу хором запели черную литанию, сложенную наподобие церковной, причем на прошения ее, — в которых я не мог разобрать всех слов, — слышались знакомые возгласы: «Miserere nobis!» и «Ora pro nobis!»[73]. Тем временем между нами сновали какие-то маленькие, но юркие существа, в красных бархатных кафтанах, унизанных маленькими бубенчиками, и очень ловко расставляли столы, накрывая их белыми скатертями, хотя и видно было, что эти прислужники действуют без помощи рук.
Сарраска, во время пения отдышавшаяся от танца, стала опять теребить и торопить меня.
— Беан, беан[74], пойдем скорее, сядем, а то мест не будет, я страшно есть хочу.
Решившись подчиняться всем обычаям этого места, как это я вообще делал всюду, куда судьба заносила меня, я последовал за молодой ведьмой, и мы одни из первых сели за стол, около которого были поставлены самые обыкновенные деревянные скамьи. Очень скоро литания окончилась, и, с великим шумом и гиканьем, вся ватага последовала нашему примеру, заполнив все скамьи, толкаясь и ссорясь из-за мест. Слуги в бархатных кафтанах стали расставлять по столам разные кушанья, очень простые: чашки с супом из капусты или с овсянкой, масло, сыр, тарелки с хлебом из черного проса, крынки молока и кварты вина, которое, когда я его попробовал, оказалось кислым и низкого сорта.
Над всеми столами стоял несмолкаемый говор, хохот, свист и гоготание, но так как наше место было в стороне, то я постарался расспросить Сарраску о разных, не совсем понятных мне подробностях этого празднования; она же, с прожорливостью набивая себе желудок предложенными угощениями, очень охотно удовлетворяла мое любопытство.
Я спросил ее, кто эти служители, подающие нам блюда, и она сказала, что это — демоны, притом безрукие и действующие с помощью зубов и крыльев, которые они скрывают под капюшоном. Тут же она подозвала одного из этих министров[75], чтобы мне его показать ближе, и странно было видеть, как голая женщина вертела передо мною невысокого человечка с тупым лицом и с крыльями, как у летучей мыши, вместо рук.
Потом я спросил, как все не боятся плясать среди столбов огня. Но Сарраска расхохоталась и сказала мне, что он не жжется, что это только попы пугают, будто адский огонь причиняет великие страдания, а на деле он вроде мыльных пузырей, — и хотела тотчас потащить меня, чтобы убедить в этом, но я остерегся обращать на себя внимание всего общества.
Еще спросил я, не могут ли причинить вреда ползающие у наших ног змеи и тритоны, но Сарраска, опять хохоча, уверила меня, что это животные милые и безвредные, и тут же вытащила из-под стола змею и обкрутила ее вокруг своей груди; змея же ласково лизала ей шею раздвоенным языком и, играя, кусала ее красный сосок.
Наконец, спросил я, случаются ли шабаши более оживленные, нежели сегодня, и при таком вопросе глаза у Сарраски заблестели, и она мне сказала:
— Еще бы! Ведь сегодня самое обыкновенное собрание, какие всегда бывают в среду и пятницу, но чт́о было здесь под Успение или, погоди, что будет под праздник Всех Святых. Тут собирается больше тысячи человек, крестят украденных младенцев, справляют свадьбы или поминки по умершим! То-то бывает весело и плясать, и петь, и ласкаться! Волки бывают такие, что ни один мужчина не может с ними сравниться! А на угощение, порой, сами мы варим в молоке детское мясо!
При этих словах у Сарраски как-то по-особенному сверкали во рту белые и острые зубы; когда же я, не без отвращения, переспросил: неужели человеческое мясо так вкусно и волчьи ласки так приятны, — она только лукаво засмеялась в ответ. Тогда я спросил еще, случалось ли ей испытывать ласки демонов и доставляют ли они наслаждение. Она, не стыдясь, заявила мне, что доставляют, и очень большое, только семя у демонов холодное, как лед. Но потом она придвинулась ко мне совсем близко и, бесстыдно касаясь рукой частей моего тела, стала мне говорить:
— Но что там поминать прошлое, мой беанчик? Сегодня я тебя люблю, и ты мне желаннее всякого инкуба[76]. Знаешь, вот огни уже гасят и скоро петух запоет, — пойдем-ка со мной.
Когда же я отрицательно покачал головой и постарался высвободиться из ее объятий, Сарраска спросила меня, отчего я такой печальный. Я сказал ей, что мастер Леонард пообещал мне дать ответ на один вопрос, для меня очень важный, и до сих пор не ответил ничего.
Тогда Сарраска сказала мне:
— Ты не грусти, беанчик! Прошлую пятницу я была у него невестой, и он ко мне очень благосклонен. Я сейчас пойду и спрошу у него: он мне не откажет.
Сказав это, Сарраска соскользнула со скамьи и побежала, а я, оставшись один, стал осматриваться вокруг. Действительно, огни уже погасли, и только некоторые из них слабо тлели у самой земли, и на моих глазах быстро стали пустеть скамьи, ибо настал миг для участников шабаша предаться завершительной и позорнейшей части празднества. Нежная музыка флейт зазвучала над лугом, и в сгущавшемся мраке руки стали протягиваться к рукам и сплетенные тела, с тихими стонами, падать на землю, тут же, между столами, и на берегу озера, и в отдалении, под ветвями деревьев. Там видел я перед собою безобразное соединение юноши со старухой, там гнусную забаву старика с ребенком, здесь бесстыдство девушки, отдавшейся волку, или неистовство мужчины, ласкающего волчиху, или чудовищный клубок многих тел, переплетенных в одной ласке, — и дикие вскрики вместе с прерывистым дыханием неслись со всех сторон, возрастая и заглушая звуки инструментов. Скоро весь луг обратился в один оживший Содом, в новый праздник Кодра[77], или в страшный дом сумасшедших, где все были охвачены яростью сладострастия и бросались друг на друга, почти не различая, кто это: мужчина, женщина, ребенок или демон, — и непобедимый запах похоти подымался от этих темных роящихся груд, опьяняя также и меня, так что я чувствовал в себе то же мужское безумие и ту же ненасытную жажду объятия[78].
В этот-то миг появилась передо мной Сарраска, ликующая и говоря мне:
— Готово! Готово! Он сказал мне: «Разве моя верная служительница не дала ему ответа: куда едете, туда и поезжайте!» И уж если он подтвердил, значит — верно!
После этих слов, считая, что печаль моя рассеяна, ведьма молча охватила меня руками и повлекла за собою к опушке леса, прижимаясь, как ящерица, и шепча мне бессвязные слова ласки. Соблазн сладострастия проникал в меня и через ноздри, и через уши, и через глаза. Сарраска же теплым телом как бы опаляла мое тело, так что без сопротивления давал я вести себя. Под ветвями густого орешника мы упали на землю, где был островок моха, и я в ту минуту не помнил ни своих клятв, ни своей любви, а предавался только вожделению, затемняющему разум и лишающему воли. Но вдруг, когда был я еще обессилен от этих чувств, прямо перед собою, среди зелени листьев, увидел я лицо Ренаты — и, как молния, во мне вспыхнуло сознание, и меня обожгли мучительно и раскаяние и ревность. Рената была вполне обнаженной, как большинство участников шабаша, и в лице ее было то же выражение чувственной похоти, как у других, — и, видимо, не замечая меня, она искала кого-то, пробираясь через опушку леса. Я вскочил на ноги, как вепрь, вырвавшийся из капкана, оттолкнул Сарраску, пытавшуюся удержать меня, и кинулся за проходящей с гневным и скорбным криком:
— Рената! Зачем ты здесь?
Рената, узнав меня, словно в испуге, метнулась прочь, исчезая в темноте, но я устремился за ней и бежал среди черных кустов, простирая руки, ожесточенный, готовый убить ее, если настигну. Но она, лишь на миг появляясь, пропадала опять; стволы деревьев загораживали мне дорогу, ветви хлестали меня по лицу, а сзади слышались визги, свист и улюлюканье, точно за мною гнались, и все кружилось в моей голове, и, наконец, я уже ничего не различал вокруг и упал на землю, словно в глубокий колодец, головой вниз.
Затем, когда я очнулся и, сделав большое усилие, открыл глаза и осмотрелся, я увидел, что лежу один на полу нашей маленькой комнаты, где намазал себя магическим составом. В воздухе еще стоял удушливый запах этой мази, все тело мое ныло, словно бы я разбился, упав с высоты, и боль в голове была так сильна, что я едва мог мыслить. Однако, собрав все силы, я, присев, тотчас постарался дать себе отчет, чем было все то, что наполняло мою память.
Глава пятая Как мы изучали магию и чем кончился наш магический опыт
I
Доводы шли ко мне с двух разных сторон, как воины двух враждебных партий, и мне не легко было склонить весы моего разумения на одну сторону, потому что на обе чаши я мог класть все новые и новые соображения.
С одной стороны, многое говорило за то, что страшный мой полет на шабаш был только сонным видением, вызванным ядовитыми испарениями мази, которой я натер свое тело. Плащ, на котором я очнулся, был измят и скомкан именно так, как это должно было случиться от продолжительного на нем лежания человеческого тела. Нигде на моем теле не было никаких следов ночного путешествия, особенно же на ногах никаких царапин или ссадин от пляски босиком на лугу и от бега по лесу. Наконец, — и это самое важное, — на моей груди не было заметно знака от укола рогом, которым, как мне казалось, мастер Леонард поставил на мне вечное клеймо Дьявола, sigillum diabolicum.
С другой стороны, связность и последовательность моих воспоминаний далеко превосходила все, что обычно имеет место по отношению ко сну. Память сообщала мне такие подробности о бесовских игрищах, которые до того времени были мне решительно неизвестны и измыслить которые не было у меня ни малейших оснований. Кроме того, мне совершенно ясно представлялось, что участвовал я в хороводе ведьм телесно, а не духом, если даже допустить возможность прижизненного отделения духа от тела, что охотно признает божественный Платон, но в чем сильно сомневается большинство философов.
Наконец, пришло мне в голову, что есть верный способ разрешить мои сомнения. Если все виденное мною было реальностью, то Рената, обманув меня, следовала за мною в воздушном перелете и теперь должна была или медлить еще вне дома, или лежать в своей постели столь же утомленной, как я. В новом припадке гнева и ревности стал я поспешно приводить себя в порядок и одеваться, что было мне сделать не легко, так как руки у меня дрожали и в глазах темнело. Через несколько минут я уже был в коридоре, где свежий воздух, хлынувший мне в грудь, несколько оживил меня, и, с бьющимся сердцем, я отворил дверь комнаты Ренаты. Рената спала спокойно на своей высокой кровати, и не было вокруг никаких признаков, чтобы она провела эту ночь, подобно мне, как не было и запаха мази, который показывал бы, что она тоже прибегала к магическим натираниям.
В ту минуту представилось мне это неопровержимым доводом в пользу того, что я не покидал области сна, но не радость, что ночные мои поступки и слова, какими я губил вечное спасение своей души, были просто грезами, — но подавляющий стыд охватил тогда меня. Мне представилось до последней степени позорным, что я не сумел исполнить поручения Ренаты, не смог проникнуть до дьявольского трона, хотя это так легко удается лицам, по-видимому, ничтожным. В то же время я подумал, что мой сон был наслан, может быть, все-таки самим Дьяволом, который опять хотел посмеяться и поиздеваться над моим бессилием, — и эта мысль ударила меня как оскорбительная пощечина. И в то единое мгновение, пока я смотрел на спящую Ренату, во мне и зародилось и сразу окрепло то решение, которое руководило затем моими поступками в течение многих следующих недель: попытать свои силы в открытой борьбе с духами тьмы, с которыми столкнулся я на жизненном пути и которые до сих пор швырялись мною, как мячом.
Между тем Рената, пробужденная скрипом двери, приоткрыла глаза. Другое чувство — раскаянья, что я мог заподозрить Ренату в обмане, — заставило меня кинуться к ней стремительно, припасть поцелуем к ее руке и говорить ей слова, для нее непонятные:
— Рената! милая! благодарю тебя! А ты прости меня!
Рената, сквозь сон, сначала не могла понять, в чем дело, но потом вспомнила все и спросила быстро:
— Рупрехт, ты был? ты видел? ты спросил? Что он ответил?
Эти жестокие вопросы, показавшие мне, что Рената вовсе пренебрегает мною, изнемогавшим от утомления, и думает только о своем Генрихе, несколько отрезвили меня. Я ответил, что ее мазь оказалась бессильной, что она только усыпила меня и дала мне видение шабаша, вместо того чтобы реально перенести меня на место, где справляют свой праздник ведьмы. Но тут же поспешил я добавить, что моя неудача нисколько не лишила меня бодрости, а, напротив, вселила твердое желание достичь цели и что теперь я своими силами постараюсь найти более действительные пути, чтобы использовать власть ада. Я хотел тогда же подробнее развить свою мысль перед Ренатою, но она настойчиво потребовала, чтобы я раньше передал ей свои приключения, и, уступая ее желанию, я, почти против воли, должен был пересказать ей все то, что мне казалось дурным сном. Впрочем, в этом сообщении я утаил два обстоятельства: что не устоял перед соблазнами Сарраски и что образ самой Ренаты привиделся мне среди других ночных видений. Рената отнеслась к моим воспоминаниям как к полной действительности, совершенно не согласилась со мною, что это только призрак, и почла, что председатель ночного пира подтвердил слова Геердтской ворожеи. Но я в ответ только смеялся и над Ренатаю, и над своим полетом, говоря, что если все это реальность, то нелепая, если сон, то лживый, если предсказание, то из него вывести нельзя ровно ничего.
Вскоре, однако, нам пришлось прекратить наш спор, так как почувствовал я, как следствие моих ночных впечатлений, неодолимую усталость и последнее изнеможение. Ломота во всем теле и ожесточенная боль в голове заставили меня даже лечь в постель, и остаток того дня я провел в полузабытьи, в котором беспрерывным колесом вертелись пред моим взором образы шабаша: голые ведьмы, безрукие демоны, пляски, пиршество, ласки, мастер Леонард. Помню, через сон, как время от времени подходила к моей кровати Рената и клала свои холодные руки на мой разгоряченный лоб, и мне тогда казалось, что эти невольно нежные пальцы мгновенно исцеляли всю боль.
Утром, на следующий день, я проснулся опять бодрым и сильным, как всегда, но нашел в душе свое вчерашнее решение пустившим прочные корни и раскинувшим далеко ветви, словно деревцо, в несколько часов выращенное индийским гимнософистом. Уже безо всякого волнения, но совершенно определенно я подтвердил Ренате, что намерен заняться изучением магии, так как не вижу другого способа оказать ей услугу, какую она ждет от меня. Я добавил, что немногого добьешься, обращаясь к Дьяволу, как нищий проситель к заимодавцу, так как Дьявол слушает, видимо, лишь тех, кто приказывает ему, как господин слуге, и что вообще в мир бесов должно вступать силами знания, а не сомнительными чарами волхвования. Немедленно при этом изложил я пред Ренатою и целый план занятий тайными науками, магией, демономантией и дивинаторным искусством[79].
Рената выслушала меня очень внимательно и, как ни неожиданно было это со стороны той, кто первая повлекла меня к миру демонов, объявила мне, что решительно восстает против моего замысла, и не замедлила поставить мне на вид, с немалой убедительностью, всю трудность, всю опасность, а может быть, и всю ненужность затеянного мною дела. Так, она говорила мне, что занятия магией требуют долгих годов и подготовительных знаний, что сокровенные тайны никогда не доверяются книгам, а только передаются среди посвященных из уст в уста, от учителя к ученику, что, наконец, она не принимает от меня такой жертвы, возвращает мне мои обещания. Но у меня на все эти доводы были возражения: я говорил, что, как рыцарь, не могу покинуть даму, не использовав все мыслимые средства для ее спасения; что для внимательного глаза и ума одних намеков, сохраненных в магических сочинениях, достаточно; что я хочу постичь не все тайны запретных знаний, но лишь получить некоторые сведения для практических целей, — и подобное.
Когда из разговора выяснилось, что я не хочу уступить, Рената попыталась напугать меня и, обличая свое близкое знакомство с магией, сказала мне приблизительно так:
— Ты не знаешь, Рупрехт, той области, куда хочешь вступить. Там нет ничего, кроме ужаса, и маги — это самые несчастные из людей. Маг живет под постоянной угрозой мучительной смерти, только неусыпной деятельностью и крайним напряжением воли удерживая яростных духов, готовых каждую минуту растерзать его звериными челюстями. Целый сонм враждебных чудовищ стережет каждый шаг мага и следит, не забудет ли он, не упустит ли он какую-либо маленькую предосторожность, чтобы хищно ринуться на него. Представь себе заклинателя, проводящего дни и ночи в клетке бешеных собак или ядовитых змей, ярость которых он едва обуздывает ударами бича и каленым железом, — вот что такое жизнь мага. И в награду за эту беспрерывную пытку получает он вынужденную службу мелких бесов, мало сведущих, далеко не всесильных, всегда коварных, всегда готовых на предательство и на всякую низость.
Эти возражения Ренаты были мне сладостны, как свет солнца сквозь дождь, потому что здесь в первый раз увидел я в ней заботу о моей судьбе, но все же я, не колеблясь, ответил:
— Я готов согласиться, что все это так, но страх еще никогда не удерживал меня. Злые духи сотворены богом, но лишены его благодати и, как все в природе, кроме личной и всемогущей воли творца, не могут не быть подчинены естественным законам. Остается только познать эти законы, и мы будем в силах управлять демонами, как ныне пользуемся силами ветров для движения кораблей. Нет сомнения, что ветер безмерно сильнее человека, и порою буря разбивает суда в щепы, но обычно капитан приводит свой груз к пристани. Знаю, что я подвергаю наш корабль, и тебя на нем, большой опасности, увеличивая парусность под штормом, но иного средства у нас нет.
После этих моих слов наш разговор прекратился.
Скоро пришлось мне убедиться, что Рената, возражая мне, говорила многое против своего убеждения и что магия и тайные знания имели для нее притягательную силу еще большую, нежели для меня. Однако, сохраняя свою роль, она довольно долгое время делала вид, что пренебрегает моими занятиями, и не хотела оказать мне ни малейшей помощи в работе, так что приходилось мне, совсем одному, преодолевать первые, как всегда, самые трудные, повороты нового пути.
В годы моей студенческой жизни был мне знаком один торговец книгами, живший на Красной Горе, старый чудак, по имени Яков Глок, которому я, бывало, когда оставался без денег, сбывал или закладывал свои учебники. В его-то лавку и задумал я закинуть удочку рыбака, ибо помнил, что он интересовался книгами по астрологии, по алхимии и по магии, кажется, и сам погруженный в изыскания философского камня.
Лавка Глока не переменилась нисколько за десять лет, и я почувствовал себя опять студентом, когда, переступив порог, очутился в темноватой каморке, с единственной дверью на улицу и без окон, набитой ворохами всевозможных книг, то старых, писаных, то новых, печатных, то подержанных, то свежих, то в пестрых обложках, то в кожаных переплетах с застежками. Сам Яков Глок, среди многоярусных полок, аккуратных столбиков из in-quarto и беспорядочных груд из боевых листков, сидел на поломанной скамье, владыкою всех этих манускриптов, опускулов[80] и фолиантов, запертых в его лавке, словно ветры в пещере Эола. Увидя меня, Глок опустил очки на нос, положил гравюру, которую рассматривал, на колена, повернул ко мне небритый подбородок и стал ждать, что я скажу, конечно, не признавая во мне старого знакомого.
Припоминая характер Глока, я начал издалека, назвался проезжим ученым, сказал, что много слышал о его богатом собрании и что нарочно прибыл в город Кельн, имея в виду написать сочинение по некоторым вопросам богословия, соприкасающимся с магией, чтобы приобрести нужные книги[81]. Выслушав мою речь, Глок долго смотрел на меня, по-стариковски шевеля губами, потом поднял опять очки на глаза, взялся за гравюру и сказал:
— Я торгую только книгами, одобренными церковью. Поезжайте на ярмарку во Франкфурт: там вы получите все, что вам нужно.
Я понял, что старик боится, не шпион ли я инквизитора, всячески постарался разуверить его в этом и упомянул, что в прежние годы его торговля славилась на всю Германию тем, что у него, как в сокровищнице лидийского Креза, можно было найти все на все вкусы.
Поддавшись на лесть, Глок заворчал в ответ:
— Мало ли что прежде бывало! Разве наш Кельн теперь тот же? У нас здесь считалось студентов столько же, сколько во всех других немецких университетах вместе, а теперь меньше, чем в любом. На что теперь кельнцам книги, когда у нас пошли такие попы, как Иоганн Райм, который едва умеет пролопотать мессу и вряд ли в силах прочитать по латыни часы[82]!
Таким образом, разговор был завязан; я поддакнул старику, напомнил ему счастливые времена Кельна, навел его на разговор о книгах и издателях и покорно целый час слушал его восхваления славных печатников, от Ульриха Целля[83] до Иоганна Сотера, похвалы несравненным изданиям Альдо Мануция и Генриха Стефана и рассуждения о преимуществах разных почерков и разных шрифтов, как готический, римский, антиква, батард, курсив. В награду за то, прощаясь со мной, старик сказал мне более добродушно:
— А вы, милостивый господин, заходите еще; мы с вами пороемся в этих грудах, — может, что-нибудь и найдем для вас подходящее: мало ли что мне в лавку ветром заносит, хе-хе-хе!
На следующий день я, конечно, не преминул опять быть у Глока, и он встретил меня, как доброго приятеля. Опять промучив меня разговорами немалое время, он потом продал мне крохотное opusculum, отпечатанное в Кельне: «Das Geheimniss der heiligen Gertrudis zur Erlangung zeitlicher Schatze u. Giiter»[84], одно из самых непонятных сочинений, какие я когда-либо читал, и мне совершенно непригодное, причем взял с меня за него несообразную цену в пять гульденов. Зато еще через день Глок уже позволил мне рыться в его сокровищах, и я выловил там несколько рукописей, наполненных заклинаниями и магическими фигурами, под заманчивыми заглавиями: «Buch Mosis und dreifacher Hollen-zwang», «Machtige Beschworungen der hollischen Geister», «Hauptzwang der Geister zu menschlichen Diensten»[85] и т. под., за которые все мне пришлось платить очень щедро. Потом, продолжая нырять изо дня в день, как ловец жемчуга, в волны книг, выловил я постепенно, с благосклонной помощью Глока, чуть не целую библиотеку, причем он уговаривал меня не гнушаться даже сочинениями, направленными против магии, каковы, например, нелепая старая книжка, со скверными рисунками, Ульриха Молитора «De lamiis et phitonicis mulieribus», пустое opusculum Мартина Плантша «De sagis maleficiis», знаменитое сочинение Инститора и Якова Шпренгера «Malleus maleficarum»[86], прямо имеющее целью облегчить судьям распознание, обличение и наказание ведьм, и даже трактат знаменитого плохой славой доминиканца, врага гуманистов, Якова Гогстратена: «Quam graviter peccant guaerentes auxilium a maleficis»[87].
Когда же Глок нашел, что сбыл мне весь залежавшийся в его лавке товар, он растворил передо мною шкаф, где хранились у него действительно научные сочинения по этой части, и для меня открылся словно Новый Свет, еще более поразительный, чем поля и долины Новой Испании. Тут, наконец, попали в мои руки творения Альберта Великого, Арнольда де Вилланова, Рогерия Бакона, Роберта Английского, Ансельма Пармезанского, Пикатрикса Испанского, сочинения аббата Тритгемия, в том числе его удивительные «Philosophia naturalis» и «Antipalus maleficiorum», труд Петра Апонского «Elementa magica»[88], в котором полнота обзора сочеталась с ясностью изложения, и после всего книга, которая привела в систему все собранные таким образом знания и озарила их светом истинно философского отношения к явлениям: «Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym, de Occulta Philosophia libri tres»[89], с рукописной четвертой частью[90]. Это последнее сочинение Глок продал мне также по дорогой цене, называя издание тайным и ссылаясь на то, что на титуле не были означены ни место печатания, ни год; но после узнал я, что книга была отпечатана в Кельне, всего несколько месяцев назад, и притом с привилегией его величества императора, — и только дополнительная четвертая часть представляла некоторую редкость, так как автор, опасаясь преследований, не решился предать ее типографскому станку.
Впрочем, я не сохранил дурных чувств по отношению к Глоку, хотя он и много перетаскал у меня денег и немало истомил меня своими беседами. В конце концов он все же снабдил меня всеми нужными мне пособиями, а в старческой его болтовне попадалось немало вещей для меня не только полезных, но прямо необходимых. Я пропускал сквозь уши его речи об «уксусе мудрецов», о «голове ворона», «льве зеленом» и «красном», о «парусах Тезея» и тому подобных вещах[91], для меня лишних, равно как и его рассказы о знаменитых алхимиках и их баснословных обогащениях, — но зато ловил его драгоценные указания по вопросам оперативной магии, тщательно запоминал все его объяснения магических терминов и научился извлекать пользу из его анекдотов о славных магах, некромантах и теургах. Если сделал я некоторые успехи в изучаемой науке, то во многом был я обязан доброму старику, который хотя и мечтал о превращении свинца в золото, не забывал, однако, добывать серебро из чужих карманов более обыкновенными способами.
Эти мои посещения лавки Глока, которые я здесь так бегло описал, продолжались несколько недель, но, конечно, все это время я не терял даром и, приходя домой, тотчас засаживался за стол, склоняя глаза над страницами фолианта. Рвение мое в этой работе было так сильно, что, без сомнения, если бы я с таким же прилежанием изучал в свое время «Sententiae», «Processus», «Copulata», «Reparationes»[92] и прочие учебники, не пришлось бы мне с буйными лютеранцами грабить город святого отца и не видал бы я лугов Анагуака, но мирно читал бы лекции, как магистр, с кафедры одного из университетов. Поглощая книгу за книгой, переходя от трактата к трактату, узнавая все новые тайны, я постоянно чувствовал себя несытым, как Вергилиева Сцилла, и ум мой в те дни сделался каким-то пожирателем исписанной или печатной бумаги.
В такой мере был я увлечен своим делом, что на некоторое время стих во мне даже голос моей страсти: я как-то более слепыми глазами смотрел на Ренату и на меня меньшее впечатление производили ее слова. Мало того — меня совсем не охватывало беспокойство, когда, несколько раз, проведя весь день в задумчивости и унынии, она вдруг, не говоря ни слова, надевала плащ и удалялась на долгие часы неизвестно куда, возвращаясь только поздно ночью. Меня нисколько не трогало, когда она намеренно начинала высмеивать мою работу и нарочно говорить мне вещи обидные, называя меня трудолюбивым, но лишенным дара. Весь преданный разысканиям, размышлениям, выводам, я чувствовал свою душу как бы заживо заключенный в глыбу льда, знал, что сердце моей любви бьется, но не страдал оттого, что крылья ее недвижны.
Однако, однажды утром, после одного из своих исчезновений, Рената неожиданно, но с такой простотой, как если бы она это делала всегда, придвинула к столу два стула и сказала мне:
— Что же, Рупрехт, пора нам за работу!
Я посмотрел на Ренату с изумлением и благодарностью, поцеловал ее руку, и мы сели с ней рядом. С того дня — было это в конце сентября месяца — мы продолжали изучение тайной философии и оперативной магии вдвоем.
Так как я надеюсь, что моя Повесть будет не только занимательным чтением, но, быть может, принесет пользу кому-либо, кто попадет в такие же западни, как я, то и хочу я здесь, в коротких словах, пересказать, что с Ренатою узнали мы из прочитанных нами книг, хотя, конечно, не имею надежды исчерпать безмерный океан, именуемый областью тайных или запретных знаний.
Я полагаю, что позволено мне будет совершенно оставить в стороне пустые рассказы теологов и схоластов, которые думают, что на одних цитатах из Святого писания можно основать какую угодно науку. Писатели из этой бездельной толпы выказывают притязания знать о демонах все мельчайшие подробности, точное их число, равно как и все их имена. Одни из этих всезнаек утверждают, например, что демоны делятся на девять разрядов: первым, где собраны ложные боги, начальствует Вельзевул, вторым, где ложные пророки, — Пифон, третьим, где изобретатели всего злого, — Белиал, четвертым, где мстители за преступления, — Асмодей и т. д. Другие сообщают точную иерархию демонов, в среде которых будто бы есть император — Вельзевул, семь королей: Бэл, Пурсан, Билэт, Паймон, Белиал, Асмодей, Запан, двадцать три герцога, тринадцать маркграфов, десять графов, одиннадцать презусов и множество рыцарей, причем все они приводятся по именам. Третьи изображают двор адского владыки, сообщая точно, что при Вельзевуле великим канцлером состоит Адрамелек, казначеем — Астарот, церемониймейстером — Верделет, главным капелланом — Камоос, и не менее точно называя адских министров и военачальников, а также адских представителей при разных европейских дворах. Слишком ясно, что все эти построения исходят из общих соображений и являются подражанием современному государственному устройству на земле, тогда как истинная наука может опираться только на опыт, на наблюдения и на достойные веры показания очевидцев.
Напротив, в книгах, действительно стоящих внимания, мы часто не находили ответа на многие вопросы, которые по праву могли быть нами поставлены, ибо серьезные исследователи сообразуются не с любопытством читателя, но с пределами своих знаний. Но природа и жизнь демонов в такой мере трудно поддаются изучению, что до сих пор, несмотря на благородные и бескорыстные труды ученых, древних и новых, притом таких исполинов науки, как Альберт Великий, аббат Тритгемий, Агриппа фон Неттесгейм, — еще очень многое в этой сфере остается сомнительным или вовсе неизвестным. И во главе всякого рассуждения о демонах полезно было бы ставить справедливые слова одной из прочитанных нами рукописей: «Познать природу демонов и их силу для человека столь же трудно, как муравью понять философию универсального доктора, Фомы Аквината»[93].
Вот, однако, какое общее представление об этих вопросах составилось у нас после добросовестного изучения собранной библиотеки.
Демоны принадлежат к числу разумных сущностей, сотворенных богом, и делятся на три рода. Первые называются «небесными» (coelestes), обитают в сферах высших и выполняют исключительно волю бога, около которого и вращаются, как вокруг некоторого центра. Вторые называются «мировые» (mundani), ибо им поручен надзор за мирами, почему и различаются в их числе демоны Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия, Луны, также двенадцати знаков зодиака, тридцати шести небесных декурий, семидесяти двух небесных квинарий и т. п. Третьи называются «земные» (terrestres), делятся на четыре порядка — огня, воды, воздуха, суши — и постоянно обитают среди людей, незримо вмешиваясь в наши дела, причем, как естественно ожидать, из них демоны огня действуют преимущественно на наш ум, воздуха — на наши чувства, воды — на наше воображение, земли — на наше тело и его похоти. Хотя ни одна часть земли не свободна от этих демонов, все же одни из них проявляются больше в одном месте, другие — в другом, так что различают еще демонов дневных и ночных, северных и южных, восточных и западных, лесных, горных, полевых, домашних. Что же касается до общего числа демонов, то исследователи в этом вопросе не согласны между собой, и можно сказать лишь одно, что это число должно быть очень велико, превышая сотни миллионов.
Относительно тела демонов существуют сильные споры между исследователями, но приходится думать, что демоны обладают телом зыбким, тонкого состава, однако бессмертным, не подверженным тлению, не воспринимаемым обычно нашими чувствами — зрением и осязанием, способным проникать сквозь все вещества. Однако тело высших демонов, составленное из чистого эфира, более тонко, нежели тело демонов низших, в состав которого входят огонь и воздух, и тем более самых низких, состоящее также из элементов воды и земли. Чтобы стать видимыми, должны демоны образовывать для себя тело из более твердых веществ, принимая облики то туманной фигуры, то огненного духа, то бескровного, подобного трупу, человека. Собственное тело демонов не нуждается в пище и посему не имеет естественных отправлений, равно как демоны и не могут размножаться естественным путем, не имея пола и не будучи подвержены похоти. Однако, из злых целей, часто умеют они сближаться телесно с мужчинами и женщинами, как суккубы и инкубы, причем демон, являвшийся в одном случае суккубом, сберегает принятое им семя, дабы воспользоваться им в другом месте, где он будет играть роль инкуба.
Все демоны могут вступать в общения с людьми, но демоны небесные делают это только по своему желанию или по повелению божию, демоны же земные слишком слабы и ничтожны, чтобы люди нуждались в их помощи, так что обычно обращаются маги к вызыванию демонов мировых. Для вызывания мирового демона необходимо знать его имя, его характер и его заклинание. Многие демоны сами, беседуя с людьми, сообщали свои имена, почему мы и знаем их, например — двенадцати демонов зодиака: Мальхидаель, Асмодель, Амбриель, Муриель, Верхиель, Гамалиель, Зуриель, Бархиель, Адуахиель, Ганаель, Гамбиель, Бархиель. Но, по мнению исследователей, имена их можно вычислять и искусственно: из букв еврейских, соответствующих числам небесных знаков, если, начиная от знака демона, проходить, по градусам, весь небесный круг, причем в направлении восходящем, получаются имена добрых демонов, а в нисходящем — злых. Характеры или печати демонов состоят из его знака, соединенного с монограммою его имени. Знак образуется из шести корней, сообразно шести звездным долготам, к которому сводятся также планетные долготы, и соединительных линий, а монограмма пишется на одном из принятых магами алфавитов: египетскими гиероглифами, древнееврейскими буквами, особо измененными латинскими или, наконец, условными. Заклинания, которые и суть главный элемент в вызывании, составлены магами по взаимному соглашению с демонами, причем в заклинании точно означены все свойства демона и содержится убедительный призыв явиться и исполнить требуемое, все же это подкреплено властью тайных божественных имен.
Сила заклинания заключена в магическом значении чисел, которое разъяснил еще Пифагор и которое не может отрицать ни один серьезный исследователь, и в том случае, если весь порядок вызывания совершен точно, имя демона написано верно и заклинание произнесено без ошибок, демон не может не явиться магу и не подчиниться его повелению, как не может не обращаться к северу стальная игла, правильным образом намагниченная. Замечательно при этом, что различные демоны имеют излюбленные формы, в которых они обычно и появляются пред заклинателем. Так, демоны Сатурна являются стройными и изящными, с гневным взором; цвет лица их темный, движения их — как порывы ветра; перед их появлением видно бывает белое пространство, словно покрытое снегом; часто принимают они образы — бородатого короля, едущего на драконе, или старой женщины, опирающейся на палку, или существа четырехликого, или филина, или серпа, или можжевельника. Демоны Юпитера являются среднего роста, в сангвиническом теле; цвет лица их ржавый, движения стремительные, взор кроток, разговор угодлив; перед их появлением видны бывают люди, пожираемые львами; часто принимают они образы — короля с обнаженным мечом, едущего на олене, или человека в митре, в длинной одежде, или девушки в венце, убранной цветами, или быка, или павлина, или лазурного одеяния. Демоны Луны являются громадными, полными, флегматичными; цвет лица их — как темное облако, выражение — беспокойное, глаза — рубиновые и полные влаги; у них кабаньи зубы, они лысы, и движения их подобны морской зыби; перед появлением их льется дождь; часто принимают они образы — короля с луком в руках, едущего на лани, или маленького мальчика, или стрелы, или лани, или громадной сороконожки — и т. д.
Таясь во всех этих разнообразных формах, демоны вступают в беседу с заклинателем, говоря на его языке, сначала пытаются обмануть его, но потом, если он не уступает им, подчиняются его хотениям и исполняют покорно все, что только доступно их довольно, впрочем, ограниченной силе.
Таковы, в самых общих чертах, свойства демонов и порядок их заклинания.
Те сведения, которые я изложил здесь на четырех небольших страницах, собирали мы с Ренатою в продолжение почти двух месяцев, до самого конца октября, занимаясь прилежно, как самые примерные школяры. Рената не знала по-латыни, и поэтому книги, написанные на этом языке, — а таких было большинство, — мне приходилось переводить ей слово за словом, но ни в каком случае ее соучастие не было для меня затруднением. Наоборот, Рената очень во многом облегчила мне изучение, так как с необыкновенной легкостью умела истолковывать скрытое значение иных утверждений или дополнять недосказанное в книге, — что тогда я относил к ее змеиной проницательности, а ныне согласен объяснить тем, что она уже не в первый раз приступала к области тайных наук, знала и слышала о магических операциях многое такое, что остается неведомым большинству. И я уверен, что только эти воспоминания Ренаты, вместе со случайными намеками Якова Глока, дали мне возможность овладеть в такой короткий срок, как десять недель, такой сложной наукой, как магия.
Замечательно, что, присоединившись к моей работе, Рената вдруг как бы изменилась вся, и в течение тех четырех или пяти недель, которые мы трудились вместе, она неизменно оставалась в добром намерении духа и в поведении ее не было обычных странностей. Рвением и прилежанием она скоро превзошла меня, без утомления проводила среди книжных занятий целые дни, от серого утра до черного вечера, забывая и церковные службы, и городские празднества. Не раз случалось, что, когда я уже падал от усталости и ум мой отказывался воспринимать далее, Рената не хотела отойти от стола и, упрекая меня, раскрывала новый том. Она готова была стучать заступом мысли в черных шахтах печатных строк без перерыва, ночью как днем, и никогда не ослабевала ее рука в этой работе, и никогда не притуплялась ее радость, когда опять выносили мы на свет из этих глубин новый слиток золота.
Впрочем, у этой неутомимости Ренаты было и свое объяснение, ибо, приблизившись к тайнам магии, она скоро уверовала, как всегда, слепо и упрямо, что с их помощью действительно сумеет вернуть любовь своего графа Генриха. Что же касается меня, то, наоборот, погружаясь в изучение тайных наук, я постепенно терял из виду свою первоначальную цель и увлекался своей работой уже бескорыстно, как истинный адепт. Покоренный величием тех далей, которые открывались передо мною — мира демонов, в который наш мир человеков вброшен как малый остров среди океана, — я временно как бы забыл о графе Генрихе и о клятве, данной мною Ренате. Мне так хорошо было носиться с нею вместе по волнам книг, рукописей, чертежей, вычислений, что, завидев наконец за гребнями волн тот берег, к которому сам держал курс корабля, как-то не мог я обрадоваться и не спешил войти в гавань. И когда Рената, после того как овладели мы основами церемониальной магии, уже торопила меня применить наши знания к делу, я долго еще находил предлоги, чтобы отложить решительный день, ссылаясь на недостаточность этих знаний.
II
Наконец, в первые дни ноября месяца, подошедшего к нам неслышно с холодными ветрами и долгими сумерками, не осталось у меня никаких возражений, и увидел я необходимость уступить настойчивости Ренаты. От книжных и теоретических занятий перешли мы к практике и взялись за последние приготовления к небезопасному опыту, что было еще очень не легко, так как надо было с предосторожностями приобретать нужные, но редкие предметы и с большой тщательностью изготовлять необходимые инструменты. Рената и в этом деле помогала мне так же терпеливо и бодро, с каждым днем все более и более уверенная, что час ее свидания с графом Генрихом недалек, говоря мне об этом с крайней бессердечностью, словно не примечая, какую мне это причиняло муку. Во мне же, по мере приближения назначенного дня, вырастали, как привидения, дурные предчувствия и, стоя в углах моей души, угрюмо кивали головами и на слова Ренаты, и на мои ответы ей.
Предполагалось сначала, что заклинателем выступлю я один, так как Ренате казалось, что ее участие в этом деле запятнает ее душу, которую хотела она сохранить чистой для своего Генриха. Я постарался опровергнуть это соображение, указав на то, что мы будем искать власти над демонами не для низменных выгод, но с благою целью; заставлять же злых духов трепетать и повиноваться есть дело достойное, которого не чуждались многие из блаженных, как, например, св. Киприан и св. Анастасий[94]. После некоторого колебания Рената согласилась со мною, но, как мне кажется, более потому, что не совсем доверяла моим способностям как мага и боялась, что я что-либо существенное забуду или не сумею исполнить. Таким образом, к решительному опыту приступили мы вдвоем, magister cum socio[95].
Самое заклинание, произведенное нами, я хочу описать во всех подробностях, чтобы человек опытный и сведущий, если в его руки попадет эта Повесть, мог определить, что было нами упущено и чем объясняется жалкий и трагический неуспех нашего предприятия.
Днем, избранным нами после долгих обсуждений, была пятница, 13 числа ноября месяца, потому что демонам пятницы, посвященной Венере, особенно свойственно возвращать женщинам любовь их возлюбленных; местом же операции — та самая комната, из которой пытал я свой неудачный полет на шабаш. К сроку было нами собрано там все, что могло быть необходимо для заклинания, а также позаботились мы, чтобы в целом доме в тот вечер не было никого, кроме нас, ибо сильный шум мог возбудить подозрения нашей Марты. Сами же мы готовились к опыту воздержанием в пище, полным отказом от вина и сосредоточением мыслей на одном предмете.
Первой заботой заклинателя всегда является магический круг, ибо он служит обороной от нападения враждебных сил извне, почему на исполнение этого круга, согласно с именем призываемого демона, расположением звезд, местом опыта, временем года и часом, — всегда употребляется много забот. Нами магический круг сначала был тщательно вычерчен на бумаге, и лишь в день опыта перенесен углем на пол комнаты. Состоял он из четырех концентрических окружностей — б́ольшая с диаметром в девять локтей, — образовавших три замкнутых, друг в друга включенных круга: внешний, средний и внутренний, каждый шириною в ладонь. Средний круг был разделен на девять равных частей, и в этих домах было написано: в первом, обращенном прямо на запад, тайное название часа, избранного нами для заклинания, именно пятничной полночи, Nethos; во втором — имя демона того часа, Sachiel; в третьем — характер этого демона; в четвертом — имя демона того дня, Anael, и его слуг, Rachiel и Sachiel; в пятом — тайное название того времени года, то есть осени, Ardarael; в шестом — имя демонов того времени года, Tarquam и Guabarel; в седьмом — название корня того времени года, Torquaret; в восьмом — имя земли в то время года, Rabianara; в девятом — имена солнца и луны, какие имеют они в то время года, Abragini и Mata-signais. Внешний круг был разделен на четыре равных части, и в этих домах, обращенных строго на запад, север, восток и юг, были написаны: имена демона воздуха, начальствующего в тот день, Sarabotes rex, и его четырех слуг: Amabiel, Aba, Abalidoth, Flaef. Внутренний круг был разделен на четыре части, и в этих домах были написаны вечные божественные имена: Adonay, Eloy, Agla, Tetragrammaton. Наконец, то пространство, внутри трех кругов, где должны были помещаться заклинатели, было разделено крестом на четыре сектора, а вне кругов, на четырех странах света, были вычерчены пятиугольные звезды.
Когда приблизилось время полночи, внимательно заперев все входы дома и еще раз удостоверившись, что в нем нет никого, кроме нас, мы вошли в комнату опыта. Здесь оба, и Рената и я, мы облачились в новые, нарочно приготовленные одежды из чистого белого льна, длинные, закрывавшие нам ноги и перехваченные поясом из такого же материала. На головы надели мы также льняные уборы, подобные митрам, на передней части которых было написано божественное имя; ноги же наши остались босыми. При этом облачении произносили мы установленную молитву: «Ancor, Amacor, Amides, Theodonias, Anitor, per merita angelorum tuorum sanctorum, Domine, induam vestimenta salutis, ut hoc, quod desidero, possim perducere ad effectum»[96]. В руки мы взяли по магическому жезлу, сделанному из дерева, без сучьев и с металлическим, подобным маленькому мечу, оконечником. Затем, не вступая еще в круг, возложили на стол, поставленный в стороне и покрытый белой льняной скатертью, пергамент с знаком пентаграммы и с именем и характером демона Aduachiel, ибо солнце было тогда в знаке Стрельца, на деревянный треножник, помещенный у самого круга, с его западной стороны, librum consecratum[97], то есть тетрадь, где были тщательно вписаны все заклинания, которые намеревались мы произнести в тот день. Около треножника зажгли две свечи из чистого воска, а на четырех пятиугольных звездах — четыре глиняных лампады, наполненные чистым растительным маслом с растительными же светильниками.
Когда все было так приготовлено, я посмотрел на Ренату и увидел, что волнение ее дошло до предела крайнего: руки ее дрожали, лицо было бледно и едва могла она держаться на ногах. Тогда я обратился к ней, как magister к своему socio: «Друг, помни важность этого часа», — и поспешил с началом опыта. Обрызгав все кругом нами освященной водой с произнесением установленных слов: «Asperges me, Domine»[98], я решительно вступил в магический круг с его западной стороны, через оставленную там в чертеже дверь, и, увидя, что Рената последовала за мной, замкнул вход знаком пентаграммы. В душе у меня в этот миг был холод и была печаль, но я помнил твердо и ясно все, что должен был делать.
Обратившись на четыре страны света, я призвал двадцать четыре имени демонов, сторожащих этот день, по шести с каждой страны; затем имена семи демонов, управляющих семью планетами, затем еще семи демонов, которым поручены семь дней недели, семь цветов радуги и семь металлов. Рената тем временем, освоившись со своими обязанностями товарища, осыпала лампады заготовленными нами курениями, в которые входили: лаванда, порошок папоротника и вервены, восточная стираксовая смола, особенно же мазь из растения кост, посвященного дню Венеры, и от лампад поднялись струи ароматного дыма, которые, постепенно расстилаясь, начали заволакивать всю комнату неопределенным, синеватым туманом. В то же время эти курения действовали на чувства, как пары вина, не то опьяняя сознание, не то придавая бодрости.
Тут приступил я, собственно, к заклинанию, стараясь говорить голосом приветливым, но властным. Сначала прочел я несколько церковных молитв, оберегающих заклинателей, и затем совершил призывание демонов воздуха, начинающееся словами: «Nos facti ad imaginem Dei, dotati potentia Dei et ejus facti voluntate, per potentissimum et corroboratum nomen Dei, El, forte admirabile, vos exorcisamus»[99]. Мне был слышен голос Ренаты, подававший мне ответы на мои прошения. Скоро заметил я, или мне так привиделось, что в колеблющемся дыму курений образуются и мелькают некоторые формы, вероятно, низшие духи, привлеченные запахом коста, и я устремил против них острие жезла, воспрещая им прикоснуться к нам. Полагая далее, что наступило время для крайнего заклинания, я произнес последние из подготовительных слов: «Esse pentaculum Solomonis quod ante vestram adduxi praesentiam»[100] — и т. д.
Тут в лицо мне повеял как бы некоторый холодный ветер, всколебавший мои волосы, и в эту минуту я не менее Ренаты уверен был в успехе опыта. Взглянув на нее, однако, я увидел, что дрожь ее не успокаивается и что она почти падает от изнеможения. Тогда, торопясь, начал я обходить круг, идя с запада на восток и произнося основное заклинание, обращенное к демону Анаэлю:
— Audi, Anaёl! ego, Ruprechtus, indignus minister Dei, conjuro, posco et voco te non mea potestate sed per vim, virtutem et potentiam Dei Patris, per totam redemptionem et salvificationem Dei Filii et per vim et devictionem Dei Sancti Spiritus. Per hoc devinco te, sis ubi velis, in alto vel abysso, in aqua vel in igne, in aere vel in terra, ut tu, daemon Anaёl, in momento coram me appareas in decora forma humana. Veni ergo cum festinatione in virtute nominum istorum Aye Saraye, Aye Saraye, Aye Saraye, ne differas venire per nomina aeterna Eloy, Archima, Rabur, festina venire per personam exorcitatoris conjurati, in omni tranqullitate et patientia, sine ullo tumulto, mei et omnium hominum corporis sine detrimento, sine falsitate, fallacia, doIo. Conjuro et cofirmo super te, daemon fortis, in nomine On, Hey, Heya, Ia, Ia, Adonay, et in nomine Saday, qui creavit quadrupedia et animalia reptilia et homines in sexto die, et per nomina angelorum servientium in tertio exercitu coram Dagiel angelo magno, et per nomen stellae quae est Venus, et per sigillum ejus quod quidem est sanctum, — super te, Anaёl, qui es praepositus diei sextae, ut pro me labores. El, Aly, Titeis, Azia, Hyn, Ien, Chimosel, Achadan! Va! Va! Va![101]
Я трижды успел обойти кругом, произнося это заклинание. В синеватом дыму всюду колыхались дьявольские лики, и везде от полу комнаты вставали струйки тумана, в малом виде похожие на те, какие я видел на шабаше. Но тщетно ждал я, что покажутся передо мною, в видении, играющие девочки, зовущие заклинателя принять участие в их забавах, что служило бы признаком появления демона Венеры. Проходя трижды мимо Ренаты, видел я ее в напряжении крайнем, с глазами, раскрытыми точно в исступлении, но с усилием опирающейся на свой магический жезл, как на трость. Зная, однако, что часто нужны бывают труды многих часов, чтобы привлечь демона в свою сферу, я не терял надежды и стал произносить усиленные заклинания:
— Quid tardas? ne morare! obedito praeceptori tuo in nomine Domini Bathat, super Abrac ruens, superveniens. Cito, cito, cito! veni, veni, veni![102]
Смутный гул наполнил в это время всю комнату, словно бы по листьям высоких деревьев приближался к нам ветер или дождь. Ожидание невиданного и поразительного охватило меня со всей силой; все мое тело и вся моя мысль были напряжены и готовы к обороне или к нападению. Но в эту минуту, когда я находился лицом к треножнику, всматриваясь в колыхающийся туман, раздался внезапно, сзади меня, там, где была Рената, удар столь оглушительный, словно весь наш дом распадался. С невольным вскриком я обратился назад и в первый миг увидел только одно: что лампада, та, около которой стояла Рената, погасла.
Со всей стремительностью я бросился туда с магическим жезлом, устремленным вперед, так как знал, что открывался, таким образом, доступ внутрь нашего круга для злых духов, но, вероятно, было уже поздно. Тут же, встретив лицо Ренаты, я едва узнал его, ибо было оно искажено и искривлено, и надо полагать, что один или несколько демонов, воспользовавшись прорывом круга, схватили ее и овладели ею. Рената, за минуту перед тем едва имевшая силы стоять, вдруг с силой необыкновенной отстранила меня и с поднятым жезлом кинулась к другим лампадам. У меня не было ни воли, ни средств остановить ее, и она — причем, конечно, действовал ее рукою тот, кто таился в ней, — несколькими ударами сокрушила и остальные три лампады, и две восковых свечи. Мы оказались в совершенном мраке, и вокруг нас поднялся, если то не было обманом чувств, дикий вой, и гоготание, и свист.
В эту минуту опасности я понял, что магический круг уже не защитит нас, так как все равно он нарушен, и потому, громко твердя слова отпуска: «Abi festinanter, apage te, recede statim in continenti»[103], всей силой повлек Ренату прочь из комнаты. У порога, поспешно отпирая дверь, я произнес последнее заклинание, считаемое особенно сильным: «Per ipsum et cum ipso et in ipso»[104]. Думаю, что никогда, ни в каком, самом яром, сражении с краснокожими не подвергался я такой опасности, как в этой комнате, наполненной враждебными демонами, которая подобна была той клетке с бешеными собаками и ядовитыми змеями, о которой говорила Рената. Вероятно, только крайнее присутствие духа спасло меня от смерти, потому что все-таки успел я отворить дверь и вывести Ренату сначала на свежий воздух коридора, а потом и на лунный свет, вливавшийся в ее комнату.
Но лик Ренаты продолжал оставаться страшным и совершенно на себя непохожим, ибо мне казалось даже, что глаза ее стали больше, подбородок более вытянутым, виски гораздо сильнее выступающими, нежели обыкновенно. Рената билась в моих руках яростно, сорвала с себя и митру, и льняное одеяние и неустанно, грубым, почти мужским, вовсе не своим голосом, выкрикивала какие-то слова. Прислушавшись, я понял, что она говорила по-латыни, произнося вполне правильно и отдельные восклицания, и целые связные предложения, хотя, как я упоминал, она этого языка не знала вовсе и разве только заучила несколько слов во время наших совместных чтений магических книг. Смысл ее речей был ужасен, ибо Рената осыпала проклятиями и меня, и самое себя, и графа Генриха, произносила неистовые богохуления и грозила мне и всему миру величайшими бедами.
Хотя никогда не доверял я особенно защите святых предметов, в этом моем несчастном положении, когда я каждый миг ожидал, что на нас ринутся все раскованные дьяволы из комнаты заклинаний, мне не оставалось ничего лучшего, как привлечь Ренату к маленькому алтарю, бывшему в ее комнате, и там надеяться на помощь божию. Но Рената, в исступлении, не хотела приближаться к святому распятию, крича, что ненавидит и презирает его, подымая сжатые кулаки на образ Христа, и наконец упала на пол, опять в том же припадке конвульсий, которого я уже дважды был свидетелем. Но ни разу еще не проводил я часов над ней в таком безнадежном бессилии, наклонясь над мучимой и видя, как терзают ее тело демоны, овладевшие ею, может быть, по моему попущению.
Понемногу опасения мои успокоились, и я почувствовал, что мы уже вне опасности; также постепенно, естественным образом, миновало и мучительство Ренаты, ибо демон, бывший в ней, в последний раз крикнув мне, что мы еще с ним встретимся, покинул ее. Но мы оба, простертые на полу, около распятия, напоминали потерпевших крушение в море, достигших какой-то малой скалы, все потерявших и уверенных, что следующий водный вал смоет их и поглотит окончательно. Рената не могла говорить, и слезы, безмолвные, катились по ее лицу, а у меня не было речей, чтобы утешать или ободрять ее. Так оставались мы, молча и без сна, на полу, до самого рассвета, когда я на руках перенес Ренату в постель, ибо не могла она ни ходить, ни стоять и не способна была сама принять какое-либо решение. Сознаюсь, что бывали минуты, когда спрашивал я себя, не лишилась ли от потрясения она рассудка, и лишь два-три отрывистых слова, слабо произнесенных ею, показали мне, что в ней бьется ее прежняя душа.
Мне же, когда рассвело, первым долгом предстояло позаботиться об том, чтобы уничтожить следы нашего ночного опыта, и я, не без некоторого трепета, вошел в комнату заклинаний. Там стоял дым от курений, лежали разбитые черепки лампад, но больше не было никаких повреждений, и никто не помешал мне убрать комнату и стереть с пола следы магических кругов, с таким тщанием начертанных мною. Так окончился предпринятый нами опыт оперативной магии, к которому готовились мы более двух месяцев и на который сначала я, а потом Рената — возлагали такие богатые надежды.
После этого дня Рената снова впала в черное отчаянье, из которого на некоторое время была выведена совместными нашими трудами над познанием магии и верой в успех; но этот ее припадок тоски далеко превзошел по силе все предыдущие. В прежние дни она находила в себе волю и охоту, споря, доказывать мне, что у нее есть много причин для печали, — теперь же она не хотела ни говорить, ни слушать, ни отвечать. Первые дни, больная, она лежала в постели неподвижно, обратив лицо к подушке, не произнося ни слова, не шевеля ни одним мускулом, не открывая глаз. Потом, все в той же безучастности, она стала проводить часы, сидя на скамье, устремив глаза на угол своей комнаты, занятая своими мыслями или ничем не занятая, но не слыша, когда ее звали по имени, словно деревянное изваяние какого-нибудь Донателло, только порою слабо вздыхая и тем обнаруживая признаки жизни. Так могла бы Рената просиживать и ночи, если бы я не убеждал ее, с наступлением темноты, ложиться в постель, но несколько раз мне приходилось убеждаться, что все же большую часть времени до утра она проводит без сна, с открытыми глазами.
Все мои попытки вызвать в Ренате интерес к существованию оставались в те дни бесплодными. На магические книги она не могла смотреть без отвращения; когда же я заговаривал с ней о повторении нашего опыта, она отрицательно и с презрением качала головой. На мои приглашения идти в город, на улицу, она только молча пожимала плечами. Пытался я, не без задней мысли, даже заговаривать с нею о графе Генрихе, об ангеле Мадиэле, обо всем, самом заветном для нее, но Рената большею частью просто не слышала моих слов или, наконец, произносила в ответ болезненно все одно и то же: «Оставь меня!» Только один раз, когда я особенно настойчиво приступил к ней с просьбами, Рената сказала мне: «Разве ты не понимаешь, что я хочу замучиться! На что мне жизнь, если у меня нет и уже не будет никогда самого главного? Мне здесь сидеть и вспоминать хорошо, — зачем же ты заставляешь меня куда-то идти, где мне больно от каждого впечатления?» И после этой длинной речи она опять впала в свое оцепенение.
Эта затворническая, неподвижная жизнь, причем Рената почти не принимала пищи, быстро сделала то, что глаза ее впали, как у мертвой, и обвились черноватым венцом, лицо посерело, а пальцы стали прозрачными, как тусклая слюда, так что я с содроганием сознавал, что она определенно близится к своему последнему часу. Скорбь без устали рыла в душе Ренаты черный колодезь, все глубже и глубже вонзая лопаты, все ниже и ниже опуская свою бадью, и нетрудно было предвидеть день, когда удар заступа должен был перерубить самую нить жизни.
Глава шестая О моей поездке в Бонн к Агриппе Неттесгеймскому и о том, что он сказал мне
I
Нелегко остановить повозку, раскатившуюся по одной дороге; так и я не мог сразу свернуть с того пути, по которому, в течение последних месяцев, неуклонно стремилась моя жизнь. После неудачи нашего опыта я все еще не в силах был думать ни о чем ином, как о заклинаниях, магических кругах, пентаграммах, пентакулах, именах и характерах демонов… Тщательно пересматривал я страницы изученных книг, стараясь найти причину неуспеха, но только убеждался, что нами все было исполнено правильно и согласно с указаниями науки. Конечно, отважился бы я повторить вызывание и без помощи Ренаты, если бы не останавливала меня мысль, что ничего нового в свои приемы внести я не могу и что, следовательно, ничего нового не вправе и ожидать.
В этой моей неуверенности, как огонь маяка в белом береговом тумане, стал мерцать мне один замысел, который сначала отгонял я как неисполнимый и безнадежный, но который потом, когда мечта с ним освоилась, показался досягаемым. От Якова Глока знал я, что тот писатель, сочинение которого о магии было для меня самой ценной находкой среди всего собранного мною книжного богатства и который дал мне наконец ариаднину нить, выведшую меня из лабиринта формул, имен и непонятных афоризмов, — доктор, Агриппа Неттесгеймский, проживал всего в нескольких часах езды от моего местопребывания: в городе Бонне, на Рейне же[105]. И вот, все более и более, стал я задумываться над тем, что мог бы за разрешением своих сомнений обратиться к этому человеку, посвященному во все тайны герметических наук и действительно знавшему из опыта и из сношений с другими учеными многое такое, что неуместно было бы передавать через печать profano vulgo[106]. Казалось мне дерзким личными своими делами встревожить работу или отдых мудреца, но в тайне сердца не почитал я себя недостойным встречи с ним и не думал, что моя беседа покажется ему смешной и нелюбопытной.
За советом, еще не решив, как поступить, я отправился в лавку к Глоку, у которого не бывал уже давно и который, увидя меня, весьма обрадовался, так как любил во мне покорного слушателя. На этот раз пришлось мне выдержать многоречивый панегирик Бернарду Тревизанскому, одному из немногих, нашедших камень философов, — и только когда у Глока иссяк запас восторженных слов или, может быть, пересохло в глотке, приступил я к изложению своего дела. Осторожно объяснил я, что мои занятия магией приближаются к концу, что, однако, выводы, к которым я пришел, сильно уклоняются от обычных воззрений, и что я, прежде, нежели изложить свои мнения в сочинении, желал бы представить их на обсуждение истинному авторитету в этих вопросах; при этом я назвал имя Агриппы и высказал предположение, что Глок, благотворная деятельность которого известна всей Германии, может оказать мне в этом деле некоторую помощь. К немалому моему удивлению, Глок не только с настоящим вниманием отнесся к моему замыслу, но изъявил готовность ему способствовать и тут же пообещал достать мне рекомендательное письмо к Агриппе от его издателя, с которым был сам в отношениях дружеских. Это обещание принял я как omen bonum[107] и подумал, не сама ли богиня Фортуна приняла на сегодня дряхлый образ старого книгопродавца, чтобы подвигнуть меня в путь, как принимала в песнях божественного слепца богиня Минерва образ старого Ментора.
Через два дня после этого Глок, сдержав свое слово, в самом деле прислал мне письмо, на котором была сделана надпись: «Doctissimo ас ornatissimo viro, Henrico Cornelio Agrippae, comprimis amico Godefridus Hetorpius»[108], и тогда показалось мне даже неприличным отказаться от своего предприятия. Разумеется, смущало меня то, что я должен был покинуть Ренату, но ведь, находясь близ нее, ничем не в силах был я помочь ее тягостному недугу, у корня подрезавшему ее жизнь. Пытался было я переговорить с Ренатою о своем плане, но она не хотела вникнуть в смысл моих слов и жалобным знаком руки просила меня не мучить ее объяснениями, так что, сжав губы, решил я действовать на свой страх, отправился покупать себе лошадь и достал из угла свой запылившийся дорожный мешок. Когда же, в самый день отъезда, ранним утром, пришел я к Ренате в комнату проститься и сказал ей, что все-таки еду по общему нашему делу, она мне ответила так:
— У нас с тобою общего дела быть не может: ты — живой, я — мертвая. Прощай.
Я поцеловал руку у Ренаты и вышел, словно действительно из комнаты, где стоит гроб и дымятся похоронные свечи.
Между городами Кельном и Бонном всего несколько часов хорошей верховой езды по имперской дороге, но так как началась уже зимняя погода и каждый час можно было ожидать снега, то дорога была испорчена жестоко, и мне пришлось путешествовать целый день, от зари до темноты, не раз отдыхая во многочисленных деревенских гостиницах, в Годорфе, Весселинге, Виддиге, Герзеле, а даже едва не заночевав в самом близком расстоянии от города. Скажу также, что новая моя одежда из темно-коричневого сукна, которую я сшил себе уже в Кельне и впервые надел для этого посещения Агриппы, пришла в очень плачевный вид, и нисколько не защитил ее мой верный товарищ — морской плащ, видавший бури Атлантического океана. Однако все время пути был я в таком бодром настроении духа, какого не знавал уже давно, ибо, впервые после нескольких месяцев покинув Ренату, я как будто обрел потерянного самого себя. Испытывал я такое ощущение, словно из темного погреба вдруг вышел на ясный свет, и мой одинокий путь вдоль Рейна в Бонн казался мне непосредственным продолжением моего одинокого пути из Брабанта, а недавние дни с Ренатою — мучительным сновидением на одной из дорожных станций.
Впрочем, никак не забывал я о цели своей поездки, и меня очень тешила мысль увидеть Агриппу Неттесгеймского, одного из величайших ученых и замечательнейших писателей нового времени. Поддаваясь игре воображения, знакомой, вероятно, каждому, представлял я себе во всех подробностях мое посещение Агриппы, и, слово за словом, повторял я мысленно те речи, которые я ему скажу и какие услышу в ответ, причем иные из них, не без затруднения, составлял даже по-латыни. Мне хотелось верить, что явлюсь я перед Агриппою не как неопытный ученик, но как скромный молодой ученый, не лишенный знаний и опытности, но ищущий указаний и наставлений в тех высших областях науки, которые еще не достаточно разработаны и где не стыдно спрашивать о дороге. Я воображал себе, как Агриппа будет сначала слушать мои рассуждения не без недоверия, потом — с радостным вниманием, и как, наконец, пораженный моим умом и богатым запасом моих сведений, в удивлении спросит, как успел я в мои годы достичь такой редкой и разносторонней учености, и я ему отвечу, что лучшим моим руководителем были его сочинения… И немало других, не менее вздорных, невероятных и просто немыслимых разговоров подсказывало мне детское тщеславие, неожиданно вынырнувшее со дна моей души в часы трудного пути по холодным и пустынным зимним полям архиепископства.
Издрогший и усталый, но не потерявший бодрости, добрался я до ворот Бонна уже после третьего звона с башни, совсем в темноте, и не без труда добился пропуска у ночной стражи, так что пришлось мне не быть особенно разборчивым в выборе места для ночлега и охотно принять комнату в первой попавшейся гостинице, помнится, под вывеской «Золотой Лозы».
Утром следующего дня, как то всегда водится в маленьких гостиницах, хозяин ее пришел ко мне осведомиться, не нуждаюсь ли я в чем, а больше из любопытства, чтобы выведать, кто такой его новый постоялец. Я встретил его не без довольства, ибо надо мне было расспросить, где именно живет Агриппа, да и приятно мне было показать, что приехал я к такому человеку. А так как хозяин оказался местным старожилом, то, в придачу к сведениям об улице, на которой стоит дом Агриппы, услышал я и городские толки про него.
— Как не знать Агриппы? — сказал мне хозяин. — Его всякий мальчишка у нас давно заприметил, и, правду сказать, избегает! Хорошего про него говорят мало, а дурного — много. Рассказывают, что занимается он чернокнижием и знается с Дьяволом… Во всяком случае, сидит он в своем гнезде, как сыч, и иногда неделями не показывается на улице. Что не больно-то он хороший человек, можно судить уже потому, что двух своих жен он уморил, а третья вот только что, месяца не прошло, как развелась с ним. Но, впрочем, я прошу вашу милость простить меня, если это ваш добрый знакомый, потому что рассказываю я это все только по слухам, а мало ли что люди говорят: всех не переслушаешь!
Я поспешил заверить, что с Агриппою нет у меня дружбы никакой, а только денежные дела, и хозяин, приободрясь, но голос понизив, стал мне передавать уже всякие небылицы про славного гостя их города[109]. Так, рассказал он, что у Агриппы всегда есть несколько домашних демонов, которые живут с ним под видом собак; что Агриппа на диске луны читает обо всем, что совершается на разных концах земли, и потому знает все новости без послов; что, владея тайной превращения металлов, часто расплачивается он монетами, которые имеют всю видимость добрых, но впоследствии превращаются в куски рога или навоза; что знатным людям в магическом зеркале показывает он все их будущее; что молодые годы, состоя в Италии при испанском генерале Антонио де Лейва, магическими силами обеспечивал своему начальнику успех во всех предприятиях; что однажды видели Агриппу в городе Фрибурге кончающим публичную лекцию ровно в десять часов утра, в тот самый миг, когда он же начинал другую публичную лекцию за много миль оттуда, в городе Понтимуссах[110], — и множество других, столь же сомнительных историй.
Эти пустые россказни слушал я с удовольствием не потому, чтобы верил им, но потому, что мне казалось лестным идти в дом к столь поразительному человеку. И когда, по моим соображениям, настал час, удобный для посещения, я, еще раз оправив свое платье, вышел из гостиницы с видом гордым и, идя по улицам, втайне желал, чтобы прохожие заметили, куда я направляюсь. Вспоминая теперь те свои самодовольные мечтания, не могу я не улыбнуться, горько и грустно, ибо судьба, играющая с человеком, как кот с мышью, сумела тут посмеяться надо мною с тонкой жестокостью. Вместо роли триумфатора, которую мне присваивало мое самолюбие, заставила она меня разыгрывать роли, гораздо менее почетные: уличного буяна, пустого кутилы и школьника, которому учитель делает выговор.
По данным мне указаниям я довольно легко отыскал дом Агриппы, — на краю города, у самой стены, довольно большой, хотя только в три этажа, со многими пристройками, старинный, суровый и строго обособленный от других зданий. Я постучал у входа, потом, не получив ответа, повторил стук, и, наконец, толкнув дверь, оказавшуюся незапертой, вошел в обширные и пустые сени, и, на звук голосов, проник дальше, во вторую комнату. Там, за широким столом, вокруг миски с каким-то дымящимся блюдом, сидело, весело болтая и хохоча, четверо молодых людей, которых я принял за домовых слуг. Услышав скрип растворяемой двери, они смолкли и обернулись ко мне, а из-под стола, с ворчанием и скаля на меня зубы, вышли две или три породистых собаки.
Я спросил вежливо:
— Могу ли я видеть доктора Агриппу Неттесгеймского, который, кажется, живет в этом доме?
Один из полдничавших, рослый малый, с лицом итальянца и с итальянским выговором речи, крикнул мне в ответ грубо:
— Как вы смеете входить в чужой дом, не постучавшись? Это — не пивная и не ратуша! Уходите, пока мы не указали вам дороги к двери!
Этот окрик до такой степени противоречил всем моим ожиданиям, что подействовал на меня, как удар по лицу, — сразу потерял я обладание собою и, в порыве безотчетного гнева, крикнул в ответ тоже неосмотрительные и резкие слова, что-то вроде следующих:
— Ты ошибаешься, приятель, говоря, что я вошел без стука! Но в этом доме лакеи бражничают, вместо того чтобы исполнять свои обязанности! Ступай и осведомься у своего господина, как тебе обращаться с его гостем, потому что вот у меня к нему рекомендательное письмо от его друга.
Слова мои произвели впечатление сильнейшее. Один из сидевших вскочил с яростным ругательством и устремился на меня с сжатыми кулаками, опрокинув скамью, другой бросился ему на помощь, третий, напротив, пытался удержать товарищей, а собаки начали кидаться на меня с лаем и рычанием. Я, видя себя неожиданно вовлеченным в бесславную схватку, обнажил свою испытанную шпагу и, размахивая ею, отступил к стене, повторяя, что проколю насквозь первого, кто приблизится на расстояние удара. В продолжение нескольких минут все вокруг напоминало покои царя Улисса перед началом избиения женихов, и легко могло статься, что, ввиду неравенства сил, за свою заносчивость расплатился бы я жизнью, и никто, конечно, не поинтересовался бы убийством неизвестного проезжего.
По счастию, однако, исход распри был более мирным, потому что одержали верх голоса более благоразумных, которые убеждали, что у нас нет никакого повода к кровавому столкновению. Тот из молодых людей, которого, как я узнал вскоре, звали Аврелием, принудил нас разойтись, сказав нам такую речь;
— Господин приезжий и товарищи! Не давайте богу войны Марсу торжествовать в этом доме, посвященном богине мудрости — Минерве! Господин приезжий виноват, обращаясь с нами, как с челядью, но и мы виноваты, встретив человека благородного столь пренебрежительно и невежливо. Принесем взаимные извинения и выясним, в чем недоразумение, трезво, как подобает людям мыслящим.
Говоря правду, я был рад подобному обороту дел, избавлявшему меня от бессмысленной, но опасной драки, и, поняв, что вижу перед собою не слуг Агриппы, но его учеников, вторично в учтивых выражениях изложил поводы моего посещения, назвал свое имя, показал рекомендательное письмо и объяснил, что нарочно приехал из другого города, чтобы переговорить с Агриппою.
Аврелий ответил мне:
— Не знаю, удастся ли вам увидеть учителя. Он имеет обычай работать в своем кабинете, не выходя из него, по нескольку суток подряд, и никто в доме не смеет в это время его тревожить, так что даже обед и питье ставят для него в соседней комнате. Там же кладут ему и все присылаемые письма, так что, если вы передадите нам ваше, мы его включим в то же число.
После такого заявления не оставалось мне ничего лучшего, как вручить Аврелию письмо Геторпия и откланяться, довольствуясь тем, что так счастливо разрешилось мое первое в доме Агриппы приключение, в котором вел я себя не совсем достойно. Однако надо думать, что тот день принадлежал к числу несчастных, dies nefasti[111], потому что и Аврелий и я, оба мы вздумали загладить следы нелепой ссоры, забывая пословицу, что кто отыгрывается, проигрывает вдвое. Так, Аврелий убедил всех своих товарищей подать мне руку и по одному представлял их мне.
— Это, — говорил он, указывая на того, с кем началась у меня перебранка, — самый из нас старший, родом из Италии, и мы зовем его Эммануэлем; как уроженец юга, он вспыльчив и необуздан; а это — маленький Ганс, самый младший из нас, не по имени только Иоанн, но и по любви к нему учителя; а это — дельный малый, голова и кулак, каких немного, по прозвищу Августин; наконец, перед вами я сам — Аврелий, человек кроткий, как вы сами видели, а потому надеющийся наследить землю[112].
Я же не только пожал всем руки, но, на беду, предложил, в знак того, что не осталось между нами никакого недоразумения, выпить вместе кварту вина в одном из трактиров. Посоветовавшись между собою вполголоса, ученики согласились на мой зов, и без промедления все, впятером, отправились мы из дома Агриппы под гостеприимный кров лучшей в городе гостиницы под вывеской «Жирных Петухов»[113].
Расположившись в большой и еще совершенно пустой в тот ранний час комнате трактира за стаканами, в которых искрился радостный шарлахбергер[114], и за кругом доброго южного сыра, мы очень скоро забыли недавние вражеские друг на друга взгляды. Вино, по выражению Горация Флакка, explicuit contractae seria frontis, разгладило на наших лбах морщины, и голоса наши стали громкими, живыми и радостными, так что сторонний наблюдатель мог бы принять нас за обычных собутыльников, не знающих тайн между собою. Но напрасно старался я навести разговор на сокровенные знания и на магию, думая, что ученики великого чародея за бокалами будут похваляться своими частыми сношениями с демонами, — их мысли были всего дальше от этих предметов. Здоровые и веселые, болтали они обо всем на свете: об успехах лютеранства, о своих любовных похождениях, о приближавшихся праздниках св. Катарины и св. Андрея с их забавными обрядами[115], — и я почувствовал себя опять студентом среди своих давних кельнских собутыльников. И только один юный Ганс держался среди нас особняком, пил мало и был похож на девушку, которая по стыдливости говорит «спутники» вместо «панталоны»[116].
Когда наконец прямо стал я расспрашивать об Агриппе и его теперешней жизни, изо всех уст посыпались жалобы, для меня очень неожиданные. Августин признался, что переживают они время очень плачевное, что учителя теснят кредиторы, а у него почти нет других доходов, кроме прибыли от продажи его сочинений. Аврелий добавил, что из-за этой стесненности в деньгах принужден был Агриппа вступить на службу к нашему архиепископу, а тот поручает ему такие недостойные занятия, как устройство праздников и присмотр за ними. Наконец, Эммануэль с бранными словами напал на третью жену Агриппы, с которой он только что развелся, находя, что все беды принесла с собой эта женщина, и всячески выхваляя его покойную жену, Жанну-Луизу, к которой, кажется, был неравнодушен. Начал Эммануэль также рассказывать мне о прекрасных днях, какие знали они все в Антверпене, когда Агриппа процветал под покровительством, ныне уже покойной, принцессы Маргариты Австрийской; когда дом их был оживленным, веселым, вечно наполненным смехом и шутками; когда учитель, его жена, его дети и его ученики составляли одну дружную семью… К сожалению, шкипером нашей беседы был бог Вакх, и конец рассказа, не достигнув пристани, затонул где-то под штормом неожиданных шуток и насмешек Августина. Одно только мог я заключить с достоверностью: что Агриппа, если и умел делать золото для других и доставлять успех другим, не пользовался своим искусством для самого себя.
Однако, несколько времени спустя, мы опять повернули к интересным берегам, потому что захмелевшие собеседники стали настойчиво добиваться от меня, с каким делом приехал я к Агриппе. Я не в силах был сказать ни слова этим беспечным ребятам о Ренате и потому отозвался кратко, что хочу спросить некоторых советов по вопросам оперативной магии.
К моему справедливому удивлению, этот ответ был встречен дружным смехом.
— Ну, друг, — сказал Аврелий, — попали вы не метко в цель! Придется вам ехать назад с тем же багажом, с каким приехали!
— Неужели Агриппа, — спросил я, — до такой степени оберегает свои сведения в тайных науках и так неохотно делится ими?
Тут в разговор вмешался Ганс, молчавший почти все время.
— Как обидно, — воскликнул он, — что на учителя всегда смотрят, как на чародея! Неужели всегда Агриппа Неттесгеймский, один из самых светлых умов своего века, должен будет платиться за увлечения своей молодости и его будут знать только как автора слабой и неудачной книги «О сокровенной философии»[117]?
Изумленный, я указал, что книгу Агриппы по магии никак не могу почитать неудачной, что, кроме того, она только что вышла из печати и что, следовательно, сам автор придает ей, еще теперь, некоторое значение.
Ганс ответил мне, негодуя:
— Разве же вы не читали предисловия к книге, где учитель объясняет это? Его книга распространилась по всей Европе в списках неверных, со вздорными дополнениями, вроде нелепой ее «четвертой части», и учитель предпочел напечатать свой подлинный текст, чтобы отвечать только за свои слова. Но в самой книге нет ничего, кроме изложения разных теорий, которые учитель изучал как философ. Нас он сам заверил, что никогда, ни одного раза в жизни не приходило ему в голову заниматься такими пустяками или такими нелепостями, как вызывание демонов!
Едва Ганс произнес эти запальчивые слова, как товарищи стали потешаться уже над ним, напоминая, что еще очень недавно он сам верил в заклинания. Смешавшись и покраснев, Ганс, чуть не со слезами на глазах, просил замолчать, говоря, что тогда он был еще слишком молод и глуп. Но я, как лицо постороннее, настаивал, чтобы мне объяснили, о чем речь, и Августин, хохоча, рассказал мне, что Ганс, только что вступив в дом Агриппы, тайно унес из его кабинета книгу заклинаний и гримуаров[118] и хотел, начертив круг, непременно вызвать духа[119].
— Забавнее всего то, — добавил оправившийся Ганс, — чт́о теперь в народе рассказывают про этот случай. Уверяют, будто ученик, укравший книгу, действительно вызвал демона, но не умел отогнать его. Тогда демон умертвил ученика. Агриппа как раз в эту минуту вернулся домой. Чтобы не сочли его самого виновником этой смерти, велел он демону войти в тело ученика и отправиться на людную площадь. Там будто бы демон и покинул мертвое тело, оживленное им, так что оказалось много свидетелей скоропостижной смерти ученика. И я убежден, что эту вздорную басню включат впоследствии в биографию учителя и будут ей верить больше, чем правдивым рассказам о его работах и несчастиях!
После этого все четверо еще несколько минут говорили о демонах и вызываниях, но все время в тоне пренебрежительной шутки, и не без лукавства расспрашивали меня, в какой отдаленной местности подобрал я на ниве брошенную за ненадобностью веру в магию. Я же, слушая эти легкомысленные речи, действительно чувствовал себя, как Лютер, приехавший из своего глухого городка в Рим, где ждал он найти сосредоточие благочестия, а нашел только разврат и безбожие.
Тем временем хозяин «Жирных Петухов» усердно сменял опустевшие кварты полными, собеседники мои пили от чистого сердца, с ненасытимой жаждой молодости, а я пил, чтобы заглушить чувство стыда и неловкости перед самим собой, — и наша веселая болтовня переходила понемногу в буйное веселие. Языки наши стали выговаривать слова не отчетливо, а в головах закружились розовые смерчи, от которых все стало казаться приятным, милым и легким. Покинув темы о магах и о заклинаниях, перешли мы к беседам, более подходящим к состоянию нашей мыслительной способности.
Так, сначала поднялся у нас спор о преимуществах разных сортов вин: итальянского рейнфаля и испанского канарского, шпейерского генсфюссера и виртембергского эйльфингера, а также многих других, причем ученики Агриппы проявили себя знатоками не хуже монахов. Спор грозил перейти в драку, потому что Эммануэль кричал, что лучшее вино идет из Истрии, и грозил разбить череп всякому, кто думает иначе; но всех пятерых примирил Аврелий, предложивший спеть песенку:
Klingenberg am Main, Wurtzburg am Stein, Bacharach am Rhein Wachsen die besten Wein![120]Стихи, должно быть, как голос Музы, успокоили всех; но через минуту поднялась другая ссора о том, где женщины лучше. Эммануэль опять выхвалял свою Италию и особенно дома веселия в Венеции, но Августин уверял, что нет места лучше Нюрнберга, так как там недавно закрыли женский монастырь и все монахини перешли в публичные дома[121]. Впрочем, спор велся безо всяких правил диспутов, и, когда я только упомянул, что был в Риме, Эммануэль пришел в неистовый восторг, схватил меня в объятия и целовал, крича: «Он был в Италии! Слышите? — он был в Италии!» Чтоб и в этом случае успокоить страсти, Аврелий предложил такое решение, что лучшие женщины — в Бонне и что в этом надо немедленно удостовериться. Товарищи с криками радости согласились на доводы Аврелия и объявили, что никогда не видели более ловкого кводлибетария[122].
Запев какую-то веселую песню, но не очень твердо стоя на ногах, отправились мы, под предводительством Аврелия, куда-то на другой край города, пугая мирных прохожих. Однако свежесть зимнего воздуха довольно скоро отрезвила меня, и, когда на одном повороте маленький Ганс сделал мне знак глазами, я тотчас его понял и поспешил последовать сигналу. Задуманная военная диверсия нам удалась счастливо, и скоро мы остались одни в пустынном переулке.
— Мне показалось, — сказал Ганс, — что вам не было заманчивым продолжать попойку, а я считаю такое времяпрепровождение и вредным, и бесполезным. Хотите, поэтому я вас провожу к вам домой?
Я ответил:
— Вы совершенно правы. Я вас благодарю и очень прошу в самом деле оказать мне услугу, потому что вино в этом городе, кажется, вдвое крепче, чем на всем свете, и без вас я не найду другой дороги, как в ближайший ров.
Маленький Ганс добродушно засмеялся и принял во мне самое близкое участие. Не только он проводил меня в мою гостиницу, но и уложил в постель, где тотчас же придавил меня мутный сон. А когда, спустя несколько часов, я проснулся, не совсем, конечно, освеженный, с сильной еще головной болью, но с проветренным сознанием, — я увидел, что Ганс не покидал меня и заготовил мне какое-то питье и ужин.
— Я — медик, — объяснил мне Ганс, — и не счел хорошим покинуть больного в том виде, в каком вы находились.
Гансу было лет двадцать, а может быть, меньше. Он был невысок ростом и некрасив лицом, которому несколько смешной вид придавали кругловатые глаза навыкате под круто изогнутыми бровями, но молодое лицо изобличало ум и было приятно. В разговоре, который завязался у нас тотчас, этот безбородый юноша выказал проницательность, большие сведения в науках и даже знание жизни. И вот, под впечатлением минутного порыва, который управляет нашими поступками чаще, чем рука холодного соображения, а может быть, и не без влияния еще не вполне миновавшего опьянения, я рассказал маленькому Гансу то, что утаил от его старших товарищей: зачем я приехал к Агриппе и вообще, что пришлось мне пережить за последние месяцы, умолчав, конечно, только об имени Ренаты и о нашем местопребывании. Надо, впрочем, в мое оправдание вспомнить, что в течение долгого времени я не имел возможности ни с одним человеческим существом поговорить откровенно и что все то мучительное, что испытывал я, оставалось в моей душе как некая тяжесть, давившая ее и давно искавшая исхода.
Ганс выслушал мою длинную и страстную исповедь со вниманием, как врач принимает признания больного, и, после недолгого обдумывания, ответил мне так, говоря, словно наставник к младшему:
— Я не сомневаюсь в справедливости ни одного из ваших слов. Но вы, по-видимому, мало изучали медицину и, во всяком случае, не знаете новых и весьма замечательных открытий, сделанных в этой области. Я же был счастлив, имев руководителем по этой науке такого ученого, как наш учитель, который хотя и прекратил практику, но остается одним из величайших медиков своего века. Теперь мы знаем, что существует особая болезнь, которую нельзя признать помешательством, но которая близка к нему и может быть названа старым именем — меланхолия. Болезнь эта чаще, чем мужчин, поражает женщин, — существо более слабое, как показывает самое слово mulier[123], производимое Варроном от mollis, нежный. В состоянии меланхолии все чувствования бывают изменены под давлением особого флюида, распространившегося по всему телу, так что больные совершают поступки, которых нельзя объяснить никакой разумной целью, и бывают подвержены самым необъяснимым и самым быстрым сменам настроений. То они веселы, то печальны, то бодры, то безвольны до крайности, — и все это безо всякой видимой причины. Точно так же без надобности они лгут: выдают себя не за то, что они есть, возводят сами на себя или на других вымышленные преступления, особенно же любят играть роль преследуемых, жертвы. Эти женщины искренно верят в свои рассказы и искренно страдают от призрачных бед: воображая, что одержимы демонами, они действительно мучаются и бьются в конвульсиях, причем заставляют так изгибаться свое тело, как это им невозможно сделать сознательно, и вообще своим воображением могут довести себя и до смерти. Из числа именно этих несчастных пополняются ряды так называемых ведьм, которых надо бы пользовать успокоительным питьем, но против которых папы издают буллы, а инквизиторы воздвигают костры. Я полагаю, что и вы повстречались с одной из подобных женщин. Конечно, она вам рассказала о своей жизни басню, и никакого графа Генриха не существовало никогда; позднее же, всеми доступными ей средствами, она стремилась к тому, чтобы остаться в ваших глазах необыкновенной и несчастной, за что, впрочем, никак нельзя ее винить, так как тут действовала ее болезнь.
Выслушав эту лекцию, я напомнил Гансу то, что рассказывал ему о своем полете на шабаш и о нашем вызывании демона Анаэля, но Ганс возразил мне так:
— Пора бы перестать верить в такие бабьи сказки, как шабаш: помрачнение чувств, воображение — вот что такое шабаш! Вы, конечно, были во власти сильного снотворного средства, которое дала вам ваша знакомая, и я тотчас скажу вам состав этого зелья: в него входило — масло, петрушка, паслен, волкозуб, ибунка, может быть, соки и других растений, но главными элементами были — трава, называемая итальянцами белладонна, затем белена и немного фиванского опиума. Составленная таким образом мазь, при втирании ее в тело, всегда вызывает глубокий летаргический сон, в котором являются с большой яркостью видения тех вещей, о которых вы думали, засыпая. Некоторые медики уже делали опыты и заставляли женщин, которые почитали себя ведьмами, натираться волшебной мазью под своим присмотром. И что же? Оказывалось, что эти несчастные лежали простертыми во сне на одном месте, хотя, проснувшись, с полным убеждением и повествовали разные небылицы о своих полетах и плясках. Точно так же нелепо верить, будто какие-то слова, халдейские или латинские, которые ничем не лучше наших немецких, и какие-то линии, называемые характерами, имеют власть над силами природы и Дьяволом. Я уверен, что в вашем опыте вызывания не что иное, как дым от курения приняли вы за образы демонов и что разбил у вас первую лампаду не один из злых духов, но та же ваша помощница, конечно, находясь в припадке исступления[124].
На все эти рассуждения у меня тогда не нашлось возражений как потому, что моя голова была утомлена в тот день, так и потому, что я отвык от ученых споров, и я стоял перед маленьким Гансом, как противник, выронивший шпагу из рук, или как пристыженный ученик, которого наставник бьет линейкой. Такое положение не помешало мне, однако, воздать должное остроумию доводов Ганса, и я тут же сказал ему, что, если он сумеет обосновать свои мнения и подкрепить их достаточным числом примеров, ему удастся написать очень примечательное и, может быть, полезное сочинение. И я еще твердо надеюсь повстречать такую книгу, которая и сделает известным имя моего молодого друга — Иоганна Вейера.
Остаток вечера мы провели в беседе менее значительной, но исполненной всяческой приятности, ибо во всех областях, каких мы касались, проявлялся природный ум Ганса, его сметливость и ранняя начитанность. Для меня эта беседа имела значение немаловажное, ибо вывела меня из того круга мыслей, в котором я вращался, и напомнила мне, как смешно сводить судьбу человека к таинственной воле инфернальных сил. Прощаясь со мною, Ганс убедительно советовал мне прийти на следующий день к ним в дом, так как это был воскресный день и можно было ожидать, что Агриппа покинет свой кабинет. Я тоже согласился, что неприлично мне, оставив рекомендательное письмо, самому в доме не появиться, но после всего, что слышал я от учеников Агриппы, уже не мог ждать ничего важного для себя от встречи с ним. Эту вторую ночь в Бонне провел я совсем не с такими весенними мечтами, как первую, и все мои пустоцветные надежды, словно от засухи, поникли головами к земле.
II
Все-таки на следующий день, в час после обедни, я опять постучался под дверями Агриппы, и на этот раз Эммануэль, Августин и Аврелий встретили меня как доброго приятеля, только добродушно выговаривая мне, что я не по-товарищески покинул их накануне «в беде». Вчера меня ждали в доме Агриппы дреколья и собачьи зубы, а сегодня меня похлопывали по плечу, называли, шутя, amicissime[125], и я на деле мог убедиться, что нет лучшей свахи, чем Вакх. Мало того: потому ли, что Аврелий и его товарищи действительно почувствовали ко мне расположение, или они хотели загладить вчерашний свой прием, или, наконец, они просто рады были новому человеку, скучая в уединении, — но только весь тот день они посвятили мне и наперерыв заботились, чтобы доставить мне всякие развлечения.
Аврелий взялся показать мне весь дом, и мы обошли двенадцать или пятнадцать комнат, из которых некоторые были совершенно нежилыми и не обставленными никакой мебелью. В других обстановка была самая разнообразная, от вещей роскошных, хотя и обветшалых, до совершенно дешевых, купленных по нужде и расставленных как попало, безо всякого изящества. В комнатах, которые недавно занимала третья жена Агриппы, все оставалось в крайнем беспорядке, словно жилище только что было разграблено немецкими ландскнехтами; но и наиболее прибранные напоминали скорее лавку столяра, нежели дом философа.
Аврелий познакомил меня и со всеми обитателями дома, а прежде всего, с двумя сыновьями Агриппы, Генрихом и Иоганном, мальчиками лет по десяти, не произведшими на меня впечатления ни умных, ни воспитанных; два других сына Агриппы были тогда в отсутствии[126]. С детьми жила старая служанка Мария, добродушная и простоватая, не покидавшая Агриппу в течение последних пятнадцати лет, но, кажется, неспособная связать трех слов подряд. Другая служанка, Маргарита, была лишь немногим помоложе, но зато лишь немногим и поумнее, а слуга, рослый парень, по прозвищу Антей, производил впечатление совершенного идиота. Таким образом, легко можно было догадаться, что жизнь в этом доме была невеселая, и после учеников я должен был признать самыми живыми его обитателями шесть или семь собак, больших, породистых, со звучными кличками: Таро, Циккониус, Баласса, Муза, которые важно бродили по всем комнатам, как по своим исконным владениям.
Аврелий, не упускавший нигде случая уверить меня, что Агриппа не занимается чародейством, сказал мне об этих собаках:
— Учитель так любит собак, что с иными не разлучается даже ночью и спит с ними в одной постели. На смерть одной из его любимых собак, Filiolus’a[127], его друзья даже написали несколько латинских эпитафий в стихах. А в народе по этому поводу ходят вздорные слухи, будто Агриппа держит у себя в виде собак домашних демонов.
Точно так же, показывая мне комнату, смежную с кабинетом Агриппы, где ставилась ему пища и клались новые письма, Аврелий сказал мне:
— Имперская почта получает хороший доход с учителя, так как ему ежедневно приходит несколько писем. Он в переписке и с Эразмом, и со многими коронованными лицами, и с архиепископами, и даже с самим папою, не говоря о простых ученых и бесчисленных его почитателях. От них-то узнает он новости со всех краев Европы, а суеверы воображают, будто он получает их магическими способами[128].
После осмотра дома и сытного, хотя довольно скромного обеда новые приятели повели меня гулять по городу, из улицы в улицу, причем мы очень скоро обошли его весь, так как Бонн очень невелик, и даже выходили за ворота, откуда красивый вид на Семигорье. Также полюбовался я и церквами Бонна, особенно же пятибашенным собором — поистине одним из прекраснейших созданий нашей старинной архитектуры. Улицы в тот день были по-праздничному полны народом, и было приятно медленно брести в толпе, разодетой в яркие, разноцветные платья, перемигиваться с незнакомыми девушками и рассматривать молодых людей, в зимних плащах и шляпах с перьями. Августин уже успел узнать по именам весь город и чуть не о каждом прохожем и не о каждой женщине успевал шепнуть нам на ухо веселую историйку, напоминавшую Facetiae[129] Поджо и заставлявшую нас смеяться.
Часов около пяти мы вернулись домой, и Аврелий, узнав, что Агриппа все еще не отворял дверей кабинета, предложил играть в шахматы. Я предоставил доску Аврелию с Эммануэлем, а сам вызвался биться с Августином об заклад за выигрыш того или другого. Смотреть на игру пришли мальчики из своей детской, а с ними и Мария, которая почитала себя членом семьи. Все мы столпились вокруг стола, за которым сидели игроки, и две собаки, поместившись подле, не с меньшим вниманием следили за передвижением пешек и коней. И никто, глядя на двух шахматистов, увлеченных своими ходами, на следящих за ними закладчиков, на двух мальчишек, сосущих свои пальцы, и на старую добрую няньку, — не подумал бы, что эта идиллическая семейная сцена, достойная пера Саннацаро[130], совершается в доме великого чародея Агриппы, который, по рассказам, сводит луну с неба и выводит тела мертвых из их могил.
Я держал пари за Эммануэля, надеясь на его изобретательность, но Аврелий оказался гораздо более ловким в искусстве Дамиана[131] и, действуя медленно и обдуманно, очень решительно теснил своего противника. Играя без хладнокровия, Эммануэль сердился и ни за что не хотел признать себя побежденным, но, вероятно, не избег бы мата, если бы вдруг из комнаты Агриппы не раздался звук колокольчика, призывающий к нему. Все, бывшие в нашей комнате, пришли в движение: мальчики испуганно шмыгнули за двери, Мария побежала за ними, Ганс кинулся наверх по зову, а Эммануэль, пользуясь общим смятением, словно в минутном порыве, смешал фигуры на доске, и никто не узнал, чем должна была кончиться та партия.
Через несколько минут Ганс вернулся от учителя и объявил, что Агриппа читал мое письмо и готов принять меня немедленно и что, вместе с тем, он зовет к себе и всех учеников.
Таким образом, исполнилось мое заветное желание и осуществилась цель, ради которой я прибыл в Бонн, — но уже не надежда получить разрешение томивших меня недоумений, а только любопытство путешественника, осматривающего местные достопримечательности, владело мною, когда взбирался я по узкой лестнице во второй этаж, где был кабинет Агриппы. Ученики же, принимая во мне дружеское участие, наперерыв давали мне советы, как вести себя с Агриппою, то напоминая, чтобы я говорил громче, ибо учитель несколько туг на ухо[132], то предупреждая, что учитель терпеть не может монахов, то предлагая непременно называть учителя «magister doctissime»[133] и т. под. Перед самой дверью в комнату Агриппы пришлось еще раз остановиться, Ганс опять побежал вперед, и только после этого, наконец, дверь отворилась, и я вступил в святая святых.
Кабинет Агриппы с первого взгляда напоминал скорее музей или монастырскую библиотеку, — так был он весь загроможден шкафами с книгами и с папками, аналоями для книг, а также чучелами животных и разными физическими приборами и инструментами; даже на скамьях и на полу были разбросаны рукописи, рисунки, бумаги всякого рода. Там и сям лежали слои пыли, пахло какой-то затхлостью, но солнце, проникая в узкое готическое окно комнаты, озаряло ее довольно приветливо и ярко. У широкого стола, тоже заваленного фолиантами и тетрадями, сам словно погребенный в бумагах, сидел в высоком кресле человек небольшого роста, не старый еще, худой и бритый, в малиновой шапочке на седых волосах и широком плаще, отороченном мехом. Я узнал Агриппу, ибо он очень похож на свой портрет, напечатанный на обложке книги «De Occulta Philosophia»; только выражение лица показалось мне несколько иным: на портрете оно добродушное и откровенное, — у Агриппы же было в лице что-то пренебрежительное или брезгливое, может быть, оттого, что губы его как-то старчески свисали, а усталые веки наполовину прикрывали взгляд живых и острых глаз. У ног Агриппы, положив ему морду на колени, сидела его любимая черная собака, небольшая, с мохнатой шерстью и поразительно умными, словно человеческими, глазами, которую, как я узнал позже, звали «Монсеньёром»[134].
Войдя, я с поклоном остановился на пороге, но Агриппа, приветствуя меня наклоном головы, словно государь, привыкший давать аудиенции, сказал мне:
— Добро пожаловать, господин приезжий! Мне о вас пишет мой друг Геторпий. В старости у меня друзей осталось немного, очень немного, но зато каждое их слово для меня — обязательство. Садитесь и будьте другом в этом доме, хотя вы и привезли мне дурные новости.
Последние слова чуть-чуть смутили меня, и, занимая место среди учеников около стола, я не знал, что сказать, но Агриппа снова заговорил сам. Взяв со стола привезенное мною рекомендательное письмо и показывая его нам, он произнес, не без риторского искусства, целую речь, которую, по-видимому, предназначал исключительно для меня, так как ученикам не сообщал в ней ничего нового.
— Геторпий, представляя вас, — сказал он, — пишет мне в то же время, что он не решается печатать моего «Апологетического письма к Кельнскому сенату» и что вообще ни одна типография в Кельне не примет его под свой пресс[135]! Узнаю обычное оружие моих противников, так как происки их преследовали меня всю мою жизнь! В Антверпене тамошние ученые добились запрещения мне практиковать как медику, хотя я лечил людей в дни язвы, когда городские лекаря все разбежались. В Кельне мне не позволили читать лекций, хотя в Доле, в Турине, в Павии у меня было больше слушателей, чем у всех других магистров! Император, у которого я состоял историографом, не находил нужным платить мне жалованье, и в Брюсселе кредиторы бросили меня за долги в тюрьму! Наконец, едва попытался я печатать свои сочинения, как обрушились на меня еще худшие угрозы: в Париже мою книгу сожгли, по приговору Сорбонны, а в Германии противился ее напечатанию сам инквизитор, пренебрегая данной мне привилегией. Против моих сочинений кричат доктора, лиценциаты, учителя, бакалавры, риторы всех родов и вся несчетная толпа бездельников в рясах, капюшонах, мантиях, босоногих и в сандалиях, черных, белых, серых, всех мастей: одним словом, все делатели силлогизмов и наемные софисты, которым истина слепит глаза, как совам. Но я не боюсь нападений, сумею оборониться и против явных обвинений, и против клеветы тайной. Они теперь не дают мне напечатать письма, в достаточной степени сдержанного. Что ж, я напишу другое, беспощадное, подбавлю туда уксусу и горчицы, но поуменьшу масла, и напечатаю-таки его в другом городе, хоть в Лондоне, хоть в Константинополе!
Произнося эти грозные диатрибы в моем присутствии, Агриппа, вероятно, надеялся, что через меня они станут известны разным кругам лиц, так как почитал меня другом Геторпия. Но я, видя необходимость ответить, сказал осмотрительно, что не берусь быть судьею в споре Агриппы с клиром, ни тем более с его величеством императором, но что, конечно, все те преследования, о которых говорит Агриппа, делают ему честь, ибо на незначительного человека не направили бы нападений ни инквизиция, ни теологи, ни ученые.
Воспользовавшись минутою молчания, Аврелий напомнил учителю, что я приехал с определенною целью просить у него совета. Агриппа, словно бы он только неожиданно вспомнил обо мне, обернулся в мою сторону и, гневно кинув письмо Геторпия на стол, спросил:
— Что же, молодой друг, хотите вы от меня? Чем может помочь Агриппа, которого, как вы видите, травят, словно свора собак лису?
Я поспешил ответить, что чувствую себя, как Марсиас, вопрошаемый Аполлоном, и что оправдания своей смелости ищу только в славе Агриппы, распространенной по всей Европе, но что за разъяснением вопросов, на которые ответа нельзя найти в книгах, во всей Германии обратиться можно только к его познаниям, к его уму, к его опытности. Далее рассказал, что некоторые обстоятельства моей личной жизни привели меня к занятиям оперативной магией, что среди всех книг, написанных по этому вопросу, я не мог не выделить сочинение Агриппы, что, изучив основательно все, изложенное в его труде, я нахожу еще множество темных пунктов и хочу о них отдельно просить разъяснения у самого автора.
Агриппа, выслушав меня, нахмурился и произнес с досадливостью:
— Вы, должно быть, мою книгу читали не очень внимательно или ее не поняли, иначе бы не обратились ко мне с такими вопросами! В предисловии у меня сказано ясно и твердо, что маг должен быть не суевером, не кознодеем и не демониаком, но мудрецом, священнослужителем и пророком. Истинным магом почитаю я сибиллу, пророчившую в язычестве о Христе, и тех трех царей, которые, узнав из дивных мировых тайн о рождении спасителя мира, поспешили с дарами к колыбели-яслям. Вы же, по-видимому, ищете в магии, как и большинство, не сокровенного знания о природе, но разных ловких средств, чтобы вредить ближним, чтобы добывать богатства, чтобы разузнавать о завтрашнем дне; но за такими сведениями надо идти к фокусникам и шарлатанам, а не к философу. Книга моя «О сокровенной философии» написана мною в юности и содержит много несовершенного, но все же представляет только обзор всего сказанного о магии, дабы любознательный ум мог проследить все отрасли этой науки, но никогда никого не приглашал я пускаться в темные и не заслуживающие одобрения опыты гоетейи[136]!
Видя, что Агриппа от прямого ответа уклоняется, я решился его, однако, принудить к тому, хотя бы и героическими средствами, и потому сказал так:
— Почему же, учитель, исследовав внимательно области магии и найдя в них одни заблуждения, не постарались вы других отклонить от бесплодных занятий этою наукою, а, напротив, поспешили напечатать свой труд, который сами считаете несовершенным? Он, может быть, и составлен вами в юности, но не забудьте, что присоединили вы к нему два предисловия, которые написаны совсем недавно и в которых о магии говорите вы с большим почтением и своего презрительного к ней отношения не проявляете ничем. Не подаете ли вы этим великий соблазн любознательным читателям, и не прав ли буду я, напомнив вам слова Евангелия, что лучше было бы человеку, соблазнившему единого из малых сих, если бы повесили ему на шею мельничный жернов и утопили его в морской пучине?
Во время этой моей речи Аврелий делал мне глазами знаки, чтобы я замолчал; но я не привык оставаться осмеянным и спокойно договорил до конца. Агриппа тоже был живо затронут моими словами, весь вид его резко переменился, — так как его самоуверенность и надменность как бы погасли, и он сказал мне раздражительно:
— Чтобы печатать мое сочинение, у меня были важные причины, о которых вы, молодой человек, не имеете, вероятно, никакого понятия. Объяснять их вам сейчас было бы совсем неуместно, не говоря о том, что особая клятва воспрещает мне касаться некоторых вопросов перед непосвященными.
Суровость ответа могла только возбудить мою настойчивость, и я, не побоявшийся задавать вопросы председателю шабаша, конечно, не отступил перед гневом Агриппы Неттесгеймского. Продолжая теснить его, я тотчас бросил ему новый вопрос, причем мне самому показалось, что мой ясный голос застучал, как две игральных кости, прыгающие по столу при решительной ставке:
— Magister doctissime! Ведь я не имею никаких притязаний, чтобы вы открывали предо мной сокровенные тайны! Но, будучи одним из соблазненных вашей книгой, я только скромно прошу ответить мне, что же такое магия: истина или заблуждение, наука или нет?
Агриппа вскинул на меня глаза, но я не опустил своих, и, пока наши взоры были сопряжены, испытывал я такое чувство, словно бы, держась за руки, мы оба стояли над пропастью. Одну минуту верилось мне тогда, что Агриппа сейчас скажет мне что-то исключительное и вдохновенное, — но через миг передо мной опять сидел в высоком кресле пожилой ученый, в широком плаще и малиновой шапочке, который, сдержав свое негодование, на мои дерзкие требования ответил мне чуть-чуть недовольным, но строгим и ровным голосом:
— Есть два рода науки, молодой человек. Одна — это та, которую практикуют в наши дни в университетах, которая все предметы рассматривает отдельно, разрывая единый цветок вселенной на части, на корень, стебель, лист, лепесток, и которая, вместо познания, дает силлогизмы и комментарии. В моей книге «О недостоверности познания», стоившей мне многих лет работы, но принесшей мне одни насмешки и обвинения в ереси, выяснено подробно, что называю я псевдонаукой. Адепты ее — псевдофилософы — сделали из грамматики и риторики инструменты для своих ложных выводов, превратили поэзию в ребяческие выдумки, на арифметике основали пустые гадания да музыку, которая развращает и расслабляет, вместо того чтобы укреплять, превратили политику в искусство обманов, а теологией пользуются как ареной для логомахии, для словесной борьбы безо всякого содержания! Эти-то псевдофилософы исказили и магию, которую древние почитали вершиной человеческого познания, так что в наши дни натуральная магия не более как рецепты отрав, усыпительных напитков, потешных огней и всего подобного, а магия церемониальная — только советы, как войти в сношение с низшими силами духовного мира или как пользоваться ими разбойнически и врасплох. Как не устану я оспаривать и осмеивать ложную науку, так постоянно буду отвергать и ложную магию. Но в человеке все же нет ничего более благородного, как его мысль, и возвышаться силой мысли до созерцания сущностей и самого бога — это прекраснейшая цель жизни. Надо только помнить, что все в мире устремлено к одному, все обращается вокруг единой точки и через то все связано одно с другим, все в определенных отношениях между собою: звезды, ангелы, люди, звери и травы! Единая душа движет и солнце в его беге вокруг земли, и небесного духа, покорного велению божию, и мятущегося человека, и простой камень, скатившийся с горы, — лишь в разной степени напряженности проявляется эта душа в разных вещах. Наука, которая рассматривает и изучает эти вселенские отношения, которая устанавливает связь всех вещей и пути, которыми они влияют друг на друга, и есть магия, истинная магия древних. Она ставит себе задачею согласовать слепую жизнь своей души, а по возможности — и других душ, с божественным планом создателя мира, и требует для своего выполнения возвышенной жизни чистой веры и сильной воли, — ибо нет силы более мощной в нашем мире, чем воля, которая способна совершать и невозможное, и чудеса! Истинная магия есть наука наук, полное воплощение совершеннейшей философии, объяснение всех тайн, полученное в откровениях посвященными разных веков, разных стран и разных народов. Об этой магии, молодой друг, как кажется, вы ничего не знали до сих пор, и, в заключение нашей беседы, я желаю вам обратиться от гаданий и волхвований к истинному источнику познания.
После этой двусмысленной речи не оставалось мне делать ничего другого, как, встав, еще раз просить извинения за причиненное беспокойство и проститься. Я бросил последний взгляд на Агриппу, на его учеников, теснившихся вокруг его кресла с изъявлениями восторга, — и вышел из комнаты, думая, что покидаю этот круг навсегда, не подозревая вовсе, что мне еще придется повстречать великого чародея, и при каких странных обстоятельствах!
На площадке лестницы меня догнали Ганс и Аврелий, которым хотелось, должно быть, загладить неприятное впечатление аудиенции, так как они всячески старались объяснить суровость Агриппы, ссылаясь на то, что он очень был расстроен письмом Геторпия. В кратком разговоре, происшедшем у нас тут, Аврелий сказал:
— Вот не ожидал я, что учитель еще втайне верует в магию!
А Ганс, с заносчивостью юности, добавил:
— Великий он человек и ученый, но другого, нежели мы, поколения.
И Ганс и Аврелий убедительно просили меня остаться в Бонне еще на день, уверяя, что завтра учитель отнесется ко мне доброжелательнее, но я решительно отказался еще раз тревожить Агриппу, тем более что потерял всякую надежду на его помощь в моем деле. Впрочем, я благодарил обоих юношей за содействие, ими оказанное мне, а Ганс дружески проводил меня до дверей дома, и мы, расставаясь, дали друг другу обещание обмениваться письмами.
На следующее утро я выехал обратно на север. В полях выпал снег, и было довольно холодно, но дорога значительно исправилась, и ехать было гораздо легче, нежели три дня назад. Лошадь бодро бежала по мягкому белому ковру, прикрывавшему промерзшую твердую почву.
Когда впоследствии я тщательно обсудил все свое посещение Агриппы и внимательно обдумал все его речи, я пришел к выводу, что не каждому сказанному им слову должно придавать веру. В те краткие минуты, которые я, приезжий незнакомец, стоял перед Агриппою, не было у него причин открывать свою душу и высказывать прямо свои сокровенные мысли о предмете столь ответственном, как магия. Похоже было, что не высказывал он их и перед своими учениками, так что в их скептических речах, может быть, отражалось не окончательное мнение философа, а то одиночество, на которое всегда обречены великие люди, принужденные таиться даже от самых близких. Ныне же, после второй встречи с Агриппою, я даже не сомневаюсь, что в магию верил он гораздо больше, нежели хотел это показать и, что, может быть, именно гоетейе были посвящены часы его уединенных занятий.
Но все эти соображения еще не приходили мне в голову во время моего возвратного пути из Бонна. Напротив, мне тогда казалось, что строгая речь Агриппы и трезвые догадки Ганса, как свежий ветер, разогнали тот туман таинственного и чудесного, в котором я блуждал последние три месяца. С настоящим удивлением спрашивал я себя, как мог я в течение четверти года не выходить из круга демонов и дьяволов, — я, привыкший к ясному и отчетливому миру корабельных снастей и военных передвижений. С таким же недоумением искал я ответа, почему оказался я, не раз прежде залечивавший в сердце раны от стрелы крылатого божка, привязанным такими прочными узами к стану женщины, отвечавшей мне только пренебрежением или снисходительною холодностью. Пересматривая, не без краски стыда на щеках, свою жизнь с Ренатою, находил я теперь свое поведение смешным и глупым и негодовал на себя, что так рабски подчинялся причудам дамы, о которой даже не знал с точностью, кто она и имеет ли право на внимание.
Тут же вспомнилась мне и та клятва, которую я дал самому себе в Дюссельдорфе и о которой совсем не думал последние недели: не оставаться близ Ренаты долее трех месяцев и больше, чем то время, в какое истрачу я треть собранных мною денег. Три месяца с того утра истекли уже шесть дней тому назад, и предельная сумма денег тоже была почти вся израсходована. Под влиянием этих раздумий мелькнула у меня мысль вовсе не возвращаться в Кельн, но, повернув свою лошадь, ехать южнее Бонна, по направлению к родному Лозгейму, а Ренату предоставить ее одинокой судьбе. Однако сделать этого у меня недостало духу, прежде всего потому, что меня томила тоска по Ренате, но и честь не позволяла мне такого предательства.
Тогда я сказал себе: приехав домой, я поговорю с Ренатою открыто и чистосердечно, укажу ей, что ее искания графа Генриха — безумие, напомню ей, что полюбил ее страстно и сердечно, и предложу ей стать моей женой. Если может она пред богом и людьми дать мне клятву быть женою верной и преданной, мы направимся в Лозгейм вдвоем и, получив благословение моих родителей, поедем жить за океан, в Новую Испанию, где все прошлое Ренаты забудется, как предутренний сон.
Убаюканному этими мечтами о мирном счастии, мне было легко и вольно; я напевал вполголоса веселую испанскую песенку «A Mingo Revulgo, Mingo» и без устали понукал свою лошадь, так что еще засветло выступили передо мною городские стены Кельна, темнея над белым снегом.
Глава седьмая Как я встретился с графом Генрихом и почему я вызвал его на поединок
Добравшись до нашего дома, усталый, но веселый, я стуком в ворота вызвал Луизу, передал ей поводья лошади и спросил:
— Что госпожа Рената?
К моему удивлению, Луиза ответила мне:
— Ей, кажется, лучше, господин Рупрехт. Без вас она все дни гуляла по городу и вчера возвратилась только поздно вечером.
Конечно, в словах Луизы было затаенное острие, так как давно уже относилась она к Ренате недоброжелательно, — и удар не пришелся мимо. «Как, — сказал я себе, — Рената, которая при мне делает вид, что не может подняться с постели, как параличная, Рената, которая целыми неделями не хочет переступить порога своей комнаты, словно она отказалась от этого по обету, — едва осталась одна, гуляет по зимним улицам до темной ночи! Можно ли не верить после этого догадкам Ганса Вейера, что вся ее болезнь — только воображение, что все ее страдания — только роль на театре!»
Негодуя, почти в гневе, вбежал я по лестнице во второй этаж, но там на площадке, опираясь на перила, ждала меня Рената, причем лицо ее было бледно и обличало волнение необыкновенное. Завидев меня, она протянула руки, взяла меня за плечи и, не давая мне вымолвить ни слова, сама не произнося приветствия, сказала:
— Рупрехт, он — здесь.
Я переспросил:
— Кто здесь?
Она подтвердила:
— Генрих — здесь! Я его видела. Я говорила с ним.
Еще не совсем доверяя словам Ренаты, я стал ее спрашивать:
— Ты не ошиблась? Тебе это, быть может, показалось? Это был кто-нибудь другой. Он сам признался тебе, что он — граф Генрих?
Рената же увлекла меня в свою комнату, заставила сесть и, почти прильнув ко мне, наклонив свое лицо близко, стала, задыхаясь, рассказывать мне, что произошло с нею в Кельне за эти два дня.
По ее словам, в субботу, в час вечерней службы, ей, когда она обычно изнемогала у окна в холодной тоске, вдруг послышался тихий, но явственный голос, как бы ангельский, который повторил трижды: «Он — здесь, около собора. Он — здесь, около собора. Он — здесь, около собора». После этого Рената не могла ни рассуждать, ни медлить, но, встав и накинув плащ, тотчас поспешила к собору на площадь, в то время полную народом. Не прошло и пяти минут, как в толпе она различила графа Генриха, шедшего с другим молодым человеком, обнявшись. От волнения при этом видении, о котором она слишком долго мечтала, Рената едва не упала без чувств, но некая сила, как бы извне, поддержала ее, и она последовала за идущими через весь город, пока они не вошли в один дом, принадлежащий Эдуарду Штейну, другу гуманистов.
На другой день, в воскресенье, с ранней зари, Рената была на страже близ этого дома, твердо решив дождаться появления Генриха. Ей пришлось ждать долго, весь день, но она не обращала внимания на изумленные взгляды прохожих и подозрительные — рейтаров, и только мысль, что Генрих мог ночью покинуть город, заставляла ее дрожать. Вдруг, уже около сумерек, дверь растворилась, и появился Генрих с тем же юношей, как вчера, оживленно беседуя. Рената пошла за ними, прячась у стен, и проследила весь их путь до Рейна, где друзья распрощались: незнакомец направился на пристань, к судам, а Генрих хотел возвратиться. Тогда Рената вышла из тени и назвала его по имени.
По словам Ренаты, Генрих сразу узнал ее, но она была бы счастлива, если бы не было так, ибо лицо его, едва он понял, кто перед ним, исказилось негодованием и ненавистью. Рената схватила его за руку; он освободился, с дрожью брезгливости, и, отстраняя протянутые к нему пальцы, пытался удалиться прочь. Тогда Рената стала перед ним на колени на грязной набережной, целовала край его плаща и сказала ему все те слова, которые так много раз твердила мне: как она его ждала, как она его искала, как она его любит, и умоляла здесь же убить ее, потому что от его удара умерла бы с блаженством, как святая. Но Генрих ответил ей, что не хочет ни говорить с ней, ни видеть ее, что даже не имеет права простить ее; наконец, вырвавшись из ее рук, он скрылся, почти убегая, оставив ее одну, в темноте и безлюдии.
Весь этот рассказ Рената провела одним духом, говоря голосом твердым и выбирая выражения верные и картинные, но, дойдя до конца, она вдруг сразу потеряла силы и волю и залилась слезами: словно бы спал ветер, гнавший корабль ее души, и паруса жалостно захлопали по снастям. И тотчас тяжело опустилась она на пол, так как отчаяние всегда влекло ее к земле, и, клонясь ничком, начала рыдать и биться, повторяя беспомощно одни и те же слова, не слушая ни моих ласковых утешений, ни моих пытливых вопросов.
Признаюсь, что на меня рассказ Ренаты, хотя в тот день я и был от нее более далек, чем всегда, — произвел впечатление ошеломляющее: у меня забилось сердце прерывисто и вся душа словно наполнилась черным дымом от взрыва. Мысль, что кто-то смел обращаться надменно и презрительно с женщиной, перед которой я привык стоять на коленях, была мне нестерпима. Однако я не позволил себе поддаться гневу и ревности, но постарался отчетливо разобраться в том, что произошло, хотя оно и представлялось мне беспорядочным и стремительным вихрем. Как только Рената получила опять хоть некоторую возможность говорить связно, я попросил ее повторить мне точнее слова Генриха.
Все еще захлебываясь слезами, она воскликнула:
— Как он оскорблял меня! Как он меня оскорблял! Он говорил мне, что я была злым гением его жизни! Что я погубила всю его судьбу. Что я отняла его у Неба. Что я — от Дьявола. Он сказал мне, что презирает меня. Что воспоминание о нашей любви ему отвратительно. Что наша любовь была мерзость и грех, в которые я завлекала его постыдным обманом. Что он, что он… плюет на нашу любовь!
Тогда я спросил, почему граф Генрих мог говорить, что Рената отняла его у Неба? Разве не сам он, добровольно, увез ее в свой замок, чтобы жить с ней, как с женой и как с близкой? И так как в тот час все обычные плотины в душе Ренаты были сломаны стремительным потоком ее горя, то, не делая даже попытки защищаться, она упала лицом мне на колени и воскликнула с какой-то последней искренностью, так для нее непривычной:
— Рупрехт! Рупрехт! Я утаила от тебя самое важное! Генрих никогда не искал человеческой любви! Он не должен был никогда в жизни прикасаться к женщине! Это я, это я заставила его изменить клятве! Да, я отняла его у Неба, я у него отняла лучшие мечты, и за это он меня теперь презирает и ненавидит!
Продолжая осторожно подкрадываться к истине, как зверь к добыче, я, вопрос за вопросом, выведал затем у Ренаты все то, что она утаила от меня о Генрихе в своем первом рассказе и о чем не обмолвилась ни разу за три месяца нашей общей жизни. Я узнал, что Генрих был участником одного тайного общества, вступая в которое дают обет целомудрия. Это общество должно было скрепить христианский мир более тесным обручем, нежели церковь, и стать во главе всей земли более властно, нежели император и святейший отец. Генрих мечтал, что он будет избран гроссмейстером этого ордена и выведет ладью человечества из пучины зла на путь правды и света. Ренату позвал он за собой лишь как помощницу в его опытах новой, божественной магии, ибо ему нужна была особая сила, таящаяся в некоторых людях. Но Рената, почитая Генриха воплощением своего Мадиэля, приблизилась к нему с одной целью — владеть им и, не пренебрегая никакими средствами, достигла торжества своих желаний. Однако Генрих, после недолгого времени, в которое ум его был ослеплен страстью, пришел в ужас от совершенного и, в горьком раскаянье, бежал из родного замка, как из зачумленной страны.
Такое истолкование событий показалось мне гораздо более правдоподобным, нежели то, которое Рената давала мне раньше, — и я, соединив наконец в одно целое отдельные нити ее рассказа, спросил у нее:
— Если ты сама сознаешь, что виновата перед графом Генрихом, что ты лишила его лучшей надежды и отняла у него святую цель жизни, как же ты удивляешься, что он ненавидит тебя?
Рената медленно приподнялась с полу, посмотрела на меня вдруг высохшими глазами и потом сказала совершенно новым, твердым, словно отлитым из стали, голосом:
— Я, может быть, не удивляюсь вовсе. Я, может быть, рада тому, что Генрих меня ненавидит. Я плачу не по нем, но по себе. Мне не его жалко потерять, но стыдно и горько, что я могла так любить его, так предаваться ему. Я сама его ненавижу! Теперь я узнала точно, о чем догадывалась давно. Генрих обманул меня! Он — только человек, простой человек, которого можно соблазнить и которого можно погубить, а я, в безумии, воображала, что он — мой ангел! Нет, нет, Генрих — только граф Оттергейм, неудавшийся гроссмейстер своего ордена, а мой Мадиэль — на небесах, вечно чистый, вечно прекрасный, вечно недоступный!
Рената сложила руки, как для молитвы, а я почел это мгновение подходящим для того, чтобы высказать ей все то, о чем мечтал и раздумывал на возвратном пути из Бонна. Я сказал:
— Рената! Итак, ты убедилась, что граф Генрих — не твой ангел Мадиэль, но простой смертный, который некоторое время любил тебя и которого ты любила едва ли не по заблуждению. Ныне любовь эта погасла в нем, равно как и в тебе, и твое сердце, Рената, свободно. Вспомни же, что близ тебя есть другой, кому это сердце дороже всех золотых россыпей Мексики! Если со спокойной душой, хотя бы и без страсти, ты можешь протянуть мне свою руку и дать мне на будущее обещание верности, я приму это, как несчастный нищий королевскую милостыню, как пустынник благодать с неба! Вот, еще раз, Рената, я на коленях перед тобой, — и от тебя зависит обратить все свое страшное прошлое в забывающийся сон.
Рената, после моих слов, встала, выпрямилась, опустила мне руки на плечи и сказала так:
— Я буду твоей женой, но ты должен убить Генриха!
Отступив на шаг, я переспросил, так ли я расслышал, потому что еще раз Рената несколькими словами перевернула все мое представление о ней, словно ребенок, перевертывающий мешок, из которого сыплются на землю все лежавшие там вещи, — и Рената повторила мне голосом спокойным, но, по-видимому, в крайнем волнении:
— Ты должен убить Генриха! Он не смеет жить, после того как выдавал себя за другого, за высшего. Он украл у меня мои ласки и мою любовь. Убей его, убей его, Рупрехт, и я буду твоей! Я буду тебе верна, я буду тебя любить, я пойду за тобой всюду — и в этой жизни, и в вечном огне, куда откроется путь нам обоим!
Я возразил:
— Я — не наемный убийца, Рената, не неаполитанец[137], я не могу поджидать графа за углом и ударить его кинжалом в спину: мне честь не позволит этого!
Рената ответила:
— Неужели ты не найдешь поводов вызвать его на бой? Ступай к нему, как ты пошел к Агриппе, оскорби его или заставь его оскорбить тебя, — разве мало у мужчины средств, чтобы убить другого?
Меня в этой речи поразило, прежде всего, упоминание об Агриппе, так как до той минуты я был уверен, что Рената, относясь безучастно ко всему на свете, не знала о цели моей поездки. Что же касается самого требования — убить графа Генриха, то я лицемерил бы, если бы стал утверждать, что оно меня ужаснуло. Смутила меня лишь неожиданность слов Ренаты, но в глубинах души моей они сразу нашли сочувственный отзвук, словно бы кто-то ударил в медный щит перед глубокими гротами и многогласное эхо, замирая далеко, долго повторяло этот звук. И когда Рената начала теснить меня, как противник врага, загнанного в ущелье, вырывать у меня согласие, как пантера кусок мяса из чужих когтей, — я сопротивлялся не очень упорно, почти для виду, и дал ту клятву, которой она ждала.
Едва я произнес решающие слова, как Рената переменила все свое поведение. Внезапно заметила она, что я изнемогаю от усталости после довольно продолжительного пути; с заботливостью, которая до того времени проявлялась в ней так редко, бросилась она снимать с меня дорожное платье, принесла мне воды, чтобы умыться, разыскала мне ужин и вина. Она вдруг стала со мною как самая добрая, домовитая жена с любимым супругом или как старшая сестра с захворавшим младшим братом. Перестав говорить о графе Генрихе, словно позабыв весь наш ожесточенный разговор и мою клятву, Рената за ужином начала расспрашивать меня о моей поездке, интересуясь всем, что со мною случилось, обсуждая со мною слова Агриппы, как в счастливые дни наших общих занятий. Когда я, видя сквозь окна совершенно черное небо, сознавая внутренним чувством, что мы уже переступили через порог полночи, хотел, поцеловав руку Ренаты, удалиться к себе, — она тихо сказала мне, опустив глаза, как невеста:
— Почему ты сегодня не хочешь остаться со мной?
Признаюсь, этот вопрос поразил меня в самое сердце. Уже в течение многих недель Рената более не позволяла мне проводить ночи близ себя, и я вспоминал о нашей прежней близости, как о счастии недоступном. И вот, когда я, не смея мечтать о том, чтобы остаться с Ренатою, преодолевая скорбь, с нею прощался, она вдруг задала мне такой вопрос, словно бы я обижал ее своим уходом!
Не вспомню, что я ответил Ренате, знаю только, что мы остались вместе, и этот раз Рената не захотела, чтобы я устроился на деревянном помосте близ ее постели, но позвала меня лечь с нею рядом, опять как в первые дни. Мало того, тотчас Рената стала прижиматься ко мне всем телом, как любовница, целовала меня, искала моих губ, моих рук, всего меня. И когда я, отстраняясь, сказал ей, что она не должна искушать меня, Рената отвечала мне:
— Должна! Должна! Я хочу быть с тобой! Сегодня я хочу тебя!
Так неожиданно совершилось наше первое соединение с Ренатою, как мужчины с женщиной, в день, когда я всего менее ждал этого, после разговора, который всего менее вел к этому. Та ночь стала нашей первой брачной ночью, после того как немало ночей мы провели на одной постели, словно брат и сестра, и после того, как несколько месяцев мы жили рядом, словно скромные друзья. Но, когда я, в муке неожиданного счастья, опьянев от свершения всего, что мне уже казалось невозможным, приник, истомленный, к губам Ренаты, чтобы поцелуем благодарить ее за свой трепет, — вдруг увидел я, что ее глаза вновь полны слезами, что слезы текут по ее щекам и что губы ее искривлены улыбкой боли и безнадежности. Я воскликнул:
— Рената! Рената! Неужели ты плачешь?
Она ответила мне сдавленным голосом:
— Целуй меня, Рупрехт! Ласкай меня, Рупрехт! Ведь я же отдалась тебе! Ведь я же отдала тебе все мое тело! Еще! Еще!
Почти в страхе, упал я ниц на подушки, сам готовый плакать и скрежетать зубами, но Рената с насилием влекла меня к себе, заставляя быть живым орудием ее пытки, добровольным, но содрогающимся палачом, терзая и распиная себя, с ненасытимой жаждой, на колесе ласк и кресте сладострастия. Она обманывала меня, снова и снова, притворной нежностью, соблазняла страстью, может быть, и не искусственной, но предназначавшейся не мне, и, вбросив свое тело в пламя и в пилы, стонала от блаженства — чувствовать боль, плакала от последней радости — презирать себя. И до самого утра длилась эта чудовищная игра в любовь и счастье, в которой поцелуи были острыми клинками, призывы к наслаждению — угрозами судьи, влага страсти — кровью, а вся наша брачная постель — черным застенком.
Этот вечер, когда во имя любви от меня потребовали убийства, и эта ночь, когда во имя страсти от меня потребовали мук, остались самым страшным из моих бредов, и сон изнеможения, избавивший меня от дьявольских видений, оказал мне милость б́ольшую, чем то могли все владыки мира.
Я утром проснулся, измученный сильнее, чем был бы после полугодового заключения в подземной тюрьме: мои глаза едва в силах были смотреть на свет и сознание мое было тускло, словно плохое стекло. Но Рената, порой, бывала как из металла, твердая и упругая, не знающая никакого утомления, и когда я впервые встретил ее взгляд — он был все тот же, что накануне. Для меня все было еще так смутно, что я готов был сомневаться, живы ли мы оба, а Рената уже звала меня с безжалостной настойчивостью:
— Рупрехт! пора! пора! Мы должны идти к Генриху сейчас же! Я хочу, чтобы ты убил его скоро, сегодня, завтра!
Она не давала мне одуматься, она торопила меня, словно на корабле в час крушения, когда каждая минута дорога, — и теперь это я подчинялся с покорностью андроида Альберта Великого. Не споря, принарядился я как мог лучше, надел свою шпагу и последовал за Ренатою, которая повела меня по пустынным утренним улицам, — молча, не откликаясь на мои слова, точно исполняя чью-то неодолимую волю. Наконец подошли мы к дому Эдуарда Штейна, большому и роскошному, с хитрыми балконами и лепными обводами у окон, и, с одним только словом «здесь», Рената, указав мне тяжелые резные двери, быстро повернулась и пошла прочь, как бы оставляя меня наедине с моей совестью. Впрочем, и не смотря вслед Ренате, я тотчас почувствовал, что она не уйдет далеко, но укроется за первым поворотом и будет ждать моего вторичного появления у этой двери, чтобы, кинувшись, выхватить у меня тотчас известие об успехе.
Сказать правду, я был так оглушен закрутившим меня смерчем событий, что, против своего обыкновения, совсем не успел внимательно и строго обсудить свое положение. Только взявшись, чтобы постучаться, за дверную ручку, массивную и утонченной работы, вспомнил я, что не подготовил слов для разговора с Генрихом, что вообще не знаю, что я буду делать, войдя в этот богатый дом. Медлить, однако, было не время, и с тою решимостью, с какой, зажмурив глаза, бросаются в пучину, я ударил твердо и громко металлом по металлу и, когда слуга отворил мне дверь, сказал, что должен непременно видеть остановившегося в этом доме графа Генриха фон Оттергейм, по делу важному и не терпящему отлагательства.
Слуга провел меня через переднюю, уставленную высокими, но изящными шкафами, потом по широкой лестнице с красивыми перилами, далее еще через входную комнату, где висели картины, изображавшие разных животных, и, наконец, постучавшись, отворил мне маленькую дверь. Я увидел перед собой узкую комнату с деревянным, разукрашенным потолком, с резными фризами по стенам, всю заставленную деревянными для книг аналоями, — из-за которых и выступил мне навстречу молодой человек, одетый изысканно, как рыцарь, в шелк, с прорезными рукавами, с золотой цепью на груди и множеством мелких золотых украшений. Я понял, что это — граф Генрих.
Несколько мгновений, прежде чем заговорить, всматривался я в этого человека, с которым, без его ведома, уже так давно была чудесным образом связана моя судьба, образ которого так часто силился я представить, которого порою считал то небесным духом, то созданием больного воображения. Генриху на вид было не более двадцати лет, и во всем существе его был такой избыток свежести и юности, что, казалось, их не может сокрушить ничто в мире, так что становилось почти страшно и невольно вспоминалось о вечной молодости[138], какую будто бы дает людям таинственный напиток, растворивший в себе алхимический камень мудрецов. Лицо Генриха, безбородое и полуюношеское, было не столько красиво, сколько поразительно: голубые глаза его, сидевшие глубоко под несколько редкими ресницами, казались осколками лазурного неба, губы, может быть, слишком полные, складывались невольно в улыбку, такую же, как у ангелов на иконах, а волосы, действительно похожие на золотые нити, так как были они тонки, остры и сухи и до странности лежали каждый отдельно, возносились над его челом, словно нимб святых. Во всех движениях Генриха была стремительность не бега, но полета, и если бы продолжали настаивать, что он — житель неба, принявший человеческий облик, я бы, может быть, увидел за его детскими плечами два белых лебединых крыла.
Первым граф Генрих прервал молчание, конечно, недолгое, но казавшееся длительным, спросив меня, какую может он оказать мне услугу, — и голос его, который я услышал здесь в первый раз, показался мне самым прекрасным в его существе, — певучий, легко и быстро переходящий все ступени музыкальных тонов.
Собрав все силы своей сообразительности, стараясь говорить плавно и свободно, но даже не зная, чем закончу предложения, первые слова которых произношу, — я начал почтительную речь. Я сказал, что много слышал о графе как о замечательном ученом, в молодые годы проникшем в запретные тайны природы и во все сокровенные учения, от Пифагора[139] и Плотина до учителей наших дней; что с раннего детства влекло меня неутолимое желание к познанию высшей мудрости, к исканию первопричины всех вещей; что усердным и прилежным изучением достиг я некоторой высоты понимания, но уверился с несомненностью, что личными усилиями нельзя проникнуть в последние тайны, ибо посвященные, еще со времен Хирама, строителя Соломонова, передают основные истины лишь устно ученикам; что только в обществах, где, как благодать в церкви, преемственно передаются откровения древнейших народов: евреев, халдеев, египтян и греков, возможно прийти к цели на пути познания; что, зная графа за лицо влиятельное и важное в самом значительном из этих обществ, которые все связаны между собою единством задач и единством дела, я и прибегаю теперь к нему с просьбою — помочь мне вступить, покорным учеником, в одно из них.
К моему удивлению, эта речь, наполовину хвастливая и наполовину лицемерная, в которой я постарался выставить напоказ все свои скудные сведения о таинственных орденах посвященных, — была встречена графом Генрихом как что-то, достойное внимания. Приняв меня, кажется, за одного из посвященных, хотя и стоящего вне обществ, Генрих поспешно и с крайней вежливостью указал мне на скамью, сел сам и, глядя мне в лицо грустными и откровенными глазами, заговорил со мною, как близкий с близким.
— Ответьте сначала, — сказал мне он, — родственны ли вы нам по основным устремлениям своего духа? Одушевлены ли вы, как и мы, ненавистью к зверям Востока и Запада[140]? Приняли ли вы, как первое и вечное руководство, эмблему сына господня, озаренную светом[141]? Жаждете ли подняться к небесным вратам по семи ступеням из свинца, латуни, меди, железа, бронзы, серебра и золота[142]?
По правде, я мало что понял из этих странных вопросов, но подобные выражения были не в новость мне, только что прочитавшему множество книг по магии, и хотя тот час казался мне тогда важнейшим в жизни, не преодолел я лукавого соблазна, который поманил меня испытать, насколько сами посвященные понимают друг друга. Припомнив несколько загадочных выражений, встреченных мною в «Пэмандре»[143] и других подобных сочинениях, постарался я ответить Генриху в тоне его речи и озаботился при этом всего более, чтобы слова мои не имели никакого отношения к его, ибо такую особенность подметил я во всех таинственных вопросах и ответах. Я сказал:
— Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста[144] гласит: то, что вверху, подобно тому, что внизу. Но пентаграмма, с главой, устремленной вверх, знаменует победу тернера над двумя, духовного над телом; с главой же, устремленной вниз, — победу греха над добром. Все числа таинственны, но простые выражают преимущественно божественное, десятки — небесное, сотни — земное, тысячи — будущее. Как же думаете вы, что пришел бы я к вам, если бы не умел различать бездны верхней от бездны нижней?
Едва произнес я эти совершенно пустые слова, как тотчас раскаялся в своей шутке, потому что Генрих устремился на них с доверчивостью ребенка и воскликнул в таком восторге, словно я открыл ему что-то неведомое и что-то поразительное.
— Ах, вы правы, вы правы! Конечно, конечно! Я сразу понял, что мы с вами — об одном. И я вас вовсе не испытывал! Я только хочу предупредить вас, что на том пути, куда вы порываетесь, больше терний, чем сладких ягод. На тайных собраниях не открывают, словно какой-то ларчик, истину истин. Первое слово, которое должны мы говорить новоприбывшему, это — жертва. Лишь тот, кто жаждет принести себя в жертву, может стать учеником. Вдумались ли вы в примеры: светлого Озириса, погубленного темным Тифоном? божественного Орфея, растерзанного вакханками? дивного Диониса, умерщвленного титанами? нашего Бальдура, сына света, павшего от стрелы хитрого Локи? Авеля, убитого рукою Каина? Христа распятого? Рыцари Храма[145], двести лет тому назад, заплатили жизнью за возвышенность своих целей и за благородство, с каким они говорили владыкам: «Ты будешь королем, пока справедлив». Вергилий Марон описывает две двери из мира теней: первая из слоновой кости, но сквозь нее вылетают лишь обманчивые призраки; вторая из рога[146]. Я только спрашиваю вас, добровольно ли вы идете в менее украшенную дверь?
Генрих проговорил все это со страстным увлечением, произнося каждое слово так, словно оно было ему особенно дорого или словно оно в первый раз в жизни пришло ему на уста. Смотря на этого полуюношу, полуребенка, в котором было так много внутреннего огня, что ничтожного повода, вроде легкомысленных вопросов случайного посетителя, было ему достаточно, чтобы вспыхнуть огненными языками, — чувствовал я, что падает и замирает во мне вся к нему ненависть, всякое к нему недоброжелательство. Я слушал удивительные переливы его голоса, словно открывавшие голубые дали, вглядывался в его глаза, которые, как мне казалось, оставались, несмотря на оживленность речи, печальными, как бы тая на своем дне канувшее туда отчаяние, — и был как змея, выползшая из-под камня, чтобы ужалить, но зачарованная напевом африканского заклинателя. Был один миг, когда я почти готов был воскликнуть: «Простите меня, граф, ведь я недостойно посмеялся над вами!» Но с ужасом, поймав свою мысль на такой опасной тропинке, я сам крикнул себе «берегись!» и поспешил овладеть своею душою, как всадник понесшей лошадью. И тотчас, чтобы дать себе возможность оправиться, бросил я еще несколько слов Генриху, сказав ему:
— Я не боюсь испытаний, ибо мне давно нестерпимо наше знание, которое есть, по выражению одного ученого, уподобление познающего познаваемому, assimilatio scientis ad rem scitam[147]. Я ищу того познания, о котором говорит тот же Гермес Трисмегист, как о разумной жертве души и сердца. А тому ли, кто ее ищет, бояться дорожных шипов?
Генрих схватил и эти слова, как драгоценную находку, и, словно бы по всякому поводу мог он говорить без конца, тотчас разлился передо мною в длинной и тоже воодушевленной речи. И опять, против моей воли, эта речь, как будто произнесенная с желанием убедить и уговорить своего лучшего друга, отпечатлелась в моей памяти так резко, что сейчас не составляет мне труда воскресить ее, едва ли не от слова до слова.
— Я вас понимаю, я вас понимаю, — сказал он. — Только вы все-таки ошибаетесь, думая, что мы в силах раздавать истинное познание, как дары. Сокровенные знания называются так не потому, что их скрывают, но потому, что они сами скрыты в символах. У нас нет никаких истин, но есть эмблемы, завещанные нам древностью, тем первым народом земли[148], который жил в общении с богом и ангелами. Эти люди знали не тени вещей, но самые вещи, и потому оставленные ими символы точно выражают самую сущность бытия. Вечной Справедливости, однако, надо было, чтобы мы, утратив это непосредственное знание, пришли к блаженству через купель слепоты и незнания. Теперь мы должны соединить все, что добыто нашим разумом, — с древним откровением, и только из этого соединения получится совершенное познание. Но, верьте мне, чистая душа и чистое сердце помогут в этом более, чем все советы мудрых. Добродетель — вот истинный камень мудрецов!
В этом месте речи Генрих сделал остановку, потом, с совершенно измененным лицом и немного блуждающим взором, добавил тихо и раздельно:
— Ведь вы тоже знаете, что времена и сроки исполнились. Ведь вы тоже, как только наступает тишина, слышите раскрываемые двери. Вот и сейчас: прислушайтесь! Слышите, шаги приближаются? слышите: падают листья с деревьев?
Последние слова Генрих произнес совсем замирающим голосом, делая знак мне соблюдать тишину, весь насторожившись, словно действительно слышал он шум шагов и падение листьев, и близко наклонив ко мне свои глаза, большие и безумные, так что стало мне жутко и не по себе. Я оторвал свой взгляд от взгляда Генриха и, вдруг откинувшись назад, на спинку кресла, переменил тон и сказал ему твердо и жестко:
— Довольно, граф, теперь я все понял, что желал узнать.
Генрих посмотрел на меня недоумевающе и спросил:
— Что вы поняли и что вы желали узнать?
Я ответил:
— Я окончательно узнал, что вы — обманщик и шарлатан, который где-то украл обрывки сокровенных знаний и пользуется наворованным, чтобы выдавать себя за посвященного и учителя!
При таком неожиданном нападении Генрих невольно поднялся со скамьи и, продолжая глядеть прямо на меня, сделал несколько шагов вперед, словно желая потребовать от меня объяснений. Я ждал, не двигаясь, не опуская взгляда, но, не дойдя до меня, Генрих переломил свое волнение и произнес кротко:
— Если вы так думаете, нам не о чем больше разговаривать! Прощайте!..
Но я, толкая самого себя вниз по склону, крикнул ему:
— Теперь это вы ошибаетесь, думая, что за обман заплатите так дешево! Есть святыни, которыми нельзя шутить, и есть слова, которые нельзя произносить легкомысленно! Я призываю вас к ответу, граф Генрих фон Оттергейм!
С гневным лицом Генрих ответил мне:
— Кто вы такой, что приходите ко мне и вдруг начинаете говорить таким голосом? Я могу не слушать вас!
Я возразил с торжественностью:
— Кто я? Я — голос вашей совести и голос мести!
Говоря так, я себе показывал на глаза Генриха и напоминал, что их любила Рената, — на его руки, и говорил, что она их целовала, — на все его тело, и старался представить, как она ласкала его с упоением. Словно большими мехами, раздувал я в своей душе огонь ревности и, словно полководец солдатам, приказывал я своим словам: «Смелее!»
Между тем Генрих, сочтя меня, должно быть, за помешанного, сказал мне: «Мы поговорим после!» — и хотел выйти из комнаты. Но я, в страхе, что не использовал этой встречи, которая может не повториться, загородил Генриху дорогу и крикнул, уже в самом деле со страстью:
— Вы, говорящий о добродетели, я вас обвиняю в бесчестности! Я вас обвиняю, что вы по отношению к даме вели себя не как рыцарь! Вы обманом увезли в свой замок девушку для целей низких и едва ли не преступных. Вы потом пренебрегли ею и покинули ее. Когда же она здесь, на улице, молила вас о снисхождении, вы оскорбили ее, как мужчина не должен оскорблять женщину. Я вам бросаю перчатку, и вы подымете ее, если вы рыцарь!
Впечатление моих слов, необдуманных, которых, по всем соображениям, говорить мне не следовало, было выше моих ожиданий, потому что Генрих метнулся от меня в сторону, как раненый олень; потом, в крайнем волнении, схватил какую-то книгу с аналоя и безвольно, дрожащими пальцами, стал ее перелистывать; наконец обернулся и спросил меня подавленным голосом:
— Я не знаю вас, кто вы такой. Я могу принять вызов только от равного себе…
Эти слова заставили меня потерять последнее самообладание, ибо хотя я и не имею никаких причин стыдиться своего происхождения от честного медика маленького городка, однако в вопросе Генриха узнал я незаслуженное оскорбление, которое клеймило меня уже не раз, как человека не из рыцарской семьи. И в тот миг не нашел я ничего более достойного, как, откинув голову, сказать с холодной гордостью:
— Я такой же рыцарь, как вы, и вам не может быть стыда сойтись со мною в честном поединке. Пришлите же завтра ваших товарищей, в полдень, к собору, условиться с моими. Иначе мне останется убить вас как труса и не знающего чести.
Уже произнеся эти слова, понял я, как позорно было мне лгать в ту минуту, и меня охватили стыд и раздражение, так что, не добавив более ничего, почти выбежал я из комнаты Генриха, быстро спустился вниз по роскошной лестнице и гневным движением заставил растворить предо мною выходную дверь. Лицо мое в свежий ветер светлого зимнего дня и глаза мои в ясное синее небо упали как в водоем с ключевой водой, и я долго стоял, неуверенный, было ли в действительности все, что произошло. Потом я пошел по улице, как-то невольно касаясь рукою стен, словно слепой, нащупывающий свою дорогу, и вдруг прямо передо мною означилось лицо Ренаты, испуганное и бледное, с расширенными зрачками. Она хотела что-то спросить у меня, но я отстранил ее с такой силой, что она едва не упала, ударившись о выступ дома, а сам пробежал дальше, не произнеся ни слова.
Глава восьмая Как я разыскал Матвея Виссмана и о моем поединке с графом Генрихом
Миновав несколько улиц, освеженный движением и холодом, я вновь получил способность думать ясно и делать выводы, и сказал себе:
«Поединок твой с графом Генрихом решен. Отступать теперь невозможно и непристойно. Надо искать только, как лучше выполнить все дело».
Лично я никогда не был сторонником поединков, получивших в наши дни столь пагубное распространение во Франции[149], и хотя известны мне блистательные слова Иоганна Рейхлина — «прекраснейшее, что принадлежит нам, есть честь»[150], — но никогда не мог принять я, чтобы честь опиралась на острие шпаги, а не была утверждена на благородстве поступков и слов. Однако, в дни, когда сами венценосцы[151] не гнушаются посылать друг другу вызовы на единоборство, не почитал я уместным уклоняться от поединков и выступал на них в бытность свою ландскнехтом даже не однажды. Теперь положение вещей усложнялось тем, во-первых, что вызывающим, и притом без надлежащего повода, был я, и тем, во-вторых, что ставил я себе целью поразить противника насмерть, — и от всего этого было мне тяжко и трудно, как если бы предстояло выполнить долг палача.
В те минуты не сомневался я нисколько, что перевес и превосходство в бою будут принадлежать мне, ибо, хотя уже давно не случалось мне упражнять руку, был я одним из лучших бойцов на длинных шпагах, тогда как граф Генрих, преданный исключительно книжным занятиям и философским размышлениям, не мог иметь времени (так мне тогда казалось) достаточно изощриться в искусстве Понца и Торреса[152]. Смущало меня другое, — именно то, что во всем городе, помимо старого Глока, не было у меня человека знакомого, и не видел я, кому, согласно с обычаем поединков, поручить переговоры с противником и устройство нашей с ним встречи. После долгого колебания, порешил я постучать в дверь одного из своих давних университетских товарищей, Матвея Виссмана, фамилия[153] которого, как я знал, жила в городе Кельне уже несколько поколений и которого поэтому я скорее, чем кого другого, мог найти, после прошедших немалых лет, на том же месте, где бывало, у прежних пенатов.
Ожидания мои не были обмануты, так как действительно оказалось, что Виссманы живут на старом месте, хотя и не легко было мне разыскать их приземистый, старозаветный домик, в три выступающих друг над другом этажа, среди новых, высоких, всячески изукрашенных строений, кругом воздвигнутых нашим бойким веком. На удачу мою Матвей оказался дома, но я едва мог признать юношу, хотя и несколько неповоротливого, но все же не лишенного привлекательности и бывшего даже моим (посрамленным, однако) соперником в моих ухаживаниях за хорошенькой женой хлебопекаря, — в том обрюзгшем и степенном толстяке, с глазами сонными, со смешной бородкой, оставлявшей подбородок голым, к которому провел меня слуга дома. Конечно, и он едва мог признать студента счастливого времени, буйного и безбородого, в мужчине, обожженном экваториальным солнцем и обветренном ураганами океана; но, когда я назвал Матвею свое имя и напомнил о нашем былом дружестве, он обрадовался непритворно, все лицо его превратилось в одну добродушную улыбку, и, сквозь слои жира, проглянуло на нем что-то юношеское, как свет сквозь мутное стекло.
Обняв меня дружески и целуя маслянистыми губами, Матвей сказал мне:
— Помню ли я Рупрехта! Брат, да я тебя за каждой попойкой вспоминаю! Клянусь пречистою кровью Христовой, изо всего нашего былого круга тебя одного недостает мне. Ну, влезай, влезай в мою берлогу, садись и развязывай язык! А я велю подать сейчас две кварты доброго вина.
К огорчению Матвея, от вина я отказался, но долго не умел приступить к изложению своего дела. Как я ни отнекивался, а пришлось-таки мне пересказать Матвею свои приключения: годы в Лозгейме, службу ландскнехтом, бродяжничество по Италии, путешествие в Новую Испанию и походы там. А потом и Матвей не преминул сообщить мне, как преуспевает он, позабыв все проказы юности, на многотрудном поприще университетского ученого. Более пяти лет потратил он, чтобы, одолев начала «артистических» знаний и защитив на диспутах несколько «софизмов», получить звание бакалавра; столько же лет ушло у него, чтобы одержать победу над книгами Аристотеля, проявить себя в декламации и стать лиценциатом; наконец, в этом году надеется он добиться инцепции и звания магистра, после чего откроется ему доступ к любому из высших факультетов[154]. Матвей с таким самодовольством говорил о том, что заседает в совете вместе с докторами и ректором, так искренно опасался предстоящих ему больших «промоций» и так наивно почитал себя ученым, что недостало у меня духа посмеяться над ним и не почел я нужным возобновлять старый спор «поэтов» с «софистами»[155].
Наконец удалось мне прервать повествование увлекшегося своею славою профессора и кое-как, скрывая истинную причину вещей, изложить свою просьбу. Матвей поморщился, словно приняв горького лекарства, но потом скоро ухватил мое предложение за какой-то его веселый край и заликовал опять.
— Не мое это дело, брат! — сказал он мне. — Нынче, правда, и студенты берутся за шпаги, но я держусь старого устава, что ученый — как монах, ему оружие — как ослу очки[156]. Ну, да куда ни шло, для старого приятеля! К тому же страсть как не люблю я эту знать, задирающую перед нами нос! Мы п́отом выпариваем из себя доктора, а их жалуют учеными степенями князь или император. Видно, и твой граф из таких докторов-побулле! Если берешься ты посадить его на вертел, я уж для тебя постараюсь!..
Я указал назначенное мною место свидания для переговоров, объяснил, где живу сам, затем распрощался, и Матвей вышел проводить меня до уличной двери. Когда проходили мы через столовую, заставленную тяжелой мебелью старонемецкой работы, неожиданно выбежала из соседней комнаты молодая девушка в розовом платье, зеленоватом переднике и золотом поясе и вдруг, натолкнувшись на нас, смутилась, остановилась и не знала, что делать. Стройность и нежность ее образа, овальное детское лицо с зазубринами длинных ресниц над голубыми глазами, льняные, золотистые косы, собранные под белым чепчиком, все это видение предстало мне, привыкшему к образам скорби и мучения, к чертам, искаженным страстью и отчаяньем, как осужденным духам мимолетный полет ангела у входа в их преисподнюю. Я сам остановился в смятении, не зная, пройти ли мне мимо, или поклониться, или заговорить, а Матвей, раскатисто хохоча, смотрел на наше замешательство.
— Сестра, это — Рупрехт, — сказал он, — добрый малый, которого мы с тобой в иную минуту поминаем. А это, Рупрехт, — сестра моя, Агнесса, которую видал ты девочкой, совсем малышом, тринадцать лет тому назад. Что же вы смотрите друг на друга, как кошка на собаку? Знакомьтесь! Может быть, я вас еще посватаю. Или ты, брат, уже женат, а, отвечай?
Не сумею объяснить почему, но я ответил:
— Я не женат, милый Матвей, но не надо такими словами стыдить и меня и барышню. Извините меня, госпожа Агнесса, я вас очень рад увидеть вновь, но тороплюсь по одному важному делу.
И, поклонившись низко, я поспешил выйти из дому.
Не знаю, под впечатлением ли этой встречи или от нее независимо, но когда я подумал о том, что теперь предстоит мне возвратиться домой, я испытал какое-то отталкивающее чувство, какое, конечно, ведали бы, будь они одушевленны, два магнита, сближенные одноименными полюсами. Мне показалось нестерпимым быть с Ренатою, видеть ее глаза, слышать ее слова, говорить с нею о Генрихе.
Довольно долго проблуждал я по улицам города, почему-то останавливаясь на одних углах и почему-то быстро пробегая другие площади, но потом утомление и холод заставили меня поискать прибежища, и я вошел в первый встретившийся кабак, сел уединенно в углу, спросив себе пива и сыру[157]. Кабак полон был крестьянами и гулящими девками, потому что день был базарный, и кругом не смолкали крики, споры, брань, ругань и проклятия, подкрепляемые порою здоровым тумаком; но мне казалось хорошо в промозглом воздухе и в гаме пьяных людей. Грубые, зверские лица, дикая, неправильная речь, непристойные выходки как-то странно согласовались со смятением моей души, как сливаются иногда в хор крики тонущих с воем бури.
Потом подсел ко мне какой-то худо выбритый малый, в пестром праздничном наряде, и завел длинную речь о бедственном положении мужиков, не новую, хотя и не чуждую правды. Жаловался он на тяготу платежей, оброков, штрафов и всяких поборов, на ростовщичество, на запрещение заниматься ремеслами в деревне, поминал мятеж, который был десять лет назад, и все это с угрозами, обращенными чуть ли не прямо ко мне, словно я во всем и был виноват. Попытался я возразить, что сам почитаю себя скорее из мужиков и что все, чем я владею, заработано собственными моими руками, но, конечно, мои слова пропали даром, и я уже покорно слушал, — ибо мне все равно было, что ни слушать, — как мой случайный сотоварищ грозил рыцарям и горожанам и пожарами, и вилами, и виселицами…[158]
Так как собеседника моего угощал я, то понемногу он захмелел окончательно, и я опять оказался один в общем гуле голосов. Оглядевшись, увидел я картину отвратительную: там и сям валялись тела людей, пьяных мертвецки, в углу двое колотили друг друга, вцепившись в волосы, везде стояли лужи пролитого пива и человеческой блевотины, а посреди всего этого другие еще продолжали попойку, или бесстыдно шутили с девками, тоже пьяными и тоже безобразными, или обыгрывали один другого в грязные карты. Я вдруг удивился, почему я сижу в этом темном и смрадном углу, и, торопливо расплатившись, опять вышел на зимнюю стужу. Было уже сумеречно, и я безвольно побрел домой.
Когда стучался я в нашу дверь, душа моя казалась мне пустой, как вычерпанный колодец, но в доме ее тотчас наполнила строгая тишина и непобедимо повлекла меня в знакомый круг и мыслей и чувств. Я почувствовал, как с лица моего сбежали выражения, искажавшие его весь день, и как губы сложились вновь в ту тихую улыбку, которой я всегда встречал глаза Ренаты. С сердцем, бьющимся тревогою, как в первый раз, отворил я дверь к Ренате и сразу, увидев ее в привычном положении, у окна, прижавшую лицо к его холодным стеклянным кружочкам, кинулся к ней и опустился перед ней на колени.
Рената не сказала мне ни слова о грубости, с какой я оттолкнул ее утром, не упрекнула, что я не возвращался так долго, не захотела узнать, о чем мы говорили с Генрихом, но только, как если бы все другое уже было ей известно, спросила:
— Рупрехт, когда ваш поединок?
Я, в ту минуту не удивившись на этот вопрос, ответил просто:
— Не знаю, решится завтра…
Рената не промолвила больше ни слова и опустила ресницы, а я остался на коленях у ее ног, в неподвижности, приложив голову к подоконнику, но подняв глаза на лицо сидящей, рассматривая ее любимые, милые, хотя неправильные черты, и опять погружаясь в их очарование, словно уходя в глубь бездонного омута. Глядя на эту женщину, которую еще вчера я ласкал всеми поцелуями счастливого любовника и к руке которой сегодня не смел прикоснуться благоговейными губами, я чувствовал, как от всего ее существа разливается магическая власть, замыкающая в свой предел все мои желания. Как легкая мякина на веялке, сероватым дымом отлетали и рассеивались все мятежные думы и все случайные соблазны дня, и определенно падало на ток души полное зерно моей любви и моей страсти. Не хотелось мне думать ни о Генрихе, ни о себе; я был тогда счастлив тем, что тихо касался рукою руки Ренаты, и тем, что минуты неслышно проходят, оставляя меня рядом с ней.
Так, в безмолвии, не смея нарушить его неосторожным словом, мог бы я остаться до утра и почел бы себя у дверей эдема, но вдруг Рената подняла голову, коснулась рукою моих волос и промолвила нежно, как бы продолжая разговор:
— Милый Рупрехт, но ты не должен убивать его!
Я вздрогнул, вырванный из очарования, и спросил:
— Я не должен убивать графа Генриха?
Рената подтвердила свои слова:
— Да, да. Его нельзя убить. Он — светлый, он — прекрасный, я его люблю! Я перед ним виновата — не он предо мною. Я была как лезвие, перерезавшее все его надежды. Надо перед ним преклоняться, целовать его, ублажать его. Слышишь, Рупрехт? Если ты коснешься одного его волоса — у него золотые волосы, — если ты уронишь одну каплю его крови, — ты больше не услышишь обо мне никогда, ничего!
Я встал с колен, скрестил руки на груди и спросил:
— Зачем же ты, Рената, не сообразила всего этого раньше? Зачем же ты заставила меня играть смешную роль в комедии с поединком? Можно ли быть легкомысленной в вопросах о жизни и смерти?
У меня дыхание прерывалось от волнения, а Рената возразила мне резко:
— Если ты вздумаешь бранить меня, я не стану слушать! Но я запрещаю тебе, слышишь ты, запрещаю касаться моего Генриха! Он — мой, и я для него хочу только счастия. Я не отдаю его тебе, я не отдам его никому в мире!..
Делая последнюю попытку, я спросил:
— Так ты забыла, как он оскорблял тебя?
Рената воскликнула:
— Как было хорошо! Как было прекрасно! Он проклинал меня! Он хотел ударить меня! Пусть бы он топтал меня! Он — милый! милый! Я люблю его!
Тогда я сказал тяжелым голосом:
— Я исполню все так, как ты хочешь, Рената. Но больше говорить нам не о чем. Прощай!
Я ушел в свою комнату, бросился на постель, и мне казалось, что я загнан, как зверь, которого травят, в круг из колючей изгороди, прорвать которую у меня нет сил, и упал на землю, в ожидании, пока охотники покончат со мною. Мне хотелось или не быть, или проснуться от жизни, и я в первый раз начинал понимать, что такое искушение — поднять на себя руки. Думая о своей судьбе, я решал, что не буду более говорить с Ренатою ни о чем, а завтра выйду на поединок, опущу шпагу и буду счастлив, ощущая чуждую сталь в своей груди. И, воображая свое тело простертым, все в крови, на оснеженной траве, испытывал я умиление перед собою и нежную к себе жалость, как дитя, которому читают о муках святых.
Утром, однако, при трезвых лучах солнца, несколько успокоенный, я еще раз обдумал свое положение и захотел все-таки переговорить с Ренатою основательно и беспощадно, ибо решения ее всегда были зыбки, как образы облака, и легко могли перемениться за ночь; но оказалось, что Рената, встав раньше меня, уже ушла из дому. Тогда пошел я к Матвею, чтобы предложить ему, при переговорах, выбрать условия менее тягостные, так как, по какому-то врожденному чувству, продолжая заботиться о своей жизни, которая в то время казалась мне ни на что не нужной; но и Матвея не пришлось мне увидеть. Тогда, как-то обезволенный, вернулся я домой и предоставил все трем пряхам, как человек, все равно приговоренный к смерти, которому открывался только выбор между топором и виселицей.
После полудня пришел Матвей, и странно было появление здорового, добродушного толстяка в наших комнатах уныния и отчаянья, странен был его раскатистый и беспечный смех среди стен, привыкших отражать звуки рыданий и вздохов. Приветствовал меня Матвей такими словами:
— Ага, брат, напрасно прикидывался ты вчера причастницей! Я ведь узнал, что ты не один здесь. Только не бойся, я для друзей — рыба, молчу, потому что никто не без греха. Нехорошо только от приятелей таиться! Я отбивать красоток не стану — не таковский.
Когда же я прервал речь Матвея и попросил дать отчет о переговорах, он сказал:
— Все проехало, как корабль по маслу. Уж я друга не выдам, волк его не съест! Пришел от твоего графа щеголь, приседает, как девка, волосы завиты. Ну, да я отщелкал его! Другой раз не будет похваляться своим рыцарством перед добрым бюргером! А встреча ваша сегодня же, в три часа, — что откладывать? — в лесу, близ Линденталя[159]. Там никто вам не помешает, переломай все кости молодчику!
Этот свой приговор выслушал я, не выказав никаких признаков волнения или недовольства; с большой деловитостью условился с Матвеем о разных подробностях встречи и попросил его зайти за мною, когда будет время. Проводив Матвея, я приказал Луизе подать мне обед, так как не хотел, чтобы на исход дела повлияла слабость тела, и потом, достав свою длинную шпагу, стал упражнять руку, стараясь вернуть ей нужную гибкость. За этим занятиям и застала меня Рената, появившаяся в дверях, вся закутанная в плащ, словно некое привидение, и вперившая в меня вопрошающий и укоризненный взгляд.
— Рупрехт, — сказала она, — ты вчера мне поклялся!
Я ответил:
— Я исполню мою клятву, Рената. Но что, если теперь граф Генрих убьет меня?
Откинув голову назад, Рената произнесла твердо:
— Так что же?
Я поклонился церемонно, как кланяются два противника перед началом поединка, вложил свою шпагу в ножны и опять, как вчера, вышел из комнаты: ибо отречься от Ренаты у меня не было воли, а подпасть под ее влияние я не хотел.
Оставшееся время провел я в том, что написал письмо матери, которой не давал известий о себе во все семь лет, со дня, как тайно покинул родительский кров, и свое духовное завещание, обращенное к Ренате, в котором я поручал ей, взяв из остающихся у меня денег сумму, какую она найдет нужным, все остальное переслать в Лозгейм, моей семье. Удивительным образом, мои родные, отец, и мать, и братья, и сестры, о которых я почти не помышлял, вдруг представились мне необыкновенно близкими, я отчетливо вспомнил их лица, их голоса, и неудержно захотелось мне их обнять, сказать им, что я не забыл их. Должно быть, угроза смерти размягчает душу, как сильный жар металлы, хотя и поспешу я добавить, что письмо к матери осталось непосланным.
В половине третьего часа пришел за мною Матвей, все не унывающий, и стал дружески меня торопить, хотя мои сборы и сводились к тому, чтобы надеть теплый плащ да привесить на пояс шпагу. Перед самым уходом предупредил я Матвея, что есть у меня еще маленькое дело, и он лукаво подмигнул мне, указывая на комнату Ренаты, к которой действительно не мог я не войти еще раз. В третий раз я сделал попытку обратить ее внимание на себя, вырвать у нее, почти насильно, хотя бы одно сердечное слово, обращенное ко мне, и, застав ее у аналоя, как будто молящейся, я ей сказал:
— Рената, я ухожу, пришел с тобою проститься. Может быть, мы не увидимся больше в этой жизни…
Рената обратила ко мне свое бледное лицо, а я приник к нему взором, чтобы выискать в его чертах малейшую надежду, затаенную в какой-нибудь складке губ или в какой-нибудь морщинке у глаза, — но выражение этого лица было как объявление казни для меня, и слова, которые услышал я вторично, были неумолимы и беспощадны, как камень, который падает без воли:
— Рупрехт, помни, ты мне дал клятву!
Впрочем, эта жестокость Ренаты скорее прибавила мне сил, чем потрясла меня, что, наверное, сделала бы ее ласка, ибо почувствовал я, что мне нечего терять дорогого, а следовательно, и нечего страшиться. К Матвею вернулся я с лицом почти веселым, и когда, вышедши, сели мы на лошадей, им припасенных (ибо ехать было сравнительно далеко), я даже немало смеялся над забавной фигурой, какую представлял конный профессор. Всю дорогу Матвей потешал меня шутками и остротами, которыми хотел он поддержать во мне бодрость, и я сознательно заставлял себя принимать их как можно ближе к сердцу, чтобы не думать о том, о чем думать было страшно. Со стороны можно нас было принять за двух купцов, сделавших выгодное дельце в городе, выпивших хорошо и везущих подарки своим женам в родное селение.
Совершив довольно длинный путь по трудной, мерзлой дороге, различили мы наконец в неясной дали рано убывающего зимнего дня — отлогий косогор и двух всадников, чернеющих у опушки леса.
— Эге, да мы опоздали! — сказал Матвей. — Господину рыцарю не терпится, пришел первым, не повезут ли последним!
Приблизившись, мы молча поклонились нашим противникам, и я вновь увидел и графа Генриха, закутанного в темный плащ, и его сотоварища, юношу, стройного, как девушка, с нежным продолговатым лицом, в берете с пером, похожего на один из портретов Ганса Гольбейна[160]. Затем мы спешились, и в то время, как мы двое, я и граф Генрих, остались друг против друга, наши товарищи отошли в сторону для последних условий. Генрих стоял передо мною недвижимо, полузакрыв лицо, опираясь на эфес шпаги, весь словно отлитый из одного куска металла, — и я не мог разгадать, спокоен он, негодует или тяготится судьбою, как я.
Наконец наши товарищи вернулись к нам, и Матвей, пожимая плечами и всячески давая понять, что он находит это излишним, объявил мне, что друг графа, Люциан Штейн, намерен предложить нам примирение. Если должно быть правдивым, то, не боясь выставить себя трусом, я признаюсь, что при этой вести мое сердце застучало от радости и представилось мне, что этот франт, в бархатном плаще, — посланец неба.
Но вот какова была речь Люциана Штейна, обращенная ко мне.
— Из вчерашних переговоров, — сказал он, — выяснилось, что вы, почтенный господин, по происхождению не из рыцарской семьи, и потому мой друг, граф Генрих, по чести, мог бы пренебречь теми оскорблениями, какими вы его осыпали, и не принять вашего вызова. Но, видя в вас человека воспитанного и образованного, он не отвечает вам отказом и готов, с оружием в руках, доказать неосновательность ваших утверждений. Однако раньше, чем вступить в поединок, считает он нужным вам предложить, чтобы, одумавшись, прекратили вы эту распрю миром. Ибо, помимо крайних случаев, не должен человек, существо, созданное по образу и подобию божиему, угрожать жизни другого человека. И если вы, почтенный господин, согласны признать, что введены были кем-то в заблуждение, раскаиваетесь и извиняетесь в своих вчерашних словах, — друг мой охотно протянет вам руку.
Несмотря на заносчивость таких слов, я, быть может, не побоялся бы унизиться до извинений, так как все же это была лучшая из дверей, остававшаяся мне для выхода, — но первая половина речи делала это для меня невозможным. Намек Люциана на то, что вчера я лживо назвал себя рыцарем, заставил всю кровь прилить к моему лицу, и я готов был тут же ударить говорившего, жизнь которого не была запрещена мне и которому мог я, с полной свободой, показать силу своей нерыцарской руки. И, еще в этом волнении, не дававшем мне, как высокие морские волны, ясно видеть цели на берегу, я ответил:
— Я не отказываюсь ни от одного из своих слов. Я повторяю, что граф Генрих фон Оттергейм — обманщик, лицемер и человек нечестный. И да рассудит нас бог!
Матвей при моем ответе вздохнул облегченно, как переводящий дыхание бык, а Люциан, отвернувшись, отошел к Генриху.
Мы сбросили плащи и обнажили шпаги, между тем как товарищи наши начертили на земле, чуть-чуть белой от изморози, круг, из которого мы не должны были выступать. Я всматривался в лицо Генриха, видел, что оно сосредоточенно и мужественно, словно теперь сквозь ангельские его черты проглядывал земной человек, и соображал, что таким бывал он в часы, когда, как мужчина, отвечал на ласки Ренаты. Потом, обмениваясь с ним обычным поклоном, обратил я внимание на то, что он гибок, как мальчик, что все его движения, без заботы об том, красивы, как у античной статуи, и вспомнил слова восторга, которыми мне описывала его Рената. Но едва наши клинки скрестились, едва сталь звякнула о сталь, во мне вздрогнула и пробудилась душа воина: я сразу забыл все, кроме боя, и вся жизнь моя сосредоточилась в узком промежутке между мною и моим противником и в тех недолгих минутах, какие могло длиться наше состязание. Все подробности борьбы, беглые, мгновенные, — усилие удара, быстрота прикрытия, степень упругости встречного лезвия, — вдруг сделались событиями, включавшими в себя столько смысла, как целый прожитый год.
Я знал, что не нарушу данной Ренате клятвы, ибо сковывала она мою волю почти сверхъестественной силой, но я надеялся, что сумею и буду в состоянии, не касаясь графа Генриха, выбить шпагу из его рук и тем покончить поединок для себя с честью. Однако я очень скоро убедился, что совершенно неосновательно судил о фехтовальном искусстве[161] своего соперника, ибо под своим клинком обрел я шпагу твердую, быструю и ловкую. На все мои ухищрения Генрих отвечал немедленно, с непринужденностью мастера, и очень скоро перешел в наступление, принудив меня со всем вниманием отбивать его опасные выпады. Как бы связанный тем, что сам я не желал наносить удара, парировал я удары противника с затруднением, а острие его шпаги каждый миг устремлялось на меня, и прямо, и сбоку, и снизу. Теряя надежду на удачный исход боя, терял я и самообладание: пальцы мои посинели от зимнего холода, шпага моя переставала мне повиноваться; я видел перед собою словно колесо крутящихся огненных клинков и среди них, тоже как бы огненное, лицо Генриха-Мадиэля. И вот уже стало казаться мне, что глаза Генриха сияют где-то в высоте надо мною, что наш бой идет в свободных надземных пространствах, что это не я отбиваю нападения врага, но что темного духа Люцифера теснит с надзвездной высоты светлый архистратиг Михаил и гонит его во мрак преисподней…
И вдруг, при одном моем неверном параде, граф Генрих с силою отбросил мою шпагу, и я увидел блеск вражеского клинка у самой моей груди. Тотчас вслед за тем почувствовал я тупой удар и толчок, как всегда при ране холодным оружием; шпага у меня из рук выпала, быстро заволокло мой взор алое облако, — и я упал.
Глава девятая Как мы прожили декабрь и праздник Рождества Христова
Как я узнал потом, ко мне, простертому без памяти на холодной земле, поспешил на помощь не только Матвей, но и мой соперник и его приятель. Граф Генрих проявлял все признаки крайнего отчаянья, горько упрекал себя, что принял вызов, и говорил, что, если я умру, не будет знать покоя всю жизнь. Перевязав мне рану, все трое устроили род носилок и решили нести меня в город пешком, ибо опасались подвергнуть меня качке на лошади по плохой дороге. Я же не сознавал почти ничего из совершавшегося со мной, погруженный в смутное бесчувствие, почти блаженное, прерываемое порою мучительной колющей болью, которая заставляла меня открывать глаза, — но, видя над собой синее небо, я думал почему-то, что плыву в лодке, и, успокаиваясь, опять опускал голову и душу в бред.
Я совершенно не помню, как принесли меня домой и как меня встретила Рената, но Матвей говорил мне потом, что проявила она в таких обстоятельствах мужество и распорядительность. Ближайшие за тем дни, как то всегда бывает от воспаления раны и потери крови, провел я также в беспамятстве и даже не сумею пересказать здесь видения своей горячки, ибо не соответствуют слова, созданные для дел разума, призракам безумия. Знаю только, что, странным образом, воспоминание о Ренате ни в какой мере не примешивалось к этому бреду; из памяти моей, словно губкой написанное мелом на доске, стерты были все мучительные события последнего времени, и я сам себе представлялся тем, каким был в годы моей жизни в Новой Испании. Когда, в редкие минуты просветления, видел я перед собою заботливое лицо Ренаты, воображал я, что это — Анджелика, та крещеная индейская девушка, с которой я жил некоторое время в Чемпоалле[162] и с которой, не без горечи, был должен расстаться после ее неблаговидных поступков. И потому, в своем бреду, я всегда негодующе отталкивал руки Ренаты и гневно говорил ей в ответ на ее хлопоты: «Зачем ты здесь? Ступай прочь! Я не хочу, чтобы ты была со мною!» — и Рената принимала это грубое обращение больного безропотно.
Поединок наш с Генрихом произошел в среду, и лишь в субботу, в час всенощной, в первый раз пришел я в себя настолько, чтобы узнать и комнату, которая замыкала мне кругозор, и дни, через которые переводила меня жизнь, и, наконец, Ренату, в ее розовой кофте, с белыми и темно-синими украшениями, в том платье, в каком видел я ее в первый день знакомства. Она, внимательно следившая за моим лицом, вдруг по моим глазам разгадала, что я очнулся, и бросилась ко мне в порыве радости и надежды, с криком:
— Рупрехт! Рупрехт! Ты узнал меня!
Сознание мое было еще очень неясно, словно туманная даль, в которой мачты кажутся башнями, но я уже помнил, что бился на шпагах с графом Генрихом и, пытаясь вздохнуть, явно ощущал мучительную боль во всей груди. Мне пришло в голову, что я умираю от раны и что этот проблеск памяти — последний, который часто знаменует наступающий конец. И вот, по той причудливости человеческой души, которая дает возможность преступнику шутить на плахе с палачом, я постарался сказать Ренате те слова, которые показались мне наиболее красивыми при таком случае, хотя исходили они вовсе не из сердца:
— Видишь, Рената, вот я умираю — затем, чтобы остался жив твой Генрих…
Рената с плачем упала на колени перед постелью, прижала мою руку к своим губам, и не сказала, а как бы сквозь некую стену закричала мне:
— Рупрехт, я люблю тебя! Разве же ты не знаешь, что я люблю тебя! Давно люблю! Одного тебя! Я не хочу, чтобы ты умер, не зная этого!
Признание Ренаты было последним лучом, который еще запечатлелся на моем сознании, и потом оно опять погрузилось во мрак, и на его поверхности, словно отблески незримого костра, опять начали плясать красные дьяволы, размахивая широкими рукавами и переплетаясь длинными хвостами. Но мне слышалось, что в своей чудовищной пляске они хором продолжали слова Ренаты и пели, и кричали, и вопили надо мной: «Я люблю тебя, Рупрехт! давно люблю! тебя одного!» — и сквозь лабиринт бреда, по его крутым лестницам и стремительным провалам, я словно нес эти драгоценные слова, тяжесть которых, однако, сокрушала мне плечи и грудь: «Я люблю тебя, Рупрехт!»
Вторично я очнулся на благовест к воскресной обедне, и этот раз, несмотря на слабость и боль в ране, почувствовал, что какая-то грань переступлена, что во мне — жизнь, и я — в жизни. Рената была подле, и я глазами сделал ей знак, что узнаю ее, что помню ее вчерашние слова, что благодарен ей, что счастлив, и она, поняв меня, опять опустилась на пол, на колени, и приникла ко мне головой, как поникают в церквах на молитве. Сознание, что я как бы восстал из могилы, ощущение нежных ресниц Ренаты на моей руке, тихие рассветные лучи и слабо сквозь стекла проникающий благовест делали миг несказанным и неземным, словно бы в нем намеренно было соединено все для человека самое прекрасное и самое дорогое.
С этого дня началось мое выздоровление. Прикованный к постели, почти не в силах шевельнуться, с изумлением наблюдал я, как ловко и обстоятельно распоряжалась Рената всем ходом домашней жизни, хлопоча около меня, заставляя Луизу исполнять свою волю, не позволяя посетителям докучать мне. Посетители же гораздо чаще стучались в нашу дверь, чем то можно было ожидать, потому что каждый день непременно приходил ко мне Матвей, несколько пристыженный моей неудачей, но, конечно, не потерявший своей здоровой бодрости и своего добродушного веселья, и почти столь же часто появлялся Люциан Штейн, настойчиво добивавшийся сведений о ходе моей болезни, чтобы сообщить о том графу Генриху. Наконец, тоже каждый день, входил ко мне доктор, приглашенный Матвеем, человек в черном плаще и с круглой шляпой[163], педант и невежда, которому, менее чем всем другим, почитаю я себя обязанным жизнью.
Будучи не совсем несведущим в медицине и видав на практике, в походах, немало ран, тотчас же, как только я получил способность рассуждать разумно, я приказал выбросить все масляные мази из разных отвратительных составов этого жреца Эскулапа и пользовал свою рану исключительно теплой водой, к большой тревоге Ренаты и к негодованию черного доктора. Я, однако, понимая, что вопрос поставлен о жизни и смерти, нашел в себе уже достаточно воли, чтобы одеть свое решение в панцирь, непроницаемый ни для угроз, ни для просьб, и после, день за днем, указывал на удачу своего лечения, с торжеством и врача и больного.
Когда же мы оставались с Ренатою наедине, мы забывали о моей болезни, потому что ей хотелось только повторять, что она меня любит, а мне было слишком сладостно слушать эти признания, от которых мое сердце начинало биться так сильно, что я чувствовал боль в ране. Я спрашивал Ренату в сотый и в тысячный раз: «Так ты меня любишь? Почему же ты мне не говорила о том прежде?» — а она в сотый и в тысячный раз отвечала:
— Я тебя давно люблю, Рупрехт. Как же не замечал ты того? Часто я тихо шептала тебе это слово: «Люблю». Ты, не расслышав, переспрашивал, что я говорю, а я отвечала: «Так, ничего». Я любовалась тобой, твоим лицом, суровым и строгим, твоими бровями, сходящимися вместе, твоей решительной походкой, но, когда тебе случалось поймать мой любовный взгляд, я начинала тебе говорить о Генрихе. Сколько раз ночью, если ты спал отдельно, я на цыпочках прокрадывалась к тебе в комнату и целовала тебе руки, грудь, ноги, трепеща, как бы не разбудить тебя! Когда тебя не было дома, я тоже часто входила к тебе и тоже целовала твои вещи, подушки, на которых ты спал. Но разве же я смела признаться, что люблю тебя, после всего, что говорила тебе о моей любви к Генриху? Мне казалось, ты станешь презирать меня, ты почтешь мою любовь ничего не стоящей, если я перебрасываю ее, как мяч, от одного к другому. Ах, но разве же я виновата, что ты победил меня своей нежностью, своей преданностью, силой своей любви, неуклонной и могучей, как горный поток!
Я спрашивал Ренату:
— Однако ты послала меня почти на верную смерть? Ты мне запретила касаться Генриха и приказала подставить грудь под его удар! Ведь очень недалеко было от того, чтобы он вонзил шпагу мне прямо в сердце!
Рената отвечала:
— Это было последнее испытание, суд божий. Помнишь, я молилась, когда ты уходил на поединок? Я спрашивала бога, хочет ли он, чтобы я любила тебя. Если была на то его воля, он мог сохранить твою жизнь и под вражеским клинком. И еще я хотела в последний раз изведать твою любовь, смеет ли она посмотреть — взор во взор — на смерть. А если бы ты погиб, знай, в тот же день я затворилась бы в монастырской келье, потому что дольше могла жить — только близ тебя!
Не знаю, сколько было правды в словах Ренаты; вполне допускаю, что рассказывала она не все так, как оно было, но как ей теперь представлялось прошлое; однако тогда было мне не до оценки ее слов, ибо едва доставало сил, чтобы впитывать их в себя, — как иссохший цветок дождевую влагу. Я был подобен нищему, который в течение долгих лет тщетно вымаливал у церковной паперти жалкие гроши и перед которым вдруг раскрыли все богатства лидийского Креза, предлагая брать золото, алмазы и сапфиры горстями. Я, который выслушивал с каменным лицом самые жестокие отповеди Ренаты, не находил в себе силы перенести ее нежность, и часто уже не ее, а мои щеки были теперь смочены слезами.
Мучительную сладость нашей близости придавало то, что в течение многих дней моя рана делала невозможным для нас отдаться нашей страсти в полной мере. Первое время у меня едва доставало сил, чтобы, приподняв голову, приблизить свои губы к губам Ренаты, словно к огненному углю, и, обессиленный таким подвигом, я падал назад, на подушки, не дыша. Позднее, когда я уже мог сидеть на постели, Рената должна была с кроткой настойчивостью удерживать меня от безумных порывов, так как хотелось мне, схватив ее в руки, сжимать, и целовать, и ласкать, и заставить пережить все содрогания любовного счастия. Но, действительно, при первой попытке довериться вихрю страсти, силы мне изменяли, кровь выступала из-под перевязки, в глазах у меня начинали вертеться одноцветные круги, в ушах свистеть однообразный ветер, мои руки опускались, и Рената, улыбаясь извиняюще, укладывала меня, как ребенка, в постель и шептала мне:
— Милый, милый! полно! Перед нами еще вся жизнь! перед нами еще вся жизнь!
К концу первой декабрьской недели я наконец оправился настолько, что мог слабо бродить по комнате и, сидя в большом кресле, исхудалой рукою перелистывать заброшенные нами томы магических сочинений. Вместе с моим выздоровлением наша жизнь начала вновь вливаться в прежнее русло, так как один за другим исчезали наши посетители, — и Люциан Штейн, которому не о чем было больше справляться, и черный доктор, которому я сам указал на дверь, и, наконец, верный Матвей, который не очень ладил с Ренатою.
Вокруг нас двоих начала образовываться привычная нам пустота, но насколько отличной казалась она мне от той, в которую я был погружен раньше! Можно было поверить, что надо мною новое небо и новые звезды и что все предметы кругом преобразились силою волшебства, — так непохоже было на прошлое все то, что переживал я тогда, в тех самых стенах, которые прежде теснили меня, как неотступный кошмар!
И теперь, вспоминая этот декабрь, который прожили мы с Ренатою, как новобрачные, я готов на коленях благодарить творца, если свершилось все его волею, за минуты, которые мог испытать. А в те дни только одна мысль настойчиво занимала и тревожила меня: что жизнь моя достигла своей вершины, за которой не может не начаться новый спуск в глубину, что я, как Фаэтон, возница колесницы Солнца, вознесен к зениту и, не сдержав отцовских коней, должен буду позорно рухнуть по крутому склону вновь на землю. С томительной поспешностью старался я всем существом впитать в себя блаженство высоты и исступленно говорил Ренате, что самое благоразумное — было бы мне умереть, чтобы счастливым и победителем оставить эту жизнь, в которой, несомнительно, еще ждали меня, не в первый раз, трагические маски скорби и поражения.
Но Рената на все эти речи отвечала мне:
— Как ты не привык к счастию! Верь мне, милый, мы еще только в его дверях, не прошли и первой залы! Я вела тебя по подземелиям мук, а теперь поведу тебя по дворцу блаженства. Только оставайся со мной, только люби меня — и мы оба будем восходить все выше и выше! Это я так напугала тебя, но я хочу, чтобы ты все забыл, хочу за каждый миг страдания заплатить тебе целыми днями радости, потому что ты своей любовью уже вознаградил меня за всю жизнь отчаяния и гибели!
Говоря это, Рената имела такой вид, словно всю жизнь питалась счастием, как райские птицы воздухом[164].
И, подобно тому как не знала Рената предела в проявлениях своего отчаяния, не знала она предела и в выражениях своей любви. Я вовсе не был новичком в плавании по океану страсти на галере под флагом богини Венеры, но еще в первый раз встречал я такую алчность чувства, для которого все ласки казались слишком слабыми, все сближения недостаточно тесными, все радости не наполняющими меры желания. При этом, как бы стремясь вознаградить меня за жестокость, с какой прежде она встречала мою любовь, Рената теперь искала в страсти унижений и покорности. Я должен был немало сопротивляться, чтобы она не целовала мне ног, как Магдалина Христу, и удерживать ее почти насилием от многого такого, намек на что я не могу доверить и этой рукописи.
Около двух недель длился наш медовый месяц, время, за которое ко мне почти совсем вернулись силы, а вместе с тем и присущий мне трезвый взгляд на вещи, который в себе я ценю более всех иных способностей. Вместе с тем минуло и то напряжение всех чувств, в котором долгое время меня держали наши неопределенные отношения с Ренатою, наши постоянные поиски чего-то, наше неотступное ожидание какого-то события, и я начал ощущать себя так, словно в душе моей спущен наконец давно натянутый лук и стрела вонзилась в намеченную цель. Разумеется, даже в начальные дни нашего неожиданного соединения, которые Ренате хотелось превратить в оживший бред двух как бы безумных, не терял я головы окончательно, и сквозь всю исступленность наших взаимных клятв, любовных признаний и ласк, в непрерывной цепи сменявших одна другую, — видел я, словно день за густыми лианами, суровую действительность и не забывал ни на час, что мы — лишь пилигримы на волшебном острове. Но, когда существо мое насытилось наконец непривычными и им забытыми радостями, когда черный и огненный кошмар мучительных месяцев совсем был заслонен розоватым туманом настоящего, не мог я не подумать, здраво и отчетливо, и о нашем будущем.
Прежде всего побуждало меня к этому сознание, что от денег, собранных мною за океаном, осталось уже не больше половины, которая также таяла довольно быстро. Во-вторых, помимо необходимости заботиться о заработке, меня уже явно тяготило многомесячное бездействие, и я часто мечтал о деле и о труде, как о самых благородных радостях. Наконец, никогда не угасало во мне убеждение, к которому в зрелую пору жизни приходят все мыслящие люди, что одними личными удовольствиями не вычерпаешь жизни, как моря — кубками веселого пира. Правда, чтобы приступить к работе, надо было окончательно устроить свою судьбу, но я твердо помнил, что Рената дала согласие быть моей женой в дни, когда скрывала любовь под маской суровости, и не мог сомневаться, что она даст это согласие теперь, когда открыла лицо.
Выбрав подходящий час, я сказал Ренате:
— Дорогая моя, из моих рассказов ты достаточно знаешь, что мы не можем без конца вести с тобою такое беспечное существование, как теперь, и я должен непременно приняться за какое-либо дело. Я предпочитал бы за то, о котором давно думаю: за торговлю с язычниками в Новой Испании. И вот сегодня, Рената, после того, как ты дала мне тысячи доказательств, что любишь меня, повторяю я тебе мою просьбу, которую раньше едва смел произнести: быть моей женой, ибо я хочу, чтобы моя подруга могла без смущения смотреть в глаза всем женщинам. Если и ты повторишь мне свое «да», мы тотчас поедем с тобою в мой родной Лозгейм, и я уверен, что мои родители не откажут нам в благословении, — иначе же мы обойдемся без него, ибо я давно уже собственными силами пробиваю себе путь в дебрях жизни. И, как муж и жена, мы поплывем в Новый Свет, чтобы там осуществить те годы света и блаженства, о которых пророчишь ты.
К моему удивлению, это мое предложение, которое и поныне представляется мне естественным и разумным, произвело на Ренату самое дурное впечатление, и сразу на ее лицо как бы упала тень от какого-то мимовеющего крыла. Замечу кстати, что эта тень почти всегда омрачала ее облик, когда заговаривал я о своих родителях и о своем доме; сама же она никогда, ни даже в минуты предельной близости двух страстно соединенных, не говорила мне ничего о своем отце и матери или о своей родине. Теперь же, нахмурив брови, она мне ответила так:
— Милый Рупрехт, я тебе обещала быть женой, если ты убьешь Генриха. Этого не случилось, может быть, по моей вине, но я клятвой не связана. Так погодим говорить о будущем. Неужели ты не можешь принять счастие безо всякой посторонней мысли, взять его, как берут стакан вина, и выпить до дна? Когда необходимым станет заботиться о жизни, мы и будем заботиться, и, верь мне, ты найдешь во мне помощницу мужественную. Теперь же я отдаю тебе всю мою любовь, и от тебя прошу только одного: пусть будут твои руки достаточно сильны, чтобы принять ее полностью.
Произнося эту неожиданную и несправедливую отповедь, Рената приникла ко мне с нежностью и постаралась увлечь меня в сад ласк, но, конечно, она не рассеяла тем моих сомнений, и, как это ни странно, тот разговор оказался явным переломом в ходе событий, и тот день должно признать последним днем нашего медового месяца. Неудачу моего предложения не мог я не приписать каким-то тайным причинам, и страстное мое чувство к Ренате сразу потускнело, а на дне души стало собираться неопределенное недовольство, капля по капле, словно новая колонна в сталактитовой пещере. Вместе с тем, словно мыши из шапки фокусника, стали тогда неожиданно разбегаться по нашей жизни всякие недоразумения, подчас нелепые и нас недостойные.
Тогда подошли праздники святого Рождества Христова, и Рената, с обычной прихотливостью своих решений, захотела непременно провести их весело и людно. Ей понадобились вдруг знакомства, зрелища и разные песни, и я, вспоминая, с каким вниманием вникала бывало Рената в латинские тексты, только недоумевал, видя, с какой детской наивностью стала она предаваться разным уличным удовольствиям.
Прежде всего, конечно, должны мы были посетить все церковные службы. В ночь под день Рождества в церкви Св. Цецилии любовались мы изображением святых яслей, с коленопреклоненными подле царями, так живо напомнившим мне дни детства; не пропустили обедни в день Иоанна Евангелиста, и в день сорока тысяч младенцев, и в день обрезания господня; ходили по городу со всеми церковными процессиями. Затем понравилось Ренате принимать в наших комнатах детей, приходивших славить Христа со сделанным из дощечек вертепом, слушать их пение, говорить с ними и угощать их. Далее водила меня Рената по всем балаганам, настроенным вдоль по набережным и на рынке, в которых показывались разные диковинки, и только смеялась, когда я напоминал ей ее прежние слова о несносности уличной толпы. И мы проводили целые часы среди пьяных и грубых мужиков, наблюдая игроков на бандурах и волынках, акробатов, ходивших на голове, фокусников, достававших живую змею из своей ноздри, шпагоглотателей и людей, пускавших фонтаны изо рта, женщин с бородами, ихневмонов, носорогов, дромадеров и всякие редкости, за которые проезжие люди умеют собирать с горожан их трудовые гроши[165].
Наконец, неожиданно для меня, появились в нашем доме две женщины, по-видимому, из бюргерской семьи, которых Рената назвала Катариной и Маргаритой и которых мне представила как наших соседок и своих давних знакомых. Женщины показались мне тупыми и неинтересными, и я никак не мог понять, зачем нужны они среди нас, после того как мы так радовались, что вновь обрели наше одиночество. Проведя с двумя посетительницами очень скучный час в разговоре о сравнительных достоинствах патеров разных приходов, я после стал довольно горько выговаривать Ренате за такое знакомство, и это послужило поводом к нашей первой ссоре. Рената ответила мне с неожиданной горячностью, что не могу же я требовать, чтобы она не видала никого в мире, и спросила, неужели, приглашая ее с собою в Новый Свет, намерен я там заточить ее в четырех стенах. Я не побоялся указать Ренате на всю неосновательность ее речей, но она ничего не хотела слушать и, осыпав меня упреками, пригрозила тут же уйти из дому, как из тюрьмы.
Правда, обменявшись, словно ударами шпаги, очень жестокими словами, мы через несколько минут оба увидели нелепость нашего спора и поспешили задуть огонь распри буйным ветром клятв и признаний и залить его влагой поцелуев и ласк, — но под пеплом остались живые искры. Дня через два после этого происшествия Рената вдруг объявила мне, что в послеобеденный час намерена идти к нашей соседке и что меня также ждут на это собрание. Я с негодованием ответил, что не хочу сохранять вздорного знакомства; когда же Рената, несмотря на то, принарядилась и ушла из дому, я, как бы в отместку ей, пошел к Матвею, к которому порывался давно, — и то было в первый раз после моей болезни, что мы разлучились с Ренатою.
Матвей встретил меня ворчливо, но добродушно, а Агнесса, которая, по всему судя, была теперь осведомлена о существовании в моей жизни Ренаты, — робко и недоверчиво. Я постарался пробить тот лед, которым затянулось наше дружество с Агнессою, и долго занимал ее рассказами о Новой Испании, которыми производил неизменное впечатление на всех новознакомых, еще раз повествуя и о разрушенных храмах майев, и о громадных кактусах, и об опасных охотах на медведей и унце. Расстались мы снова друзьями, и, когда, вернувшись домой, услышал я от Ренаты лукавые слова о каком-то юноше, сыне купца, проявлявшем к ней особенное внимание в доме соседки, я поспешил с своей стороны сообщить об Агнессе, которая завлекла мое любопытство в доме Матвея. Этот новый наш поединок, где клинки старались поразить ревность противника, кончился в мою пользу, ибо Рената, сначала делавшая вид, что пренебрегает моими признаниями, скоро перешла к жалобным упрекам, а потом не удержала и слез, так что я должен был, утешая ее, поклясться, что не чувствую никакого влечения к Агнессе, а она призналась мне, что сын купца существует только в ее воображении.
Это не помешало тому, чтобы через немного дней Рената опять объявила мне, что приняла какое-то приглашение соседки, на что я ответил новым посещением Матвея. А так как подобный турнир имел и еще продолжения, то в короткое время я действительно сделался частым посетителем Виссманов и, оставляя Матвея его ученым книгам, стал проводить долгие часы с Агнессою. Мне очень нравилось это создание, тихое и кроткое, девушка, с которой хорошо было говорить обо всем на свете, ибо все для нее было ново и всему она верила с доверчивостью младенца. В собственной же ее голове бабушкины сказки были причудливо перемешаны с университетской мудростью, которою сбивал ее с толку брат, и это приводило ее к самым забавным и несообразным представлениям и соображениям, которыми я любил тешить себя, как дети игрушками. Агнесса вполне серьезно спрашивала меня, правда ли, что на лице человека написано латинскими буквами Homo Dei[166], причем два глаза суть две буквы О, нос — буква М и т. под.; что Иисус Христос был распят по самой середине земли, ибо Иерусалим есть центр мира, как сердце центр тела; что на земле ровно столько видов растений, сколько звезд на небе, ибо виды растений возникают от влияния звезды на соединение стихий; что изумруд присвоила себе Пресвятая Дева и что этот камень сам собою разбивается вдребезги, если при нем совершится любовный грех, — и многое в этом роде.
Я, впрочем, должен тут же со всею определенностью заявить, что в моих отношениях с Агнессою, ни тогда, ни после, не было ничего, достойного названия любви, хотя, конечно, близость милой и юной девушки была мне сладостна, как-то дополняя страстность и опытность Ренаты. Но должен также сознаться, что в глубине души, в те дни, не находил я в себе ни той безусловной преданности, которая прежде отдавала меня без меча и без кольчуги в руки Ренаты, ни той опьянительной страсти, которая держала меня в своих цепях из роз в дни нашего сближения после моей болезни. Чувство, нараставшее долгие месяцы, как волна, вознесло до последней высоты свой гребень в наши медовые дни, а потом упало и рассыпалось бессильной пеной. Моя страсть, потопом блаженства затопившая меня на две недели, как бы отливом отхлынула от берегов души, обнажив ее дно и оставив на песке морские звезды, ракушки и водоросли.
Все же я чутьем знал, что наступит час и нового прилива, и потому продолжал повторять Ренате прежние слова о любви и клясться, что верен ей, как бывало. Но от зоркости Ренаты не могла укрыться перемена, произошедшая во мне.
В эту пору обмелевшей любви мы с Ренатою то целыми днями не видали друг друга, то опять бросались один на другого в порыве вспыхнувшего желания, то падали в провалы вражды и злобы. В часы ссор Рената иногда доходила до крайнего исступления, то попрекала меня таким, о чем, может быть, лучше было не вспоминать, то угрожала, что ночью перережет мне горло или подстережет на улице и убьет Агнессу, то опять исходила слезами, падала на пол и предавалась обо мне такому же отчаянью, как когда-то о графе Генрихе. Напротив, в дни примирения воскресали все восторги двух счастливых любовников: мы были вновь как Клеопатра и Антоний в своем Египте или как Тристан и прекрасная Изольда в своем дворце, и недавние распри казались нам смешными недоразумениями, какими-то проделками злобных домовых, тех, кого сама Рената назвала «маленькие».
Эти постоянные смены радости и скорбей утомляли меня больше, чем прежние мучения отвергаемой любви, и моя тоска по жизни мирной и трудовой все возрастала, как медленно надвигающаяся буря. Но мы долго еще могли ждать первых молний, потому что Рената все же сохраняла владычество над моей душой, которая после недолгого отлучения вновь тянулась к ней, к ее взгляду и ее поцелую, как под землею корень ко влаге. Однако в существе самой Ренаты было что-то, не допускавшее медленного хода событий, и, увлеченная новым, внутренним переворотом на новый путь мыслей и чувствований, она вдруг повернула и всю нашу жизнь на другой галс.
Глава десятая Как явился Ренате вновь Мадиэль и как она меня покинула
I
Однажды вечером, когда был я, по обыкновению, у милой Агнессы, пришлось мне возвращаться домой довольно поздно, так что пропуска у ночных стражей я добивался маленькими подачками. Подойдя к нашему дому, я различил в сумраке, что кто-то сидит на пороге, как кошка, и скоро убедился, что это — Луиза. Она мне бросилась навстречу и, не без простодушного ужаса, рассказала, что с госпожою Ренатою приключилось сегодня нечто неожиданное и страшное и что она, Луиза, боится, не было ли здесь вмешательства нечистой силы. Из подробного описания я вскоре понял, что с Ренатою произошел вновь тот припадок одержания, какие мне уже приходилось видеть, когда дух, входя внутрь ее тела, жестоко мучил и оскорблял ее. Тут же припомнил я, что последние дни Рената была особенно грустна и беспокойна, к чему, однако, я отнесся с небрежением легкомысленным и недостойным.
В ту минуту чувство мое было такое, словно кто-то уколол меня в сердце, и ключ моей любви к Ренате вдруг брызнул в душе струею сильной и полной. Я поспешил наверх, уже воображая в подробностях, как буду просить у Ренаты прощения, и целовать ее руки, и слушать ее ответные ласковые слова. Застал я Ренату в постели, где она лежала обессиленная, как всегда, припадком до полусмерти, и лицо ее, слабо освещенное свечой, было как белая восковая маска. Увидя меня, она не улыбнулась, не обрадовалась, не сделала ни одного движения, обличающего волнение. Я стал на колени у постели и начал говорить так:
— Рената, прости меня! Последнее время я вел себя не так, как подобало. Я жестоко виноват, что покинул тебя. Не знаю сам, как и зачем я это сделал. Но больше этого не будет, я тебе клянусь!
Рената остановила мою речь и сказала мне голосом тихим, но отчетливым и решительным:
— Рупрехт, это я должна говорить сейчас, а ты слушать. Сегодня совершилось со мною нечто столь важное, что я еще не могу обнять его разумом. Сегодня моя жизнь переломилась надвое, и все, что ожидает меня в будущем, не будет похоже на то, что было в прошедшем.
После такого торжественного экзордиума[167] Рената, обратив ко мне бледное и серьезное лицо, рассказала мне следующее.
Последнюю неделю, когда я особенно мало обращал внимания на Ренату, она сильно страдала от одиночества и целые дни плакала, тщательно скрывая это от меня. Но, когда человек в тоске, он становится беззащитен пред нападением враждебных демонов, и давний враг Ренаты, преследовавший ее еще в замке графа Генриха, опять поборол ее, вошел в нее и, пытая, поверг на пол. Однако, когда лежала она, простертая, почти не сознавая ничего, — внезапно возникло перед ее глазами светлое сияние, и в нем выступил образ огненного ангела, который не видала она с самых дней своего детства. Рената узнала тотчас своего Мадиэля, ибо он был таким же, как прежде: лицо его блистало, глаза были голубые, как небо, волосы словно из золотых ниток, одежда будто тканная из пламенной пряжи. Восторг несказанный охватил Ренату, подобно тому как апостолов на горе Фаворе, в час преображения господня, но лик Мадиэля был строг, и, заговорив, ангел сказал так:
«Рената! С того самого дня, как ты, поддавшись плотским пожеланиям, хотела обманом и коварством склонить меня к страсти, — я покинул тебя, и все раза, когда после думала ты, что меня видишь, то не был я. И тот граф Генрих, в котором воображала ты узнать мое воплощение, был тебе послан не кем другим, как искусителем, чтобы совратить и умертвить твою душу окончательно. В кущах блаженства, перед лицом вседержителя, где витают ангелы, не раз лил я горестные слезы, видя тебя погибающей и созерцая злобное торжество врагов твоих и наших. Не раз возносил я, как дым кадильный, свою мольбу ко Всевышнему, да разрешит он мне положить тебе руку на плечо и удержать тебя над бездной, но всегда останавливал меня глас: „Надлежит ей преступить и эту ступень“. Ныне мне дано наконец открыть тебе всю истину, и узнай, что тяжки твои прегрешения на весах справедливости и душа твоя наполовину уже погружена в пламя адское. Не о венце святой Амалии Лотарингской подобает тебе мечтать теперь, но лишь о венце мученическом, кровью омывающем скверну преступлений. Сестра моя возлюбленная! ужаснись, покайся, молись неустанно богу, и мне позволено будет опять оберегать и укреплять тебя!»
Пока говорил Мадиэль, все слова его открывались Ренате в ярких картинах. Так, видела она — то сады рая, в которых ангелы поют славословия творцу и взлетают, как птицы, образуя своими сочетаниями мистические буквы D, I, L[168]; то ступени некоей лестницы, изображающей ее земную жизнь, по которым ступала она среди змей, василисков, драконов и других чудовищ; то, наконец, себя самое, по пояс погруженную в пламя преисподней, и пляшущих кругом в ликовании дьяволов. Когда же Мадиэль кончил гневную речь, Рената была в последнем отчаянье, и ей казалось, что дыхание жизни ее покидает. Тогда, видя свою подругу в таком страшном положении, Мадиэль неожиданно изменился, лицо его приняло выражение кроткое и нежное, и весь он стал как добрый старший брат, каким бывал в дни их детских игр; приблизившись, он наклонился к помертвелой Ренате и ласково поцеловал ее в губы, овеяв ее сладостной и не жгучей огненностью. С криком радости Рената хотела обнять его, но протянутые ее руки встретили только старую Луизу, которая прибежала на шум от ее падения и на ее жалобный стон.
Это рассказала мне Рената, оставив меня, как всегда, после своих признаний, в недоумении: что из ее слов действительность, что видение ее бреда и что измышление ее ума, роковым образом склонного ко лжи. В тот день я позаботился только о том, чтобы успокоить больную, уговаривая ее не думать пока о совершившемся и пытаясь утешить ее обещанием лучших дней, когда я буду посвящать ей все часы и минуты. Но Рената на мои речи отрицательно качала головой или улыбалась мне снисходительно, как улыбается мать ребенку, пытающемуся развеселить ее тоску своими игрушками. Убаюкиваемая моими ласковыми речами, она, впрочем, скоро уснула сном утомленного и замученного, а я уснул близ нее, как в прежние дни, когда мы еще не были близки.
Однако, в ту же самую ночь, мог я убедиться, что не легкомысленно говорила Рената, будто вся жизнь ее переломилась надвое: на первой заре Рената разбудила меня, и лицо ее было странно торжественным, когда она попросила меня помочь ей встать и проводить к ранней обедне. Я повиновался, невольно подчиненный строгостью ее голоса и тишиной утреннего часа, и Рената, поспешно одевшись, заставила меня отвести ее, хотя была так слаба, что едва могла ступать, в церковь Святой Цецилии. Там, упав на аналой, Рената, среди яркой пестроты и позолоты храма, молилась ненасытно и заливалась слезами до самого конца службы, как последняя грешница, ищущая отпущения грехов. И, глядя на ее ревность, начал я понимать, что в душе Ренаты произошла не мимолетная перемена, но свершился какой-то большой переворот, изменивший надолго все ее мысли, чувствования, пожелания, словно перестроивший по новому плану все ее существо.
Действительно, отсюда началось для Ренаты, и для меня с ней, совершенно новое существование, и порой мне казалось, что если и можно найти единство между всеми ликами Ренаты, являвшимися мне прежде, то новый ее образ принадлежит вовсе другой женщине. Не только Рената высказывала совсем иные, чем прежде, суждения, не только повела совсем новый образ жизни, но я не узнавал самого ее способа говорить, действовать, обращаться с людьми, не узнавал самого звука ее голоса, ее походки, пожалуй, и лица. Но тогда напоминал я себе, что рассказывала мне Рената о своем детстве, как проводила она ночи напролет в молитве, как выходила обнаженной на холод, как бичевала себя или терзала груди остриями; или еще те слова, какие она сказала мне на барке, когда мы плыли с нею к городу Кельну: «Всем нам, каждому, надо было бы ужаснуться и, как оленю от охотника, бежать в монастырскую келью», — и я понимал, что все это уже было в Ренате и раньше, но лишь скрывалось — как тело под случайными одеждами.
Чтобы изобразить, хотя бы в самых общих чертах, эту последнюю пору нашей совместной жизни с Ренатою, должен я прежде всего сказать, что в свое покаяние внесла она ту же исступленность, как раньше в скорбь, а потом в страсть. В один из первых дней после видения захотела она пойти на исповедь и, сколь я ни предостерегал ее от такого опасного поступка, действительно исполнила свое намерение в нашей приходской церкви. Не знаю, чистосердечно ли покаялась Рената перед нашим патером в своих прегрешениях, из которых меньшее, будь оно обнародовано, могло повести ее на костер ведьм, — но, вернувшись домой, умиленная и в слезах, сообщила она мне об епитимии, на нее наложенной. И с того дня, выполняя ее, она не пропускала утра, чтобы не быть у мессы, каждый церковный звон встречала молитвой, каждый вечер молилась у аналоя до изнеможения, держала все предписанные верным посты, в среду, пятницу и субботу, а порою вскакивала и среди ночи, чтобы опять, ломая руки, рыдая, молить об отпущении грехов. Не довольствуясь указанными ей испытаниями, Рената жаждала всячески усилить свои подвиги, чтобы полнее выразить свое покаяние, а может быть, чтобы скорее выпросить себе прощение. Не раз я удерживал ее, когда она яростно билась головой об стену, не раз подымал с полу потерявшей сознание от усталости на молитве, а однажды вырвал из ее рук кинжал, которым она уже начертила у себя на груди кровавый крест. В эти минуты у Ренаты всегда было лицо счастливое и детское, и она упрашивала меня кротко:
— Рупрехт, оставь меня, мне хорошо, мне хорошо!
Ко мне в те первые дни своего покаяния Рената относилась ровно и ласково, как сестры к братьям в бригиттианских монастырях[169], не возражая мне резко, подчиняясь мне в малом, но во всем существенном твердо держась своего пути. Разумеется, Рената отреклась от всякого соблазна страсти, не позволяла мне даже прикоснуться к ней и говорила теперь о земной любви с той же холодностью, как любой схоластик.
Настойчиво убеждала меня Рената присоединиться к ее покаянию, упрашивала о том на коленях и со слезами, как добрая сестра, или заклиная с угрозами, как проповедник, — но в моей душе, куда бросил свои семена Яков Вимфелинг[170], эти призывы не могли найти отзвука. Всю мою жизнь твердо сохранял я в глубине сердца живую веру в творца, промыслителя мира, в его благодать и искупительную жертву Христа Спасителя, однако никогда не соглашался, чтобы истинная религия требовала внешних проявлений. Если Господь Бог дал людям во владение землю, где лишь борьбой и трудом можно выполнить свой долг и где лишь страстные чувства могут принести истинную радость, — не может его справедливость требовать, чтобы отказались мы от трудов, от борьбы и от страсти. Кроме того, пример монахов, этих настоящих волков в овечьих шкурах, которые давно уже стали широкой мишенью, продырявленной всеми стрелами сатиры, — достаточно показывает, как мало приближает к святости жизнь праздная и тунеядная, хотя бы вблизи от алтаря, при каждодневных мессах.
Впрочем, искренность и увлеченность, с какими отдавалась своему покаянию Рената, настолько оживили во мне мое чувство к ней, что я в течение недели или даже дней десяти делал вид, будто испытываю то же, что она, так мне хотелось не отходить от нее, разделять все ее минуты. Вместе с Ренатою посещал я церкви; опять, прислонясь к колонне, следил за ней, склоненной к молитвеннику; слушал мерное пение органа и воображал безнадежно, что это шумят вокруг нас мексиканские леса. Не отказывал я Ренате и тогда, когда она звала меня молиться с собой, ласково ставила близ себя на колени и нежно просила, чтобы я повторял за нею слова псалмов и кантик. Отдавал я себя в волю Ренаты и тогда, когда хотелось ей каяться во всем, ею в жизни совершенном, когда, став передо мной на колени, она целые часы, заливаясь слезами, проклинала себя и свои поступки, рассказывала мне о своем постыдном прошлом, причем, как мне кажется, находила особую сладость в том, чтобы обвинять себя в самых черных преступлениях, в которых не была повинна, взводить на себя самые стыдные небылицы.
В этих рассказах свою жизнь с графом Генрихом изображала она как сплошной ужас, ибо уверяла теперь, что тайное общество, в котором Генрих мечтал стать гроссмейстером, было общество самых низших магов, служивших черную мессу и готовивших ведьмовское варево. По словам Ренаты, именно в эти дни были ей указаны пути на шабаш и тайны магии, так что она только притворялась, будто постигает их вместе со мной. Однако и о нашей совместной жизни тут же, с не меньшим волнением, рассказывала Рената такие вещи, которым я никак не мог дать веры и которые являли события, лично мною пережитые, словно отраженными в изогнутом зеркале. Так, заверяла меня Рената, что перед встречей со мной не было у нее другого желания, как затвориться в монастырь. Но затем некий голос, принадлежавший, конечно, врагу человеческому, сказал ей над ухом, что демоны отдадут ей Генриха, если она взамен поможет им уловить в их сети другую душу. После этого вся наша жизнь будто бы в том лишь и состояла, что Рената, применяя ложь и лицемерие, старалась вовлечь меня в смертные грехи, не останавливаясь ни перед какими обманами. Если бы поверить Ренате, то пришлось бы допустить, что роль стучащих духов играла она сама, чтобы заманить меня в область демономантии, что мои видения на шабаше были ею мне подсказаны, что Иоганн Вейер был прав, уверяя, будто это Рената разбила лампады при нашем магическом опыте, и подобное.
Между прочим, решительно потребовала Рената, чтобы магические сочинения, все еще лежавшие на столе в ее комнате, были уничтожены или выброшены, и сколько ни возражал я против такой незаслуженной казни книгам Агриппы Неттесгеймского, Петра Апонского, Рогерия Бакона, Ансельма Пармезанского и других, но она оставалась непреклонной. Унеся груду томов, я спрятал их в дальнем углу своей комнаты, ибо почитал святотатством уподобляться папе, сжегшему Тита Ливия, и подымать руку на книги как на лучшее сокровище человечества. Но, взамен исчезнувших томов, на столе Ренаты скоро появились другие, столь же тщательно переплетенные в пергамент и с не менее блестящими застежками, да, пожалуй, и содержанием отличающиеся не более, чем груша от яблока, ибо и они усердно трактовали о демонах и духах. А так как большинство тех новых сочинений, к которым тянулась теперь жаждущая душа Ренаты, также было написано по-латыни, то пришлось мне опять быть толмачом, и повторились для меня с Ренатою часы общих занятий, когда, рядом за столом, склонясь к страницам, вникали мы оба в слова писателя.
Добывать книги приходилось, конечно, опять мне, так что я возобновил свои посещения Якова Глока и опять стал рудокопом в его богатых шахтах; но Рената резко воспрещала мне приносить сочинения Мартина Лютера и всех его приспешников и подражателей, я же ни за что не хотел, чтобы она читала какого-нибудь Пфефферкорна или Гогстратена, так что, исключив всю современную литературу двух воинствующих станов, должно было мне ограничить свои выборы теологами прежнего покроя, трактатами старой и новой схоластики. Впрочем, первое, что досталось нам, была благородная и интересная книга Фомы Кемпийского «О подражании Христу»[171], но тотчас последовали разные «Ручные изложения веры», «Enchiridion», на которых было помечено: «Eyn Handbuchlein eynem yetzlichen Christenfest nutzlich bey sich zuhaben»[172], далее заманчивые по заглавиям, знаменитые, но своей славы не заслуживающие трактаты, как «Die Hymelstrass»[173] Ланцкранны или «О молитве» Леандра Севильского, еще после — жития святых, как-то: Бернарда Клервосского, Норберта Магдебургского, Франциска Ассизского, Елизаветы Тюрингенской, Екатерины Сиенской и других, и, наконец, сочинения двух солнц этой области, — два фолианта, один поменьше, другой несоразмерно громадный, за которые не пожалел я талеров, но в которых недалеко мы подвинулись: серафического доктора Иоганна Бонавентуры «Itineraruim mentis»[174], местами не лишенное увлекательности, и универсального доктора Фомы Аквината «Summa Theologiae»[175] — книга совершенно мертвой и ожить не способной учености. Рената хваталась, как за якорь спасения, то за одно, то за другое сочинение и торопила меня то переводить ей страницу жития, то истолковать теологический спор, восхищаясь описываемыми чудесами, устрашаясь угрозами адских мук и с наивностью, ей несвойственной, принимая за истины всякие нелепые измышления схоластических докторов.
Я не упомню сейчас всей суммы вздоров и несообразностей, какие довелось нам вычитать при этих наших усердных занятиях, достойных более осмотрительного применения, но я приведу здесь несколько примеров тех рассказов, которые с особенной силой потрясали Ренату, вызывая на ее ресницы слезы. Так, с истинным ужасом читала Рената у Фомы Аквината описание преисподней, более полное, нежели у поэта Данте Алигиери, с точным означением, где будут находиться и каким мучениям подвергнутся различные грешники: праотцы, умершие до пришествия Христа, дети, умершие до крещения, тати, убийцы, блудники, богохульники. С соответственным умилением слушала Рената перечисление числа ударов, какие были получены Спасителем после предания, причем оказывалось, что ударов бичом было 1667, ударов рукой — 800, особо заушений — 110; тут же сообщалось, что слез было им пролито на Масличной горе 62 200, а капель кровавого пота — 97 307; что терновый венец причинил пречистому челу 303 раны, что стонов было им испущено 900 и т. д[176]. Умилял Ренату рассказ, как явилась Екатерине Сиенской Богоматерь, подвела ее к своему сыну, который и подал святой, в знак обручения, кольцо с бриллиантом и четырьмя жемчужинами, под звуки арфы, на которой играл царь Давид; или, как святой Ютте, в Тюрингии, явился сам Христос, позволил ей прижать уста к своему прободенному ребру и сосать пречистую свою кровь. Не менее серьезно принимала Рената повести, будто из могилы святого Адальберта в Богемии, когда ее открыл епископ Пражский, излилось столь укрепляющее благоухание, что все присутствующие три дня после того не нуждались в пище, или будто в одном женском цистерианском монастыре, во Франции, святость жизни была столь высока, что, с божьего благословения, дабы не вводить в монастырь никого со стороны и все же продолжить его население, каждая монахиня, не зная мужа, родила по девочке, которая должна была стать ее преемницей. Не знаю, всегда ли вера враждует с рассудком, и правда ли, что занятия теологией размягчают мозг, но, глядя, как доверчиво слушает эти истории Рената, которая в другие дни умела пользоваться логикой, мог я только повторять слова святого Бернарда Клервосского: «Все грехи возникают из греха неверия».
Что до меня, схоластические бредни, как новинка, забавляли меня только первые дни, а так как сочинения теологические имеют одну плохую особенность: все они очень похожи одно на другое, — то скоро часы чтения с Ренатою сделались для меня неприятной обязанностью. Любовь моя к Ренате, вдруг ожившая под влиянием ее видения, стала замирать снова, словно шар, который кто-то подтолкнул неожиданно, но который все равно не может свободно катиться по каменистой дорожке. И очень скоро монастырский образ жизни, который ввела у нас в доме Рената, с молитвами, коленопреклонениями, воздыханиями и постами, начал казаться мне каким-то неуместным маскарадом. Я начал уклоняться от того, чтобы сопровождать Ренату в церковь, уходил, под разными предлогами, из дому в часы, когда могли бы мы приняться за чтение, резко прерывал благочестивые разговоры и ночью, слыша из комнаты Ренаты ее сдавленные рыдания, не спешил к ней. А потом настал и день, когда не мог и не захотел я преодолеть своего желания: вернуться к Агнессе, словно к ясному воздуху над зелеными лугами, после рдяных и голубых лучей, перекрещивающихся в церквах сквозь расписные стекла.
II
Этот день, чего я предвидеть не мог никак, если не определил, то предсказал всю нашу судьбу. Рената тогда с утра была в соборе, и я, прождав ее до полудня, вдруг, почти неожиданно для самого себя, вышел на улицу, направился, не без смущения, к знакомому дому Виссманов и постучался в дверь, как виноватый. Агнесса приняла меня с неизменной приветливостью и только сказала мне:
— Вы так давно у нас не были, господин Рупрехт, и я уже думала, что с вами опять случилось что-либо нехорошее. Мне брат запретил расспрашивать вас, говоря, что у вас могут быть причины, которых не должно знать честной девушке, — правда ли это?
Я возразил:
— Ваш брат пошутил над вами. Просто в моей жизни настали неудачные дни, и я не хотел вас опечаливать грустным лицом. Но сегодня стало мне слишком тяжело, я пришел к вам, чтобы помолчать и послушать ваш голос.
Я действительно молчал почти все время, какое пробыл с Агнессою, а она, скоро освоившись со мною вновь, щебетала, как ласточка под кровлей, обо всех маленьких новостях недавних дней: о смерти собачки у соседки, о смешном случае за обедней в воскресенье, о попойке профессоров, какая была у ее брата недавно, о каком-то необыкновенном, отливающем в три цвета шелке, присланном ей из Франции, и о многом другом, заставлявшем меня улыбаться. Речь Агнессы текла как ручеек в лесу; ей говорить было легко, потому что все впечатления жизни и все сказанные ею слова скользили сквозь нее, не задевая в ней ничего, а мне было легко ее слушать, потому что не надо было ни думать, ни быть внимательным, можно было бросить поводья своей души, которые так часто приходилось мне натягивать. Опять, как всегда, ушел я от Агнессы освеженный, словно легким ветром с моря, успокоенный, словно долгим созерцанием желтой нивы с синими васильками.
Дома я застал Ренату над книгами, тщательно разбирающей какую-то проповедь Бертольда Регенсбургского[177], написанную на старом языке. Строгое лицо Ренаты, ее спокойный взгляд и сдержанный голос, — все это было такой противоположностью с детской беспечностью Агнессы, что сердце у меня словно кто-то ущемил клещами. И вот тогда-то вдруг, с крайней непобедимостью, захотелось мне прежней Ренаты, недавней Ренаты, ее страстных глаз, ее исступленных движений, ее несдержанных ласк, ее нежных слов, — и желание это было так остро, что я готов был заплатить всем, чтобы насытить его. В ту минуту, без колебания, отдал бы я всю будущую жизнь за одно мгновение ласки, тем более что казалось оно мне неосуществимым.
Я бросился к Ренате, я стал перед ней на колени, как в хорошее, давнее время, я начал целовать ей руки и говорить о том, как безмерно ее люблю и как изнемогаю смертельно все эти дни от ее суровой неприступности. Я говорил, что из черного ада я вышел было к радужному эдему, как Адам не сумел воспользоваться блаженством, и вот стою у врат рая, и страж с пылающим мечом загораживает мне возврат, — что я согласен умереть сейчас же, если мне еще один раз позволено будет вдохнуть запах эдемских лилий. Я знал, даже в тот миг, что говорю неправду, что повторяю слова прошлого, но ложь была той дорогой ценой, за которую надеялся я купить любовный взгляд и ласковое прикосновение Ренаты. Не останавливался я даже и перед другими, еще более недостойными средствами соблазна, стараясь отуманить сознание Ренаты, стараясь вновь пробудить в ней чувственное влечение, так как мне, во что бы то ни стало, нужна была ее страсть.
Не знаю, искусство ли моей речи одержало верх, или во мне самом тогда было слишком много огня, который не мог не перекинуться на существо Ренаты и не зажечь ее, или, наконец, в ней самой вырвались наружу силы страсти, насильственно заваленные камнями рассудка, — только в тот вечер могла торжествовать богиня любви и крылатый сын ее мог опять задуть свой ночной факел. С такой пламенностью приникли мы друг к другу, с такой нежной ожесточенностью искали поцелуев и объятий, словно то было первое соединение, и, в опьянении счастием, казалось мне, что мы не в нашей знакомой комнате, а где-то в пустыне, в диких скалах, в гроте и что молнии неба и нимфы леса приветствуют наш союз, как когда-то Энея и Дидоны:
Fulsere ignes et conscius aether Connubiis, summoque ulularunt vertice Nymphae[178]И Рената, потеряв строгий облик монахини, повторяла мне слова ласки, которые для меня были нежнее всех звуков виолы и флейт:
— Рупрехт! Рупрехт! Мне больше ничего не надо, только ты люби меня; я не хочу ни блаженства, ни рая, я хочу, чтобы ты был со мной, чтобы ты был мой, а я — твоя. Я люблю тебя, Рупрехт!
Но зато, когда миновал порыв страсти, когда, словно из какого-то ничто, опять выступили кругом стены нашей комнаты и вся ее обстановка, и стали нам видны и книги, разбросанные по столу, и упавший на пол том проповедей Бертольда Регенсбургского, и мы двое, простертые в утомлении на смятой постели, — тотчас охватило Ренату отчаянье. Вскочив, кинулась она к аналою, стала на колени, шепча молитву, но потом так же быстро поднялась, бледная, гневная, и стала бросать в меня упреки:
— Рупрехт! Рупрехт! Что ты сделал! Я знаю, тебе только одно это и нужно! Я знаю, ты во мне ничего другого не ищешь, не хочешь. Но зачем тогда я тебе? Иди в публичный дом — там ты за малые деньги найдешь себе женщин. Предложи себя любой девушке, и ты получишь жену, которая будет тебе служить каждую ночь. Но тебе нравится искушать меня именно потому, что я отдала свою душу и свое тело богу!
На это я возразил:
— Рената, будь милосердна и справедлива! Вспомни, я целые месяцы жил близ тебя, не добиваясь твоих ласк, когда думал, что ты обручена другому, и не жаловался на твою бесстрастность. Но как хочешь ты, чтобы я сносил ее спокойно, когда знаю, что ты меня любишь, когда чувствую близость твоей любви? Я не верю, что господу богу неугодна ласка двух любящих, и ты еще несколько минут назад говорила, что за нее готова отдать блаженство будущей жизни.
Но вместо ответа Рената начала рыдать, как она всегда рыдала, то есть безудержно и безутешно, так что напрасно пытался я ее успокоить и утешить, прося у нее прощения, обвиняя самого себя, обещая ей, что ничего, подобного этому дню, не повторится никогда. Не слушая меня, Рената плакала словно о чем-то погибшем безвозвратно, как могла бы плакать разве девушка, нечестно обольщенная соблазнителем, или как, может быть, плакала праматерь Ева, понявшая лицемерие Змия. Я же, видя эти слезы и эту тоску, сам себе давал решительные клятвы, что никогда больше не поддамся искушению, что лучше покину Ренату, нежели опять выставлю себя в ее глазах человеком, ищущим грубых наслаждений, так как не их, а ласковых глаз и нежных слов жаждал я.
Однако, несмотря на эти обещания, данные мною и Ренате и себе, тот день послужил образцом для многих других, вылепленных хотя и из другой глины, но в тех же формах, притом с такой точностью, что во всех них занимала свое место Агнесса. Обычно происходило все так, что я шел днем к Агнессе, слушал ее тихие речи, смотрел на ее льняные косы и с душой успокоенной, как заштилевшее море, возвращался к Ренате, по пути напоминая себе, что сегодня буду я владеть собою строго. Дома большею частью начинали мы чтение какого-нибудь назидательного сочинения, причем, преодолевая чувство скуки, старался я вникать в рассуждения, любопытные для Ренаты, — но понемногу близость ее тела увлекала меня, как некий любовный фильтр[179], и, почти сам не примечая того, я то приникал губами к ее волосам, то теснее прижимал ее руку к своей. Вспоминая теперь эти минуты, думаю, что, может быть, не всегда первый повод подавал я, но что одинаковое со мною чувство испытывала и Рената, которая также влеклась, против воли, к страсти, или что было во всем этом влияние существ, нам враждебных и незримых. Во всяком случае, без одного исключения, все наши чтения, после первого нашего грехопадения, стали завершаться одинаково: сначала исступленными ласками и взаимными клятвами, а потом отчаяньем Ренаты, ее слезами и жестокими укорами и моим поздним раскаяньем. И число этих образов, сходных друг с другом, как листья одного дерева, увеличивалось в нашей памяти каждый день на один.
Так наша жизнь, словно завиваясь суживающимися кольцами водоворота, замкнула наконец в очень тесный круг то, что прежде она обнимала широким обхватом. Первые месяцы нашей жизни с Ренатою были мы чуждыми друг другу; затем в течение двух недель, после моего поединка с графом Генрихом, напротив, близкими, как только могут быть близки люди. В следующий период жизни, длившийся до видения Ренаты, эти смены враждебности и близости свершались в течение нескольких дней, и порою в одну неделю успевали мы быть и лютыми врагами, и страстными любовниками. Теперь такой же цикл замкнулся в краткое время двадцати четырех часов. На протяжении от утра до вечера успевали мы пройти всю высокую лестницу от братской близости через дружескую доверчивость, к самой пылкой, самозабвенной любви и дальше, к отточенной, как кинжал, ненависти. Каждый день наши души, как клинки, то раскалялись до белого света на горне страсти, то вдруг погружались в ледяной холод, — и легко можно было предвидеть, что, не выдержав таких переходов, они наконец сломаются.
Я чувствовал себя совершенно измученным всей своей жизнью с Ренатою и снова помышлял втайне о том, чтобы покинуть ее и бежать в другие страны, хотя в то же время мысль лишиться ее и ее ласк была мне так ужасна, что я просто боялся вообразить себя в мире опять одиноким. Вместе с тем и Рената, в часы наших ссор, все чаще решалась говорить мне, что более не может оставаться со мной, что в меня вселился дьявол, искушающий ее, что ей лучше умереть от тоски по мне, нежели совершать смертные грехи ради близости со мной, и что единое пристанище, где ей теперь место, — монастырь. Тогда я не придавал особого значения этим словам, но и мне наша общая жизнь опять представлялась тогда комнатой, из которой нет выхода, в которой все двери мы замуровали сами и в которой теперь мечемся безнадежно, ударяясь о каменные стены.
Но катастрофа, разрушившая эти стены в прах, вдруг бросившая меня в какие-то другие пропасти, на другие острые камни, все же подошла незаметно, словно судьба подкралась в маске и на цыпочках и схватила нас обоих сзади.
Мне памятен тот день, может быть, больше всех иных дней, и потому я знаю точно, что было то 14 февраля, в воскресенье, в День святого Валентина[180]. Снова был я тогда у Агнессы, причем при беседе нашей присутствовал и Матвей, и мы втроем немало шутили над обычаями и приметами, связанными с этим днем. Возвращаясь домой, был я опять расположен добродушно и ласково и говорил себе: «Душа Ренаты изранена всем, что пережила она. Надо дать ей тихое успокоение, как больному дают лекарство. Кто знает, быть может, после нескольких месяцев жизни и ясной и мирной, и любовь ее, и покаяние ее вольются в ровное русло, — и для нас с ней станет возможною та счастливая и трудовая жизнь мужа и жены, о которой я уже перестаю мечтать».
С такими благими решениями вошел я к Ренате и, по обыкновению, застал ее среди книг, над фолиантом, в смысл которого она тщетно старалась вникнуть. Была она так заинтересована темным для нее содержанием книги, что не слышала, как я приблизился, и, вздрогнув, обратила ко мне ясные глаза свои, только когда я осторожно поцеловал ее в плечо.
Словно забыв все свои вчерашние жестокие упреки и жалобы, Рената сказала мне приветливо:
— Рупрехт, как я тебя долго ждала сегодня! Помоги мне — я вижу, что эта книга очень важная, но понимаю очень плохо; здесь есть откровения, которые, если мы будем их помнить, удержат нас от многих зол.
Я присел рядом с Ренатою и увидел, что то была книга, недавно разысканная мною у Глока, так как она уже давно была распродана: прекрасный том, отпечатанный еще в прошлом веке, в городе Любеке, под заглавием: «Sanctae Brigittae Revelationes ex recensione cardinalis de Turrecremata»[181]. Книга была раскрыта на описании путешествия святой Бригитты Шведской по чистилищу и тех родов мучений, какие она там наблюдала. В упор начали мы читать о какой-то грешной душе, голова которой была так крепко стянута тяжелой цепью, что глаза ее, вылезши из орбит, висели на своих корнях до самых колен, а мозг лопнул и вытекал из ушей и из носу; далее изображались мучения другой души, у которой язык был вырван через открытые ноздри и свисал до зубов; еще далее следовали иные формы всевозможных пыток, сдирания кожи, исхищренных бичеваний, терзаний огнем, кипящим маслом, гвоздями и пилами.
Мне не довелось прочесть в этой книге описания мук в самом аду, но в изображении чистилища заинтересовала только сила необузданной фантазии, много терявшая, впрочем, от дурного изложения кардинала, не совсем твердого в латинской стилистике. Зато на Ренату видения святой Бригитты произвели впечатление потрясающее, и, оттолкнув страшную книгу, вся дрожа, она прижалась ко мне, видимо, представляя себе загробные мучения со всей ясностью открывшегося взорам зрелища. С чувством настоящего ужаса, как ребенок, оставшийся один в темной комнате, она воскликнула, наконец:
— Страшно! Страшно! И это грозит всем нам, каждому, мне и тебе! Пойдем, помолимся, Рупрехт, и да оставит нам бог столько жизни, чтобы загладить все грехи наши!
В эту минуту Рената, наивная и робкая, похожа была на маленькую деревенскую девочку, которую пугает заезжий монах, надеясь с ее помощью распродать побольше индульгенций, и была она мне мила и дорога несказанно. Я охотно последовал за ней к маленькому алтарю, бывшему в ее комнате, и мы стали на колени, повторяя святые слова: «Placare Christe servulis…»[182] Эта общая молитва, когда мы стояли рядом, как два изваяния в церкви, и когда наши голоса смешивались, как запах двух рядом растущих цветков, решила нашу участь, потому что оба мы не одолели вновь желаний, вдруг вставших со дна нашей души, как встает из корзины, на свист заклинателя, — его змея.
Я не хочу обвинять здесь в этом последнем поступке Ренату и не могу принять за него всей вины на себя, и пусть рассудит это в свое время тот, кому принадлежит судить и разрешать, в руках которого весы верные и кто не зрит на лица. Но кто бы ни был из нас виноват в этом нашем последнем падении, во всяком случае, скорбь, которая поборола Ренату, едва миновало головокружение страсти, еще не имела в прошлом равного ничего. Рената с таким изумлением и с такой дрожью отпрянула от меня, словно я завладел ею тайно, в ее сне, или насилием, как Тарквиний Лукрецией, и первые два слова, произнесенные ею, ударили меня бичом по сердцу сильнее, чем все последующие проклятия. Эти два слова, исполненные беспредельной тоски, были:
— Рупрехт! Опять!
Я схватил руки Ренаты, хотел целовать их, заговорил торопливо:
— Рената! Клянусь богом, клянусь спасением души, я не знаю сам, как все это произошло! Это все — лишь оттого, что я слишком люблю тебя, что я согласен на все мучения Бригитты, только бы целовать твои губы!
Но Рената высвободила свои пальцы, отбежала на середину комнаты, словно для того, чтобы быть от меня дальше, и закричала мне вне себя:
— Лжешь! Лицемеришь! Опять лжешь! Подлый! Подлый! Ты — сатана! В тебе — дьявол! Господи, Иисусе Христе, охрани меня от этого человека!
Я попытался настичь Ренату, протягивал к ней руки, повторял ей какие-то ненужные извинения и бесплодные клятвы, но она отстранялась от меня, крича мне:
— Прочь от меня! Ты мне ненавистен! Ты мне противен! Это в безумии я говорила, что люблю тебя, в безумии и в отчаянье, так как мне ничего не оставалось больше! Но я дрожала от отвращения, когда ты обнимал меня! Ненавижу тебя, проклятый!
Наконец я сказал:
— Рената, почему ты обвиняешь меня одного, но не себя? Разве ты не одинаково виновата, поддаваясь моему соблазну, как я, уступая твоему? Вернее, не бог ли виноват, сотворив людей слабыми и не дав им сил для борьбы с грехом?
В эту минуту Рената остановилась, словно пораженная моими богохулениями, дико стала оглядываться и, увидев лежащий на столе нож, схватила его, как оружие избавления.
— Вот, вот, гляди! — крикнула она мне голосом хриплым. — Вот какое средство завещал нам сам Христос, если тело наше искушает нас!
Говоря так, Рената ударяла себя клинком в плечо, и кровь окрасила место раны, а через миг потекла и из рукава ее платья. У меня тотчас мелькнула мысль, что этот порыв — последний, что за ним наступит упадок всех сил, и я хотел подхватить Ренату в руки, как изнемогшую. Но, против ожидания, рана только придала ей новой ярости, и, с удвоенным негодованием, она оттолкнула меня, метнулась в сторону и опять закричала мне:
— Уйди! Уйди! Не хочу, чтобы ты ко мне прикасался!
Потом, совершенно обезумевшая, а может быть, подпавшая под влияние злого духа, Рената с размаха бросила в меня ножом, который еще держала в руке, так что я едва успел отклониться от опасного удара. Тут же схватила она со стола тяжелые книги и стала метать их в меня, как ядра из баллисты, а за ними и все другие мелкие предметы, находившиеся в комнате.
Защищаясь, сколько было можно, от этого града, хотел я говорить и образумить Ренату, но ее каждое мое новое слово приводило в большее раздражение, каждое мое движение возбуждало еще и еще. Я видел ее лицо, бледное, как никогда, и искаженное судорогами до неузнаваемости, я видел ее глаза, в которых зрачки расширились вдвое, — и весь ее облик, все ее тело, находившееся в непрерывной дрожи, доказывали мне, что не она владеет собой, но кто-то иной распоряжается ее телом и ее волей. И вот в ту минуту, слыша повторные крики Ренаты: «Уйди! уйди!», видя, в какую ярость приводит ее мое присутствие, принял я решение, может быть, неосторожное, но за которое сегодня все же не смею упрекать себя: я решился действительно уйти из дому, полагая, что без меня Рената скорее овладеет собой и успокоится. Кроме того, не мог я оставаться твердым, как марпезийская скала[183], слыша непрестанные оскорбления себе, и хотя понимал умом, что Рената за них не ответственна, однако не без труда удерживал я себя, чтобы не крикнуть ей в ответ и своих обвинений.
Итак, я предпочел, повернувшись, быстро выйти из комнаты и слышал за собой неудержимый хохот Ренаты, словно бы она торжествовала долгожданную победу. Приказав Луизе подняться наверх и ждать приказаний госпожи, я накинул плащ и вышел на весенний воздух, в сумерки подступавшего вечера, — и такой странной показалась мне узкая улица, и высокие кельнские дома, и еще белый месяц над ними, после сумасшедшего дома, в котором только что слышал я вопли, скрежет и смех. Я шел вперед, не думая ни о чем, только дыша всей грудью, только вбирая глазами темнеющую синь неба, и вдруг сам удивился, увидя себя у дверей дома Виссманов, куда меня как-то сами завели мои ноги. Я, конечно, не вошел к ним вторично, но, перейдя на другую сторону улицы, заглянул в окна, и мне показалось, что я узнал милый и нежный облик Агнессы. Успокоенный уже этим одним, а может быть, и всей прогулкой, я медленно направился домой.
Но у нас нашел я Луизу в смятении, а комнату Ренаты пустой, причем на полу валялись ее вещи, некоторые части одежды, какие-то лоскуты, веревки — и все обличало, что кто-то здесь поспешно готовился к отъезду. Конечно, я догадался сразу, что произошло, и охватил меня крайний ужас, как неопытного мага, который втайне заклинал демона явиться и вдруг упал ниц при его страшном появлении. В волнении начал я расспрашивать Луизу, но она немногое могла объяснить мне.
— Госпожа Рената, — так бормотала Луиза, — сказала мне, что вы попрощались с нею и что она уезжает на несколько дней. Она приказала мне помочь ей собрать ее вещи, но запретила за ней следовать. Я же никогда не возражаю господам и делаю все, как они прикажут. Вот только удивило меня, что у госпожи Ренаты вся рука была в крови, ну да я ей рану перевязала чистым полотном.
Спорить с глупой старухой или бранить ее было бесполезно, и я, не отвечая на ее причитания, побежал, с непокрытой головой, на улицу. Мне казалось, что Рената не могла уйти далеко, я надеялся нагнать ее, упросить, умолить вернуться. Я толкал редких вечерних прохожих, я сам натыкался на стены и без толку, с сердцем, бьющимся, как молот кузнеца, пробегал улицу за улицей, пока не послышался звон уличных цепей и не замелькали, там и сям, во мраке переносные фонари. Тогда я понял бессмысленность своих поисков и вернулся к себе, потрясенный и растерявшийся.
Хотя утешал я сам себя соображением, что не успела, конечно, Рената выйти из города, прежде чем заперли ворота, однако все же первая ночь, которую я провел без нее, была поистине страшной. Сначала я бросился в свою постель и ждал мучительно, против всякого вероятия, что вот раздастся стук в дверь и вернется Рената, — встречая каждый шорох, как надежду, как предзнаменование. Потом, вскочив, я стал на колени и начал молиться с тем же исступлением, с каким молилась сама Рената, заклиная Всевышнего вернуть мне ее, вернуть во что бы то ни стало, какой бы ценой то ни было. Я давал сотни обетов, исполнить которые клялся, если только Рената вернется: клялся заказать тысячу обеден, клялся положить десять тысяч поклонов, клялся пойти пешком ко Гробу Господню, соглашался отдать взамен все другие радости жизни, какие еще могли ожидать меня в будущем, — сам понимал всю нелепость своих обетов и все же произносил их, сжимая руки. Потом бросился я в опустелую комнату Ренаты, где все еще было живо ею, ложился на ее постель, на ту простыню, к которой она еще вчера прижимала свое тело, целовал ее подушки и грыз их зубами, воображал Ренату в своих объятиях, говорил ей все страстные, все нежные слова, которые не успел сказать за дни нашей близости, и бился головой об стену, чтобы чувством боли вернуть себе сознание. Не знаю, как не потерял я рассудка в ту ночь.
Настала заря, и я был уже на ногах, я уже искал Ренату по городу, уже стерег ее у городских ворот и на пристанях, откуда отходят барки. Но я не нашел Ренаты нигде, я не дождался ее дома — она не вернулась ко мне ни в тот день, ни на следующий, ни в целый ряд других дней, — она не вернулась в ту свою комнату больше никогда.
Глава одиннадцатая Как я жил без Ренаты и как я встретился с доктором Фаустом
I
Не сумел бы я описать в подробностях, как я прожил первые дни после ухода Ренаты, ибо в моей памяти они слились в одно мутное пятно, как при тумане сливаются в одно — гавань, и окружные дома, и мечущиеся на пристани люди. Но никогда прежде, даже воображая, как мы расстанемся с Ренатою, не мог я допустить, что с такой неодолимостью схватит меня в свои когти тоска, словно горный орел малого ягненка, и что окажусь я настолько беззащитным и беспомощным пред натиском безумных, неисполнимых желаний. В те дни всю мою душу наполняло до краев, и свыше края, сознание, что счастие моей жизни — в одной Ренате и что без нее — нет для меня смысла видеть день или встречать ночь. Месяцы, проведенные мною с Ренатою, представлялись мне временем эдемского блаженства, и при мысли, что я мог утратить его так легкомысленно, я готов был в ярости кричать самому себе все проклятия и бить самого себя по лицу, как презреннейшего негодяя.
Конечно, исполнил я все, что только было в моих силах, чтобы разыскать Ренату. Я подробно опросил, не жалея подачек, всех сторожей у городских ворот, не проходила ли или не проезжала ли через эти ворота женщина, подобная Ренате. Я навел все возможные справки в гостиницах, монастырях и всех других местах, где могла бы она найти приют, причем, сознаюсь, в безумии своем обращался с вопросами даже в публичные дома. Я не постыдился вынести свой позор на улицу и пошел со своими жалобами и просьбами к тем нашим соседкам, Катарине и Маргарите, с которыми одно время водила странную дружбу Рената. Но на все мои розыски получал я лишь пожимание плеч, а в иных случаях, когда расспрашивал с излишним волнением и слишком страстной настойчивостью, — и жестокие насмешки или просто брань в ответ.
В то же время, хватаясь за бессмысленную надежду — повстречать Ренату где-либо на перекрестке, неустанно обегал я улицы и площади города, простаивал часами на пристанях и рынках, входил во все церкви, где любила молиться Рената, и воспаленным взглядом всматривался в коленопреклоненные образы, мечтая различить среди них слишком знакомую фигуру. Тысячу раз представлял я себе, как, столкнувшись внезапно с Ренатою, где-нибудь в узком проходе, схвачу я ее за плащ, если она торопливо захочет бежать прочь, упаду на колени в уличную грязь и скажу ей: «Рената, я — твой, опять — твой, навсегда и совсем! Возьми меня, как раба, как вещь, как Господь Бог берет душу! Делай со мною, что хочешь: сомни меня, как горшечник свою глину, приказывай мне, — я буду счастлив умирать для тебя!» Говоря короче, пережил теперь я сам, со всей точностью, все то, что переживала когда-то Рената, ища безумно своего Генриха на улицах Кельна, и думаю я, что мои чувства ничем не разнились от ее огненного безумия тех дней.
В вечерние часы, которые проводил я дома, открывались мне безмерные просторы отчаяния, и время до утра было для меня порою безжалостной пыткой, которой подвергал я сам себя. Несмотря на то, унизительным казалось мне прибегнуть к какому-либо успокаивающему средству, и я не хотел выпить ни стакана вина, предпочитая встречать скорбь лицом к лицу, без забрала, как честный рыцарь на поединке, чем купить временное спокойствие ценою забвения о Ренате. Снова, как в первую ночь без Ренаты, переходил я из одной комнаты в другую, то запирался у себя, чтобы не видеть, не помнить вещей, к которым прикасалась Рената и на которые мне нестерпимо было смотреть, то опять кидался на ту самую постель, в которой она спала, целуя подушки, к которым прижимались ее щеки, стараясь вспомнить все нежные слова, которые она произносила. Усталость смыкала мне наконец глаза, и тогда во сне она поникала в мои объятия, прижималась к моей груди своим маленьким, хрупким телом, или шла ко мне навстречу из зеркальных зал, торжествующая, как царица, мне дарующая венец, или, напротив, входила бледная, больная, истомленная, простирая руки, прося защиты… Я просыпался, словно падая с высокой башни счастия во мрак и холод своего отвержения…
Так провел я в мечтаниях несколько дней, а потом овладело мною последнее отчаянье и безнадежность крайняя, так что не стало у меня сил даже для поисков. Я круглые сутки оставался в своих комнатах, наедине с тоской, словно преступник, запертый в тюрьме вместе с дикой обезьяной, которая каждый миг опять бросается на него и его душит своими цепкими руками. Порой призывал я к себе Луизу и начинал в сотый и сто первый раз расспрашивать ее об обстоятельствах, при которых ушла Рената, особенно упорно повторяя вопрос: «Так она сказала, что уезжает лишь на время?» — и мучил бедную старуху до тех пор, пока она, качая головой, не уходила от меня сама. Тогда предавался я воспоминаниям о Ренате, перебирая в уме все дни и часы, какие мы с нею провели, подобно тому как скряга пересыпает с ладони на ладонь скопленные им монеты, и иногда смеясь от радости, как идиот, когда в памяти вдруг всплывало забытое слово, забытый взгляд Ренаты. А то еще выдумывал я всякие приметы, одну нелепее другой, которыми не то чтобы обольщал, но как-то тешил себя. Так, смотря в окно, я говорил себе: «Если справа по улице сейчас пойдет мужчина, то Рената ко мне вернется». Или так: «Если я сосчитаю, не сбившись, до миллиона, то она еще в Кельне». Или еще: «Если я вспомню по именам всех своих товарищей по университету, то я встречу ее завтра». И в таком состоянии бессилия и безволия проходили опять дни, и мне становилось все более странно подумать о том, что я могу вернуться к людям, а образ самой Ренаты уже казался мне не воспоминанием о живом человеке, но каким-то святым символом.
Однажды придумал я новую игру, а именно, сидя в кресле, закрывал глаза и воображал, что Рената здесь, в комнате, что она переходит от окна к столу, от постели к алтарю, что она подходит ко мне, касается моих волос. В увлечении я действительно словно слышал шаги, шуршание платья, словно ощущал прикосновение нежных пальцев, и этот самообман был мучителен и сладостен. Так упивался я фантазией целые часы, и слезы не раз наполняли мои глаза, но вдруг сердце мое остановилось и тотчас забилось мятежно, а руки похолодели: я услышал реальный шорох платья и отчетливые женские шаги в комнате.
Я открыл глаза: передо мною была Агнесса.
Медленным, словно несознательным движением Агнесса приблизилась ко мне, опустилась передо мной на колени, как, бывало, я перед Ренатою, взяла мою руку и прошептала мне:
— Господин Рупрехт, отчего вы давно не рассказали мне про себя все?
Была такая ласковость в ее голосе и он так осторожно коснулся ран моего сердца, что не было мне ни стыдно своей скорби, ни страшно присутствия чужого в этой комнате. Я тоже сжал руку Агнессе и так же тихо, как говорила она, сказал в ответ ей:
— Останьтесь со мной, Агнесса; благодарю вас, что вы пришли.
И тут же, так как я не мог в тот час думать ни о чем ином, стал я говорить Агнессе о Ренате, о нашей любви, о моем отчаянье. Нашла свое утоление давно томившая меня жажда назвать вслух, громко, свои чувства, с беспощадностью, в точных терминах, определить свое положение, — и слова вырывались у меня как-то против моей воли, без удержу, иногда без связи, как у сумасшедшего. Я видел, как бледнела Агнесса от моих признаний, как светлый и всегда беспечный взгляд ее застилался слезами, но воздержаться уже не имел силы, ибо вид чужого страдания как-то облегчал мое собственное. Если же Агнесса пыталась вставить свое слово, чем-нибудь утешить меня, я насильственно прерывал ее речь и продолжал свою еще в большем исступлении, словно меня уносил в бездну на своих крылах какой-то демон.
Безумный порыв мой длился, вероятно, около часа, и наконец Агнесса, не выдержав той пытки, какой я подверг ее, вдруг, зарыдав, упала на пол и повторяла: «А обо мне, обо мне вы и не думали никогда!» Тут я несколько опомнился, поднял Агнессу, усадил ее в кресло, говорил, что я признателен ей за ее доброту бесконечно, и действительно, в ту минуту испытывал к ней всю нежность любящего брата. Когда же Агнесса успокоилась, отерла покрасневшие глаза, привела в порядок растрепавшиеся волосы и стала торопиться домой, чтобы отсутствие ее осталось незамеченным, я на коленях умолял ее прийти завтра вновь, хотя на минуту. А после ухода Агнессы испытывал я какое-то странное успокоение, словно раненый, который долго лежал на поле битвы без помощи и наконец попал в руки внимательного медика, промывшего ему, не без мучительной боли, его глубокие раны и перевязавшего их чистым полотном.
Агнесса вернулась ко мне на другой день, а потом пришла и на третий, и на четвертый, и стала появляться в моих комнатах ежедневно, умея как-то обмануть и бдительность брата, и аргусовский взор соседних кумушек. Конечно, я не мог не догадаться тотчас, почему она приходила ко мне, да ее дрожь, когда я к ней прикасался, покорность ее взгляда и робость ее слов достаточно объясняли мне, что она ко мне относилась со всей нежностью первого чувства. Но это не могло помешать мне мучить ее своими признаниями, потому что мне Агнесса была нужна только как слушательница, перед которой мог я свободно говорить о том, чем жила моя душа, и перед которой я мог вслух произносить сладостное мне имя Ренаты. Таким образом, в обратном отражении, повторились для меня те часы, когда я сам слушал рассказы Ренаты о Генрихе, ибо на этот раз я был не жертвою, но палачом. И, глядя на маленькую Агнессу, ежедневно шедшую ко мне на мучения, думал я, что мы четверо: граф Генрих, Рената, я и Агнесса — сцеплены между собою, как зубчатые колеса в механизме часов, так что один невольно впивается в другого своими остриями.
Я скажу, что Агнесса с неожиданной для нее бодростью переносила эти испытания, так как любовь, по-видимому, всем, и самым слабым, дает силы титана. Забыв свою девическую скромность, покорно слушала она мои рассказы о днях нашего счастия с Ренатою, — рассказы, в которых нравилось мне вспоминать и о самом сокровенном. Преодолевая свою детскую ревность, шла она за мной в комнату Ренаты и позволяла показывать себе любимые места Ренаты, кресло, где она часто сидела, алтарь, у которого она молилась, ту постель, у подножия которой я, бывало, спал, не смея поднять глаз выше. Заставлял я Агнессу и обсуждать со мною вопрос, как мне теперь поступить, и робким, прерывающимся голосом убеждала она меня, что мне бессмысленно было бы ехать на поиски по всем городам немецких земель, особенно когда я не знал даже, где родина Ренаты и где живут ее близкие.
Впрочем, случалось нередко, что я не соразмерял своих ударов с силами своей жертвы, и тогда Агнесса, вдруг уронив руки, шептала мне: «Я не могу больше!» — и вся как-то поникала, или опускалась, с тихими слезами, на пол, или стыдливо припадала лицом в кресло. Тогда истинная нежность к этой бедной девочке возникала во мне, я обнимал ее ласково, так что смешивались наши волосы и губы сближались в поцелуй, для меня, однако, не значивший ничего другого, кроме дружбы. Может быть, ради этих кратких минут и приходила ко мне Агнесса и, в ожидании их, готова была принять все мои обиды.
Так прошло времени около десяти дней, а я все медлил в Кельне, во-первых, потому, что действительно некуда было мне ехать, а во-вторых, потому, что безволие все еще опутывало меня словно густой сетью и страшно мне было расстаться с последней пристанью, еще остававшейся у меня на земле: с привязанностью Агнессы. Душа моя в те дни так была размягчена всем, мною пережитым, что никто бы не признал во мне сурового сподвижника великих конквистадоров, водившего экспедиции через девственные леса Новой Испании, но, напротив, весь погруженный в смену своих чувств, напоминал я скорее какого-нибудь «кортеджано», столь тонко изображенного остроумным Бальдассаре Кастильоне[184]. И, может быть, не имея воли сделать решительный шаг, еще много дней длил бы я свой странный образ жизни, если бы не положило ему конец происшествие, которое вернее признать естественным выводом из всего бывшего, чем случайностью.
Однажды, на склоне дня, а именно в субботу 6 марта, когда Агнесса, не выдержав снова тех испытаний, каким я подверг ее, лежала в бессилии у меня на коленях, а я, снова раскаиваясь в своей жестокости, осторожно целовал ее, — дверь нашей комнаты вдруг распахнулась, и на пороге показался Матвей, который, увидев неожиданную картину, весь как-то замер от изумления. Агнесса, при появлении брата, вскочила с криком и, растерянно метнувшись к стене, прижала к ней свое лицо; я тоже, чувствуя себя виноватым, не знал, что сказать, — и в течение, вероятно, целой минуты представляли мы какую-то немую сцену из пантомимы уличного театра. Наконец, получив дар речи, Матвей заговорил так, в сердцах:
— Вот этого, брат, я от тебя не ожидал! Что хочешь про тебя думал, а уж честным малым тебя считал! Я-то смотрю, чт́о он перестал ко мне ходить! То, бывало, каждый день, каждый день, а то — две недели глаз не кажет! Сманил, значит, птичку; думает: теперь она ко мне и сама летать будет. Ну, нет, брат, ошибаешься, это тебе легко не сойдет с рук!
Говоря так и сам от своих слов приходя в ярость, Матвей наступал на меня чуть ли не с поднятыми кулаками, и я тщетно пытался образумить его. Потом, заметив вдруг Агнессу, Матвей ринулся на нее и, еще более задыхаясь, стал осыпать ее непристойными, бранными словами, каких никогда не посмел бы я произнести в присутствии женщины. Агнесса, слыша жестокие обвинения, зарыдала еще отчаяннее, задрожала вся, как опаленная на огне бабочка, и упала на пол, наполовину без чувств. Тут я уже решительно вступился в дело, загородив Агнессу, и сказал Матвею твердо:
— Милый Матвей! Я очень перед тобой виноват, хотя, может быть, и не настолько, как ты это думаешь. Но сестра твоя не виновна ни в чем, и ты должен оставить ее, пока не выслушаешь моих объяснений. Пусть госпожа Агнесса идет домой, а ты сядь и позволь мне говорить.
Уверенность моего тона подействовала на Матвея; он примолк и грузно опустился в кресло, ворча:
— Ну, послушаем твою диалектику!
Я помог Агнессе подняться, так как она едва сознавала, что делает, проводил ее до двери и тотчас запер эту дверь на засов. Потом, вернувшись к Матвею, сел против него и стал говорить, стараясь казаться беспечным. Как то со мной всегда бывает, в минуту, когда надо действовать, — ко мне вернулась тогда и ясность мысли, и твердость воли.
Я объяснил Матвею, насколько то можно было человеку грубому и простоватому, какие обстоятельства жизни довели меня до крайнего отчаянья, и изобразил посещения Агнессы как дело милосердия, подобное посещению больниц или темниц, на что благословляет и церковь. Настаивал я, что ни с моей стороны, ни со стороны Агнессы не было речи о любви, не говоря уже о более низменных пожеланиях, и что наши отношения не переступали дозволенного между братом и сестрою. Ту же картину, свидетелем которой был Матвей, объяснил я исключительно добротою Агнессы, которая плакала над моими страданиями и волновалась видом моей неутешной скорби. При этом, конечно, старался я говорить со всей убедительностью, какой только способен был достигнуть, и полагаю, что сам Марк Туллий Цицерон, отец ораторов и лицемеров, прослушав мою святошескую речь, похлопал бы меня по плечу благосклонно.
По мере того как я говорил, Матвей успокаивался несколько и в ответ потребовал:
— Вот что, брат. Поклянись мне пречистым телом Христовым и блаженством Пресвятой Девы в раю, что между тобой и Агнессой не было ничего дурного.
Я, разумеется, дал такую клятву со всею серьезностью, и Матвей тогда сказал мне:
— А теперь я тебе вот что скажу. В тонкости чувств я вдаваться не умею и не хочу, а только об Агнессе ты и думать перестань. Если бы ты посватался к ней, я бы, может быть, и не отказал бы, а все эти сочувствия да нежности не для нее — ей нужно не друга, а мужа. К ней ты лучше и не думай показываться, да и никаких писем не подсылай — ничего хорошего не выйдет!
Постановив такое решение, Матвей поднялся с кресла, собираясь уходить, но потом передумал, подошел ко мне и сказал, уже голосом более добрым:
— И еще вот что я добавлю, Рупрехт: уезжай отсюда подобру. Я с этим к тебе и шел, чтобы посоветовать. Вчера слышал я такие разговоры про тебя, что мне страшно стало. Уверяют, что ты со своей сбежавшей дружкой занимался не только чернокнижием, но и кое-чем похуже. Я, конечно, в это не очень верю, но сам знаешь, под пыткой всякий в чем угодно признается. А уже поговаривают, что следует тебя привлечь к ответу. Делать тебе здесь нечего, а ты сам знаешь: без дела человек только балуется. Одним словом, послушайся меня — от сердца говорю: уезжай, да поскорее!
После этих слов Матвей, все не подавая мне руки, повернулся и вышел, и я остался один. Замечательно, что все это происшествие, совершившееся чрезвычайно быстро и в котором трагедия была смешана с легкой комедией, — повлияло на меня самым возбуждающим образом. Я испытывал такое ощущение, словно бы меня во сне окатили студеной водой и я дико озираюсь кругом, продрогший, но проснувшийся. Когда постепенно мое волнение успокоилось, я сказал сам себе:
«Не очевидно ли, что это событие было послано тебе роком, чтобы вызвать тебя из той трясины бездействия, в которой завязла твоя душа? Еще немного, и лучшая часть твоих чувств поросла бы сплошной болотной осокой. Надо избрать что-нибудь одно — или жизнь, или смерть: если жить ты не можешь, то умри, немедля; если же не хочешь умереть, живи, а не будь похож на улитку! Целые дни плакать и умиляться на чью-то доброту — недостойно человека, поставленного, по словам Пико делла Мирандолы, в средоточии мира, чтобы озирать все существующее!»
Эти простые рассуждения, которым следовало бы прийти мне в голову и без проповеди Матвея, отрезвили меня, и я стал смотреть на свое положение глазами здравыми. Ясно было, что мне пора покинуть город Кельн, где более не было никаких причин мне оставаться и где могли угрожать мне, по указанию Матвея, весьма важные неприятности. Тотчас же, не откладывая дела, начал я готовиться к отъезду, разбирать вещи, которых накопилось много за месяцы жизни на одном месте, и пересчитывать свои деньги, которых у меня оказалось больше ста рейнских флоринов — сумма, с которой я еще не мог считать себя бедняком. Куда именно ехать, у меня в то время не было определенного решения, и только одно знал я твердо, что не поеду в родной Лозгейм, к родителям: мне и тогда казалось нестерпимым явиться перед ними каким-то неудачником, без денег, без надежд, чтобы отец вправе был сказать мне в лицо: «Был ты бездельником, таким и остался».
И, странным образом, хотя все мое будущее по-прежнему было в тумане, решение покинуть Кельн успокоило меня, и, кажется, ночь после посещения меня Матвеем была первая, которую я провел сравнительно покойно со дня исчезновения Ренаты.
II
Следующий день был воскресный, и его решил я отдать на то, чтобы попрощаться с Кельном, ибо слишком много дорогого для меня свершилось в этом городе, чтобы я мог его покинуть как деревушку, в которой заночевал случайно. Под звон церковных колоколов надел я свое лучшее платье, печально вспоминая, как в праздники шли мы прежде с Ренатою к мессе, и направился одиноко в нашу приходскую церковь Св. Цецилии, полную разноцветной толпой. Там, прислонясь у колонны, слушая пение органа, пытался я обрести в своей душе молитвенное чувство, чтобы хотя им слиться с Ренатою, которая в тот час, конечно, молилась тоже, где-то в другой, неизвестной мне церкви, — как объединяются двое любящих, разделенных океаном, глядя вечером на одну и ту же звезду.
Потом, по окончании мессы, я долго бродил из улицы в улицу, воскрешая в памяти события последних месяцев, так как, поистине, не было в городе камня, с которым не связывалось бы у меня какого-нибудь воспоминания. Там, за Ганзейской пристанью, бывало, сидели мы с Ренатою, молча смотря на темные воды Рейна; здесь, в церкви Св. Петра, была у нее любимая скамейка; вот здесь, у башни Св. Мартина, долго и уверенно ждала Рената появления своего Генриха; этой улицей ехал я вместе с Матвеем на поединок с Генрихом; в этом кабаке однажды провел я нелепые часы в мечтах о Ренате и об Агнессе. И много также других воспоминаний отделялось передо мной от стен, вставало близ меня на перекрестках с земли, кивало мне из окон домов, выглядывало на меня из-за прилавков магазинов, слетало ко мне со шпилей церковных башен. Мне начинало казаться, что мы с Ренатою заселили весь город Кельн тенями нашей любви, и страшно мне стало расстаться с этим местом, словно с обетованной землей.
Так, бродя в тоске и мечтах, подошел я, уже не в первый раз, к собору и без определенной цели остановился в его тени, около громадных южных окон, когда внезапно из толпы выступили два человека, по-видимому, и раньше следивших за мною, и приблизились ко мне. Я посмотрел на них изумленно, но должен признаться, что уже при самом беглом осмотре они мне показались весьма замечательными. Один из них, человек лет тридцати пяти, одетый, как обычно одеваются доктора, с небольшой курчавой бородкой, — производил впечатление переодетого короля. Осанка его была благородна, движения — самоуверенны, а в выражении лица — какое-то утомление, словно у человека, уставшего повелевать. Спутник его был одет в монашеское платье; он был высок и худ, но все существо его каждый миг меняло свой внешний вид, так же как его лицо — свое выражение. Сначала мне представилось, что монах, идя ко мне, едва сдерживает смех, готовясь к какой-то остроумной шутке; через миг я был уверен, что у него какие-то злобные намерения против меня, так что я внутренно уже приготовился к обороне; но когда он подошел совсем близко, я увидал на его лице лишь почтительную улыбку.
С изысканной вежливостью монах сказал мне:
— Любезный господин, сколько мы заметили, вы проводите время в том, что осматриваете этот прекрасный город, и притом, видимо, с ним хорошо знакомы. Между тем мы — путешественники, приехали сюда в первый раз и очень были бы рады, если бы кто-нибудь указал нам на достопримечательности Кельна. Не окажете ли вы нам внимание и не согласитесь ли стать на сегодняшний день нашим проводником?
Была в голосе монаха необыкновенная вкрадчивость, или, вернее, было в нем какое-то магическое влияние на душу, потому что сразу почувствовал я себя словно запутавшимся в неводе его слов и, вместо того чтобы резким отказом прервать разговор, отвечал так:
— Простите, любезные господа, но меня удивляет, что вы обращаетесь с такими просьбами к человеку, который вас не знает и у которого могут быть более важные дела, чем водить по городу двух приезжих.
Монах с удвоенной любезностью, под которой могла скрываться и насмешка, возразил мне:
— Мы вовсе не хотели вас обидеть. Но, по всему судя, вы не очень радостны, а мы зато — веселые ребята, живем каждой минутой, не думая о следующей, и, может быть, если бы вы согласились соединиться с нами, оказали бы вам не меньшую услугу, чем вы нам. Если же останавливает вас, что вы нас не знаете, то этому помочь легко, так как у всякой вещи и у всякого существа есть свое название. Вот это — мой друг и покровитель, человек достойнейший и ученейший, доктор философии и медицины, исследователь элементов, Иоганн Фауст[185], имя, которое вы, быть может, слышали. А я — скромный схоляр, много лет изучающий изнанку вещей, которому излишний пирронизм мешает сделаться хорошим теологом. В детстве звали меня Иоганном Мюллином, но более привычно мне шуточное прозвище Мефистофелес, под которым и прошу меня жаловать.
В то время оба незнакомца показались мне людьми достойными, и я подумал, что не будет никакого зла, если я проведу некоторое время в обществе двух путешественников и попытаюсь в их здоровую веселость окунуть свою тягостную грусть. Сохраняя все свое достоинство, я ответил, что готов прийти к ним на помощь, так как издавна люблю город Кельн и рад познакомить чужестранцев с его богатствами. Таким образом, союз был заключен, и я тут же вступил в свою роль проводника, предлагая начать осмотр с того собора, около которого мы находились.
Все, бывавшие в Кельне, хорошо знают этот собор, о котором уже несколько раз упоминал я в своем рассказе, да и не посещавшие города слышали, конечно, о громадном сооружении, предпринятом три века назад и в своем теперешнем виде красноречиво свидетельствующем о слабости сил человека сравнительно с мощью его фантазии. Я рассказал своим спутникам все, что знал о постройке этого храма, в котором хоровая часть была освящена через столетие после начала работ, корабль — предоставлен для служения еще спустя пятьдесят лет, башни, не доведенные до полной высоты, украшены колоколами более восьмидесяти лет назад, — и который все еще стоит среди города, как Ноев ковчег, готовимый для будущего потопа, и, словно пальцем, грозит с крыши гигантским журавлем для подъема камней[186]. Когда я кончил мое объяснение, Мефистофелес сказал:
— Как измельчали люди! Храм Соломона был не меньше этого, а построен всего в семь с половиною лет! Впрочем, и то сказать: работали на старика не одни рабы, но и духи стихийные. Бывало, пригрозит им перстнем, а они от ужаса дрожат, как листья осенью.
С изумлением посмотрел я на того, кто о царе-Псалмопевце говорил, словно о человеке, лично знакомом, но потом я счел это шуткой и посоветовал моим спутникам войти во храм и осмотреть семь капелл, окружающих хоровую часть. Когда показывал я капеллу Трех Волхвов, где, по преданию, лежат тела этих евангельских магов, переданные Кельну после разрушения итальянского города Милана, доктор Фауст, до тех пор почти все время молчавший, сказал:
— Добрые люди! Не сбились ли вы немного с пути, заехав сюда, вместо того чтобы попасть в Вифлеем палестинский! Или, может быть, были вы после смерти брошены в море и приплыли в Кельн по Рейну, чтобы здесь обрести себе могилу!
Мы на эту остроту засмеялись, а Мефистофелес прибавил в том же тоне:
— Бедные Мельхиор, Балтазар и Каспар, не очень-то вы были удачливы! При жизни крестил вас апостол Фома, который и сам в Иисуса Христа плохо верил, а по смерти положили вас на покой во храме, который сам покоя не ведает[187]!
Осмотрев собор, отправились мы к старинной церкви Св. Куниберта, потом к Св. Урсуле, потом к Св. Гереону, к остаткам римской стены и так далее — ко всем достопримечательностям города Кельна. Везде мои спутники находили что сказать смешного или остроумного, причем в речах доктора Фауста больше было добродушной шутки, а Мефистофелес предпочитал злую насмешку. В общем, эта новая прогулка по знакомым местам, с двумя неутомимыми собеседниками, рассеяла несколько черное облако уныния, которое опять заволокло было кругозоры моей души, и, когда от продолжительной ходьбы все мы очень устали, я с удовольствием принял предложение Мефистофеля войти в ближайший трактир и выпить кварту вина.
В трактире мы поместились в углу, около окна, и, пока хозяин и слуга жарили нам гуся и подавали вино, я стал подробнее расспрашивать своих новых знакомцев, кто они и куда едут. Мефистофелес отвечал мне так:
— Мой друг и покровитель, доктор Фауст, утомлен бременем познаний, — ибо он человек ученейший, — и пожелал лично убедиться, устроен ли мир согласно с законами науки или нет. А по пути, объезжая страны и осматривая города, мы, кстати, убеждаемся, что вино всюду пьяно и мужчины везде бегают за женщинами.
Доктор Фауст печально добавил:
— Ты мог бы лучше сказать, что под всеми широтами за деньги нельзя купить счастия и силой нельзя получить любви.
Я спросил, в каких странах они бывали, и Мефистофелес охотно сделал мне длинный перечень.
— Сначала, — сказал он, — побывали мы в Италии, видели Милан, Венецию, Падую, Флоренцию, Неаполь и Рим. В Риме мой друг сильно позавидовал жизни его святейшества и жестоко упрекал меня, что я не сделал его папой. Потом отправились мы в Паннонию и Грецию. В Греции пожалел мой друг, что не живет во времена Ахилла и Гектора. Потом морем проехали мы в Египет, где я показывал доктору пирамиды, и он непременно пожелал быть фараоном. Из Египта отправились мы в Палестину, но я эту страну не очень люблю, и мы перебрались в Константинополь к султану Солиману[188], самому славному из всех правителей мира, и если бы я не удержал доктора, он бы непременно перешел в веру Магомета. Из Константинополя пробрались мы в Московию, и доктор Фауст показывал свою ученость при дворе княгини Елены[189], но остаться там не пожелал из-за лютых морозов. Теперь же объезжаем мы города немецкой земли; были в Вене, Мюнхене, Аугсбурге, Праге, Лейпциге, Нюрнберге и Страсбурге. Далее направляемся в Трир, а после поедем во Францию и в Англию.
Пока Мефистофелес передавал мне этот свой итинерарий, принесли нам вина, и за стаканами рейнвейна беседа наша оживилась. Я все старался выведать, насколько новые знакомцы меня морочат и насколько говорят правду, но оба они были чрезвычайно уклончивы в своих ответах. Мефистофелес постоянно шутил и изо всех вопросов выскальзывал, как змея, а доктор Фауст говорил мало, словно бы ничто в мире не занимало его, ничего не отрицал, но и не подтверждал ничего. Впрочем, когда я, узнав, что доктор Фауст не чужд занятиям магией, описал ему свою поездку к Агриппе Неттесгеймскому, доктор прослушал мой рассказ с видимым любопытством и в ответ сказал мне следующее:
— Я читал сочинения Агриппы, и он мне представляется человеком очень трудолюбивым, но не одаренным. Магией он занимался так же, как историей или какой другой наукой. Это то же, как если бы человек усидчивостью думал достичь совершенства Гомера и глубокомыслия Платона. Все сочинения Агриппы основаны не на опыте магическом, который один открывает дверь к этой науке, а на добросовестном изучении разных книг, — не более.
Я, сколько умел, защищал значение Агриппы, так как поистине считаю сочинение «De Occulta Philosophia»[190] торжеством человеческого ума, но Мефистофелес, вмешавшись, прекратил наш спор такими словами:
— Сколько бы ни потели вы, господа, над формулами и сколько бы ни упражнялись в магическом опыте, все равно уловите вы в свои сети только какую-нибудь жалкую тварь из бесовского мира, ради которой и трудиться не стоило. А уж с теми, кто посильнее, не вам тягаться, если не оковали их ни Адам, ни Соломон, ни Альберт Великий! Ну, да будет философствовать и систематизировать; я, право, не вынесу больше ученой мины; давайте веселиться: ведь мы же это обещали нашему гостю!
В трактире было довольно много посетителей, и Мефистофелес, внезапно переменив свой серьезный вид на образ настоящего шута, обратился к присутствующим с какой-то прибауткой, предлагая спеть песенку. Кое-кто подошел к нам, а Мефистофелес, присев на стол, звонким и довольно приятным голосом запел разудалые куплеты, из которых запомнился мне только припев, который скоро стала подтягивать вся зала:
Wein! Wein! Von dem Rhein![191]Кончив песню, Мефистофелес обратился к слушателям с таким предложением:
— Милостивые господа! Совершая путешествие и посетив ваш город, мы чрезвычайно довольны его местоположением и желали бы отблагодарить как-нибудь вас за то. Позвольте же нам угостить каждого из вас доброй кистью молодого винограда!
Все приняли эти слова за шутку, ибо едва начиналась весна и на лозах не могло быть и зеленого листика, но Мефистофелес с полусерьезным, полушутовским видом принялся за исполнение своего обещания. Он взял в руки два блюда и, подняв их вверх, протянул к самому окну, которое, ввиду духоты в комнате, было слегка приоткрыто, приговаривая при этом с комически таинственным видом какие-то бессмысленные слова, по внешности похожие на заклинания. Зрители, глядя на эти проделки, хохотали, как над выходкой забавного гауклера[192], но Мефистофелес через несколько минут поставил блюда на стол, и они оказались наполненными гроздьями белого и красного винограда[193].
Разумеется, я не сомневался, что в этом чуде крылась только хитрость ловкого фокусника, однако в то время и я был поражен не менее прочих, и у всех нас невольно вырвалось восклицание изумления. Мефистофелес всех приглашал попробовать его угощения, и те, кто на это отваживался, могли убедиться, что виноград производил впечатление совершенно свежего. Некоторое время Мефистофелес был предметом всеобщего восхищения, так как на него смотрели не без священного страха, как на колдуна или чародея, а он, сложив руки на груди, среди толпящихся бюргеров стоял, как идол, с лицом горделивым, как у Люцифера.
Однако, когда прошло первое удивление, заметил кто-то, что подобное дело не могло быть исполнено без помощи черной силы, и этот голос поддержал слуга трактира, которому не по вкусу было, что посетители угощаются припасами, добытыми чудесным способом. Какой-то подвыпивший крестьянин даже подступил к Мефистофелю со сжатыми кулаками и стал, ругаясь, требовать, чтобы он тотчас поцеловал крест и подтвердил, что он — добрый христианин. Еще третий, видимо, студент из бурсы, стал предостерегать, что виноград может оказаться отравленным.
Мефистофелес некоторое время слушал брань и нападки с надменным видом, потом вдруг ответил всем так:
— Если вам, пьянчуги, мой виноград не по вкусу, то вы его и не получите!
Сказав, он накинул на блюда край своего плаща, а когда поднял его — винограда уже не было и в помине, и все мы могли думать, что видели и пробовали ягоды лишь в воображении.
Тут поднялся неизъяснимый шум, так как все сразу пришли в ярость и кинулись на нас троих, чтобы побить нас. В лицо нам вопили, что мы — мошенники и что должно передать нас городским властям, а кулаки подымались уже над нашими головами, так что могло нам прийтись плохо, тем более что мы были загнаны в угол. Уже искал я глазами какого-либо оружия, думая, что силой придется мне защищать свое достоинство, но вмешательство трактирного хозяина, которому не хотелось, чтобы его заведение стало ареною убийства, кое-как успокоило ссору. Мефистофелес кинул на стол крупную монету, и, под прикрытием слуги, добрались мы до двери, провожаемые весьма нелестными возгласами.
Когда мы были уже на улице, доктор Фауст сказал Мефистофелю сурово:
— Как тебе не наскучит повторять одни и те же старые шутки! Сидит в тебе мелкий бесенок, который часу не может прожить без проказ. Лицо у тебя, должно быть, устает быть серьезным и должно от времени до времени кривиться в гримасу. О всех твоих мальчишеских проделках стыдно мне вспоминать!
Мефистофелес ответил с преувеличенной почтительностью:
— Что делать, любезный доктор, не всем быть испытателями элементов, как вы, да к тому же мы обещали позабавить нашего сотоварища!
Фауст продолжал:
— А что, если бы хозяин не вступился за нас, пришлось бы нам познакомиться с кельнскими кулаками!
Мефистофелес возразил:
— Вот еще! Я сыграл бы с ними такую же шутку, как с питухами из Ауербаховского погреба в Лейпциге, и мы еще потешились бы вдвое.
Чтобы переменить разговор, я спросил Мефистофеля, как должно смотреть на показанный им фокус: есть ли это проворство рук или обман зрения, — но он сказал мне:
— Вы ошиблись, это ни то, ни другое, но умение пользоваться законами природы. Вам должно быть известно, что год разделен между двумя частями земли, так что когда у нас зима, в Сабейской Индии — лето, и наоборот. Остается только иметь в своем распоряжении маленького духа, умеющего летать быстро, и он без труда в любой месяц доставит вам любые плоды, созревающие где-либо на другом конце света.
Как всегда в речах Мефистофеля, нельзя было при этом определить, говорит ли он, насмехаясь, или от души, но я не стал настаивать на объяснениях. Тем временем подошли мы к перекрестку, где должно было нам расстаться, и я, повинуясь внезапному желанию, так как новые знакомцы в сильной степени заняли мое любопытство, сказал так, обращаясь к доктору Фаусту:
— Любезный доктор! Сегодня утром я охотно исполнил вашу просьбу, для меня не совсем обыкновенную, — служить вам проводником. Вечером я тоже хочу отнестись к вам с просьбой, может быть, нескромной. Вы мне сказали, что намерены продолжать ваше путешествие и едете в город Трир. Но и мне есть нужда отправиться туда же. Не позволите ли вы присоединиться к вам, причем, конечно, все свои расходы я возьму на себя? В дороге добрая шпага никогда не помешает, а моя грусть будет нелишней при постоянной веселости вашего спутника.
Едва я сказал эту речь, как лицо Мефистофеля, вообще способное менять свое выражение, как хамелеон цвет кожи, сделалось высокомерным и презрительным, словно у государя, говорящего с придворным льстецом, и он сказал мне:
— Извините, господин Рупрехт, мы не нуждаемся ни в деньгах, ни в шпагах. Мы путешествуем вдвоем, и у нас нет места для третьего. Вы лучше пристройтесь к какому-либо каравану купцов.
Не успел я ответить на это оскорбление, как Фауст, до тех пор проявлявший только крайнюю вежливость, вдруг пришел в последнее раздражение и закричал на своего друга так гневно, как только хозяин может кричать на собаку:
— Молчи, и позволь мне самому выбирать своих спутников! Думаешь ты, что мне приятно видеть постоянно около себя только твое кривляющееся лицо? Боже мой, да мне счастьем будет слышать близ себя живой, человеческий голос!
На эти гневные слова доктора Фауста Мефистофелес рассмеялся, как если бы то была милая шутка, и ответил:
— Ваше дело, доктор, приказывать, а мне — повиноваться, и я вам покорный слуга, пока не случится какой-либо случайной перемены в наших отношениях. Если я отказал господину, то только потому, что боялся вас обеспокоить, а сам я очень рад попутчику, лихому собутыльнику и ярому собеседнику. Ибо вино и логика — это мои слабости, без которых мне и жизнь не в жизнь.
Затем, обращаясь ко мне, Мефистофелес добавил:
— Мы пускаемся в дорогу завтра на заре, а найдете вы нас в гостинице «Трех королей».
После этого мы учтиво попрощались и разошлись в разные стороны.
Было еще довольно рано, и мне пришло было на ум пойти к дому Виссманов и хотя бы заглянуть тайком к ним в окно, но тотчас заметил я, что вчерашнее мое решение уехать и сегодняшние приключения совершенно заволокли туманом лик Агнессы в моей душе, и я тщетно искал в своем сердце прежних дружеских чувств к ней, словно легких черт, начертанных на прибрежном песке и стертых приливом больших волн. Так и не полюбопытствовал я что-либо разведать об участи Агнессы и по настоящий день не знаю, отправил ли ее брат за ее вину в какой-нибудь монастырь, или удовольствовался домашним наказанием, или, поверив моим басням, простил вполне. Больше я никогда не видел Агнессы, не говорил об ней ни с кем и только, начав эти записки, вновь оживил ее образ, покоившийся мирно в одном из гробов в темном углу моей памяти.
Пришедши домой, я расплатился с Луизою, которая не преминула по этому поводу горько поплакать, отдал ей на хранение разные громоздкие вещи, как книги, а остальные уложил окончательно и бросился в постель, чтобы отдохнуть после дня, полного приключениями необычайными. В назначенный час, рано утром, я был на ногах и, перекинув через плечо свой дорожный мешок, поспешил к «Трем королям», одной из лучших гостиниц в городе. У ее ворот уже стояла крепкая, крытая повозка, запряженная четвернею добрых лошадей, а доктор Фауст и Мефистофелес, стоя на крыльце, распоряжались укладкою последних вещей.
Доктор приветствовал меня любезно, а Мефистофелес лукаво, — но, впрочем, без насмешки он не умел обходиться никогда. Скромный мой узел мы привесили сзади кузова, потом я и доктор Фауст сели внутрь повозки, а Мефистофелес с кучером на козлы. Скоро послышалось щелкание кнута, лошади рванули, и повозка покатилась по Бонновской дороге к Северинским воротам, увозя меня, может быть, навсегда, из города Кельна, где я прожил замечательнейшие дни своей жизни.
Глава двенадцатая Как путешествовал я с доктором Фаустом и как провел первых два дня в замке графа фон Веллен
I
Только когда городские стены уже давно остались позади нас и взор мой невольно стал вбирать в себя дали весенних полей, — вдруг почувствовал я всю несообразность своего положения и, как бы со стороны посмотрев на себя, в чужой повозке, с чужими людьми, зачем-то отправляющегося в город Трир, мысленно рассмеялся. В самом деле, шаг за шагом, ступень за ступенью, заставила меня судьба спуститься в глубины, столь далекие от всех моих прежних планов и намерений, что былая жизнь уже представлялась мне словно снежная вершина за облаками.
Однако, так как издавна поставил я себе правилом никогда не жалеть о поступке, раз совершенном, постарался я и свое путешествие с доктором Фаустом обратить к себе стороной, наиболее для меня выгодной. Понемногу, несмотря на тряску повозки, ибо кузов ее не был подвешен на ремнях, как то устраивают теперь для облегчения ездящих, удалось мне вовлечь своего спутника в оживленный разговор. И скоро мог я уже не раскаиваться, что затеял эту поездку, так как доктор Фауст оказался собеседником занимательнейшим. Говорили мы с ним de omni re scibili[194], если пользоваться любимым выражением Пико делла Мирандола, и я мог убедиться, что области грамматики и натуральной философии, математики и физики, астрономии и юдициарной астрологии[195], всех медицин и прав, теологии, магии, экономии и других искусств равно знакомы моему спутнику, как хорошему хозяину свой огород. Я сначала оспаривал иные замечания доктора, потом прерывал его речь короткими вставками, но потом беседа наша превратилась в монолог, и я предпочел играть роль почтительного слушателя. Так длилось, пока Мефистофелес, обратив к нам с козел свое кривляющееся лицо, не перерезал моего внимания лезвием какой-то нелепой шутки.
То было перед нашим приближением к местечку Брюллю, где мы дали отдых лошадям и провели несколько часов в какой-то скверной гостинице. Здесь повстречали мы несколько лоллардов[196], которые, заговорив с нами, стали прославлять успехи лютеранства и других подобных учений, указывая на возрастающую силу Шмалькальденского союза протестантов, который ныне едва ли не более властен в Германии, чем император, на смелость короля английского, вместо папы самого себя объявившего святою главою тела церкви, на подвиги королей шведского и датского, отнявших у духовных все их вековое имущество, наконец, на упорное сопротивление католическому войску нового пророка Иоанна Боккольда в Мюнстере[197]. Мефистофелес, вступив в спор, горячо защищал достоинство святой церкви и сказал, между прочим:
— Эти новые ереси имеют успех потому, что князья почуяли здесь наживу, как собаки чуют жаркое, а самого Лютера один добрый черт водит за нос. В конце концов, после этих вероисповеданий и новых катехизисов, христианство так обмелеет, что аду куда легче будет ловить с берега свою рыбу.
Скоро любезный читатель увидит, почему я счел нужным записать здесь эти слова Мефистофеля.
Из Брюлля поехали мы по дороге на Евскирхен, но и я, и доктор Фауст были уже значительно утомлены, так что эту часть пути мы сделали почти молча, и тщетно старался нас развеселить Мефистофелес, то своими прибаутками, то заставляя петь песни нашего кучера, человека мрачного вида, на устах которого каждое веселое слово казалось кощунством. В Евскирхен прибыли мы уже в сумерках, мечтая каждый только о спокойной постели, но там ждало нас приключение, героем которого выставил себя опять тот же неутомимый проказник Мефистофелес.
Дело в том, что в городе оказалось множество приезжих, и нам лишь после долгих препирательств в гостинице, под вывеской «Zwey Schlussel»[198], согласились предоставить для ночлега общую залу, когда посетители разойдутся. Приходилось и за то быть благодарным, и мы в большой комнате второго этажа, набитой, как трюм торгового корабля, примостились, чтобы поужинать, в углу, за неимением свободного стола, около досок, уложенных на два пустых бочонка. Между бражничающими гостями, большею частью уже совершенно пьяными, хозяин гостиницы и его единственный слуга метались по всяким диагоналям, сбитые с толку и не чующие под собой ног. Мефистофелес, после того как мы долго добивались, чтобы нам подали чего-либо для ужина, поймал наконец слугу за горло и, сделав страшную гримасу, закричал ему прямо в лицо, чтобы он принес нам немедленно вина и баранины.
Несколько времени спустя парень появился перед нами, с волосами, прилипшими ко лбу от усталости, по виду совершенно дурковатый, и сунул нам кварту вина и три стакана.
Мы тотчас спросили его, где же баранина, но он, озлобленный, должно быть, всеобщими попреками, отвечал нам грубо:
— Погодите, и получше вас дожидаются!
Некоторые из посетителей, услышав такую нам отповедь, захохотали пьяным смехом, а кто-то с дальнего стола даже крикнул: «Так их, франтов!», хотя никто из нас не щеголял одеждой. Сердиться на слова тупого карстганса[199] было, конечно, неумно, но по невольному движению, как невольно подымаешь руку, если на тебя замахиваются, я что-то закричал на невежу. Однако меня предупредил Мефистофелес, и, паясничая, как заезжий фигляр, он схватил одной рукой парня за плечо и крикнул ему преувеличенно громким голосом:
— Ах, негодяй! Думаешь ты, что мы станем пить без закуски! Добрый стакан вина требует и доброго куска! И если ты не хочешь подать мне к вину баранины, так я съем тебя самого!
Слышавшие эту речь принялись еще больше хохотать, а Мефистофелес быстро опорожнил налитый стакан вина, потом неестественно разинул свой рот, причем он стал похож на пасть змеи, и сделал вид, что хочет действительно проглотить бедного малого. И как бы странным и невероятным это ни показалось, но я должен засвидетельствовать, что в тот же миг слуга исчез из наших глаз, как будто его здесь вовсе не бывало, а Мефистофелес, закрывая рот, словно после хорошего глотка, сел опять за стол и попросил налить себе еще стакан[200].
Все присутствовавшие были ошеломлены таким чудом, иные остались прямо с открытыми ртами, и на некоторое время пьяный шум залы сменился такой тишиной, какая бывает лишь на море в час самого полного штиля, когда вода похожа на зеленое зеркало.
Среди этого молчания доктор Фауст сказал своему споспешнику вполголоса:
— Неужели тебе забавно изображать перед этими неучами чародея?
Мефистофелес возразил также вполголоса:
— Дорогой доктор! мы все изображаем что-нибудь: я — чародея, вы — ученого, которому ничто не мило. Всякий человек, согласно с Моисеем, только изображение божие. И хотел бы я узнать, что вообще известно вам, кроме изображений?
Тем временем к нам подбежал хозяин гостиницы, растерянный и испуганный, со шляпой в руке, бросился на колени, словно перед владетельными князьями, и стал умолять нас, говоря так:
— Добрые и милостивые господа! Не извольте гневаться на моего дурня: у него меланхолия с детства. Мы вам всячески услужим, и я предоставлю вам свою собственную комнату на эту ночь. Но только вы мне моего кельнера верните, потому что сегодня у меня слишком много дела! В другой раз я не стал бы тревожить таких господ своей глупой просьбой, но вы сами посмотрите: видите, что одному не управиться!..
Мефистофелес засмеялся, смехом хриплым и вовсе не веселым, и сказал:
— Ну, мой друг, на первый раз извиняю! Ступай вниз, там, под лестницей, найдешь своего слугу.
Хозяин и все посетители, я в том числе, побежали вниз, и, в самом деле, под лестницей, где складывались дрова, сидел бедный парень и дрожал, как новорожденный теленок, словно бы у него была жестокая лихорадка. Хозяин вытащил его на свет, и мы все наперерыв стали его расспрашивать, что именно с ним случилось, но от него нельзя было добиться ни слова, так как страх, должно быть, отшиб ему память. Вернувшись наверх, я на этот раз поостерегся расспрашивать Мефистофеля, уже зная его манеру отвечать ничего не значащими шутками.
Что до хозяина, то он свое обещание сдержал и действительно предоставил нам на ночь, сам с женой перебравшись в какой-то чулан, свою комнату с большой деревянной двуспальной постелью. На этом-то супружеском ложе и провели часы до рассвета, бок о бок, мы двое с доктором Фаустом, так как Мефистофелес предпочел спать где-то в другом месте. Перед сном я, как будто без задней мысли, сказал доктору:
— Вероятно, от многих неприятностей путешествия избавляет вас ловкость вашего друга?
Доктор Фауст отвечал мне:
— Я желал бы испытывать в пути и в жизни как можно больше всякого рода неприятностей, больших и малых, тогда, быть может, знал бы я и радости.
Слова эти были сказаны более серьезно, нежели того требовал мой вопрос, и тотчас доктор, закрыв глаза, сделал вид, что заснул, а затем вскоре усталость прервала и все мои путающиеся думы о наших дневных приключениях.
На другой день, рано утром, сопровождаемые низкими поклонами хозяина, мы пустились далее в дорогу, направляясь к Мюнстерейфелю[201], красивому местечку на берегу Эрфта, со старинной церковью; там мы отдыхали, без особых, на этот раз, происшествий. Оттуда мы свернули несколько на восток, держа путь на Арские горы по землям архиепископства Трирского, где на каждом шагу чувствовался достаток жизни, созданный мудрым управлением покойного архиепископа Рихарда фон Грейффенклау[202]. В тот день я опять упорно вызывал доктора Фауста на разговор и монологи, так как необходимо было мне непрестанно сосредоточивать внимание, чтобы подавить в душе ту тягостную тоску по Ренате и по потерянному блаженству, которая, несмотря на все превратности странствия, от времени до времени подымалась в моей душе, как подымаются в свой час горячие воды в исландских источниках.
На склоне дня, проехав Фрейсхейм, стали подумывать мы, где нам провести эту ночь, когда вдруг неожиданное событие изменило все наши предположения, а меня, путем непредвиденным и изогнутым, повело к роковой развязке той горестной истории, которую я передаю на этих страницах. Это событие стоит, как звено, в том ряду случайностей, которые своим осмысленным постоянством заставляют меня почитать жизнь не игралищем слепых стихий, но творением искусного художника, изваянным по определенному и дивно совершенному замыслу.
Уже некоторое время любопытство наше привлекал красивый замок, стоявший на высоком берегу Вишеля, долиной которого мы ехали, и господствовавший над всем горизонтом своими четвероугольными башнями старинной стройки. Когда, после одного изгиба реки, мы оказались совсем от него поблизости, мы заметили, что к нам быстро приближается верховой, размахивая шляпой и явно делая нам знаки. Тогда Мефистофелес приказал остановить лошадей, а вестовой, одетый как герольд на турнире, подъехал и, учтиво кланяясь, сказал:
— Мой господин, граф Адальберт фон Веллен, владелец этого замка, приказал мне осведомиться: не вы ли знаменитый доктор теологии, философии, медицины и права Иоганн Фауст из Виттенберга, который должен был проехать через наши земли по пути в город Трир?
Доктор признался, что это точно он, и тогда вестовой продолжал:
— Мой господин покорнейше просит вас и ваших спутников пожаловать к нам в замок и воспользоваться нашим гостеприимством на эту ночь или и далее, если то будет вам угодно.
Услышав эти слова, Мефистофелес воскликнул:
— Любезный доктор! Замечаешь ли ты, какой всенародной славы мы с тобой уже достигли! Что до меня, я не прочь от графского предложения. По мне куда лучше нежиться на аристократических кроватях, чем изнывать от клопов в деревенской корчме или проводить ночь на хозяйской двуспальной постели по-флорентийски[203].
Так как и мы с доктором ничего не имели против приюта, любезно нам предложенного, то мы и поспешили ответить вестовому согласием и повернули лошадей к замку.
По подъемному мосту, перекинутому через ров с водой, мы проехали сначала на первый двор, где отдали лошадей и повозку слугам, потом пешком через вторые ворота прошли на главный двор замка, превращенный вниманием владельца в небольшой сад, в итальянском вкусе. Здесь перед лестницей, ведшей во внутренность замка, встретил нас сам граф фон Веллен, окруженный небольшой свитой, человек молодой, привлекательный, с одним из тех открытых лиц, опушенных небольшой бородкой, какие любит изображать венецианский мастер Тициан Вечелли[204]. Граф приветствовал доктора Фауста церемонной речью, в которой упоминался Гермес Трисмегист и Альберт Великий, боги Олимпа и библейские пророки, и намеренную напыщенность которой я понял лишь впоследствии. Доктор отвечал ему кратко и с достоинством, и затем, по знаку графа, пажи пригласили нас последовать за ними в комнаты для приезжих, где мы могли бы привести себя и свое платье в порядок после дневного пути.
Уже проходя по комнатам, я мог подметить то, в чем впоследствии, при своем довольно продолжительном пребывании в замке, мог вполне убедиться, а именно, что он составлял благородное исключение из тех рыцарских гнезд, которые теперь все чаще и чаще превращаются в прямые разбойничьи притоны. Как известно, в наше суровое и трезвое время, когда на войне требуется не столько личная доблесть, сколько дисциплина солдат да количество пушек, пищалей и мушкетов[205], и когда в жизни главную роль играет не происхождение от знатных предков, но сила денег, так что банкиры спорят влиянием с королями[206], рыцарство пришло в крайний упадок и прежние паладины, что бы ни говорил в их защиту Ульрих фон Гуттен, составляют самый отсталый круг в современном обществе[207]. Между тем в замке графа фон Веллен на каждом шагу виделись следы хорошего вкуса и просвещения, а главное, утонченной жизни, и ясно было, что хозяин замка хочет идти в уровень с нашим веком, о котором тот же Гуттен воскликнул: «Как радостно жить в такое время!»[208] Изящная итальянская мебель в некоторых комнатах, картины, в которых можно было угадать учеников славного колориста Матвея Грюневальда[209], литые статуи чуть ли не самого Петера Фишера и много других мелких подробностей казались свежими узорами на пышной ткани старинной обстановки, времен походов в Палестину, тяжелой, но не лишенной величия. Наконец, в отведенных нам комнатах нашли мы все самые изысканные средства для туалета, духи, притирания, гребни, щетки, подпилки для ногтей, словно бы мы были публичными женщинами или римскими куртизанами.
Умываясь ароматической водой и переменяя, с помощью слуги, свой дорожный кафтан на предложенный графом из синего шелка, я, не без постыдного тщеславия, чувствовал себя польщенным, что в таком месте принят как почетный гость, забывая, что я был приглашен лишь как случайный спутник доктора Фауста. Это пустое самодовольство еще не покинуло меня, когда нас провели вниз, в столовую комнату, где был накрыт обширный стол, уставленный, как лоток разносчика товарами, всевозможными кушаньями и винами, и где собралось все население замка, с графом и его супругой, графиней Луизой, женщиной, на вид казавшейся старше своего мужа, но представительной и державшей себя с истинным величием. В обширной зале, которая, конечно, служила прежде сеньору для приема вассалов, украшенной по стенам живописью на тему из Троянской войны и ярко освещенной факелами и восковыми свечами, среди небольшой толпы изящных кавалеров, шелестевших шелком и атласом, в шляпах со страусовыми перьями[210], и дам, блиставших золотыми уборами, кружевами и необыкновенно розовой кожей, — я на минуту почувствовал себя — так человек мелочен! — чуть не счастливым.
Но очень скоро ждало меня справедливое разочарование. Во-первых, я должен был убедиться, что лично на меня никто не склонен был обращать внимание, а я, все же более привычный к жизни походной или к тихим беседам с глазу на глаз, сам не умел втиснуться в общее оживление. Во-вторых, я не мог не распознать, что при всех изъявлениях почтения, какие расточали и граф и его приближенные доктору Фаусту, была в их обращении с ним, и со всеми нами, какая-то доля насмешки. Догадка возникла у меня в душе, что мы были приглашены графом лишь как редкостные шуты, которыми можно позабавиться в весенние скучные недели, — и этому стебельку подозрения суждено было окрепнуть в целое деревцо.
Когда мы разместились за столом, я попал на самый конец его, где сидели капеллан замка и какой-то молчаливый господин в бархатном кафтане, больше занятые кубками, чем мной, — и это дало мне возможность беспрепятственно делать свои наблюдения. Я видел, что внимание всего общества сосредоточено на докторе Фаусте, которого посадили рядом с графиней; к нему беспрестанно обращался граф, то угощая его, то рассыпая перед ним комплименты его учености, то задавая ему разные, будто бы очень серьезные, вопросы; когда Фауст начинал говорить, граф делал знак, призывая всех к молчанию, словно готовясь каждый раз услышать откровения мудрости. Но и это всеобщее внимание, и риторические похвалы графа, и особенно мнимоученые задачи, ставимые доктору, все сильно отзывалось пародией и сатирой, и я даже подметил два или три раза дурно скрытый смех некоторых из присутствующих, доказавший мне, что в заговоре участвовало все общество. Когда я убедился, что мое открытие справедливо, почувствовал я стыд пред самим собой и обиду за доктора и даже готов был немедленно встать и, сказав какие-нибудь резкие слова, удалиться из замка, но удержала меня мысль, что сделать это первому следовало бы не мне, а моим спутникам.
Впрочем, доктор Фауст, как кажется, раньше меня угадал свое положение, потому что он, еще недавно открывавший так охотно передо мной, случайным попутчиком, сокровища своего ума, сделался вдруг на слова скуп, как герой Макция Плавта[211]. Все горячие приветствия графа потухали в его холодной вежливости, и по большей части он уклонялся от ответов на те лукавые вопросы, которые ежеминутно обращали к нему присутствующие, как к оракулу. Зато Мефистофелес, не смущаемый ничем, охотно перехватывал эти вопросы на лету, как мячи, и бросал ответные стрелы, иногда попадавшие в самый глаз лицемерным вопрошателям.
Так, с видом весьма серьезным, молодой кузен графа, рыцарь Роберт, обратился к Фаусту с такой речью:
— Я хотел расспросить вас, ученейший доктор, о средствах делать себя невидимым. Некоторые уверяют, что для этого достаточно носить под мышкой правой руки ладанку с сердцами летучей мыши, черной курицы и лягушки. Но большинство делавших опыт утверждает, что этот прием удается плохо. Другие предлагают способ гораздо более сложный. Надо в среду, до восхода солнца, взять мертвую голову и, положив в ее глаза, уши, ноздри и рот по черному бобу, сделать на ней знак треугольника и похоронить ее, а затем в течение восьми дней приходить и поливать могилу; на восьмой день предстанет демон и спросит вас, что вы делаете; вы ответите: «Я поливаю мой цветок»; демон попросит у вас лейку, протягивая к вам руку; если на руке будет такой же знак, какой вы сделали на мертвой голове, вы лейку отдадите, и демон сам польет насаждение; на девятый день вырастет боб, и довольно будет взять одно его зерно в рот, чтобы стать невидимым. Но этот способ слишком сложен. Третьи, наконец, утверждают, что было только единственное средство делаться невидимым: это — кольцо Гигеса, о котором рассказывают Платон и Цицерон, но оно безвозвратно потеряно[212].
Едва рыцарь кончил говорить, как Мефистофелес воскликнул:
— Мне, милостивый рыцарь, известен более простой способ сделаться невидимым!
Разумеется, при этих словах все взоры устремились на Мефистофеля, как если бы он был Эней, готовый рассказывать карфагенянам о падении Илиона, но среди всеобщего молчания он произнес:
— Чтобы стать невидимым, достаточно скрыться за предметом непрозрачным, например, за стеной.
Острота Мефистофеля вызвала всеобщее разочарование. Однако, спустя немного времени, сенешал замка обратился к доктору с таким вопросом:
— Вы, высокочтимый доктор, много путешествовали. Изъясните же нам, правда ли, что прах той ослицы, на которой Иисус Христос совершил свой въезд в Иерусалим, покоится в городе Вероне? И что другая ослица, на которой когда-то ехал пророк Валаам, жива поныне и сохраняется в тайном месте в Палестине, чтобы привезти с неба Илию в день второго пришествия[213]?
Опять ответ взял на себя Мефистофелес, который сказал:
— Мы, любезный господин, не проверяли фактов, о которых вы говорите, но почему бы Валаамовой ослице и не быть бессмертной, если среди людей в течение тысячелетий не переводятся ослы?
Эта шутка имела немалый успех среди собеседников, но все новые и новые вопросы обращались со всех концов стола к доктору Фаусту, причем, по мере того как пиршество разгоралось и все пьянели, вопросы эти становились все более и более дерзкими, по временам близко соприкасаясь с оскорблением. Вместе с тем со своего сторожевого поста я мог наблюдать, как охмелевшие кавалеры начинали держать себя более развязно, нежели то подобало, как одни тайком пожимали руки и груди своим соседкам, а другие, отягченные вином, незаметно расстегивали теснившие их пуговицы. Тогда граф, который весь вечер держал себя с большой ловкостью, прервал начинавшуюся оргию такой речью:
— Мне кажется, друзья, что пора дать отдых нашим гостям. Мы отдали честь и Бахусу, и Кому, и Минерве; время совершить возлияние Морфею. Поблагодарим наших собеседников за все их мудрые разъяснения и пожелаем им добрых советов бога Фантаза.
Ясный и уверенный голос сеньора сразу заставил всех присутствующих овладеть собою, и, встав из-за стола, все стали прощаться с нами, опять проявляя величайшую обходительность. Мы трое поклонились графу и графине, благодаря их за угощение, и пажи отвели нас в наши комнаты, где уже были приготовлены для нас все удобства: мягкие постели, ночные кафтаны, туфли, головные колпаки и даже ночные горшки[214]. Недоставало только, чтобы в своей услужливости любезный граф предложил своим гостям по женщине легкого поведения, как некогда жители города Ульма императору Сигизмунду и его свите[215].
Что до меня, то, засыпая в комнате, где, может быть, отдыхал какой-нибудь сподвижник Готфрида Бульонского, я дал себе обещание, что завтра поутру покину этот замок, хотя бы и без своих спутников. Однако порешил я это, как говорится, без соизволения божия, и вышло все по-иному, ибо судьба, приведшая меня к графу Адальберту, имела цели гораздо более далекие, нежели только — показать мне пир знатных повес.
II
По своему обыкновению, проснулся я на другой день очень рано и, не желая тревожить никого, тихо спустился вниз и вышел на балкон, род итальянской лоджии, какой нередко можно видеть в наших старых рыцарских замках. Там, прислоняясь к колонне, вдыхая свежесть мартовского утра и отдыхая взором на красивой дали полей, невольно задумался я над своей судьбой, и все горестные думы, прорвав плотину сознания, затопили мою душу. Мне представилась Рената, которая, где-то в незнакомом мне городе, проводит часы новой радости с кем-то другим, а не со мной; или, может быть, напротив, тоскует обо мне, раскаиваясь в своем побеге, но лишена всякой возможности отыскать меня и отторгнута от меня навсегда; или еще, больная, в своем привычном отчаянье, окруженная чужими, грубыми людьми, насмехающимися над ее страданиями и ее странными речами, — и никто не подойдет к ней, как я, чтобы ласковым словом или нежным прикосновением облегчить ее томления… И новый приступ старой скорби овладел мною с такой жестокостью, что я не мог одолеть себя и, поникнув на каменный парапет лицом, дал волю слезам, бессильным и не знающим удержу.
Когда так плакал я, считая себя в одиночестве, на балконе замка фон Веллен, моего плеча вдруг коснулась рука, и я, подняв голову, увидел, что ко мне подошел сам граф. Хотя и был он меня моложе, но, с какой-то отеческой заботливостью, он обнял меня за стан и повел по галерее, осторожно и дружески спрашивая, в чем мое горе, обижен ли я кем-либо из его людей или у меня неудачи в личной жизни. Смущенный и пристыженный, я поборол свое волнение и ответил графу, что скорбь моя привезена мною вместе с поклажей и что я не могу жаловаться ни на что в замке. Граф, однако, не хотел меня оставить, и мы продолжали разговор, гуляя взад и вперед по балкону.
Вскоре я должен был объяснить, что не принадлежу к свите доктора Фауста, но познакомился с ним лишь три дня назад, и это очень расположило графа в мою пользу. В то же время речи графа, в которых, может быть с излишней, я бы сказал меркуриальной, живостью переливалось хорошее образование, им полученное, заставили меня забыть о его вчерашнем участии в насмешках над нами и позволили мне отнестись к нему с доверием. И когда, слово за словом, объяснилось, что у нас с ним есть общие любимцы в мире авторов и книг, и он немедля предложил мне показать свою библиотеку, я не нашел ни причин, ни поводов, чтобы отказаться.
В кабинете графа я опять уверился, что первоначальное мое наблюдение было справедливо и что граф принадлежит к лучшим людям своего сословия, так как его собрания сделали бы честь любому ученому. Он провел меня перед целыми рядами полок с книгами, показывал мне ценные переплеты из пергамента, дерева, кожи, красной, зеленой, черной, и разные редкостные издания, вышедшие из-под лучших станков, и любовно собранные им путеводные вехи нашего времени, как «Epistolae obscurorum virorum», «Laus Stultitiae», «Oestrum»[216], которых встречал я, как добрых друзей, с коими давно не виделся. Потом граф показал мне разные научные приборы, которых было у него множество: глобусы, земные и небесные, астролябии, армиллы, торкветы и еще какие-то мне неведомые, и тут же рассказал мне смелую поразительную теорию Николая Коперника из Фрауэнбурга о устройстве неба, которую тогда я слышал впервые, потому что до сих пор сочинения этого астронома не изданы. Наконец, граф раскрыл передо мною свои ящики и вынул из них рукописные кодексы латинских писателей, добытые им в соседних монастырях, собрание прекрасных древних гемм, вывезенное им из его путешествия по Италии, и, наконец, в особом ларце, пачку писем знаменитого Ульриха Цазия[217], с которым он был в личной переписке.
Легко было подметить, что граф показывает свое собрание не без детского хвастовства, но все же его любовь к наукам и искусствам совершенно примирила меня с ним, и я, желая сделать ему приятное, сказал, что его богатствам позавидовал бы сам Ватикан. Окончательно восхищенный моей лестью, граф усадил меня против себя и сказал мне так:
— Я более не могу вас считать чужим, потому что вы принадлежите к числу тех же новых людей, как я сам, и — клянусь Гиперионом! — мне было бы стыдно вас обманывать. Поэтому я должен просить вас прежде всего откровенно сказать мне, что вы думаете о докторе Фаусте.
Я ответил, что считаю Фауста человеком старого склада, но чрезвычайно ученым и умным, и не удержался, чтобы не прибавить, что Фауст достоин большего внимания, нежели то, которое проявляют к нему в замке.
Тогда граф сказал мне следующее:
— А знаете ли вы, какие ходят слухи о Фаусте и его приятеле? Рассказывают, что этот Мефистофелес не кто иной, как дьявол, который обязан служить доктору двадцать четыре года с тем, чтобы заполучить потом в свою власть его душу. Я, разумеется, не верю такому вздору, как не верю вообще в пакты с демонами, и думаю, что дьявол заключил бы плохую сделку, получив в платеж за реальные услуги — душу. Мне кажется, что дело много проще и что ваши спутники, а мои гости — просто шарлатаны, которые пользуются не силами ада, но приемами ловких мошенников. Они ездят из замка в замок, из города в город, везде выдавая себя за чародеев и показывая фокусы, а взамен собирая деньги, позволяющие им жить безбедно.
Эти слова крайне смутили меня, потому что до того времени я считал доктора Фауста человеком вполне благородным, и я начал защищать его со всем жаром, так что между нами произошел даже довольно упорный спор. В конце концов граф уже прямо признался мне, что пригласил к себе проезжавшего мимо доктора Фауста с единственной целью изобличить его проделки и вывести его на чистую воду, тут же предложив мне принять участие в общем заговоре и помочь ему в таком деле. Так оказался я внезапно перед трудным выбором, как Геркулес на распутье, с тою только разницей, что менее было для меня ясно, на какой стороне Добродетель и на какой Порок, ибо и образ графа из нашей беседы выступил для меня крайне привлекательным, и о докторе Фаусте успел я составить суждение самое лестное. Некоторое время весы моей души колебались довольно неопределенно, но потом я нашел точку их равновесия и сказал графу:
— Ни в каком случае не соглашусь я участвовать в заговоре против человека, не сделавшего мне ничего дурного и которого считаю весьма просвещенным. Но из уважения к вам, господин граф, я не предприму ничего против вашего плана и обещаюсь вам, что не скажу ни слова моим спутникам об этом нашем разговоре.
Когда граф мое решение принял, показалось мне уже неуместным заговорить о своем отъезде, и я постановил провести еще один день в замке, но сознаюсь, что встретился с Мефистофелем и Фаустом не без смущения, как виноватый. И, чувствуя себя не приставшим ни к тому, ни к другому берегу, как бы в поле между двумя враждебными лагерями, я еще менее, нежели накануне, мог проявить себя веселым товарищем, и уже с того времени, в замке, прослыл между всеми за человека чрезвычайно мрачного и нелюдимого. Впрочем, я подметил, что в данном обществе мы всегда остаемся в той самой маске, в какой случайно появляемся там первый раз, причем каждому из нас приходится в разных кругах носить множество самых разнообразных личин.
Тот второй день, проведенный нами в замке, весь ушел на охоту, данную в честь гостей графом, но которую описывать я не буду, чтобы не блуждать слишком часто в своем рассказе окольными путями. Скажу только, что, несмотря на раннее время года, охоту можно было счесть вполне удавшейся, так как она доставила немало веселья ее участникам и был затравлен кабан, зверь в той местности редкий. Фауст, как и вчера, был предметом всяческих нападок, на которые опять отвечал большею частью Мефистофелес, порою метко, порою довольно грубо, выставив себя тем, что испанцы называют chocarrero[218], и снискав несомненную благосклонность дам.
В замок вернулись мы уже поздно, с тем бодрым и как бы огневым утомлением, какое дают труды на открытом воздухе, и нас опять ждал щедрый ужин, приготовленный в том же зале, где вчера. Однако на этот раз граф не хотел откладывать своего замысла и, едва голод был удовлетворен, сам обратился к доктору с такой речью:
— Нам известно, уважаемый доктор, что в области магии вы достигли успехов блистательных, так что неуместно даже равнять с вами кого-либо из современных магиков, ни даже испанца Торральбу[219] (да будет мир несчастной душе его!). Известно нам также, что на просьбы других лиц явить свое искусство вы не отвечали отказом, и, например, князю Ангальтскому дали возможность воочию увидеть Александра Великого Македонского и его супругу, вашими заклинаниями возвращенных из теней Орка[220] под свет Гелиоса. Теперь же все общество присоединяет к моим свои просьбы, умоляя вас показать и нам хотя бы частицу вашего чудодейственного искусства.
Я с напряженным вниманием ожидал, что доктор Фауст ответит, так как в просьбе графа ясно различил пружины и диски западни, и мне хотелось, чтобы доктор резкими словами прервал лицемерную речь. Но, к моему удивлению, доктор Фауст, державшийся до того времени чрезвычайно сдержанно, теперь ответил так, с некоторым высокомерием:
— Любезный граф, в благодарность за ваше гостеприимство я, пожалуй, согласен показать вам то немногое, что позволят мне скромные мои познания, и полагаю, что князю Ангальтскому нечем будет хвастаться перед вами.
Как теперь я истолковываю, Фауст, оскорбленный отношением к нему графа и его приближенных, хотел доказать им всем, что действительно он обладает силами, им неизвестными, и ради такого не совсем достойного тщеславия решился унизить магию до публичного опыта. Но в тот час, под влиянием подозрений графа, мне представилось, что доктор, согласясь на просьбу, обличил себя, как продажного шарлатана, ибо только они одни способны в любой час и в любом месте вызывать призраки, — так что готов я был поставить его на одну доску с плутами, разъезжающими по деревням для распродажи разных амулетов, целебных пластырей, волшебных пилюль, неразменных талеров и прочего. Между тем Мефистофелес, встав, подошел к Фаусту и начал что-то говорить ему убедительно на ухо, но тот гневно пожал плечами, как бы говоря: «Я так хочу», и Мефистофелес отошел, недовольный.
Так как все в это время шумно поднялись из-за стола и окружили доктора, изъявляя ему благодарность за решение, я, воспользовавшись общим движением, покинул комнату и ушел гулять по пустынной галерее, сердясь на себя, что не привел в исполнение своего вчерашнего решения, и вообще чувствуя свою душу, как расстроенную виолу. Однако любопытство, или, точнее, жажда исследования, которой я не стыжусь нимало, не позволило мне провести тот вечер отдельно от общества, так что спустя полчаса времени я вернулся в общую залу и все-таки был свидетелем магического опыта, совершенного доктором Фаустом, который и опишу здесь, с тем же беспристрастием, как раньше описывал все остальное, стараясь не прибавить ни одной черты к тому, что отпечаталось в моей памяти.
В зале стол и кресла были отодвинуты в угол, а все общество расселось на скамьях, поставленных поперек комнаты, и, перешептываясь и пересмеиваясь, ожидало начало опыта, словно представления веселой пастурели. Для графа и графини были выдвинуты вперед два кресла, Мефистофелес, стоя около, давал им какие-то объяснения, а доктор Фауст, очень бледный, поодаль отдавал последние распоряжения слугам. Я поместился на самом краю скамьи второго ряда, откуда удобно мне было наблюдать за всем происходившим.
Когда присутствующие несколько успокоились, доктор Фауст сказал:
— Милостивые граф и графиня, любезные дамы и славные рыцари! Сейчас я заставлю явиться перед вами воочию царицу Елену, супругу царя Менелая, дочь Тиндара и Леды, сестру Кастора и Поллукса, — ту, которую в Греции звали — прекраснейшей. Царица явится перед вами в том самом виде и образе, какой она имела при жизни, и обойдет ваши ряды, позволяя вам смотреть на себя, и останется в вашем обществе около пяти минут, после чего должна будет исчезнуть снова[221].
Доктор Фауст говорил эти слова твердо, но мне в его голосе послышалась какая-то напряженность, и взгляд его глаз был слишком остр, так что можно было подумать, что сам он не очень верит в успех предпринятого им дела. Но как только он кончил говорить, Мефистофелес строго и приказательно добавил:
— Я очень предупреждаю вас, милостивые господа, что, пока явление будет среди нас, вы не должны произносить ни слова, тем более не обращаться к нему с речью, не должны его касаться и вообще вставать с места, — в этом вы должны нам дать обещание.
Граф за всех ответил, что они согласны на такие условия, и тогда Мефистофелес распорядился погасить все факелы и свечи, бывшие в комнате, кроме одной отдаленной свечи, так что настала почти полная темнота. Понемногу в жуткости этого мрака и в волнении ожидания стали стихать еще раздававшиеся порой шепоты и шелесты платьев, и все общество, как бы в черную глубину, опустилось в молчание. Еще после, в разных углах комнаты, вдруг послышались те самые потрескивания и постукивания, которые мне уже доводилось слышать с Ренатою и которые мое сердце встретило тоскливым биением. Потом медленно поплыли через всю комнату светящиеся звезды, исчезая внезапно, и, несмотря на то, что тогда я уж не был новичком в явлениях магических, невольная дрожь овладела мною.
Наконец, в отдаленном углу белесоватое облако отделилось от полу и, зыблясь и колыхаясь, стало подыматься, расти и вытягиваться, принимая форму человеческой фигуры. Спустя несколько мгновений проступило из облака лицо, пряди тумана сложились в складки одежды, и словно живая женщина поплыла к нам, смутно видимая в глубоком сумраке комнаты. Сначала призрак приблизился к графу и некоторое время, колеблясь, стоял перед ним неподвижно; потом столь же медленно, как по воздуху, двинулся влево и стал приближаться ко мне. И, как ни был я потрясен зрелищем, однако не забыл собрать все свое внимание, чтобы рассмотреть видение во всех подробностях.
Елена, сколько я мог запомнить, была не высока ростом и одета в мантию темно-пурпурную, в том роде, какие изображал художник Андреа Мантенья; волосы ее, цвета золотистого, были распущены и столь длинны, что падали ей до самых колен; были у нее черные как уголь глаза, очень яркие губы маленького рта, белая, изгибчивая, как у лебедя, шея, и весь облик вовсе не царственный, но пленительный до крайности. Мимо меня она проскользнула чрезвычайно быстро и, продолжая свой путь среди зрителей, приблизилась к доктору Фаусту, который, насколько то можно было рассмотреть в полумраке, в величайшем волнении бросился вперед и простер руки к призраку. Это движение меня поразило очень, так как давало заключить, что для самого Фауста явление было неожиданностью.
Но я не успел еще обсудить вполне это соображение, когда вдруг произошло нечто такое, что сразу прервало наш опыт, начавшийся так заманчиво. А именно, когда Елена, отстраняясь от доктора, приблизилась к кузену графа, сидевшему на левом конце второго ряда, он внезапно вскочил, отважно схватил призрак в свои руки и громким голосом крикнул: «Огня!» Фауст в ту же минуту устремился к нему с восклицанием горя и негодования, все тоже стремительно поднялись с мест, а слуги, заранее к тому подготовленные, выхватили факелы, которые до того времени укрывали где-то, и вся зала озарилась их желтоватым светом.
Некоторое время в суматохе ничего нельзя было различить, словно бы здесь между изящными гостями произошла боевая схватка, но решительное вмешательство графа скоро заставило всех успокоиться. Мы увидели рыцаря Роберта, в руках которого был шелковый лоскут темно-пурпуровой материи и который упрямо повторял:
— Она вырвалась из моих рук, ищите ее в замке, она должна быть здесь!
Однако для всех было очевидно, что живому существу невозможно было ускользнуть от внимания стольких глаз, и приходилось признать, что призрак Елены Греческой растаял в руках схватившего его рыцаря, обратившись вновь в то облако, из которого образовался. Доктор Фауст горько жаловался графу, что не были выполнены данные обещания, но Мефистофелес залил спор холодными словами:
— Мы все должны быть довольны, — сказал он, — доктор — вызвав видение столь обольстительное, что рыцарь не смог сдержать своего порыва, а рыцарь — тем, что он ничем не поплатился за свою попытку овладеть Еленой Греческой; Деифоб, как известно, был менее счастлив: ему за то же самое отрубили нос и уши.
Конечно, такая речь была дерзка, и Мефистофелес мог бы ответить за нее, если бы рыцарь, как и сам граф, не чувствовали себя несколько пристыженными и не были рады уладить все недоразумение. Граф начал какую-то путаную речь, наполовину извиняясь, наполовину благодаря Фауста, а я, под общий говор, тихо вышел из залы и удалился в свою комнату, так как мне вдруг показалось стыдным участвовать во всей этой неумной истории. Чем бы ни было виденное мною явление, действительно ли магическим воскрешением личности, жившей во времена незапамятные, или новой проделкой, на какие таким мастером показал себя Мефистофелес, — мне показалось, что мы, зрители, играли в нем роль унизительную, и мне захотелось поскорее стряхнуть с себя, как дождевую воду с плаща, все тяжелые впечатления этого вечера.
Я бросился в постель и, когда, несколько времени спустя, доктор Фауст, проходя мимо, постучал в мою дверь, намеренно не откликнулся, делая вид, что уже сплю.
Глава тринадцатая Как поступил я на службу к графу фон Веллен, как прибыл в наш замок архиепископ Трирский и как мы отправились с ним в монастырь Святого Ульфа
I
Заклинание Елены Греческой было последним приключением из моей общей жизни с доктором Фаустом, ибо уже на следующий день я разлучился с ним, на что, кроме общего отношения ко мне моих спутников, побудило меня еще одно отдельное обстоятельство.
Именно, проснувшись внезапно среди ночи, расслышал я в соседней комнате, предоставленной двум моим дорожным товарищам, смутный говор и, невольно напрягши внимание, различил голос Мефистофеля, который говорил:
— Благодари святого Георга и меня, что тебе удался сегодняшний опыт, но есть вещи, на которые не следует посягать дважды. Не воображай, что вся вселенная, все прошлое и будущее — твои игрушки.
Голос Фауста, повышенный и гневный, отвечал:
— Излишни споры! Я хочу ее видеть еще раз, и ты мне поможешь в этом. А если суждено мне сломать шею в таком предприятии, что за беда!
Насмешливый голос Мефистофеля возражал:
— Смертные любят ставить на кон свою жизнь, как бедняки последний талер. Но сломать себе шею сумеет каждый дурак, умного же человека дело — сообразить, стоит ли затея пота.
Гневный голос Фауста говорил:
— Если ты отказываешься помогать мне, мы расстаемся с тобой завтра же!
Послышался смех Мефистофеля, странный и неприятный, потом его ответ:
— У тебя не бывает других сроков, кроме как завтра! Подумай хотя бы, что раньше надо тебе сбыть с рук этого кельнского молодчика, который так покорно хлопает глазами на твои россказни. Вчера я подметил, как он час целый шептался с графом, и, думаю, можно от него ждать любого предательства.
Меня в ту минуту оскорбительный отзыв Мефистофеля не затронул нисколько, ибо лучшего я и не ждал от него, а, напротив, я вслушивался с большим любопытством, ожидая, что в пылу увлечения спорщики обличат передо мною тайну своих странных отношений. Вдруг, не знаю сам как, неодолимый сон охватил меня и замкнул мой слух, словно бы Мефистофелес, угадав чутьем, что я подслушиваю, навел на меня такое оцепенение некиим наговором. Слышанного мною, однако, было достаточно, чтобы утром, как только ночные впечатления распрямились в моей памяти, задал я себе вопрос, уместно ли мне оставаться с доктором Фаустом, которому я, по-видимому, в тягость, и чтобы, после краткого раздумия, я порешил, что мне приличнее с моими попутчиками расстаться.
Зная, что наш отъезд назначен на тот день, в часы после полудня, я тотчас же отправился разыскивать графа, чтобы попросить у него позволения провести в замке хотя бы еще сутки, и, не без некоторого труда, добился аудиенции.
Граф встретил меня весьма нелюбезно, что было разительным противоречием с его поведением накануне, но что немедленно и нашло свое толкование, ибо едва я объяснил цель своего посещения, как он переменился вмиг, вскочил с кресла, пожал мне руку и воскликнул:
— Итак, вы разлучаетесь с вашими спутниками, милый Рупрехт! Но это совсем другое дело! Разумеется, вы можете не просить, а требовать у меня гостеприимства именем Афины Паллады. Мы, новые люди, образуем некоторое братство, хотя бы парки и выпряли нам различные нити судеб, и обязаны друг другу оказывать всевозможные услуги.
Когда же я, удивленный, спросил графа, почему его так радует мое решение, он, после некоторого колебания, сообщил мне, что передо мною был у него Мефистофелес, который при заявлении об отъезде спросил, как плату за вчерашний опыт магии, сто рейнских гульденов, и граф негодовал на мое поведение, почитая и меня участником в дележе этих денег. Признаюсь, это известие поразило меня как удар здоровой палицей по голове, ибо хотя я понимал, что магия не имеет ничего общего с алхимией и что самые искусные некроманты все равно нуждаются в крове и пропитании, но все же поступок Мефистофеля показался мне неблагородным. Если и были у меня какие-либо сомнения, хорошо ли я поступаю, расставаясь с доктором Фаустом, то сообщение графа развеяло их, как ветер развевает туман, и я в самых учтивых словах выразил графу благодарность за гостеприимство.
Тогда граф, видимо, сам растроганный своей добротой, сказал мне еще следующее:
— Зачем вам вообще торопиться с отъездом из моего замка? Разве у вас столь неотложные дела в городе Трире? Оставайтесь в моем замке, и я позабочусь, чтобы вам не было у меня плохо. К тому же мне нужен человек, хорошо умеющий писать по-латыни, так как намерен я составить один трактат о звездах.
Такое предложение было крайне для меня неожиданно и даже показалось мне, давно привыкшему к независимости, немного обидным, но, быстро окинув умственным взглядом свое положение, порешил я, что нет причин мне отказываться. С одной стороны, у меня тогда не было никакого определенного намерения, как повести дальше свою жизнь, а с другой — я никогда не брезгал никакой должностью, быв за свою жизнь и простым ландскнехтом, и сподручником купеческих домов. Итак, я ответил согласием, и таким образом, подчиняясь прихоти жизненного течения, влекшего меня извилистой рекой мимо островов и мелей, вдруг превратился из спутника сомнительного чародея в писца у сомнительного гуманиста.
В тот же день доктор Фауст и Мефистофелес действительно покинули замок.
Перед их отъездом я зашел к доктору Фаусту проститься и имел с ним разговор, из которого некоторые части хочу передать здесь. Естественно, что обсуждали мы вчерашний опыт магии, и доктор Фауст произнес целый панегирик красоте Елены Греческой, в таких восторженных выражениях, что вряд ли с большей страстностью прославлял ее в Илионе, перед отцом и братьями, сам похититель Александр. Потом заговорили мы вообще о некромантии, и доктор Фауст в параллель своим попыткам указал мне на вызывание тени прорицателя Тирезия Улиссом и пророка Самуила Аэндорской волшебницей. В конце беседы я, в выражениях очень уклончивых, намекнул доктору Фаусту на истинные причины моего с ним разлучения, именно на народную молву, приписывающую ему поступки неблаговидные и объясняющую его могущество самым недостойным образом. Доктор Фауст, по-видимому, понял мои осторожные намеки и, помолчав, ответил мне такой речью:
— Никогда не верьте, любезный Рупрехт, если кто-либо скажет вам, будто истинный маг заключил пакт с демоном! Может быть, иной несчастный недоучка и отрекается от вечного блаженства в обмен на несколько пригоршней краденых монет, предлагаемых ему мелкими бесами, но справедливость божия, конечно, не карает за такую сделку, в которой больше невежества, чем греха! А чем могут соблазнить демоны человека, познавшего их природу и пределы их сил? Правда, демоны обладают некоторыми способностями, человеку не дарованными: быстро переносятся с места на место, растворяют свой состав до легкого дыма или сгущают его в любые образы, возносятся в воздушные и иные сферы. Но разве желания человека ограничены тем, что можно удовлетворить помощью таких средств? Разве не жаждет человек познать все тайны всей вселенной, до самого конца, и обладать всеми сокровищами, безо всякой меры? Истинный маг всегда смотрит на демонов как на силы низшие, которыми можно пользоваться, но подчиняться которым было бы неумно. Не забудьте, что человек сотворен по образу и подобию самого творца и поэтому есть в нем свойства, непонятные не только демонам, но и ангелам. Ангелы и демоны могут стремиться лишь к своему благу, первые — во славу божию, вторые — во славу зла, но человек может искать и скорби, и страдания, и самой смерти. Как господь вседержитель сына своего единородного принес в жертву за сотворенный им мир, так мы порою приносим в жертву нашу бессмертную душу и тем уподобляемся создателю. И вспомните слова евангельские: кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее, а кто потеряет, тот сбережет!
Эту свою прощальную и как бы напутственную речь ко мне доктор Фауст произнес с большим одушевлением, и я ею был искренно затронут, ибо многое в ней было словно мои собственные мысли, так что душа моя, слыша их, дрожала, как дрожит струна при звуке другой, настроенной ей в лад. Однако едва собрался я ответить доктору, как раздался голос Мефистофеля, который подкрался к нам неслышно во время нашей беседы и вдруг воскликнул:
— Прекрасно, доктор, превосходно! Вы рождены, чтобы с церковной кафедры доводить своими проповедями до слез толстеющих прихожанок. Время еще не ушло, у меня много добрых знакомых в папской курии, и я могу устроить вас прелатом на доходное место! Особенно же я люблю, когда вы приводите в доказательство тексты Святого писания: это — лучший способ доказать что угодно. Ведь только глупость одностороння, а истину можно повернуть любой гранью!
Присутствие Мефистофеля всегда словно связывало все мои движения прочными веревками, и в замешательстве я решительно не знал, что сказать; он же, обратившись ко мне, добавил:
— А вы, господин Рупрехт, вероятно, находите, что мы затмеваем ваши достоинства и что без нас вам легче будет выдвинуться. Мы будем великодушны и уступим вам место.
Вступать в единоборство на копьях остроумия у меня совсем не было охоты, и, молча, я поклонился доктору, повернулся и вышел из комнаты, что, конечно, вовсе не было учтиво и могло быть истолковано как обида. Поэтому на тот случай, если бы эти записки попали в руки самого доктора Фауста или кого-либо из его друзей, я спешу здесь засвидетельствовать, что все дурное в поступках двух моих спутников всецело отношу я на счет Мефистофеля одного. Что же касается самого доктора Фауста, то в разное время думал я об нем разное, но в конце концов должен признать, что мой испытательный лот не измерил всех глубин его жизни и его души и что в моей памяти его образ стоит поныне, словно на горизонте тень Голиафа.
При самом отъезде доктора я присутствовал уже как зритель, в числе обитателей замка, и опять в этой сцене прощания допущено было много шутовства над приезжими гостями. Рыцарь Роберт произнес насмешливую речь, благодаря доктора за посещение, а дамы увенчали Мефистофеля венком из цветов, выращенных ими в комнатах, и надо сознаться, что монах был достаточно смешон в таком неподходящем украшении. Что до меня, то я, всматриваясь в моих недавних спутников, старался теперь уловить в них черты, создавшие народную молву об них, и должен был сознаться, что пищи для разных догадок давали они немало. Утомленное спокойствие доктора нетрудно было истолковать безучастностью человека, знающего свою участь заранее; в быстрых движениях Мефистофеля фантазия легко могла усмотреть нечто нечеловеческое, бесовское, и даже нашего угрюмого, чернобородого кучера при желании можно было принять за простого черта, загоревшего от адского пламени и привыкшего не к вожжам, а к кочерге, которой мешают уголья в адских кострах. И когда повозка, все толчки которой недавно передавались моим ребрам, застучала по мощеному двору замка, медленно прокатилась через подъемный мост и быстро замелькала вдоль Вишеля, я, под влиянием своих раздумий, чуть ли не ожидал, что вот-вот, на каком-нибудь повороте, она, как то рассказывается в народных сказках, обратится в скорлупку ореха, а четверка дюжих лошадей — в белых мышей.
В тот же день, к вечеру, разъехались и остальные гости графа, рыцари и дамы, так что остались в замке только обычные его обитатели, которых, впрочем, было немало. С одной стороны стояло общество замка: сам граф, графиня Луиза, две ее дамы, рыцарь Роберт, сенешал, капеллан и другие подобные лица, а с другой — многочисленная челядь, начиная со стрелков и ловчих и кончая простыми слугами. Я, конечно, продолжал оставаться в обществе, на что давало мне право мое образование, и был приглашаем как к общему столу, так и на вечеровые беседы у графини, но должен признаться, что все же положение мое в замке стало двусмысленным. Один граф обращался со мною неизменно по-дружески, да порою затеивал со мною споры наш капеллан, но графиня и рыцарь Роберт старались делать вид, что не обращают на меня никакого внимания. Что до меня, я и не искал сближения ни с кем, сохранял на лице ту маску суровости, с какой появился в замке, и даже за обедом предпочитал молчать, тем более что граф и его кузен любили спорить о вопросах политических, мне малознакомых, например, о желании и попытках императора возобновить Швабский союз[222], о делах в Виттенберге, по возвращении туда герцога Ульриха, о предстоявшем Вормском сейме по поводу осады города Мюнстера и подобном.
Вспоминая теперь дни, проведенные мною в замке в этом положении полудруга, полуслуги, я не очень удивляюсь, что в свое время так мало чувствовал их гнет над собой, объясняя это тем, что после полугода мучительной жизни с Ренатою, после страстного напряжения моего краткого общения с Агнессою и после многообразнейших приключений за четыре дня путешествия с доктором Фаустом, — душа моя впала в сонное оцепенение, как впадают на зиму некоторые гусеницы.
Поселили меня, после отъезда доктора Фауста, в другой комнате, также весьма удобной и пристойной, в Западной башне замка, с окнами, выходящими на отдаленные линии Арских возвышенностей, и так как граф дал мне разрешение пользоваться книгами из его библиотеки, то большую часть дня я и проводил в этом уединении, у окна, с книгой в руках, тотчас возвращая себя к начатой странице, едва случайные мечты увлекали мое воображение вдаль. Так прочел я несколько замечательных, ранее незнакомых мне сочинений, преимущественно из путешествий, и в том числе прекрасный труд Петра Мартира Ангиериуса[223], описавшего в своих декадах, живо и занимательно, открытие Нового Света, первые завоевания в Новой Испании и впечатление, ими произведенное при Кастильском дворе. Но, несмотря на широкий досуг, которым я пользовался, почти не предавался я мечтаниям о своей любви, ибо страшно мне было бередить раны сердца, которые, как тогда казалось, подживали, и, предпочитал закрываться от воспоминаний, как от отравленных стрел, щитом безраздумия.
Те мои занятия, исполнять которые я принял на себя, нисколько не оказались обременительными, ибо граф больше любил мечтать о своем ученом трактате, нежели истинно трудиться над его составлением. Каждый день приглашал он меня к себе в кабинет, и я, очинив новое перо, развертывал лист бумаги, чтобы писать под диктовку, но редко приходилось мне вывести черным по белому больше одной или двух строк, так как граф или начинал, увлекаясь, объяснять мне дальнейшие главы своего трактата, или просто заговаривал со мной о вещах посторонних, причем эти беседы были вовсе не утомительны, а часто и весьма для меня поучительны. Что же касается до того небольшого, что все-таки было мною записано после многообещающего заглавия: «Tractatus mathematicus de firmamento septentrionali»[224], то я умолчу о содержании этого, ибо граф во многом оказал мне услуги неоценимые и во многих других областях проявил себя человеком образованным и с умом острым.
О самом графе еще придется мне говорить подробнее, здесь же укажу я только, что любил он похваляться крайним своим неверием и часто смеялся над моим, из опыта почерпнутым, убеждением в реальности магических явлений. Так, во время одной из наших бесед он, между прочим, спросил меня, что думаю я об опыте заклинания Елены Греческой, которого оба мы были свидетелями. Я откровенно объяснил, что опыт этот мне показался очень замечательным и что я очень жалел, когда рыцарь Роберт не позволил довести его до настоящего конца. Граф, рассмеявшись, сказал мне:
— Ты очень легковерен, Рупрехт! Разве так трудно было найти сообщницу среди девушек замка? За два гульдена любая согласилась бы разыграть роль царицы Елены, да к тому же столь неискусно! Я даже почти наверное знаю, кого должно нам подозревать.
Хорошо помня, что нет хуже слепого, как тот, кто закрывает глаза, я не сделал попытки образумить графа и промолчал.
Другой раз граф спросил меня, что я думаю об астрологии, и я привел в ответ общеизвестные слова: «Astra non mentiuntur sed astrologi bene mentiuntur de astris»[225]. Однако граф возразил с негодованием:
— Me hercule![226] He ожидал я подобного суждения от поклонника Пико делла Мирандола! Выискивать предсказания в расположении планет — все равно, что выводить свою судьбу из смены лета осенью, ибо и то и другое равно подчиняется законам физики.
Здесь уместно будет также заметить, что граф, хотя говорил о «братстве» всех «новых людей» и почитал себя учеником Поджо Браччолино и Энея Сильвия[227], однако упорно стал обращаться ко мне на «ты», после того как я стал от него в некоторую зависимость, чему не почел я нужным придавать значение.
II
Такая моя жизнь в замке графа фон Веллен длилась около полумесяца, причем к концу этого малого промежутка времени уже начал я ощущать весьма определенно тяготу своего положения и смутную жажду перемены, которая всегда управляла моей жизнью. Должно быть, в согласии с моими темными желаниями была и моя судьба, которой пора было вести меня к заключительным и страшным событиям пережитой мной истории. Когда, однажды, был я, по своей должности, за столом в комнате графа и выслушивал длинное его объяснение относительно расстояния сферы звезд от солнца, внезапно в комнату вошел вестовой, которого впустили без предупреждения, ввиду важности привезенного им письма. То было известие от архиепископа Трирского Иоанна, что он предпринял поездку в монастырь Святого Ульфа, где проявилась новая ересь, и что ближайшую ночь намерен он провести в замке фон Веллен.
Граф с учтивыми словами отпустил посланца, но когда мы вновь остались вдвоем, пришлось мне выслушать целый поток жалоб и пеней.
— Hei mihi![228] — говорил граф. — Кончилась моя свобода, когда я мог вволю услаждаться служением музам! Ах, почему я не простой поэт, не знающий других обязанностей, кроме жертв Аполлону, или не нищий ученый, знающий только свои книги!
При этом граф осыпал желчными обвинениями своего сюзерена, насмешливо сравнивая его с другим духовным князем, нашим благородным современником, архиепископом Магдебургским и Майнцским Альбрехтом[229], которого выставил почти как образец человека. Особенно удручало графа, что он, имея звание советника, непременно должен был сопровождать архиепископа, по крайней мере, на протяжении нескольких дневных переходов, и тут же объявил, что мне придется ехать с ним, так как ни за что не хочет он прерывать своей работы над трактатом. Я, разумеется, согласился весьма охотно, потому что меня нисколько не привлекала мысль остаться в замке без графа, но я не подозревал в ту минуту, что эта поездка должна быть роковой и что самое прибытие архиепископа Иоанна лишь шахматный ход в руках судьбы, которая и князем-курфюрстом империи играет, как простой пешкой, для достижения своих таинственных целей.
В тот же час начались в замке приготовления для приема высокого гостя, и по всем коридорам и проходам заметались слуги и работницы, словно муравьи в потревоженном муравейнике. Я, конечно, нисколько не вмешивался в эту суетню и предпочел остаться в обычной для меня уединенности, так что даже, когда на склоне дня второй вестовой известил, что поезд архиепископа приближается, не принял никакого участия в его встрече и потому не могу описать ее подробностей. Правда, сидя в своей комнате, занимался я ребяческой игрой: по звукам, смутно доносившимся ко мне, старался угадывать, что именно совершается на дворе, у входа, в большой зале, какие произносятся речи, чем прием сюзерена отличается от шутовского приема, оказанного доктору Фаусту, — но эти праздные мечты не могут предъявлять никаких притязаний на внимание благосклонного читателя.
В том состоянии бездействия, в каком я тогда находился, может быть, провел бы я, не выходя из комнаты, время до ночи, если бы сам граф не прислал звать меня к ужину, и я, принарядившись сколько мог, спустился в Троянскую залу. Этот раз она была убрана с действительной пышностью, ибо число зажженных восковых свеч и длинных факелов было огромно, а в глубине залы воздвигнуты были хоры для музыкантов, уже ожидавших сигнала, с трубами и дудками в руках. Я тотчас различил среди приезжих фигуру архиепископа, который показался мне довольно представительным в темно-лиловой сутане, с золотой, осыпанной драгоценными каменьями пряжкой на груди и в торжественной инфуле[230]. Зато люди его свиты, прелаты, каноники и другие, все произвели на меня впечатление отталкивающее, и, обозревая эти толстые животы и жирные самодовольные лица, невольно вспоминал я незабвенные страницы бессмертной сатиры Себастиана Бранта[231].
Всего тогда, я думаю, собралось в той зале более сорока человек, для угощения которых уже было заготовлено три отдельных стола, чтобы разместить всех сообразно с их правами и достоинствами. За главным столом сели с архиепископом и его приближенными граф, его супруга и рыцарь Роберт, а всем другим были точно указаны их места, куда каждого тотчас и провожали наши пажи, одетые в яркие костюмы и с салфетками, повешенными на шею, по старинному обычаю. Мне был назначен прибор за маленьким столом в стороне, за которым оказался также наш капеллан, сенешал замка и человек десять из свиты нашего гостя, и я был очень рад, что в этом кругу мог запрятаться как бы совсем незаметно.
Не знаю, что делалось за столом архиепископа, ибо на этот раз у меня не было рвения к наблюдениям, но за нашим все накинулись с истинной алчностью на те блюда, коими постарались щегольнуть наши повара, и пока проходили мимо всевозможные кушанья, среди которых преобладала, конечно, рыба: щуки, карпы, лини, угри, раки, форели, миноги, лососи, пока пажи усердно разливали всякие сорта прирейнских вин, — слышно было только щелканье челюстей и видны были только оттопыренные при жевании щеки. Лишь в конце ужина образовалась некоторая беседа между мною, нашим капелланом и моим соседом за столом, низеньким и толстеньким монахом-доминиканцем, — которую первое время я вел небрежно, но к которой приложил потом все старание, что, может быть, принесло мне свою пользу впоследствии.
Доминиканец начал с жалоб на те утеснения, каким в сей век подвергается в Германии и во всем мире святая католическая церковь, ибо, по его словам, в жестокости преследований уподобились протестанты готам и гетам в Европе, вандалам в Африке, арианам тут и там, и даже превзошли их. Он рассказал потом несколько случаев, как протестанты хватали верных католиков, мирян и священников, принуждая их отречься от истинной веры, тех же, кто упорствовал, убивали мечом, вешали над кострами, распинали в церквах на святых распятиях, топили в реках и колодцах, подвергали всяким истязаниям, нестерпимым и постыдным, например, заставляя лошадей поедать у них, живых, внутренности, или женщинам набивая срамные части порохом и поджигая такую мину. Отец Филипп, наш капеллан, изъявил все свое негодование при таких рассказах; я же, удивившись на сладострастный восторг, с каким наш собеседник передавал происшествия, если и не невозможные, ибо при разграблении Рима был я сам свидетелем сходных случаев, то все же редкие и исключительные, — осведомился, с кем имеем мы честь беседовать. Тогда доминиканец, с ласковой улыбкой, назвал себя.
— Я — смиренный служитель алтаря, — сказал он, — брат Фома, а в миру Петр Тейбенер, инквизитор его святейшества, имеющий полномочие разыскивать и искоренять пагубные заблуждения еретиков по всем прирейнским землям: Бадену, Шпейеру, Пфальцу, Майнцу, Триру и другим[232].
Признаюсь, что при слове «инквизитор» нечто вроде ощутительной дрожи пробежало по моему телу, от шеи до лодыжек, особенно при совпадении имени нового знакомого с именем знаменитого Фомы де Торквемада[233], полвека тому назад ужасом своих преследований потрясавшего Кастилию и Арагонию. Я знал, что инквизиторы, со времени папской буллы «Summis desiderantes»[234], объезжают города и местечки, выискивая лиц, виновных в сношениях с дьяволом, вывешивают на дверях церкви или ратуши объявления, требующие под страхом отлучения от церкви доносить о подозрительных людях, хватают их, пользуются правом подвергать их пытке и позорной казни. Очень быстро, как в минуту, когда захлебываешься, припомнились мне, в последовательном ряде, и лобызание, данное мною мастеру Леонарду, и мое заклинание демона Анаэля, и общение с чернокнижником Агриппою, и недавнее дружество с доктором Фаустом, и мгновенно порешил я быть с моим застольным собеседником сколько можно предупредительнее и обезоружить в нем все сомнения относительно чистоты моей веры.
Поэтому, также назвав себя, принялся я с такой яростью поносить проклятых лютеранцев и самого Мартина Лютера, что наш капеллан, прежде слыхавший от меня рассуждения, непохожие на эти, чуть не онемел от изумления, но тотчас, от всей души, присоединился ко мне. Конец ужина в том и прошел, что, осушая один за другим стаканы бахараха, мы старались перещеголять друг друга в нещадной брани, обращенной к Виттенбергскому пророку.
Брат инквизитор спрашивал гневно:
— И какой он философ? Он — ни скоттист, ни альбертист, ни фомист, ни оккамист[235]. Как не вспомнить предреченного Иисусом Христом: восстанут лжепророки, дадут великие знамения, которыми прельстят и избранных!
Наш капеллан вторил этой речи так:
— Разумеется, что помогал ему дьявол. Не случайно в катехизисе Лютера имя Христа поминается лишь шестьдесят три раза, а имя нечистого — шестьдесят семь раз.
А я добавлял еще:
— Прав был славный Томас Мурнер[236], когда назвал Мартина Лютера просто большим дураком!
Несмотря на такое единодушие, я был очень рад, когда дело дошло до десерта, лимонного сока и вишен в сахаре, и его высокопреподобие возгласило благодарственную молитву: «Agimus tibi gratias, omnipotens Deus»[237], так что можно было наконец встать и начать прощаться. Во всяком случае, я не промахнулся, бросая пригоршнями семена в душу своего собутыльника, ибо впоследствии, с ужасом и отчаяньем, пришлось мне увериться в силе этого брата Фомы, который после первого знакомства усердно жал мне руку и даже выспрашивал у меня, не служу ли и я тайно святой инквизиции.
На следующий день я проснулся с радостной мыслью, что сегодня покину замок, невольно сравнивал себя с рыбой, которой из сети вдруг открылся выход в речные струи, и действительно, выйдя на внутренний двор, застал я все приуготовления к отъезду. Глядя, как запрягают и седлают лошадей, как навьючивают мулов, как размещают тюки по повозкам и телегам, вообще — при виде оживленной человеческой деятельности, я почувствовал такую бодрость, какой не испытывал уже давно. Исчезла даже та упорная молчаливость, которая держала меня в своих лапах последнюю неделю, и я с большой охотой заговаривал с незнакомыми людьми, давал советы и помогал сборам. Было во мне такое ощущение, словно снаряжаю я некий караван, с которым отправляюсь на поиски нового света и новой жизни.
Сборы заняли не менее двух часов, потому что хлопот было не меньше, как если бы в поход выступала маленькая армия. Не считая того, что в путь отправлялся теперь граф с несколькими людьми из замка, с архиепископом ехала немалая свита из монахов и прелатов, а также вся его походная канцелярия с несколькими писцами, медик и аптекарь с аптекою, цирульник и несколько слуг. Кроме этого, отдельные телеги везли съестные припасы, вина, посуду, принадлежности для спанья, белье, походную библиотеку и еще немало тюков, набитых мне не ведомо чем. Думаю, что когда Моисей выводил народ еврейский из Египта, не многим больше было количества вещей и запасов, увозимых ими на многолетнее странствие в пустыне, чем брал с собою архиепископ Трирский в дорогу, где каждую ночь мог проводить под кровом то замка, то монастыря.
Наконец в полдень наш сенешал дал сигнал военным рогом, и все стали поспешно занимать назначенные им места, и я в том числе, верхом на доброй лошади, данной мне графом, поместился в арьергарде, где были и все другие люди замка. Потом на балконе показались две фигуры: архиепископа и графа — и с торжественной медленностью спустились по лестнице вниз, где ждали: первого — закрытая, просторная повозка, запряженная восьмериком, а второго — великолепный конь в богатой попоне, с лентами и перьями, словно для турнира. Дан был второй сигнал — и сразу все пришло в движение: лошадиные копыта стали подыматься, колеса вертеться, повозки перемещаться, и, словно один многочленистый змей, сжимаясь и вытягиваясь, длинный поезд архиепископа пополз, увлекая с собой меня за ворота замка. Переехав подъемный мост, который заметно погнулся под такой тяжестью, мы разлились широкой толпой по той самой дороге, по которой, две недели назад, я прибыл в замок, и возобновилось мое прерванное путешествие, но при условиях, измененных словно Аркалаем-волшебником, ибо, вместо доктора и его друга, было со мной теперь целое шумное и блистательное общество.
Выехав наконец в поле, испытывал я совершенно детскую радость: вдыхал мягкий весенний воздух, как чудодейственный бальзам, любовался разноцветной зеленью дальних лесов и лугов, ловил на лицо, на шею, на грудь теплые лучи солнца и весь ликовал, словно зверь, проснувшийся от зимней спячки. Без душевной боли вспоминал я в тот час и об Ренате, с которой всего восемь месяцев тому назад, впервые, рядом, ехал через такие же пустынные поля, и Рената казалась мне уже далекой и забытой, и я даже как-то сам удивился, вспомнив те глухие пропасти отчаяния, в которые упал по разлуке с ней, и еще недавние свои слезы на террасе замка. Мне хотелось не то петь, не то резвиться, как школяру, вырвавшемуся за город, на волю, не то вызвать кого-то на поединок и биться шпага о шпагу, когда от сталкивающихся клинков сыплются вдруг голубоватые искры.
Такое бодрое настроение духа продержалось во мне почти весь день и только к вечеру сменилось некоторым утомлением, преимущественно оттого, что ехали мы чересчур медленно, с многочисленными остановками для отдыха и для завтраков. Только в сумерках достигли мы наконец до цели всего пути: монастыря Святого Ульфа, хотя лихой ездок мог бы доскакать до него от замка фон Веллен в два или с половиною два часа всего-навсего. Когда передо мной выступила четвероугольная ограда монастыря, обведенного рвом, как рыцарский замок, не подумал я ничего другого, кроме того, что близок ночлег, и никакое пророческое волнение не предупредило меня о том, что меня ждало за этими стенами. Безо всякого внимания выслушивал я объяснения одного из монахов, что монастырь этот основан три столетия назад, святой Елизаветой[238], соревновавшей святой Кларе, что в ризнице его хранятся святыни единственные, как плат, коим опоясаны были чресла спасителя на кресте, — и никак я не мог вообразить себе, что к этой обители будет навеки, нержавеющими цепями воспоминания, прикована моя душа.
Так как вестовые и здесь предупредили о приближении архиепископа, то все, еще до нашего прибытия, уже было готово, чтобы приехавшие могли не без удобства провести ночь. Сам архиепископ и несколько его приближенных проехали прямо в монастырь; для большинства лиц были очищены и убраны домики ближней деревни Альтдорфа, а для графа Адальберта наши люди тотчас принялись разбивать походную палатку, словно в военном лагере. В нескольких местах были зажжены большие смоляные бочки, от чего вокруг было странно светло, и черные образы людей и лошадей, колыхавшиеся при этом непокойном свете, казались чудовищными призраками, выходцами из ада, собравшимися в волшебную долину.
Когда, исполнив разные поручения, разыскал я палатку графа, он уже был там и отдыхал, лежа на разостланной медвежьей шкуре. Увидя меня, он спросил:
— Ну что, Рупрехт, не устал ты от похода?
Я возразил, что я — столь же ландскнехт, сколько гуманист, и что если бы все походы совершались с такими удобствами, как этот, не было бы ремесла более приятного, чем воинское.
Граф распорядился, чтобы у меня всегда были наготове чернила и перья, если ему, как Юлию Цезарю, придет в голову диктовать во время пути, но вместо работы, предпочел начать беседу об обстоятельствах нашего путешествия, в течение которой и сказал мне, между прочим:
— Кстати, тебе это будет любопытно, Рупрехт, так как ты любишь все, что касается дьявола и всякой магии. Знаешь ли, какая ересь проявилась в этом монастыре, куда мы приехали с такой толпой? Мне самому только что рассказали. Дело в том, что в монастырь поступила одна новая сестра, с которой неотлучно пребывает не то ангел, не то демон. Одни из сестер поклоняются ей, как святой, другие клянут ее, как одержимую и как союзницу дьявола. Весь монастырь разделился на две партии, словно синих и зеленых в Византии, и в распре приняла участие вся округа, рыцари ближних замков, мужики ближних деревень, попы и монахи. Мать аббатиса потеряла всякую надежду справиться со смутой, и вот теперь архиепископу и нам предстоит решать, кто здесь действует: ангел или демон? или просто всеобщее невежество.
Только после этого сообщения первое предчувствие вздрогнуло в моем сердце, и сразу смутное волнение окутало мою душу, как окутывает предметы густой дым. Чем-то знакомым подвеяло на меня от слов графа, и мне представилось, будто я уже слышал раньше об этой сестре, с которой пребывает неотступно не то ангел, не то демон. С замиранием голоса я спросил, не называли ли имени той новой монахини, с прибытием которой в монастыре начались эти чудеса.
Немного подумав, граф отвечал:
— Вспомнил: ее зовут Мария.
Этот ответ во внешнем успокоил меня, но где-то в глубине моего духа продолжалась тайная тревога. И, засыпая на своем разостланном плаще, не мог я отогнать воспоминаний о том дне, когда в деревенской гостинице разбудил меня долетавший из соседней комнаты женский умоляющий голос. Доводами разума старался я образумить себя и доказывал, что кругом нет никого, кроме монахов и воинов, но мне все, и сквозь первый сон, казалось, что сейчас я заслышу зов Ренаты. И во сне ее образ был снова со мной таким живым и реальным, каким еще ни разу до того не приводил его ко мне бог сновидений.
Эти предчувствия не обманывали меня, потому что на другой день мне предстояло увидеть вновь ту, которую я уже считал невозвратно утраченной.
Глава четырнадцатая Как архиепископ экзорцизмами боролся с демонами в монастыре Святого Ульфа
I
Утро следующего дня было ясное и яркое, и я, вышедши рано в поле, присел на пригорке, спускавшемся к маленькой речке, отделявшей наш лагерь от монастыря, и стал прилежно его рассматривать. То был весьма обыкновенный монастырь, каких много воздвигали в старину, безо всякой заботы о красоте постройки, обнесенный толстыми стенами, заключавшими в свой квадрат грубые строения для келий и один храм, первобытно-стрельчатой архитектуры. Хотя видны были мне, с моего возвышения, и двор, содержимый весьма чисто, и кладбище, с посыпанными песком дорожками вокруг могил, и крыльца отдельных домов, но час был еще столь ранний, что все было пустынно и первая обедня еще не начиналась. И довольно долго так сидел я, словно соглядатай, высматривающий путь в неприятельский город, но преданный мыслям и смутным и невыразимым, как впечатления от позабытого сна.
Мечтания мои прервал брат Фома, приблизившийся неслышно и приветствовавший меня как давнего друга, и я, как ни тягостно мне было, что потревожили мое уединение, почти обрадовался этой встрече, подумав тотчас, что от инквизитора можно узнать подробности о сестре Марии: ибо темное беспокойство не покидало моей души. Однако брат Фома, вместо ответа на все мои вопросы, повел длинную и лицемерную речь о развращении века сего и начал пространно жаловаться, что потакают протестантам сами князья церкви. Так, понизив голос, словно мог нас кто услышать, сообщил он мне, что архиепископ кельнский[239], Герман, состоит в дружбе с Эразмом, и притом долго щадил еретиков Падерборнских, и что даже наш архиепископ Иоанн, в свите которого мы оба состоим, не погнушался заключить союз с Филиппом Гессенским, отъявленным лютеранцем. Очень может быть, что такие клеветы рассчитаны были на то, чтобы услышать, в свою очередь, от меня доносы на других лиц, хотя бы на нашего графа, но я был очень осторожен в ответах и постоянно старался перевести разговор на то событие, ради которого было предпринято все наше путешествие.
В конце концов брат Фома сказал мне:
— Сестру Марию многие славят как святую и уверяют, что обладает она даром исцелять больных одним наложением рук, как благочестивейший король французский. Мне, однако, скромная моя опытность подсказывает, что сестра эта состоит в сношениях с дьяволом, который снискал ее доверие, являясь к ней по ночам в образе инкуба. Такой грех, к сожалению, все чаще проникает в святые обители, и недаром в Писании сказано о грешнике: «Се — ты почиваешь на законе и хвалишься о боге»[240]. Князь-архиепископ надеется изгнать этого духа силою молитвы и экзорцизмов, но я так полагаю, что придется, с прискорбием, прибегнуть к допросу и пытке, чтобы обличить порочную душу и найти соучастников преступления.
Большего я не мог добиться от инквизитора, да и беседа наша вскоре прекратилась, так как раздался в монастыре звон, призывающий во храм. С нашей высоты видно было, как сестры выходили из дверей отдельных строений и вереницами тянулись через двор к церкви; но тщетно всматривался я в маленькие фигурки, которые, за дальностью расстояния и одетые в одинаковые серые одежды клариссинок, все были похожи друг на друга и казались марионетками уличного театра. Когда последнюю из них поглотила пасть церковных дверей и к нам стали доноситься звуки органа, мы с братом Фомою попрощались: он направился слушать мессу, а я пошел разыскивать графа.
Графа застал я уже совершенно одетым и в настроении духа самом веселом, чем и постарался искусно воспользоваться, чтобы проникнуть с его помощью в монастырь. Зная, на какую приманку легче всего его поймать, я напомнил ему о взглядах на демонов знаменитейшего Гемиста Плетона[241], веровавшего в реальность демонов, полагая их богами третьего порядка, которые, получив благодать от Зевса, ею охраняют, укрепляют и возвышают людей. Также указал я графу на возможность, что некоторые боги древности, пережив столетия, достигли нашего времени и что не кто другой, как Поджо Браччолино, повествует о древнем боге Тритоне, изловленном на берегу Далмации, где местные прачки заколотили его насмерть вальками. Этими и подобными соображениями постарался я возбудить в графе интерес к событиям в монастыре, и наконец он, так как и без того подобало ему быть близ архиепископа, объявил мне, наполовину смеясь:
— Ну, что ж, Рупрехт! Если так тебя занимают эти ангелы и демоны, вселившиеся в бедных монашенок, пойдем и поисследуем это событие на месте. Только заметь, что ни Цицерон, ни Гораций никогда не повествуют ни о чем подобном[242].
Не медля, вышли мы из нашей палатки, спустились в долину речки, перешли ее по двум качающимся жердям, танцуя, как гауклеры, и скоро были уже у монастырских ворот, где сторожившая монашенка почтительно встала при нашем приближении и поклонилась знатному рыцарю чуть не земно. Граф приказал ей отвести нас к настоятельнице монастыря, с которой был несколько знаком, и она проводила нас через двор и садик в отдельный деревянный домик, в его второй этаж, по шаткой лестнице, и, юркнув первая в дверь, потом отворила ее, снова низко кланяясь и приглашая нас войти. Весь этот маленький переход, путь от палатки графа до кельи настоятельницы, почему-то запомнился мне необыкновенно, словно бы врезал мне в память его картину некий гравер, так что сейчас выступают передо мной отчетливо все изгибы дорожек, все виды, менявшиеся при поворотах, все кусты по сторонам.
Келья настоятельницы была невелика и вся была заставлена мебелью, старинной и тяжелой, со множеством святых изображений везде: статуй Девы Марии, распятий, четок, повешенных на стене, различных благочестивых картинок. При входе нашем настоятельница, женщина уже весьма пожилая, имя которой в монашестве было Марта, но которая происходила из знатного и богатого дома, сидела, словно вся ослабнувшая, в глубоком кресле, причем близ нее была только ее келейница, но напротив уже стоял как докладчик брат Фома, успевший втереться сюда. Граф, очень почтительно, назвал себя, напомнив прежнее знакомство, и настоятельница, несмотря на преклонные годы, следуя, вероятно, уставу монастыря, приветствовала его тоже весьма низким поклоном.
Наконец, после разных других учтивостей, требуемых тем, что итальянцы называют bell parlare[243], все мы заняли свои места, граф сел в другое кресло против настоятельницы, а я и брат Фома стали сзади него, как бы люди его свиты. Только тогда наконец обратился разговор на свою истинную тему и граф начал расспрашивать мать Марту о сестре Марии.
— Ах, высокочтимый граф! — отвечала мать Марта. — То я пережила за последние две недели, что никогда, по милосердию божию, не чаяла испытать во вверенном мне монастыре. Вот скоро пятнадцать лет, по мере своих слабых сил, пасу я стадо моих овец, и наша обитель была до сих пор украшением и гордостью страны, ныне же стала соблазном и предметом раздора. Скажу вам, что иные теперь даже боятся приближаться к стенам нашего монастыря, уверяя, что в него вселился дьявол или целый легион злых духов.
После таких слов граф стал вежливо настаивать, чтобы настоятельница рассказала нам подробно все события последнего времени, и она, не сразу и неохотно, приступила наконец к подробному рассказу, который передам я здесь в изложении, ибо речь ее была слишком пространной и не во всем искусной.
Месяца полтора тому назад, по словам матери Марты, пришла к ней безвестная девушка, назвавшая себя Марией, и просила, чтобы позволили ей остаться при монастыре хотя бы на должности самой последней служанки. Пришедшая понравилась настоятельнице своей скромностью и разумностью своей речи, так что, пожалев бездомную скиталицу, не имевшую с собой решительно никаких вещей, она позволила ей жить при монастыре. С первых же дней новая послушница Мария проявила ревность необыкновенную в исполнении всех церковных служб и усердие неистовое в молитве, часто всю ночь до первой обедни проводя на коленях перед распятием. Вместе с тем заметили вскоре, что множество чудесных явлений сопровождало Марию: ибо то под руками ее несвоевременно распускались на зимних стеблях цветы; то видели ее в темноте осиянной некиим светом, словно нимбом; то, когда молилась она в церкви, раздавался близ нее нежный голос, исходивший из незримых уст, которые пели святую кантику; то на ладонях ее выступали святые стигматы, словно от пригвождения ко кресту. В то же время открылся у сестры Марии дар чудотворения, и она стала исцелять всех больных одним прикосновением, и стало их стекаться в монастырь все больше и больше из окрестных селений. Тогда настоятельница спросила у Марии, какой силой творит она эти чудеса, и она призналась, что неотступно сопровождает ее один ангел, который дает ей наставления и поучает подвигам веры, причем объяснила это все столь чистосердечно, что трудно было усомниться в ее исповеди. Сестры же монастыря, восхищенные ее дивными дарованиями, соединенными к тому же с крайней скромностью и почтительностью ко всем, — были исполнены пламенной к ней любовью, радуясь, что девушка, столь святая, вошла в их союз, и, конечно, не почитали уже ее послушницей, но равной себе или даже первой среди других.
Все это длилось более трех недель, и за это время слава сестры Марии возрастала как в округе, так и в самом монастыре, где явились у нее поклонницы преданнейшие, не покидавшие ее ни на шаг, славившие ее добродетели громогласно и почти поклонявшиеся ей, как новой преподобной. Но среди остальных сестер нашлись понемногу и недоброжелательницы, которые стали высказывать сомнения, подлинно ли божеским наитием творит свои исцеления сестра Мария и не есть ли все происходящее в обители новые козни древнего врага рода человеческого — дьявола? Обратили внимание, что явления, везде сопровождающие сестру Марию, не всегда подобали ангельской воле, ибо порой слышались близ нее как бы удары невидимым кулаком в стену, или при ней некоторые предметы сами собой вдруг падали, словно брошенные, и тому подобное. Потом некоторые из сестер, приблизившихся к сестре Марии, на исповеди покаялись духовнику, что с недавних пор начали их бороть странные соблазны, а именно: ночью в их кельях стали им являться образы прекрасных юношей, как бы сияющих ангелов, которые уговаривали вступить с ними в плотскую любовь. Когда обо всем этом сказали сестре Марии, она весьма опечалилась и просила удвоить молитвы, усилить посты и ревность иных монашеских подвигов, говоря, что там, где близко святое, всегда рыщут и духи коварства, ища погубить добрые семена.
Однако, хотя сестра Мария и ее приверженицы действительно молились неустанно и подвергали себя всякого рода благочестивым испытаниям, проявления злой силы в монастыре стали усиливаться с каждым днем. Таинственные стуки в стены, в пол, в потолок слышались везде, как в присутствии сестры Марии, так и без нее; проказливые руки по ночам опрокидывали мебель и даже святые предметы, путали содержимое в ящиках, производили всякого рода беспорядок в комнатах и храме; порой неизвестно кто метал с поля в монастырь тяжелые камни, словно осыпая его ядрами, что было весьма страшно; в темных проходах сестры ощущали прикосновения незримых пальцев или вдруг попадали в чьи-то темные и холодные объятья, что наполняло их трепетом несказанным; затем демоны стали показываться воочию, в виде черных кошек, являвшихся неведомо откуда и забиравшихся смиренным сестрам под одежду.
Первое время настоятельница пыталась бороться с грехом и наваждением уговорами и молитвами; после монастырский священник читал достодолжные молитвы и кропил все покои святой водой; еще после пригласили известного заклинателя из города, который двое суток творил экзорцизмы, заговаривал хлеб и воду, сор и пыль, но смятение только все возрастало. Видения стали являться во все часы дня и ночи и во всех углах: призраки показывались сестрам во время молитвы, во время обеда, на постели, там, куда шли они за своей нуждой, в кельях, на дворе, в церкви. Стали раздаваться неизвестно откуда звуки арф, и сестры не имели сил одолеть искушение и начинали плясать и кружиться. Наконец, демоны стали входить в сестер и одержать их, так что, повергнув на пол, подвергали всяким спазмам, корчам и мучениям. Сестра Мария, хотя она тоже не избегала таких припадков, продолжала уверять, что это лишь натиски злого воинства, с коими должно бороться всеми силами, следуя указаниям ее ангела, и оставались сестры, которые продолжали верить ей и чтить ее. Но зато тем яростнее кляли ее другие, говоря, что это она напустила порчу на монастырь, и обвиняя ее в пакте с дьяволом, так что совершилось великое разделение в обители и распря постыдная и губительная. Тогда-то, в такой крайности, решено было обратиться к князю-архиепископу, коему, по преемству от святых апостолов, дано в сем мире вязать и разрешать грехи наши[244].
Вот что рассказала нам мать Марта, в длинной и запутанной речи, хотя она повторяла ее, по-видимому, не первый раз, и, пока она говорила, узнавал я с несомненностью черты из образа Ренаты, так что страх и отчаяние разом вселились в мою душу, тоже как демоны, и я слушал повествование, как осужденный чтение смертного приговора. Когда настоятельница кончила рассказ, граф, проявивший к нему неожиданное для меня внимание, спросил, нельзя ли призвать сюда сестру Марию, чтобы задать ей несколько вопросов.
— Несколько дней, — отвечала настоятельница, — я запретила ей выходить из кельи, ибо присутствие ее возбуждает волнение — и за трапезой, и в часы святой мессы. Но тотчас я пошлю за ней и прикажу привести ее.
Мать Марта сказала вполголоса несколько слов своей келейнице, и та, поклонившись, вышла, а я, при мысли, что сейчас увижу Ренату, едва мог стоять на ногах и принужден был опереться на стену, как человек совсем пьяный. А между тем, как послушница ходила за сестрой Марией, настоятельница сказала графу следующее:
— Высокочтимый граф! Я, что бы ни было, но должна сказать вам, что, со своей стороны, обвинить бедную Марию не могу ни в чем. Не знаю, верно ли, что сопровождает ее ангел божий, но убеждена, что по своей воле не вступала она ни в какой союз с демоном. Вижу, что она очень несчастна, и сегодня жалею ее столь же, как в день, когда она, неимущая и голодная, пришла просить у меня приюта.
За эти благородные слова я готов был пасть на колени перед почтенной женщиной, но тут отворилась дверь, и вслед за келейницей, тихой поступью, с глазами опущенными, в одежде монахини, с покрытой головой, вошла — Рената и, сделав низкий поклон, остановилась перед нами. Я не мог не узнать ее, хотя бы и в несвойственном ей сером одеянии клариссинки, не мог не узнать ее лица, любимого всеми силами моего сердца, знакомого, как самый дорогой в жизни образ, — хотя и побледневшего, изможденного страданиями последних недель. Рената была все та же, какой я знал ее, то исступленно-страстной, то в последнем бессилии отчаянья, то в необузданном гневе, то спокойно-рассудительной среди книг, то милой, доброй ласковой, нежной, кроткой, как дитя, с детскими глазами и с детскими, чуть-чуть полными губами, — и я, в тот миг, потеряв последнее обладание собой, невольно воскликнул, обращаясь к ней:
— Рената!
Все, бывшие в комнате, невольно обернулись ко мне, ибо до той минуты я не вымолвил ни слова, а Рената, не сделав ни движения, только подняла на меня свои ясные глаза, одно мгновение смотрела мне прямо в лицо и потом произнесла тихо и раздельно:
— Отойди от меня, сатана!
Граф, изумленный, спросил меня:
— Разве ты, Рупрехт, знаешь эту девушку?
Но я уже поборол свое волнение, поняв, что вся надежда для меня заключается в соблюдении тайны, и ответил:
— Нет, милостивый граф, я вижу теперь, что ошибся: этой я не знаю.
Тогда граф сам обратился с вопросом к сестре Марии:
— Скажите мне, милая девушка: знаете вы, в чем вас обвиняют?
Своим обычным, очень певучим, голосом, в котором теперь было, однако, необычное смирение, Рената отвечала:
— Господин! Я пришла сюда искать мира, потому что измучилась слишком, и не обращаясь ни к кому с мольбой, кроме как к всевышнему богу. Если враги мои ищут погубить меня, может быть, у меня и недостанет сил с ними бороться.
Подумав, граф спросил еще:
— Видали ли вы сами когда-либо демонов?
Рената отвечала с гордостью:
— Я всегда от них отворачивалась!
Тогда граф задал свой третий вопрос:
— А вы верите в существование злых духов?
Рената возразила:
— Я верю не в злых духов, но в слово божие, которое об них свидетельствует.
Граф улыбнулся и сказал, что больше ему спрашивать пока не об чем, и Рената, снова низко поклонившись, покинула келью, не взглянув на меня вторично, а я остался, потрясенный этой встречей более, чем самым страшным видением. Не помню я, о чем после того говорили между собой граф и мать Марта, но, впрочем, разговор их вскоре прервался, ибо прибежала сестра-ключница, говоря, что его высокопреподобие приказывает немедленно всем сестрам и всем приехавшим с ним собраться в церкви. Настоятельница, конечно, торопливо встала, отдавая приказания, а граф обратился ко мне и сказал:
— Пойдем и мы, Рупрехт. Да почему же ты так бледен?
Последнее замечание показало мне, что я не сумел утаить от других своего смущения, и потому я сделал все усилия, чтобы сохранить спокойный вид, сжимая зубы до боли и напрягая всю свою волю.
Когда выходили мы из домика, где жила настоятельница, брат инквизитор, идя сзади графа, спросил меня, по-видимому, не без коварства:
— Что вы теперь думаете о сестре Марии: не были ли слова мои, вам сказанные утром, истиною?
Я возразил:
— Думаю, что тут нужно еще подробное исследование, ибо многие стороны дела для меня темны.
Брат инквизитор радостно подхватил мою мысль и стал распространять ее так:
— Вы, конечно, правы, и мы оба с вами видим, что истинного следствия произведено еще не было. Прежде всего должно установить, что здесь имеет место (ибо влияние дьявола сомнению уже не подлежит): одержание или овладение, possessio sive obsessio. В первом случае эти обсерватинки[245], и особенно, эта сестра Мария, грешны союзом с демонами, коих допустили они в самое свое тело; во втором виноваты они лишь слабостью духа, что позволили бесам извне управлять собою. Много существует средств к открытию этого, как, например: у одержимых не идет кровь, если порезать тело ножом, благословив его; они могут держать красный уголь в руке, не обжигаясь; также не тонут в воде, если туда бросить их связанными, и тому подобное[246]. Затем необходимо выяснить, причиняли ли виновные ущерб лишь своей душе или также и окружающим: изводили ли они наговорами скот и людей, делали ли женщин бесплодными, напускали ли дожди и туманы, подымали ли бури, выкапывали ли трупы младенцев, и подобное[247]. Наконец, надлежит установить точно, какие именно демоны проявили здесь свою богомерзкую деятельность, их имена, их излюбленные внешние облики и те заклятия, коим они подчиняются, — дабы впоследствии легче было противостоять их губительному влиянию.
Брат инквизитор говорил еще многое другое, но я постарался не слушать его диалектики, ибо казалось мне, что каждое его слово обрызгано омерзительной, ядовитой слюной. Стараясь обрести уединение среди своих спутников, я начал про себя шептать молитвы, ибо не к кому было обратиться, кроме всевышнего, и говорил так: «Господи, если хочешь ты, чтобы я в тебя веровал, сделай так, чтобы сегодня все обошлось благополучно!» И поистине, от сердца была моя молитва, и мне хочется вспомнить слова божественного спасителя об отце нашем небесном: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?»
II
Медленно подвигаясь вперед, дошли мы все же до дверей храма, где уже толпилось немало народа, ибо собрались не только все приехавшие с архиепископом, но и многие из окрестных жителей, а, конечно, было бы любопытных, желающих видеть своего князя и его борьбу с демонами, и гораздо больше, но по его собственному приказанию простых крестьян в монастырь не пропускали, и они толпились за воротами. Для нас, которые шли с графом, проход в церковь был, разумеется, свободен, и тотчас оказались мы под крестовыми сводами старинного храма, темного, угрюмого, гулкого, но не лишенного своего величия, и я стал всматриваться в ряды серых монашенок, жавшихся, как испуганная стая голубей, ceu tempestate columbae[248], как говорит Вергилий Марон, все в одной стороне; но Ренаты среди них не было. Граф, а близ него и я с братом Фомою заняли места на первой скамье, и на несколько минут, пока длилось общее молчаливое и томительное ожидание, углубился я в горестные воспоминания о тех днях, когда в других церквах, таясь за колоннами, так же выискивал я глазами Ренату. Я знал, что сейчас она войдет сюда, что я вновь увижу ее, и от этого сознания мое сердце в груди колотилось, как сердце робкой ящерицы, которую схватила грубая рука человека.
Скрип двери заставил меня поднять глаза, и я увидел, как из сакристии, с двумя келейницами, вышла сначала мать Марта, за ней, потупив глаза, но поступью твердой — Рената, а сейчас же после них, едва прошли они к другим сестрам, — князь-архиепископ, в сопровождении двух прелатов и монастырского священника. Архиепископ был в торжественном облачении, шитом золотом, с эпитрахилью на плечах, с богатым епископским посохом в руке, в инфуле, еще более роскошной, нежели на вечере в замке, по рубцам унизанной драгоценными каменьями, сверкающими при свете зажженных, несмотря на полдень, восковых свеч, и все, при его входе, пали на колени. Архиепископ с прелатами прошел прямо к алтарю, где, также став на колени, прочел молитву «Omnipotens sempiterne Deus»[249], и, когда кончил, вся церковь в один голос ответила: «Amen», в том числе и Рената, которая, одиноко от других, впереди скамеек, стояла на коленях, на виду у всех. Потом, встав и обратившись к нам, архиепископ голосом громким и четким воззвал: «Те invocamus, te adoramus»[250] и далее, и мы все отвечали ему тем же. Наконец, благословив воду, он этой освященной водой брызнул на все четыре страны света и, сев на архиепископское кресло, приказал Ренате приблизиться.
Взоры мои были связаны с образом Ренаты так прочно, что, думаю я, никакая сила в ту минуту не могла бы повернуть мою голову в другую сторону, и я видел каждое малейшее колебание одежды Ренаты, когда, медленно поднявшись, она сделала несколько шагов вперед и вновь, перед самым креслом архиепископа, опустилась наземь. Архиепископ сделал знак креста на ее челе, возложил благословляюще руки на ее голову и произнес новую молитву «Benedicat te omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus»[251], которую выслушала Рената в тихой покорности и на которую все мы вновь отвечали «Amen». У меня же, пока длились все эти обряды, так как видел я, что во всем Рената проявляла себя верной дочерью святой церкви и что не было никаких следов присутствия злой силы, — возникла радостная надежда, что все может обойтись благополучно, словно первая полоска яснеющей зари, проглянувшая во тьме моей души.
После второй молитвы архиепископ опять встал и обратился к нам всем с такой речью:
— Возлюбленные братья и сестры! Достаточно ведомо, что дух тьмы принимает часто облик ангела света, чтобы тем вернее соблазнить и погубить слабые души. Но на то и дан нам духовный меч, чтобы отсечь в таком случае ему постыдную морду, и мы призываем вас не страшиться более. Ты же, любезная дочь наша, ответь нам: какое имеешь ты свидетельство, что видения твои от господа, а не от дьявола?
Тут вновь услышал я голос Ренаты, тихий, сдержанный, но ясный, и она сказала:
— Высокочтимый отец! Я не знаю, от кого мои видения, но тот, кто является мне, говорит мне о боге и о добре, призывает меня к жизни непорочной и клянет мои прегрешения, — как же я ему не поверю?
Но едва только Рената кончила эти слова, как вдруг, кругом нее, в пол, словно бы изнизу, раздались быстрые и порывистые удары, те самые, о которых говорила она, что это стучат «маленькие»[252]. В тот же миг в церкви произошло великое смятение: среди сестер послышались вскрики, все зашевелились, и я сам не мог преодолеть внезапного ужаса, потрясшего меня, а архиепископ, гневно и мощно ударив посохом, воскликнул:
— Чьи это козни? Отвечай!
Мне лица Ренаты не было видно, но по дрожи ее голоса я понял, что она — в величайшем волнении, и голосом очень тихим она произнесла:
— Отец! Это — враги мои.
Архиепископ, не теряя обладания собой, начал заклинание, говоря сначала на нашем языке:
— Выступи вперед, темный дух, ежели обрел ты себе пристанище в этом святом месте! Ты — отец лжи, и разрушитель истины, и выдумщик неправоты; узнай же, какой приговор произнесет ныне наша простота твоим исхищрениям! Разве же ты, осужденный дух, не подчинишься воле нашего создателя? Ты впал в смертный грех и низвержен был со святой горы в темные пропасти и в бездны преисподней. Ныне же, гнусное создание, кто бы ты ни был, к какой адской иерархии ни принадлежал, но если, по попущению божию, ты обманом вторгся в доверие сих благочестивых женщин, мы называем отца всемогущего, мы умоляем сына-искупителя, мы призываем благословенного духа святого против тебя! О, древний змий! тебя анафемствуем, тебя изгоняем, тебя проклинаем, от твоих деяний отрицаемся, это место тебе воспрещаем, да бежишь, устыженный, униженный, изгнанный, в места странные и безводные, в пустыни ужасные, людям недоступные, и там, прячась и грызя узду своей гордости, да ожидаешь ты страшного дня последнего Суда! Не насмеешься ты над служительницами Иисуса Христа, не обманешь никого из них, беги поспешно, уходи скоро, оставь их поклоняться богу в мире!
Но пока архиепископ произносил эти проклинания и заклинания, стуки не только не прекращались, но все возрастали, и начали раздаваться уже не только в полу, но в скамьях, в стенах церкви и даже доносились с ее высоких крестовых сводов, причем сила их увеличивалась, и уже казалось, что ударяют со всего размаха могучим молотом. Вместе с тем увеличивалось и смятение в церкви, ибо многие из зрителей в страхе искали выхода, а среди сестер поднялся крайний переполох: одни из них трепетно прижимались друг к другу, как овцы при появлении волка, другие же, не выдержав, кричали Ренате проклятия и укоры. А сама Рената оставалась неподвижной, как статуя, вырезанная из дерева, не подымаясь с колен, но и не наклоняя голову, словно бы все, происходившее вокруг, ее не касалось.
Наконец, из рядов сестер, одна монахиня, юная и красивая, сколько мог я разглядеть, вдруг вырвалась вперед, выбежала на середину церкви, делая странные движения и что-то крича непонятное, а потом поверглась на пол и начала биться в том припадке одержания, какие случалось мне наблюдать у Ренаты. Тут, в страхе и смущении, все повскакали со своих мест, и я тоже устремился к упавшей девушке, и видел, как она страшно вытягивалась, причем живот ее выпучивался под одеждой, словно бы она вдруг становилась беременной. Но архиепископ властным голосом приказал всем оставаться неподвижными. Потом, приблизившись к несчастной, он велел прелатам крепко связать ее святыми эпитрахилями, чтобы она не могла биться, и, брызнув в лицо ей святой водою, спросил громко, обращаясь к ней:
— Здесь ли ты, проклятый сеятель смуты?
И связанная сестра отвечала, причем устами ее говорил вошедший в нее демон, так: «Я здесь!»
Этим ответом мы были поражены больше, чем всем предшествовавшим, а архиепископ спросил снова:
— Заклинаю тебя именем бога живого, отвечай: ты злой дух?
Сестра отвечала: «Да!»
Архиепископ спросил:
— Ты тот, который соблазнил сестру Марию под обликом ангельским?
Сестра отвечала: «Нет, ибо нас здесь много».
Архиепископ спросил:
— Отвечай, с какой целью измыслили вы сей обман и ложными ликами обольстили служительниц бога?
Ответа не последовало, и архиепископ спросил снова:
— Имели ли вы постыдное намерение погубить вечное блаженство сих благочестивых сестер и все общежитие от святости обратить в нечестие?
Сестра отвечала: «Да!»
Архиепископ спросил:
— Отвечай: имели ли вы сообщниц среди сестер этой обители?
Сестра отвечала: «Да!»
При этом ответе все, толпившиеся вкруг, содрогнулись, а архиепископ спросил:
— Кто же был такой сообщницей? Не та ли, в теле которой ты сейчас обретаешься?
Сестра отвечала: «Нет!»
Архиепископ спросил:
— Тогда не сестра ли, именующая себя Мария?
Сестра ответила: «Да!»
Я понял в эту минуту, что то был произнесен смертный приговор Ренате, а архиепископ, вновь брызнув святой водой на поверженную и связанную сестру, начал заклинать одержащего ее демона, чтобы он вышел из ее тела.
— Дух лукавый и порочный, — говорил архиепископ, — приказываю тебе — покинь это тело, которое неправо избрал ты своим местопребыванием, ибо оно есть храм духа святого. Изыди, змея, поборник хитрости и мятежа! Изыди, хищный волк, полный всяческой скверны! Изыди, козел, страж свиней и вшей! Изыди, ядовитый скорпион, проклятая ящерица, дракон, рогатая гадина! Повелеваю тебе именем Иисуса Христа, ведующего все тайны, иди вон!
При этом последнем заклинании связанная сестра стала особенно сильно биться и стонала уже от своего лица:
— Он идет! Он идет! Он в моей груди! Он в моей руке! Он у меня в пальцах!
По мере того как она говорила, вздутие ее живота переходило сначала на грудь, потом на плечо, потом она приподняла вверх связанные руки и, наконец, осталась неподвижной, как больной, обессиленный страшным приступом болезни. Брат Фома говорил после, что он, и некоторые другие с ним, видели демона, вылетавшего из пальцев несчастной, в виде маленького человечка, бесформенного и безобразного, который и унесся на дымном облаке в церковную дверь, оставив по себе зловоние, но я, хотя наблюдал все происходившее пристально, не видел такого видения и такого запаха не заметил. Когда же бесновавшаяся сестра утихла и стало явно, что одержавший демон ее покинул, архиепископ приказал ее унести, ибо она идти не могла, а сам направился вновь к Ренате, и мы все вслед за ним.
Рената, во все время заклинания бесновавшейся сестры, оставалась в стороне от нас, стоя по-прежнему на коленях и не делая даже попытки обернуть к нам лицо. Несколько раз влекло меня подойти к ней и заговорить с ней, но удерживала мысль, что этим я выдам свою близость к ней, тогда как помочь ей и, может быть, спасти ее мог я только в том случае, если меня будут считать ей чужим и даже враждебным. Поэтому, преодолевая страстное влечение, я оставался вдали от нее, вместе со всеми, и, тоже вместе со всеми, приблизился к ней лишь тогда, когда вновь к ней подошел архиепископ. На этот раз я постарался стать так, чтобы я мог видеть лицо Ренаты и чтобы она меня видела, но выражение ее лица, столь мною изученного, не предвещало мне ничего доброго, ибо тотчас заметил я, что выражение кротости сменилось на нем выражением суровости и упорства, — и новый томящий страх ущемил мне сердце. Должен я прибавить к этому, что таинственные стуки, хотя несколько притихли на время беседы архиепископа с демоном, однако не смолкали совершенно и порою все еще раздавались то в стенах, то в полу, то под сводами.
Вернувшись к алтарю, архиепископ приказал, в знак печали, погасить восковые свечи, потом, обратившись к Ренате, ударил сурово посохом по каменной плите и воззвал:
— Сестра Мария! Один из врагов наших, коего, с помощью господней и данной нам свыше властью, понудили мы покинуть тело одной из сестер твоих, сообщил нам, что ты находишься в греховном пакте с дьявольскими силами. Кайся перед нами в богоотступничестве своем.
Рената подняла голову и ответила твердо:
— Неповинна я в грехе, который ты назвал.
Чуть она это сказала, вдруг раздались такие потрясающие удары кругом, словно бы все стены храма расседались и рушились, или словно бы пушки своими ядрами и стенобитные орудия своими таранами громили нас со всех сторон. В гуле и грохоте ударов, быстро следовавших один за другим, минуту ничего нельзя было слышать, и все присутствующие пали ниц вокруг архиепископа, простирая к нему руки, как к единственному человеку, способному спасти их. Он же, все-таки не утратив силу духа, устремил вперед посох, как магический жезл, и, обращаясь уже не к Ренате, но к демону, которого полагал вселившимся в нее, воскликнул повелительно:
— Злой дух! Тем, кто приведен был перед Каиафу, первосвященника иудейского, был спрашиваем и давал ответ, заклинаю тебя, отвечай мне: ты ли — противник божий и слуга антихристов?
Тогда Рената вдруг встала с колен и, смотря прямо на архиепископа, отвечала, от чьего имени, не знаю:
— Святым и таинственным именем бога, Адонаи, клянусь и свидетельствую: я — служитель всевышнего, предстоящий у трона его!
И снова ответ ее сопровождался страшным грохотом, но в то же время несколько сестер, вырвавшись из рядов, бросились к Ренате, приникли, став на колени, к ее ногам, и восклицали в безумии:
— И мы! и мы! свидетельствуем! Сестра Мария — святая! Ессе ancilla Domini! Ora pro nobis![253]
В крайней ярости архиепископ, весь красный от напряжения, с лицом, по которому струился пот, воззвал:
— Прочь, коварный дух! Vade retro![254] Дети, опомнитесь!
Но девушки продолжали вопить, обнимая колени Ренаты, которая стояла, со взорами, устремленными ввысь; страшные стуки продолжались кругом, и волнение всех достигло такого напряжения, что никто уже не мог владеть собой, но все кричали, плакали или хохотали исступленно. Я видел, что сам архиепископ наконец потрясен, но, еще раз возвысив голос, начал он один из самых сильных экзорцизмов в таких выражениях:
— Per Christum Dominum, per eum, qui venturus est iudicare vivos et mortuos, obtemperare! Spiriti maligni, damnati, interdicti, exterminati, extorsi, jam vobis impero et praecipio, in nomine et virtute Dei Omnipotentis et Iusti! In icti oculi discedite omnes qui operamini iniquitatem![255]
Однако он был еще далек от конца, когда сначала одна сестра, потом другая, с хохотом и рыданием, поверглись на пол, так как ими овладели сторожившие тут духи, и тотчас многие другие тоже не могли устоять от приступа на их тела злых сил. Несчастные девушки, одна за другой, вдруг со стоном падали и страшно бились о каменные плиты пола, выкрикивая или богохуления, называя самого архиепископа служителем дьявола, или речи нечестивые, величая сестру Марию невестою ангела небесного. Крики, стоны, хохот, богохульства, жалобы, проклятия — все смешивалось с таинственными стуками незримых рук и со смятением других зрителей, которые, потрясенные ужасом, шатаясь, как пьяные, старались бежать к выходу, и не было в этой толпе ни одного человека, который удержал бы обладание собой: так велика была сила демонов, бесспорно, заполнивших весь храм. Я тоже почувствовал, что голова моя кружится, что горло мое сжато, что в глазах у меня потемнело, и мне тоже хотелось кинуться к Ренате, стать перед ней на колени, обнять ее ноги и кричать в лицо архиепископу, что она — святая, и, может быть, продлись такое положение еще минуту, я бы это исполнил.
Два было человека, которые в этом исступлении сохраняли некоторое спокойствие: архиепископ, все еще повторявший, хотя и дрогнувшим голосом, слова экзорцизмов, уже неслышные в общем шуме, и Рената; обнимая руками своих верных привержениц, среди криков и стонов, среди славословий и проклятий, стояла она прямо против архиепископа, устремив глаза ввысь, и неподвижность лица ее казалась крепостью гранитной скалы среди ярости взбушевавшихся волн, — но в тот самый миг, когда я, забыв все свои расчеты, уже готов был также кинуться к ней, вдруг в ее глазах произошла разительная перемена. Я увидел, что черты ее дрогнули, что губы ее искривились сначала чуть заметно, потом мгновенная судорога свела ее лицо, во взорах ее вдруг отразился несказанный ужас, — и в один и тот же миг и я понял, что произошло с ней, и она воскликнула отчаянным голосом:
— Боже мой! Боже мой! Почто ты меня оставил!
Вслед за тем и она в припадке одержания рухнула в груду приникавших к ней сестер, которые, словно подчиняясь приказанию, тотчас же все начали также метаться, и биться, и кричать. Тогда последний порядок нарушился в этом собрании, и кругом, куда бы ни кинуть взор, видны были только женщины, одержимые демонами, и они то бегали по церкви, исступленно, кривляясь, ударяя себя в грудь, размахивая руками, проповедуя; то катались по земле, в одиночку или попарно, изгибаясь, в корчах, сжимая друг друга в объятиях, целуя одна другую, в ярости страсти, или кусаясь, как звери; то, сидя на одном месте, дико искривляли лица гримасами, выкатывали и закатывали глаза, высовывая языки, хохотали и смолкали неожиданно, и вдруг опрокидывались навзничь, ударяясь черепом о камень; одни из них вопили, другие смеялись, третьи проклинали, четвертые богохульствовали, пятые пели; еще одни свистели по-змеиному, или лаяли по-собачьи, или хрюкали, как свиньи; — и это был ад, более страшный, чем тот, который явлен был взорам Данте Алигиери.
В это самое время увидел я между собой и архиепископом, стоявшим в оцепенении, вдруг вынырнувшую, словно из-под пола, фигуру доминиканца брата Фомы, который и воскликнул голосом резким и властительным, ему несвойственным:
— Женщины эти повинны в крайней ереси и явных плотских сношениях с дьяволом! От имени его святейшества заявляю, что подлежат они суду святой инквизиции.
Я слышал, как стукнул об пол посох, который выпал из рук архиепископа, пораженного этими простыми словами, в хаосе совершающегося, более, чем трубным звуком с неба, — но ответа на речь брата Фомы я уже не слышал. Как зигзагная молния, прорезала мне голову мысль, что это — последняя минута, чтобы спасти Ренату, и что, может быть, еще доступно мне вырвать ее отсюда, унести, хотя бы против ее воли, как уносят умалишенных из пылающего дома. Не думая о последствиях, о способах выйти из монастыря, охраняемого стражей, кинулся я к Ренате, содрогавшейся на полу и еще оплетенной руками своих подруг, и уже коснулся ее так любимого, так мне дорогого тела, когда увидел я, что брат Фома осторожно отстраняет меня и что около уже хлопочут несколько стрелков, в церкви не присутствовавших, а приведенных теперь, конечно, инквизитором и сохранивших все спокойствие воинов.
Брат Фома сказал мне:
— Святая ревность обольщает вас, брат Рупрехт! Успокойтесь. Эти люди исполнят все как должно.
Я видел, как стрелки архиепископа бесстрастно связывали руки бесчувственной Ренате и подымали, чтобы нести ее куда-то. Еще не помнящий себя, я, не слушая слов инквизитора, снова бросился вперед и готов был вступить в рукопашную схватку с этими людьми, чтобы вырвать у них драгоценную ношу. Но тут почувствовал я, что кто-то взял меня за руку, и то был граф Адальберт, который сказал мне строго:
— Рупрехт, ты теряешь рассудок!
Властно и почти насильно повел он меня прочь, через всю церковь, к выходным дверям; я повиновался ему безвольно, как ребенок старшему, и мы вдруг вышли на свежий воздух и на свет солнца, а за нами еще слышались и вопли, и стоны, и визг, и хохот несчастных, одержимых демонами.
Глава пятнадцатая Как Ренату судили инквизиционным судом под председательством архиепископа
I
Продолжая держать меня за руки, граф провел меня через весь монастырский двор, вывел в ворота, и мы, перейдя небольшой лужок с несколькими поседелыми ветлами, рядом сели, словно по уговору, на склоне обрыва, надо рвом, которым были обведены стены монастыря. Здесь граф сказал мне:
— Рупрехт! Волнение твое необычно. Клянусь Гиперионом, ты в этом деле затронут более всех нас! Объясни мне все, как товарищу.
У меня в тот час воистину во всем мире не было другого товарища, а опасения и надежды, теснившиеся в душе, искали выхода, подобно птицам, запертым в тесной клетке, и я, как тонущий, который хватается за последнюю опору, — рассказал графу все: как встретил Ренату, как мы прожили с ней зиму, словно муж и жена, причем только причудливость ее характера помешала нам закрепить этот союз перед алтарем, как Рената внезапно меня покинула и как я узнал ее теперь в сестре Марии; умолчал я только об истинных причинах побега Ренаты, объяснив его ее сокрушением о грехах и желанием покаяния, — а закончил свое повествование просьбой, обращенной к графу, помочь мне в моем страшном положении.
— Последние недели, — говорил я, — как вы сами, милостивый граф, могли заметить, я как-то примирился или, лучше сказать, свыкся с мыслью, что разлучился с Ренатою навсегда. Но едва я увидел вновь ее лицо, как вся любовь в моей душе ожила, как Феникс, и я опять понимаю, что эта женщина мне дороже собственной жизни. Между тем безжалостная судьба, вернув мне Ренату, в то же время бросает ее в руки инквизиции, и все улики этого дела говорят мне, что я так чудесно обрел потерянную лишь затем, чтобы потерять ее окончательно! Что могу я предпринять для спасения своей возлюбленной, — я, один, против власти инквизитора, против воли архиепископа и против силы его стрелков и стражи? Если в вас, граф, не найду я поддержки и защиты, если в вас нет ко мне сострадания, не останется мне ничего другого, как разбить себе голову о стену той тюрьмы, где заключена Рената!
Приблизительно так говорил я графу, и он слушал меня с большой чуткостью и отдельными вопросами, которые задавал мне, показывал, что старается вникнуть в мою историю. Когда же я кончил, он сказал мне:
— Дорогой Рупрехт! Твоя судьба трогает меня живо, и я даю мое рыцарское слово, что окажу тебе всякое содействие, какое будет в моих силах.
Последовавшие события доказали, что граф своей рыцарской честью не шутил, ибо, пытаясь оказать мне помощь против инквизитора, смело подверг он опасности свое высокое положение, но все же я вовсе не уверен, что действовал он так по расположению или участию ко мне. Обдумывая теперь поведение графа, я полагаю, что руководило им, во-первых, желание проявить себя истым гуманистом, защищая сестру Марию от изуверства инквизитора, ибо в реальность одержания он никак не хотел верить; во-вторых, — давняя неприязнь к архиепископу, его ленному господину, намерения которого приятно ему было разрушить; в-третьих, наконец, юношеская любовь к приключениям и всякого рода проказам, та самая, которая подсказала ему сложную и не дешевую шутку с доктором Фаустом. Однако, само собой разумеется, эти соображения не мешают мне поныне отдавать должное тому участию, которое граф проявил по отношению ко мне, и вспоминать об нем, как о человеке если и не совершенном, то, во всяком случае, благородном и с душой чуткой.
С часа того разговора граф принял на себя руководство моими поступками и начал держать себя со мною, как старший брат с младшим. Когда, после нашего объяснения, мы пошли обратно в лагерь, я дорогою строил десятки планов, как нам скорее выручить Ренату, причем все эти планы сводились к тому, что должно нам узницу вырвать из темницы насилием. Граф благоразумно указывал мне, что средства с другой стороны гораздо значительнее наших, что, если даже все люди графа будут повиноваться нам беспрекословно, все же против окажется вся сила многочисленной стражи архиепископа, его же власть, как князя, власть и влияние инквизитора и, вероятно, все население местности, относящееся враждебно к колдуньям, так что предпочтительнее было для нас действовать хитростью, приберегая шпаги для последней крайности. Остаток разумного смысла не мог не подтвердить мне, что граф в этом споре держался за стремя правоты, и мне не оставалось ничего другого, как уступить этим доводам, склонив под них душу, как вол голову под ярмо.
Приведя меня в свою палатку, граф велел мне там дожидаться его, и я остался несколько часов в вынужденном и тягостном для меня бездействии, отданный на добычу хищным мыслям и беспощадным мечтам. Большую часть этого времени провел я, лежа ничком на разостланной медвежьей шкуре, слушая биение своего сердца и не стараясь объединить в строй те образы, которые, один за другим, возникали в моем воображении, словно всадники на косогоре, и исчезали, проблестев минуту в свете солнца. То мне представлялось, как Рената лежит на грязном и холодном полу в темном подземелье, то — как палачи подвергают ее истязаниям и хитрым мукам, то — как несут ее труп, чтобы зарыть за кладбищенской оградой, то, напротив, — как я вывожу ее из тюрьмы, скачу с нею на коне по полю, еду с ней за океан, начинаю новую жизнь в Новом Свете… Порой охватывал меня такой страх от моих видений, что я вскакивал на ноги, порывисто, готов был куда-то бежать, чтобы что-нибудь предпринять, но силою воли и доводами логики я опять приковывал себя к своему ложу и заставлял себя вновь, как праздного зрителя, смотреть на сцены, разыгрываемые передо мною на подмостках мечты.
Было уже далеко за полдень, когда ко мне, уже почти изнемогшему от одиночества и неизвестности, вошел наконец граф, но он не захотел отвечать мне на мои страстные вопросы, не узнал ли он чего нового о судьбе сестры Марии, и полушутливо, полунаставительно заявил, что раньше необходимо нам пообедать, ибо с утра мы не прикасались к пище. Тягостная была та трапеза, когда наш слуга из замка, Михель, подавал нам незатейливые блюда, изготовленные на привале, которые мы могли запивать лучшим красным арблейхертом из монастырских погребов, и когда граф, делая вид, что не замечает моего уныния, упорно вызывал меня на разговор о разных древних и современных писателях. Но, насилуя свою мысль, я все же невольно путал имена авторов и названия книг, чем возбуждал веселый смех графа, мне казавшийся в тот час как бы кощунственным. Когда же наконец наш обед пришел к концу, граф, моя после еды руки, сказал мне:
— А теперь, Рупрехт, бери свою чернильницу, и идем в монастырь: сейчас начнется допрос твоей Ренаты.
Я явно почувствовал, как щеки мои от этого сообщения побелели, и в силах был только повторить последние слова:
— Допрос Ренаты?
А граф, внезапно став совершенно серьезным, — печальным и участливым голосом рассказал мне, что инквизитор и архиепископ решили начать следствие безотлагательно, ибо дело представлялось важным и сложным; что сам граф будет присутствовать на этом суде по своему званию, а что меня предложил он, как писца, чтобы записывать вопросы судей и ответы обвиняемых, ибо, по новому Имперскому Уложению[256], все суды должны быть непременно письменные.
— Как! — вскричал я, выслушав такое объяснение. — Ренату будут судить здесь же, в монастыре, без представителей императора, не дав ей защитника, без соблюдения всех законных форм судопроизводства!
— Ты, кажется, воображаешь себя, — ответил мне граф, — живущим в счастливые времена Юстиниана Великого, а не во дни Иоганна фон Шварценберга[257]! Я должен тебе напомнить, что, по мнению наших юристов, ведовство есть преступление совсем исключительное, crimen exceptum[258], преследуя которое нечего сообразоваться, строго и боязливо, с законом. In his, — говорят они, — ordo est ordinem non servare[259]. Они так боятся дьявола, что в борьбе с ним полагают правым всякое беззаконие, и нам с тобой не оспорить такого обыкновения!
Я действительно понял тотчас бесполезность юридического спора, но все же сначала чудовищной показалась мне мысль — принять участие в суде над Ренатою, сидя в числе ее судей, и в первую минуту я решительно от того отказался. Понемногу, однако, частью под влиянием доводов графа, частью сам обдумав положение, я пришел к выводу, что неразумно мне уклоняться от присутствия на этом суде, ибо там, в последней крайности, все же я могу ей прийти на помощь. И, давая наконец свое согласие, я все же заявил твердо, что, если бы дело дошло до пытки, я не допущу такого надругательства над дорогим мне телом, но, выхватив шпагу, смертью освобожу Ренату от страданий, а другим ударом — себя от возмездия за такое самоуправство. Позднее узнал я, что не следовало мне этого решения высказывать вслух, но в тот миг граф не стал возражать мне, но сказал только:
— В случае крайнем ты поступишь, как найдешь нужным, хотя мы постараемся до пытки дела не допустить. Но вообще помни, что затеваем мы игру опасную и что ты погубишь себя наверное, если выдашь чем-либо свое сочувствие и свою близость к обвиняемой. Самое лучшее, не показывай ей своего лица, а если бы она сама захотела назвать тебя своим сообщником, отрекись решительно. Теперь идем, и да поможет нам Гермес, бог всех хитрецов.
После такого договора мы вторично направились в монастырь.
У ворот дожидался нас, по приказу архиепископа, монах, который, угрюмо и непочтительно заметив нам, что мы опоздали, повел нас к восточной стене храма, где, близ двери в сакристию, оказалась другая, низкая, вросшая в землю дверь, ведущая в церковные подземелья. При свете смоляного факела, имевшегося у нашего проводника, мы темным, скользким проходом, с затхлым воздухом, спустились на глубину более чем одного этажа, потом прошли два сводчатых покоя и, наконец, через боковую арку, вступили в подземную залу, освещенную скудно, так что все в ней было в полумраке. В том углу залы, где к стене прикреплен был длинный факел, стоял тяжелый дубовый стол, может быть, ровесник самому подземелью, и за этим столом на скамье уже сидело двое, в которых скоро мы признали архиепископа и инквизитора, тогда как в некотором отдалении виднелись темные фигуры и сверкало вооружение стражей. Когда же граф, в изысканных выражениях, извинился в том, что промедлил, и мы тоже заняли места на ветхих, изъеденных вековой сыростью скамьях, я различил в другом углу неопределенный призрак шеста с перекладиной и веревкой и, поняв, что это — дыба, невольно нащупал эфес своей верной шпаги. Замечу еще, что граф поместился рядом с другими судьями, а я предпочел сесть на самом конце стола, во-первых, потому, что этого требовало мое почтительное отношение к сану архиепископа, а во-вторых, потому, что туда едва достигал свет факела и я, по справедливости, мог рассчитывать, что мое лицо останется в тени и не будет узнано Ренатою.
После прихода графа и видя, что я достал свою походную чернильницу, вынул перо и разложил бумагу, архиепископ обратился к инквизитору с приглашением:
— Брат Фома, приступите к своему делу.
Тут, однако, между архиепископом и инквизитором произошли любезные пререкания, относительно того, кому из них вести этот процесс, ибо каждый предупредительно уступал почет другому. Архиепископ ссылался на точный смысл папской буллы[260], по которой наместник Петра, своей апостольской властью, давал инквизиторам, от него непосредственно поставленным, право творить суд над лицами, обвиненными в преступлениях магии, в сношениях с демонами, в полетах на шабаш и подобном, заключать их в тюрьму, подвергать пытке и назначать им наказание. Но брат Фома, лицемерно унижая себя, признавал за собой такое право лишь по поручению князя той области, где открыт преступник, притом указывал, что ведовство есть преступление смешанное, crimen fori mixtum[261], подлежащее и суду духовному, как ересь, и светскому, ибо наносит вред и ущерб людям, так что уместнее всего ведать его именно архиепископу, как соединяющему в своем лице обе власти. Вмешавшись в это бесплодное прение, граф порешил его, предложив архиепископу председательствовать на предстоящем следствии, как сеньору Трирского курфюршества, а инквизитору вести самый допрос, как лицу, имеющему на то прямое полномочие его святейшества, — каковое постановление я и записал во главе своего скорбного отчета.
Тем, однако, подготовительные рассуждения не были закончены, но брат Фома, вытащив из своих глубоких карманов некую бумагу и приблизив ее к самому носу, так как было недостаточно светло для чтения, сообщил нам следующее:
— Возлюбленные братия! Следуя указаниям доблестных и ученых мужей, вот какой вызов будет мною прибит сегодня, ежели вы его одобрите, к вратам сего монастыря[262]: «Мы, имеющие на то разрешение и поручение Его Святейшества, наместника Христова, Павла III[263], и с дозволения Его Высокопреподобия Архиепископа Трирского Иоанна, ордена Доминиканцев смиренный брат инквизитор Фома, — одушевленные живой любовью к христианскому народу и подстрекаемые жаждой поддержать его в единстве и чистоте католической веры и охранить его ото всякой заразы еретического заблуждения, в силу власти, коей мы облечены, убеждаем и повелеваем, во имя святого повиновения Церкви, под страхом гибельного от Нея отлучения, чтобы в течение двенадцати дней, если кто знает или слышал о ком-либо, что тот еретик или предается волшебству, пользуется такой известностью или в том подозреваем, в частности, что он употребляет различные тайные средства, дабы вредить людям, животным, земным плодам и всей стране, — он бы нам донес о таковом, а если в течение двенадцати дней он не подчинится нашему убеждению и приказанию, пусть он знает, что сам, как еретик и грешник, подлежит он отлучению».
В этом месте своей речи брат Фома сделал остановку, обвел своих сотоварищей торжествующим взглядом и, не слыша возражений, продолжал:
— Но в данном случае не нуждаемся мы, как полагаю я, ни в доносе, ни в какой-либо inscriptio[264], ибо сами были свидетелями страшного нечестия, в какое впала несчастная сестра Мария, поддавшись соблазнам врага, и потому можем мы повести дело в порядке инквизиции. Ежели при допросе обнаружатся улики против других сестер сей святой обители, будем мы уже иметь свидетеля против них, ибо в таком страшном деле, как колдовство, не должно пренебрегать никаким показанием. И будем помнить слова, данные нам в наставление самим Спасителем: если око твое соблазняет тебя, вырви его.
Ныне я думаю, что человек влиятельный и опытный мог бы опровергнуть соображения доминиканца и отнять, хотя бы временно, у него из пасти добычу, подобно тому как, по рассказам, из рук другого инквизитора спас разумными доводами одну женщину, обвиненную в колдовстве, в городе Метце, Агриппа Неттесгеймский[265], лет пятнадцать назад. Но кто же из нас троих мог принять на себя роль великого ученого: архиепископ не менее брата Фомы преисполнен был рвением одолеть козни дьявола и, потрясенный, по-видимому, тем, что довелось ему видеть в монастыре, был рад, что кто-то другой взял руководство этим делом; если бы граф стал говорить, вряд ли другие судьи пожелали бы его слушать, ибо он сам был под подозрением, как еретик и друг гуманистов; а мог ли возвысить здесь свой голос я, жалкий писец из замка, лишь случайно попавший в роль судебного делопроизводителя? И потому никто не возражал инквизитору, который чувствовал себя в этом деле суда над ведьмой, как щука в рыбном садке, и который, закончив свое объяснение, отдал приказание, словно полководец воинам:
— Введите сюда подсудимую!
Опять мое сердце упало, как подстреленная белка с высокой сосны, а двое стражей поспешно удалились в глубину подземелья, словно нырнув в его сырой сумрак, а потом, через некоторое время, показались вновь, не столько ведя, сколько волоча за собой женщину: это была Рената, со спутанными волосами, в разорванном монашеском платье, с руками, скрученными веревкой за спиной. Когда Ренату подвели ближе к столу, я мог различить, при неясном свете факела, ее совершенно бледное лицо и, хорошо зная все особенности его выражения, понял тотчас, что она находится в том состоянии изнеможения и бессилия, которое всегда наступало у нее после припадка одержания и при котором всегда господствовали в ее душе сознание своей греховности и неодолимое желание смерти. Когда стражи отпустили ее, она едва не повалилась на пол, но потом, овладев собою, осталась стоять перед судилищем, сгибаясь, как стебель под ветром, почти не подымая глаз и только изредка обводя всех присутствующих мутным взором, словно не понимая того, что видит, — и я думаю, что ею так и не было замечено мое участие в коллегии ее судей.
Несколько мгновений брат Фома безмолвно рассматривал Ренату, как кот, наблюдающий пойманную мышь, и затем задал он свой первый вопрос, прозвучавший резко, словно лезвием разрезавший наше молчание[266]:
— Как тебя зовут?
Рената чуть-чуть подняла голову, но не посмотрела на допросчика и промолвила в ответ тихо, почти шепотом:
— У меня отняли мое имя. У меня нет имени.
Брат Фома обернулся ко мне и сказал:
— Запишите: она отказалась назвать свое христианское имя, данное ей во святом крещении.
Потом брат Фома вновь обратился к Ренате с таким назиданием:
— Любезная! Ты знаешь, что мы все были свидетелями того, что ты находишься в сношении с дьяволом. Кроме того, благочестивая настоятельница этого монастыря изъяснила нам, какое здесь водворилось нечестие с того самого дня, как ты здесь поселилась, конечно, движимая преступною мыслью совратить и погубить праведные души сестер этой обители. Все твои сообщницы уже покаялись перед нами и обличили твои постыдные козни, так что тебе отпирательство не поможет. Ты лучше признайся чистосердечно во всех своих грехах и помышлениях, и тогда я, по власти самого святого отца, обещаю тебе милость.
Я посмотрел искоса на монаха, и мне показалось, что он улыбнулся, ибо, как я знал, слово «милость» всегда означало в таких обещаниях «милость для судей» или «милость для страны», как слово «жизнь» означало обычно в обещаниях инквизиторов — «жизнь вечную». Но Рената не заметила коварства в речи допросчика, или, может быть, ей все равно было, пред кем ни каяться, но только со всею искренностью, с какой иногда делала она свои признания мне, в счастливые часы нашей близости, она отвечала:
— Я не ищу никакой милости. Я хочу и ищу смерти. Верую в милосердие божие на последнем суде, если здесь искуплю свои прегрешения.
Брат Фома посмотрел на меня, осведомился: «Записано?» — и опять спросил Ренату:
— Итак, ты сознаешься, что заключила пакт с дьяволом?
Рената отвечала:
— Страшны мои преступления, и не могла бы я исчислить их все, если бы говорила с утра до вечера. Но я отреклась от злого и думала, что господь принял мое покаяние. Не ищу я оправдания в грехах моих, богом живым клянусь вам, что в эту обитель пришла искать мира и утешения, а не вносить раздор! Но попустил господь, чтобы и здесь не могла я укрыться от врага моего, которому сама дала власть над собой. Сожгите меня, господа судьи, жажду огня, как избавления, так как вижу, что нет мне на земле места, где бы могла я жить спокойно!
Преодолев свою слабость, Рената эти слова произнесла страстно, и хорошо было, что сидел я в стороне от других судей, ибо у меня глаза наполнились слезами, когда услышал я такие страшные признания, но никакого впечатления не оказали они на доминиканца, и он прервал Ренату, сказав:
— Ты погоди, любезная. Мы тебя будем спрашивать, а ты отвечай.
После этого брат Фома достал из кармана книжечку, в которой, по различным признакам, узнал я «Malleus Maleficarum in tres partes divisus» Шпренгера и Инститора, и, справляясь с этим руководством, стал задавать Ренате обстоятельные вопросы, которые я, равно как и следовавшие за ними ответы, должен был записывать, хотя порою сжимал зубы от отчаяния. Весь этот допрос я и передам здесь именно так, как записал его, ибо каждый губительный вопрос присасывался к моей душе, как щупальце морского спрута, и каждое горестное признание Ренаты оставалось в моей памяти, как слова молитвы, вытверженной с детства. Думаю, что не изменю я ни одного слова из моей записи, воспроизводя ее на страницах этого правдивого рассказа.
Замечу при этом, что на первые вопросы Рената отвечала с промедлением, отрывочно и кратко, голосом обессиленным, словно бы ей было чересчур тяжело выговаривать слова, но постепенно она как-то оживилась, даже увереннее стояла на ногах, а голос ее окреп и приобрел всю его обычную звучность. На последние вопросы она отвечала с каким-то увлечением, покорно разъясняя все, что только у нее ни спрашивали, охотно и пространно говоря даже о многом постороннем, входя в ненужные подробности, не стыдясь, по своему обыкновению, касаться вещей позорных и словно намеренно выискивая все более и более страшные обвинения против себя. Вспоминая примеры из нашей совместной жизни с Ренатою, склонен я думать, что далеко не все было правдой в ее исповеди, но что многое она тут же измыслила, беспощадно клевеща на себя с непонятной для меня целью, если только некий враждебный демон в то время не владел ее душой и не говорил ее устами, чтобы вернее погубить ее.
Замечу еще, что, по мере того как развивался допрос, брат Фома становился, по видимости, все довольнее и довольнее, и я наблюдал, как раздувались его ноздри, когда он слушал бесстыдные признания Ренаты, как напрягались жилы его рук, на которые он опирался, привставая, как колыхалось все его тело от избытка радости, когда видел он, что его предположения и надежды оправдываются. Архиепископ, напротив, очень скоро после начала допроса уже казался утомленным и нисколько не проявлял стойкости, которой он изумил меня утром, — страдая, вероятно, от смрадного воздуха подземелья, тяготясь сидеть на деревянной скамье и, должно быть, не находя ничего занимательного в откровениях сестры Марии. Наконец, граф все время сумел остаться строгим и степенным, причем лицо его не обнаруживало никаких движений души, и лишь порою он останавливал меня многозначительным взглядом, когда я, теряя при ужасном зрелище обладание собой, готов был крикнуть вдруг неосторожные слова или даже совершить какой-либо безумный поступок, который, разумеется, не повел бы ни к чему иному, как к немедленному задержанию и меня, как соучастника преступницы.
Итак, я перейду теперь к точному вопроизведению всего допроса.
II
Вот что было записано моею собственною рукою в протоколе инквизиционного суда и будет, вероятно, еще долго сохраняться в собрании каких-либо дел.
Вопрос. Кто научил тебя колдовству, сам дьявол или кто из его учеников?
Ответ. Дьявол.
— Кого ты сама научила тому же?
— Никого.
— Когда и в какое время дьявол с тобой справил свадьбу?
— Три года назад, в ночь под праздник божьего тела.
— Заставил ли он тебя, в пакте с собой, отречься от Бога Отца, Сына и Святого Духа, от Пречистой Девы, всех святых и от всей христианской веры?
— Да.
— Получила ли ты второе крещение от дьявола?
— Да.
— Присутствовала ли ты на танцах шабаша, три раза в год или чаще?
— Гораздо чаще, много раз.
— Как ты туда переносилась?
— Вечером, под ночь, когда собирался шабаш, мы натирали свое тело особой мазью, и тогда нам являлся или черный козел, который переносил нас по воздуху на своей спине, или сам демон, в образе господина, одетого в зеленый камзол и желтый жилет, и я держалась руками за его шею, пока он летел над полями. Если же не было ни козла, ни демона, можно было сесть на любой предмет, и они летели, как самые борзые кони.
— Из чего состояла мазь, которой в этих случаях натирала себя?
— Мы брали разных трав: поручейника, петрушки, аира, жабника, паслена, белены, клали в настой от борца, прибавляли масла из растений и крови летучей мыши и варили это, приговаривая особые слова, разные для разных месяцев.
— Присоединяла ли ты к этому составу жир умерщвленных тобою младенцев, притом топленый или поджаренный?
— Нет, в этом не было нужды.
— Видала ли ты на шабаше Злого Духа, восседающего в виде козла на троне, должна ли была поклоняться ему и целовать его нечистый зад?
— Это мой грех. Притом мы приносили ему наши дары: деньги, яйца, пироги, а некоторые и украденных детей. Еще мы кормили своими грудями маленьких демонов, имевших образ жаб, или, по приказанию Мастера, секли их прутьями. Потом мы плясали под звуки барабана и флейты.
— Участвовала ли ты также в служении богопротивной черной мессы?
— Да, и дьявол как сам причащался, так давал и нам причастие, говоря «сие есть тело мое».
— Было ли то причастие под одним видом или под двумя?
— Под двумя, но, вместо гостии, было нечто твердое, что трудно было проглотить, а вместо вина, — глоток жидкости, ужасно горькой, наводящей холод на сердце.
— Вступала ли ты на шабаше в плотские сношения с дьяволом?
— Дьявол выбирал среди женщин ту, которую мы называли царицею шабаша, и она проводила время с ним. А другие все, в конце пира, соединялись, как случится, кто к кому приблизится, женщины, мужчины и демоны, и только иногда дьявол вмешивался и сам устраивал пары, говоря: «Вот кого тебе нужно», или: «Вот эта подойдет тебе».
— Случалось ли тебе быть таковой царицей шабаша?
— Да, и не один раз, чем я и бывала очень горда, — господи, помилуй мою душу!
— Скажи нам, доставляло ли тебе соитие с дьяволом б́ольшую усладу, нежели с мужчиною?
— Гораздо большую, безо всякого сравнения.
— Бывало ли при этом у него извержение семени?
— Да, но семя это было холодное.
— Были ли у тебя дети от сожительства с демоном?
— Родилась маленькая белая мышь, очень хорошенькая, но я ее задушила и закопала в саду, над рекой. Ах, если бы у меня были дети, многих грехов не совершила бы я!
— Доставляло ли тебе удовольствие посещать празднества шабаша?
— Крайнее, так что отправлялись мы на шабаш, как на свадьбу. Дьявол в то время держал прикованными наши сердца так крепко, что в нас не могло войти никакое другое желание. Мне тогда казалось, что каждый раз на шабаше видела я сотни новых и чудесных вещей, что музыка шабаша приятнее всякой другой и что там как бы земной рай.
— Учил ли тебя дьявол, как производить грозу, град, крыс, мышей, кротов, как перекидываться в волков, как лишать коров молока, как губить урожаи и как делать мужчин неспособными к брачному сожитию?
— Учил всему этому и многому другому, в чем я признаю себя грешной пред господом богом и пред людьми.
— Скажи, как умеешь ты производить грозу?
— Для этого надо в поле, в том месте, где растет трава паслен, сделать ямку в земле, присев над ней, омочить ее и сказать: «Во имя дьявола, дождись!» — и тотчас найдет туча и будет дождь.
— А как лишать мужчин их силы?
— Для этого есть больше пятидесяти средств, например, взять части самца у только что убитого волка, пойти на порог того, кого хочешь испортить, назвать его по имени, и когда он ответит, оплести то, что в руках, белой тесьмой, — а впрочем, я не хочу вам рассказывать!
— Причиняла ли ты этими средствами, а также в образе волчихи или иного оборотня, вред полям, животным и людям?
— Страшный вред, которого нельзя и исчислить, ибо мы пожирали множество ягнят, истребляли посевы и плодовые сады, наводили на деревни полчища крыс, и многих женщин делали неспособными иметь потомство, и, думаю я, если бы не пришло к нам раскаянье, вся та местность погибла бы от неурожаев и бедствий! Но к чему расспрашиваете вы меня далее, если я все равно не в силах пересказать вам всех моих грехов! Ах, возведите меня скорей на костер, потому что и здесь враг мой не покидает меня, — он сейчас схватит меня! Убейте меня, скорее! скорее!
При последних своих восклицаниях Рената заметалась, готовая броситься на судей, но двое дюжих стражей снова взяли ее за руки и удержали от такого намерения. Тогда архиепископ, может быть, обеспокоенный поведением подсудимой, а может быть, просто утомленный следствием, обратился к инквизитору с такими словами:
— Не достаточно ли с нас, если обвиняемая сама признала себя виновною и достойною костра?
Брат Фома, который в допрос кидался, как веселая выдра в воду, возразил:
— Я полагаю, что должно сначала узнать имена демонов, с которыми эта негодница вступала в сношения, точные условия ее пакта с ними, а также выспросить у нее, кто были ее сообщники во всех этих богопротивных деяниях. Ибо говорит апостол: они вышли от нас, ex nobis egressi sunt[267]!
Рената, расслышав слова инквизитора, воскликнула сдавленным голосом:
— Не надо меня больше спрашивать! Я ничего не скажу больше! У меня не было сообщников! С кем я встречалась на шабаше, те далеко. То было не здесь, в другой стране! Милостивый Господи Христе, приди мне на помощь!
Брат Фома возразил ей:
— Э, голубушка, поверь, у нас найдутся средства, чтобы развязать тебе язык!
После этих слов он крикнул, обращаясь к кому-то, в темноту:
— Эй, мастер, покажи-ка ей, какие есть у нас игрушки!
Из глубины подземелья, со стороны страшной дыбы, выступил человек, плечистый, бородатый, в котором нельзя было не признать палача. Я опустил руку на эфес шпаги, но тотчас встретил пристальный взгляд графа, который молчаливо убеждал меня сохранять спокойствие до последней возможности.
Брат Фома продолжал свою речь, обращаясь к Ренате:
— Погляди, любезная, на наши запасы. Лучше тебе добровольно рассказать нам все, что ты знаешь, и назвать имена всех своих подлых соучастниц и всех тех, кого встречала ты на шабашах. Ведь все равно придется тебе говорить, когда приладим мы тебе к рукам или ногам всякие такие штучки.
Тем временем палач, не произнося ни слова, показывал, одно за другим, разные орудия пытки, совершая тот обряд, который в нашем судопроизводстве называется «устрашением»[268], а брат Фома, смакуя свои слова, объяснял назначение показываемых вещей, говоря:
— Вот это, милая моя, — жом; им ущемляются большие пальцы, и, когда винты подвинчиваются, из-под ногтей течет кровь. А это — шнур; когда зашнуруем мы тебе в него руки, запоешь ты иным голосом, так как входит он в мясо не хуже ножа. А это еще — испанский сапог; мы положим твою ножку между двумя пилами и будем сжимать ее, хоть до тех пор, пока не распилится кость и не потечет мозг. А там вот — стоит дыба; как подтянем мы тебя на нее, так руки и вывернутся из суставов[269].
Рената слушала все эти слова с таким видом, как если бы они не относились к ней и как если бы она не видела перед собою страшных орудий пытки. Но мое волнение достигло последнего предела, и я готов был вскочить и броситься на доминиканца, когда граф, конечно, поняв мое состояние, нашел возможным вмешаться, сказав так:
— Я тоже, как и его высокопреподобие, думаю, что для первого раза мы узнали достаточно. Должно заседание прервать, так как мы утомлены, и предстоит нам еще допросить свидетелей, мать Марту и сестер.
Брат Фома принял эту речь с таким видом, как хищный зверь, у которого кто-то пытается отнять его добычу, и решительно возразил:
— Совсем напротив, господин граф! Надо торопиться с допросом, пока эта женка не успела получить советов от дьявола, и я полагал бы, что сейчас же надо приступить к допросу с пристрастием. Вы, верно, забыли, что запрещено только повторять пытку, если не явится новых улик, но все авторитеты согласны, что при преступлении особо важном, crimen exceptum, пытку можно продолжать на следующий день или еще на следующий[270], и умы, достойные уважения, приглашают в таких случаях ad continuandum tormenta, non ad iterandum[271]. Итак, сегодня мы начнем, а завтра будет у нас случай продолжить…
Однако, когда архиепископ, возвысив голос, заявил уже решительно, что он, как председатель трибунала, находит нужным допрос остановить, брат Фома вдруг оборвал свою речь, как пряха засучившуюся нить, и сказал совсем другим голосом:
— Я, впрочем, вполне согласен с его высокопреподобием, потому что действительно в таких важных и трудных делах спешить подобает всего менее. Мы допрос приостановим, но все-таки, думаю я, вы согласитесь, что не следует нам отсылать эту женку, не осмотрев предварительно, есть ли у нее на теле знаки ведьмы[272].
При этом брат Фома прибавил, говоря к палачу:
— Ну-ка, обыщи ее хорошенько.
Я вторично схватился за рукоять шпаги, и снова настойчивый взгляд графа удержал мою руку, и, преодолевая себя, я смотрел, как воплощалась моя страшная мечта, как палач срывал одежду с Ренаты, не сопротивлявшейся нисколько, и как в сырой полумгле подземелья он обшаривал грубыми руками ее тело, которое когда-то я покрывал богомольными поцелуями. Наконец внимание палача остановилось на маленькой родинке на левом плече, хорошо мне знакомой, и, достав из кармана небольшое шило, он острием коснулся в этом месте тела Ренаты, которая не шелохнулась. Тогда палач воскликнул грубым и угрюмым голосом, словно бы он кричал внутрь трубы:
— Есть! Кровь не идет!
Для инквизитора и для архиепископа заявление палача, ими даже не проверенное, показалось последним и решающим доказательством, потому что брат Фома тотчас возопил, как некогда первосвященник иудейский:
— Каких еще свидетельств нам нужно! Не ясно ли, как божий день, что она — ведьма!
Затем он добавил:
— Теперь же надо подпалить огнем все волосы на ее теле, ибо в них может скрывать она какие-либо чары[273].
Однако граф, ясно видя, что более я не потерплю никакого оскорбления, вступился решительно, напомнив инквизитору, что сам архиепископ, который председательствует на нашем следствии, постановил прервать его до завтрашнего утра, и брат Фома, засуетившись, как пойманная мышь, отдал приказание отвести Ренату обратно в темницу. Думаю, что Рената в ту минуту не была в сознании, ибо стражи, неловко натянув на нее монашеское ее платье, подняли ее, как ребенка, на руки и потащили вновь в темноту, между тем как я, не имея возможности следовать за ней, почти падал, мучимый своим бессилием.
Вероятно, несмотря на все свои старания, я не мог вполне скрыть то участие, которое принимал в судьбе подсудимой, потому что, когда наше маленькое общество, пройдя вновь подземные проходы, вышло на свежий воздух, которого была лишена Рената, и когда архиепископ, благословив нас, удалился, брат Фома спросил меня, не без подозрительности:
— Вы, господин Рупрехт, должно быть, в первый раз присутствуете на преследовании этих злодеев: такой у вас удрученный вид, словно вам жалко эту девку.
Я, только что вытерпевший гораздо более тяжкие испытания, не мог снести таких слов и, вдруг утратив власть над собою, метнулся на инквизитора, схватил его за ворот рясы и закричал ему:
— Ты первый заслуживаешь костра, проклятый патер!
Такое мое поведение могло бы повести к очень дурным для меня последствиям, но граф, быстро поспешив на помощь к монаху, освободил его из моих рук и сказал мне строго:
— Тобой тоже овладел какой-то демон, Рупрехт, или ты потерял рассудок!
Брат Фома, лицо которого все искривилось было от страха, когда я устремился на него, — очень быстро оправился и, хотя старался держаться от меня на расстоянии, также стал меня успокаивать:
— Или вы меня не узнали, любезный брат Рупрехт? Это — я, ваш смиренный брат Фома. Как же вы так даете над собой власть нечистому? Враг силен, но должно ограждать себя молитвой. Борьба с дьяволом — дело трудное, ибо он рыщет кругом своих судей и, где завидит незащищенное место, спешит проникнуть: будь то через рот, или уши, или иное какое отверстие в теле.
Я через зубы пробормотал какое-то извинение, а граф, чтобы рассеять нехорошее впечатление, вступил с инквизитором в разговор о деле сестры Марии и спросил, несомненно ли, что она будет приговорена к костру. Брат Фома сейчас же оживился и, с величайшей готовностью, стал объяснять нам законы.
— В уголовном Уложении, — говорил он, — изданном по воле его величества императора для всей империи два года назад и коим мы теперь руководствуемся, статья сто девятая гласит: «Item[274], если кто колдовством причинит другому зло или бедствие, то должен он быть наказан смертию, и казнь должно совершить через огонь. Когда же кто употреблял колдовство и никому тем зла не причинил, должен он быть наказан, смотря по обстоятельствам дела». Сестра Мария повинилась сама, что причиняла вред людям, и скоту, и посевам, а потому подлежит она смерти.
Граф спросил еще, должно ли подвергать подсудимую пытке, если сама она во всем уже созналась, и брат Фома без промедления дал ответ и на это.
— Непременно, — сказал он, — ибо статья сорок четвертая той же Конституции императора Карла говорит прямо: «Item, если кто прибегает к сомнительным вещам, действиям и поступкам, которые в себе заключают волшебство, и если это лицо в таковом также обвиняется, этим дается явное указание на волшебство и достаточное основание для применения пытки». Кроме того, вы, верно, не знаете, что нет другого способа против этих извергов, каковы ведьмы, чтобы заставить их говорить правду, ибо дьявол всегда присутствует на суде и порой помогает им переносить жесточайшие мучения. При столь тяжелых преступлениях поневоле приходится прибегать и к самым сильным средствам.
У меня не было охоты выслушивать дальнейшие соображения инквизитора, и, ускорив шаги, я почти побежал прочь от разговаривающих, не имея перед собой никакой цели и только желая остаться наедине. Однако вскоре нагнал меня граф, который спросил меня, куда я убегаю, и я ему ответил:
— Дорогой граф! Должно нам приступить к нашему делу немедленно, ибо каждый час промедления может стоить Ренате жизни. До сих пор я воздерживался ото всякого решительного поступка только потому, что вы обещали мне свое содействие. Умоляю вас не откладывать долее, или же скажите мне прямо, что помочь мне не в силах. Тогда я буду действовать сам, хотя бы попытки мои и повели меня на верную смерть.
Граф ответил мне:
— Я дал тебе рыцарское слово, мой Рупрехт, и сдержу его. Ступай в нашу палатку и жди моего зова, а я буду работать за тебя.
Голос графа был столь убедителен, а лично себя сознавал я столь бессильным, что мне не оставалось ничего, как повиноваться, но у меня не хватило духу вторично войти в эту палатку, словно в ров львиный, где стерегли меня с алчными челюстями и острыми зубами те же горестные мысли, как утром, и, может быть, многие другие, не менее ожесточенные. Я сказал графу, что буду ждать его на берегу речки, и, избегая всяких встреч, пробрался в густой ивняк, росший вдоль ее русла, и затаился в полутьме и сырости, расположившись так, чтобы мне, сквозь прорывы в листве, виден был монастырь. Здесь, опять в вынужденном бездействии, провел я еще сколько-то часов, дыша свежим веяньем текучей воды и зная, что Рената, больная, изнеможенная, проводит это время на липкой земле, среди плесени, пауков и мокриц.
Я боялся, что потеряю способность действовать разумно, если отдамся всем волнам отчаянья, напиравшим на меня, и потому упорно вынуждал себя не терять ясности мысли. Как бы решая некоторую задачу, обдумывал я все возможные способы спасти Ренату, но все же не находил иного, кроме как силою овладеть монастырем, разбить двери ее тюрьмы и увезти ее далеко, прежде чем архиепископ успеет собрать значительный отряд. Увлекшись такими мечтами, я даже представлял себе все подробности предстоящей битвы между приверженцами графа и сторонниками архиепископа, воображал точно, как буду я ломать ворота монастыря, сочинил, от начала до конца, ту речь, с какой обращусь к испуганным монахиням, убеждая их не сопротивляться освобождению сестры Марии, и со слезами в горле повторял те слова, какие скажу спасенной Ренате.
Уже вечерело, и я опять дошел до крайнего томления, когда наконец услышал я близ себя шум шагов и, обернувшись, увидел, что ко мне приближается граф, тогда как в некотором отдалении стоит наш Михель, держа за поводья двух лошадей. Лицо графа было столь сумрачно, каким я его не видел еще никогда, и, в первую минуту подумав, что все кончено, что Рената уже осуждена и казнена, я невольно воскликнул:
— Неужели мы опоздали?
Граф отвечал мне:
— Нам должно сейчас ехать, Рупрехт. Я убедился, что тех сил, какие у меня здесь есть, недостаточно для нашего предприятия. Надо искать союзников, чего не стыдились и римляне. Поблизости отсюда я знаю один замок, владелец которого в дружестве со мной. Едем — и привезем с собой десяток добрых молодцов.
Этот призыв так удивительно согласовался с моими мечтами, что ни на минуту не усомнился я в искренности слов графа и не пришло мне в голову соображение, что неразумно нам обоим оставлять монастырь, — напротив, со всей готовностью поспешил я к лошади, и скоро оба мы были уже верхом. Я спросил графа, далек ли наш путь, он же ответил мне только, что надо торопиться, но что первую часть дороги лучше сделать по руслу реки, дабы наш отъезд не был замечен в лагере. Все это было очень правдоподобно, и в ту минуту я согласен был шпагою прокладывать себе дорогу вслед за графом.
Проехав около четверти часа глубью долины, мы выбрались наверх и поскакали по плохой, деревенской дороге прямо на запад. Глаза мои слепило заходившее в тот час солнце, строившее передо мной, игрою своих лучей, причудливые замки из вечерних облаков и тут же разрушавшее их, и мне представлялось, что в этих-то призрачных дворцах мы и обретем ту помощь, которой ищем. Я подгонял коня, словно в самом деле надеялся доскакать до страны, где Аврора отворяет огненные ворота Фебу, и ветер свистел мне в уши не то ободряющие крики, не то безнадежные предсказания. Постепенно запад все более тускнел, красное солнце зашло за самое нижнее облако, и кругом посвежело; местность становилась более суровой, но никакого признака человеческого жилья не показывалось, и тщетно искал я на кругозоре — башен обещанного замка. Несколько раз спрашивал я графа, далеко ли нам еще ехать, но все не получал ответа, и, наконец, видя, что лошадь моя утомлена, что дорога совершенно исчезает среди беспорядочно сваленных камней, я внезапно натянул узду и вскричал так:
— Граф! Вы обманули меня! Никакого замка нет! Куда вы меня завели?
Тогда и граф остановил лошадь и отвечал мне тихим, задушевным голосом, который порою он умел находить в себе:
— Да, я тебя обманул. Замка нет.
Все мое тело похолодело, руки задрожали, и, бросая свою лошадь прямо на графа, готовый схватиться с ним на поединке, в этой глухой, безлюдной долине, в час первых теней, я закричал:
— Зачем ты это сделал? Что тебе было надо? Отвечай, потому что иначе я убью тебя!
Граф возразил мне очень спокойно:
— Ruprechte, insanis! Ты безумствуешь, Рупрехт! Сначала выслушай, а потом угрожай. Я узнал, что Фома назначил второй допрос на этот вечер. Сколько я ни старался, я не мог изменить такого решения! Я не сомневался, что ты, если бы остался в монастыре, совершил бы какой-нибудь безумный поступок и тем погубил бы все дело. Я решил увезти тебя на время, чтобы спасти и тебя, и твою возлюбленную.
— Как! — переспросил я. — Второй допрос назначен на этот вечер? Значит, он совершается сейчас? Но ведь этот допрос — с пристрастием! Значит, Ренату пытают сейчас, а я от нее далеко, здесь, здесь, здесь, — в поле, и не могу даже откликнуться на ее стоны!
Тут порыв ярости покинул меня, и я, соскочив с коня, бросился ничком на влажные от вечерней росы камни, прижался к ним щекою, и еще раз слезы полились из моих глаз неудержно, так как у меня, как у женщины или ребенка, не было в ту минуту другого оружия для борьбы с судьбою. Мне представился весь ужас, какой должна была переживать в тот миг Рената, представилось, как грубый палач мнет, терзает и калечит драгоценное для меня тело Ренаты, представились ее беспомощные стоны и отчаянные взоры, тщетно ищущие помощи или сочувственных глаз и встречающие лишь зверские лица судей, — и у меня от ужаса и скорби захватило дух. Лежа на темной земле, я рыдал безнадежно, и в тот миг искренно хотел одного: быть с Ренатою рядом, предать свое тело всем истязаниям, каким подвергали ее, — и мне казалось чудовищным и нелепым, что я не испытываю боли, когда она изнемогает от страданий.
Между тем граф спешился также, сел близ меня на землю и, тоже видя во мне как бы дитя, стал ласково меня успокаивать. Он самым убедительным образом уверял меня, что я не должен так пугаться пытки, отвратить которой мы не могли, так как очень многие люди переносят ее без вреда для своего здоровья. Сам граф знавал одного алхимика, которого неверные, в Мостаре, подвергали пытке тридцать раз и даже сажали на кол, надеясь выведать от него тайну философского камня, будто бы ему известную, и который, однако, дожил до глубокой старости. Притом, по словам графа, в этот первый день не могло угрожать Ренате никаких особых истязаний; самое большее, чему могла она подвергнуться, это — вывиху на дыбе ручных суставов, которые палач сам сумеет немедленно вправить. Не забыл граф привести мне в утешение и несколько цитат из Аннея Сенеки — философа, указывающего, как благодетельно для человека переносить физические страдания.
Разумеется, такие речи графа нисколько не могли меня успокоить, но порою были как бы горючим материалом, подбрасываемым в огонь моего отчаяния, и, наконец, граф, замечая, что все его рассуждения и разумные доводы бессильны против моего чувства, сказал мне еще следующее:
— Ну, слушай, Рупрехт, я открою тебе мой план, чтобы ты не считал меня за врага, но истинным другом. Знай, что я уже все приготовил для спасения твоей возлюбленной. Мать Марта к сестре Марии очень расположена и не верит в ее виновность. Кроме того, будучи клариссинкой и, следовательно, принадлежа к франсисканскому ордену, она рада чем бы то ни было досадить доминиканцу. Ты знаешь, что монашеские ордена грызутся между собой, как собаки. Короче говоря, мать Марта согласилась, после разных моих убеждений, помочь нам и устроить побег твоей Ренаты. Но ты понимаешь, что такое дело можно совершить лишь ночью, per amica silentia lunae[275]. Мы сейчас вернемся к монастырю. На страже у ворот и у темницы будут монахини, настоятельнице вполне преданные и к тому же поклоняющиеся сестре Марии, как святой. Они отопрут нам все затворы. Ты спустишься в подземелье и выведешь свою Ренату или вынесешь ее на руках, если она окажется не в силах идти. У ворот будет тебя ждать Михель и пара свежих лошадей: скачите прямо в мой замок. После мы посмотрим, что делать, но я уверен, что не только все другие, но сам Фома, несмотря на свое апостольское имя, поверит, будто сестру Марию освободил дьявол. Итак, подай мне руку, и ne moremur![276]
В плане графа больше было причудливости юного воображения, которое обычно руководило его поступками, нежели опытности и знания людей; однако то была последняя веревка, держась за которую я мог выбраться из бездны моих неудач. Мы снова сели на коней и опять погнали их, на этот раз в противоположном направлении, с трудом распознавая дорогу в наступавших сумерках. По счастию, мы не сбились с пути и, при слабом свете молодого тощего месяца, достигли нашего лагеря.
Глава шестнадцатая и последняя Как умерла Рената и обо всем, что случилось со мною после ее смерти
I
Когда я вновь увидел перед собою стены монастыря, за которыми были заключена Рената, — я почувствовал в себе, несмотря на усталость от бессмысленной скачки, прилив бодрости и отваги, ибо решительные часы всегда напрягали мою душу, как твердая рука — арбалет.
Около нашей палатки мы соскочили с коней и отдали их Михелю, который дожидался нас, проявляя явное нетерпение, потому что на вопрос графа, все ли готово, отвечал так:
— Давно готово, и медлить больше нельзя. Ян со свежими лошадьми стоит у северной стены: копыта их я обернул шерстью. А этот проклятый патер Фома все шныряет кругом и, того гляди, что-нибудь выследит.
Втроем мы направились к монастырю, выбирая дорогу там, где было темнее, и всячески стараясь пройти незамеченными, хотя все кругом, по-видимому, уже спало, — ибо на пути не повстречалось нам никого, и в деревне не залаяла ни одна собака. Михель шел впереди, как бы указывая дорогу, за ним — граф, которого, как кажется, очень забавляли наши необычные приключения, а я — позади всех, так как мне не хотелось, чтобы на меня смотрели. Мысль, что сейчас я останусь с Ренатою наедине и что через несколько минут она будет вновь свободна и под моей защитой, — заставляла мое сердце дрожать радостно, и я, не колеблясь, пошел бы один на троих, только бы осуществить мечту.
Взобравшись на косогор, оказались мы у ворот монастыря, в черной тени его стены, и Михель показал мне вдалеке смутные образы двух лошадей, которых стерег кто-то из наших людей, сказав:
— Туда, господин Рупрехт, несите вашу добычу, — я уже буду там и знаю прямую дорогу в замок. Верьте: ястребы нас не догонят.
Между тем граф осторожно ударил по железу двери рукоятью шпаги, так что раздался в лунной тишине звук короткий и жалобный, словно плач. Из-за ворот послышался женский голос, тоже приглушенный, спросивший:
— Кто здесь?
Граф ответил условным паролем:
— Земля Иудина ничем не меньше воеводств Иудиных.
Тотчас ворота, как по волшебству, растворились, тихо простонав, и в ту минуту я так твердо верил в успех нашего предприятия, словно уже был с Ренатою под надежной защитою бойниц замка фон Веллен. Сестра, отворившая нам ворота, смотрела на нас со страхом и была очень бледна, — или это так казалось от света месяца, — но не произнесла ни слова. Слабо освещенный монастырский двор был совершенно пустынен, но мы прошли его, крадясь вдоль стены, как три привидения, и, подойдя к задней стороне собора, оказались близ страшной двери, через которую был ход в подземелье к Ренате. Здесь на плоском камне, в полудремоте, сидела на страже другая монахиня, которая при нашем приближении вскочила и вся затрепетала.
Граф повторил пароль, и сестра, упав на колени, воскликнула сдавленным голосом:
— Благословен грядый во имя господне! Придите, придите! выведите из темницы жертву невинную, в узы ввергнутую кознями врага! Сестра Мария — святая, и постыдятся враги ее! Христос Иисус — непорочный жених ее!
Михель грубо прервал эти причитания, сказав сестре шепотом:
— Будет болтать, мы не на птичнике! Открывай дверь!
Монахиня, достав большой железный ключ, попыталась отпереть дверь, но руки ее дрожали, так что она не могла наметить бородкой в скважину замка, и Михель, отняв у нее ключ, отпер сам. Когда раскрылось черное отверстие входа в подземелье, Михель осторожно высек огня, зажег принесенный с собою маленький факел и передал его мне, а граф сказал:
— Рупрехт, иди вниз. За той залой, где мы вели допрос сегодня утром, есть дверь, запертая засовом. Отопри ее: за ней темница твоей Марии. Торопись, Михель будет ждать тебя, и да поможет тебе мать любви, Киприда Книдская! Прощай.
Я, от волнения, не мог ничего ответить графу, но, сжав в руке факел, устремился в темную глубину и, спотыкаясь, спешил вперед по ступеням скользкой лестницы, пока не очутился в зале допроса. Наш стол, за которым я записывал гибельные ответы Ренаты, был пуст и казался громадной гробницей; сумрачный станок дыбы с поднятой лапой по-прежнему возвышался в глубине, и я содрогнулся, взглянув на него; шаги мои звучали в пустоте гулко, и тени метались кругом, — быть может, то были летучие мыши. Пройдя еще несколько шагов по указанию графа, я наткнулся на деревянную, окованную железными брусьями дверь, которая была заперта тяжелым засовом, и, не без труда отодвинув его, оказался в маленьком сводчатом покое, низком и удушливо-сыром.
Проведя факелом, я постепенно осветил все углы тюрьмы и в дальнем ее конце различил груду соломы, а на ней простертое тело, едва прикрытое лохмотьями одежды; я понял, что это — Рената, с упавшим сердцем приблизился, стал на колени перед бедственным ложем. При качающемся свете факела я мог ясно различить лицо Ренаты, бледное, как лицо трупа, с закрытыми, словно неживыми глазами, ее вытянутые, неподвижные, ослабшие руки, ее чуть подымаемую дыханием грудь, — и около минуты длилось молчание, потому что я долго не осмеливался произнести ни слова в священном месте. Наконец, напомнив себе, что все мгновения на счету, я шепнул тихо:
— Сестра Мария?
Ответа не было, и я повторил громче:
— Рената!
На этот зов Рената открыла глаза, слегка обратила ко мне голову, посмотрела на меня пристально, узнала меня и, как будто совсем не удивляясь, что я близ нее, слабым, едва различимым голосом произнесла:
— Уйди, Рупрехт. Я тебе все прощаю, но ты уйди.
Первый миг я был такими словами ошеломлен, но, подумав, что замученная пыткой и заключением Рената бредит, я возразил, влагая в свои слова всю нежность, на какую был способен:
— Рената! дорогая моя Рената! любимая! единственная! Я принес тебе избавление и свободу. Двери открыты, мы уйдем отсюда, нас ждут лошади. После мы уедем в Новую Испанию, где начнется для нас новая жизнь. Я буду служить тебе, как раб, и ни в чем не буду противоречить твоим решениям. Ибо я по-прежнему люблю тебя, Рената, люблю больше себя самого, больше спасения души. Если можешь, встань, дай мне руки, иди со мной. Или дозволь, я понесу тебя, у меня достанет сил. Но должно нам торопиться.
Сказав эти слова с крайним волнением, я ждал ответа, наклонясь к самому лицу Ренаты, а она, не шевельнувшись, тем же тихим, без ударений, без повышений, голосом заговорила так:
— Я не пойду за тобой, Рупрехт! Однажды ты едва не погубил меня, но я спасла свою душу из твоих рук! Они меня мучили, они меня распинали, — ах! они и не знали, что это повелел им Иисус Христос! Кровь, кровь! я видела свою кровь, как хорошо, как сладко! Она омыла все мои грехи. Он опять прилетит ко мне, как большая бабочка, и я спрячу его в своих волосах. Нет, нет, это, право, просто бабочка, и ничего больше. Как ты смеешь быть здесь, со мною, Рупрехт?
Эта странная и несвязная речь окончательно убедила меня, что Рената потеряла от страданий ясность мысли, но все же я сделал попытку образумить ее, сказав ей:
— Рената! Услышь меня, попытайся понять меня. Ты — в тюрьме, в монастырской тюрьме. Тебя судят инквизиционным судом, и тебе грозит страшная казнь. Чтобы спасти жизнь, тебе надо бежать, и я все устроил для твоего бегства. Вспомни, ты мне говорила когда-то, что меня любишь. Доверься мне, и ты будешь освобождена. Потом я предоставлю тебе свободу сделать все, что ты захочешь: остаться со мной, или меня покинуть, или вновь войти в монастырь. Я не прошу у тебя ничего, не прошу любви, я только хочу вырвать тебя у палачей и спасти от костра. Неужели же ты хочешь пытки и мучений огня?
Рената воскликнула:
— Да! Да! Я хочу пытки и огня! Сейчас я видела моего Мадиэля, и он сказал мне, что смертью я искуплю всю жизнь. Он — весь огненный, глаза у него голубые, как небо, а волосы словно из тонких золотых ниток. Он мне сказал, что примет мою душу в свои объятия и что в вечной жизни мы не разлучимся с ним никогда. Я прощаю, я все прощаю, и тебе и Генриху, потому что Мадиэль все простил мне. Мне хорошо, мне больше ничего не надо. Но оставь меня одну; дай мне быть с ним; ты испугал его; уйди, — он вернется.
С последним упорством я воскликнул:
— Рената, клянусь всем для меня святым, я не могу оставить тебя здесь! Бог и совесть приказывают мне вывести тебя отсюда. Ты измучена, ты больна, ты не можешь рассуждать здраво. Послушайся меня, как друга, как старшего! Не искупительная смерть ждет тебя здесь, — но ты отдаешь себя во власть грубым монахам и тупым невеждам. Только выйди отсюда, только вдохни свежего воздуха, взгляни на солнце, и если через три дня ты скажешь мне: я хочу вернуться в тюрьму, — клянусь, я сам отведу тебя сюда.
Рената с трудом приподнялась и, смотря прямо мне в лицо, сказала, как будто с полной сознательностью:
— Я говорю тебе, что от тебя я не желаю ничего! От твоего присутствия испытываю только отвращение. Ступай, вернись в жизнь, целуйся со своей Агнессой, а меня пусть опять подымут на дыбу. Ты хочешь, чтобы я куда-то бежала с тобою! Ах, милый, милый Генрих, он никогда бы не оскорбил меня так! Я бы ему сказала, что хочу умереть, и он бы понял меня. А ты как был ландскнехт, так им и остался, и знаешь одно, как бы убить врага. Ну, убивай меня, я не в силах защищаться!
В этих жестоких и несправедливых словах я узнал прежнюю Ренату, ту, которая, бывало, заставляла меня падать на пол от бессильного отчаянья или скрежетать зубами от неожиданной обиды, но я не позволил себе поддаться впечатлению и забыть, что Рената сейчас не ответственна за то, что говорит, как больной, который бредит, или как несчастный, одержимый злым духом. Итак, я произнес твердо:
— Рената! Клянусь всевышним, я люблю тебя! И потому спасу тебя даже против твоей воли!
Сказав так, я осторожно прислонил факел к выступу стены, а сам, сжав губы и стараясь не смотреть в лицо Ренаты, решительно наклонился к ней и, охватив ее руками, хотел поднять с ее соломенной постели. Поняв мое намерение, Рената пришла в страшное волнение, откинулась назад, прижалась к углу своей тюрьмы и, голосом громким и отчаянным, закричала:
— Мадиэль! Мадиэль! защити! спаси меня!
Не слушая этого крика, я не уклонялся от намеченной цели, и между нами двумя началась бессмысленная борьба, причем Рената, которая едва могла владеть руками, изможденными пыткой, отбивалась всем телом, изгибаясь неистово, бросаясь во все стороны, употребляя все средства, чтобы высвободиться из моих объятий. Она не брезгала и тем, что пыталась свалить меня, толкая ногами, а также тем, что злобно впивалась зубами в мои руки, и в перерывах борьбы кричала мне в лицо яростные оскорбления:
— Проклятый! Проклятый! Ты пользуешься моей слабостью! Ты мне омерзителен! Пусти, я разобью себе голову о стены! Все лучше, только бы не быть с тобой! Ты — дьявол! Мадиэль! Мадиэль! защити!
Внезапно, когда я уже сознавал себя победителем, сопротивление Ренаты вдруг ослабло, и, испустив пронзительный и ужасный крик боли, она вся повисла на моих руках без движения, как висит сломанный стебель цветка. Догадавшись, что с Ренатой что-то случилось, я быстро опустил ее обратно на солому, освободив от своих рук, но она уже вся была как мертвая, и мне казалось, что она не дышит. Метнувшись по камере, нашел я немного воды в глиняном кувшине и смочил виски Ренаты, после чего она слабо вздохнула, но для меня, много раз видевшего смерть раненых после боя, уже не оставалось сомнения, что наступал последний миг. Я не знаю, повлияли ли на Ренату губительно те усилия, какие она сделала, сопротивляясь мне, или вообще не могло ее хрупкое существо перенести тех немилосердных испытаний, какие выпали на ее долю, но все признаки явно указывали на приближение конца, ибо у нее выражение лица вдруг приобрело особую торжественность, все тело ее странно вытянулось и скорченными пальцами она жалостно хваталась за солому.
Никакой помощи Ренате я оказать не мог и продолжал стоять на коленях около ее ложа, всматриваясь в ее лицо, но вдруг, на краткий миг, она очнулась, увидела меня, улыбнулась мне нежной улыбкой и прошептала:
— Милый Рупрехт! Как хорошо — что ты со мной!
Никакие проклятия, которыми перед тем осыпала меня Рената, не могли так подействовать на меня, как эти кроткие слова, произнесенные над самой гранью смерти, — слезы полились у меня из глаз безудержно, и, приникнув губами к похолодевшей руке Ренаты, как приникают верные к чтимой святыне, я воскликнул:
— Рената! Рената! Я люблю тебя!
В ту минуту мне казалось самым важным запечатлеть в ее душе только эти слова, чтобы именно с их отзвуком пробудилась она к иной жизни, но Рената, вероятно, уже не слышала моего горестного восклицания, потому что, шепнув свой последний привет, она вдруг откинулась навзничь и страшно затрепетала, словно в последней борьбе со смертью. Три раза приподнималась она на ложе, дрожа и задыхаясь, не то отстраняя какое-то страшное видение, не то устремляясь навстречу кому-то желанному, и три раза она падала обратно, и в груди ее слышалось предсмертное хрипение, уже непохожее на звуки жизни. Откинувшись в третий раз, она осталась в полной неподвижности, и я, приложив ухо к ее груди, не услыхал больше биений сердца и понял, что из этого мира, где могли ожидать ее только преследования и страдания, ее душа перешла в мир духов, демонов и гениев, к которому всегда она порывалась.
Когда я убедился, что Ренаты более нет, я закрыл ей глаза и тихо поцеловал ее лоб, покрытый холодным потом, и, — хотя в ту минуту любил ее со всем напряжением чувства, любовью, ничем не меньшей, чем та, которую воспели поэты, — ото всей души сотворил молитву, чтобы исполнилась ее надежда и она повстречала бы своего Мадиэля и после смерти узнала бы мир и счастие. Потом, чтобы обдумать свое положение, я сел на полу тюрьмы рядом с телом Ренаты, ибо ее смерть не только не лишила меня способности рассуждать, но даже вернула мне хладнокровие, нарушенное зрелищем ее страданий, так что слезы на моих глазах высохли. После недолгого размышления неоспоримым представилось мне, что безрассудно было бы подвергать опасности свою жизнь и честь графа, так великодушно помогшего мне, ради бездушного тела, и что самое разумное, что мог я сделать, — это удалиться тайно. После такого решения я в последний раз прикоснулся поцелуями к губам мертвой Ренаты, потом сложил ей руки на груди, еще раз остановился взглядом на ее неподвижном лице, чтобы впитать в себя его черты навеки, и, взяв свой факел, направился прочь из рокового подземелья.
Сознаюсь, что, пока я шел темными залами и переходами, несколько раз мне приходила в голову мысль вернуться, чтобы умереть рядом с Ренатою, но доводами логики я сумел успокоить себя и, пройдя весь обратный путь, вышел к ночному небу из двери, около которой ждал Михель. Этот, увидя меня, воскликнул:
— Наконец-то, господин Рупрехт! Давно пора! Каждую минуту могли нас захватить, как мышей в мышеловке. А где же девушка?
Не успел я ответить, как стремительно приблизилась к нам та монахиня, которая сторожила вход, и задыхающимся голосом повторила вопрос:
— Где сестра Мария?
Я сказал в ответ обоим:
— Сестра Мария умерла.
Но едва я произнес эти слова, как благочестивая сестра кинулась на меня, словно взбесившаяся кошка, схватила меня за ворот одежды и закричала несдержанно, так что могла разбудить весь монастырь:
— Это ты убил ее, подлый!
Со всей силой я оторвал от себя эту женщину, зажал ей рот рукой и сказал:
— Клянусь тебе пречистым телом Христовым — сестра Мария умерла не от моей руки, но тебя я убью подлинно, если ты будешь кричать!
После этого я отшвырнул ее от себя, и монахиня, упав наземь, начала тихо плакать, а мы с Михелем поспешно пошли через пустынный двор к выходным воротам, которые нам другая придверница открыла молча и без промедления. Когда же мы оказались вне монастыря, Михель спросил меня:
— Стало быть, дело наше не удалось?
Я ответил:
— Да, дело не удалось, но в лагерь я не вернусь. Скажи графу, что я еду в замок и буду его ждать там.
Михель не возразил мне ни слова, но проводил меня до косогора, где нас ждали лошади, и помог мне сесть в седло, а я на прощание дал ему золотой пистоль, сказав:
— Ты знаешь, Михель, я не богат, но мне хочется наградить тебя, так как из-за меня ты подвергался смертельной опасности. Если бы нас застали в монастыре, идти бы нам обоим на костер.
Только после этого я мог наконец дать коню шпоры, погнать его в ночь и снова быть без людей, наедине с собой, что тогда было мне так же нужно, как дельфину дышать на поверхности воды. Точного пути в земли графа я не знал, но, направив лошадь приблизительно по направлению к замку, я бросил поводья и позволил ей бежать по лугам, оврагам и буеракам. Ни о чем определенном я не думал в тот час, но одно сознание со всей полнотой владело моей онемевшей душой: что на всей земле, со всеми ее странами, морями, реками, горами и селениями, — я снова одинок. Порой еще вспоминалось мне ярко лицо Ренаты, искаженное предсмертным борением, и при мысли, что уже наверное мне не видеть его никогда больше, я стонал горестно в молчании темных полей, и птицы, испуганные внезапным звуком, взлетали вдруг со своих гнезд и кружились около меня.
II
Когда стало светать, я разобрался в дорогах и, выехав на настоящий путь, к часу ранней обедни добрался до замка Веллен. Люди замка были удивлены моим неурочным появлением, притом отдельно от графа, и заподозрили меня в каком-то преступлении, хотя мое возвращение и противоречило такому нелепому предположению, — но в конце концов меня впустили и позволили мне занять мою комнату. Там, истомленный двадцатью четырьмя часами, проведенными без сна, в течение которых я пережил целую жизнь надежд, отчаянья, ужаса и скорби, я бросился в постель и проспал до поздних сумерек. Вечером сама графиня, преодолев свое ко мне пренебрежение, призвала меня в свою комнату и расспрашивала о нашей поездке с архиепископом и о поводах к моему возвращению, но я чувствовал себя еще так плохо, что не мог сочинить правдоподобной истории, и графиня, кажется, сочла меня за человека, потерявшего рассудок. На следующий день все в замке обращались со мной с какой-то опасливой осторожностью и, может быть, в конце концов сочли бы необходимым посадить на цепь, если бы на склоне дня не приехал граф.
Графу я обрадовался как родному и, когда мы остались наедине, откровенно рассказал ему все, что пережил в подземелье, — он же сообщил мне, что произошло в монастыре после моего отъезда. По его словам, когда Ренату нашли в тюрьме мертвой, никто не усомнился, что ее умертвил дьявол, и это послужило новой уликой против нее и ее подруг. Брат Фома, нисколько не считая дело поконченным, тотчас привлек к допросу многих других сестер, которых, на его взгляд, можно было заподозрить в сношениях с демонами, и все они, подвергнутые первой пытке, поспешили взвести на себя самые гибельные обвинения. По показаниям сестер, весь монастырь и сама благочестивая мать Марта грешны были в страшных преступлениях, в пакте с дьяволом, в полетах на шабаш, в служении черной мессы и всем подобном. Словно многокольчатый змей, стало развертываться обвинение, и легко можно было ожидать, что наши имена, графа, мое и Михеля, будут впутаны в это следствие.
— Я нарочно поспешил сюда, чтобы предупредить тебя, Рупрехт, — сказал в заключение граф. — Конечно, может грозить обвинение и мне, но вряд ли этот презренный Терсит, Фома, посмеет угрожать мне прямо. Во всяком случае, обо мне не беспокойся и знай, что я, помня заветы Цицерона в его рассуждении «De amicitia»[277], не раскаиваюсь нисколько, что пришел к тебе на помощь. Ты же можешь поплатиться жестоко за наши ночные похождения, тем более что твой побег служит против тебя важной уликой. Итак, я советую тебе немедля покинуть этот край и на время переменить имя.
Я, разумеется, не замедлил поблагодарить графа за его постоянные заботы обо мне и ответил, что его совет совпадает с моим решением, как в действительности и было. Тут же граф предложил мне некоторую сумму денег, как в вознаграждение за мои труды секретаря, так и просто в виде дружеского подарка, но я предпочел отказаться, так как без того во многом стоял в зависимости от графа и это меня тяготило. Тогда граф, заплакав, обнял меня и поцеловал, и хотя этот поцелуй был дан мне не как от равного равному, но как милость или как любезность, однако я вспоминаю его с радостью, ибо все свои поступки граф совершал без лукавства, с простодушием, как дитя.
Рано утром на следующий день я окончательно покинул замок фон Веллен и до Аденау ехал на лошади графа. Дальше я отправился пешком и на вопросы о том, кто я, стал отвечать, что я — бывший ландскнехт, пробираюсь на родину, а что зовут меня Бернард Кнерц. Путь свой я направлял на юг, потому что хотелось мне непременно посетить свой родной Лозгейм, от которого я был уже так близко, и после трехдневного путешествия я добрался до хорошо мне знакомых с детства зеленых склонов Гохвальда.
Ночь я провел в гостинице «Halber Mond», лежащей под самым Лозгеймом, и воспользовался этим, чтобы осторожно, не называя себя, расспросить хозяина о своих родителях и о всех когда-то близких мне лицах, окружавших мое детство и юность. Я узнал, возблагодарив за то создателя, что мой отец и моя мать живы, что мои сестры и братья живут счастливо и зажиточно и что меня все считают погибшим во время Итальянского похода. Услышал я также и печальную новость, что друга моей юности, милого Фридриха, уже нет в живых, но, впрочем, во всем другом, судя по рассказам хозяина гостиницы, жизнь в нашем Лозгейме изменилась так мало, что порою мне казалось, будто и не проходило десяти долгих лет и я всего несколько дней как расстался с аптекарем, местным патером, хлебником и кузнецом.
На заре, тропинкой, изученной мною еще мальчиком, пошел я к родному городу, которого не видал столько лет, о котором вспоминал, как о сказке, слышанной в детстве, но который представлял я с такой отчетливостью, словно накануне еще обошел его весь. Если сильно было мое волнение, когда вновь, после бродяжничества за океаном, увидел я издали, с барки, очертания города Кельна, то теперь облик родных стен, сызмала знакомых черепитчатых крыш был для моей измученной, не защищенной никаким щитом души — ударом слишком мощным, и я должен был, присев на одном из дорожных камней, переждать, пока успокоится мое сердце, ибо одно время не в силах был ступить шагу.
Я не хотел входить в город, потому что не хотел явиться перед родителями, как блудный сын в Евангелии, нищим и несчастным: для меня это было бы мучительным стыдом, а им лишь принесло бы лишнюю скорбь, так что лучшим было оставить их в уверенности, что меня нет в живых, с чем они давно примирились. Но мне настоятельно хотелось видеть наш дом, в котором я родился, прожил детство и годы юности, — и мне казалось, что вид этого старого домика будет для моей души как некое укрепляющее питье, которое даст мне силы начать новую жизнь. Поэтому, уклонившись с большой дороги, взобрался я на крутой косогор, подымающийся сзади селения, — место, куда по вечерам ходят влюбленные пары, но которое было совершенно пустынно в тот ранний час и откуда я мог видеть и весь Лозгейм, и особенно наш домик, стоящий у самой горы.
Прилегши на землю, я, с жадностью пьяницы, глядящего на вино, всматривался в безлюдные улицы, в дома, хозяев которых мог перечислить по именам, в домик аптекаря, где прежде жил мой Фридрих, в густые сады, в строгие линии большой церкви, — и потом вновь переводил глаза на родной дом, на эту кладку камней, дорогую мне, как живое существо. Я разбирал подробно все изменения, какие причинили годы нашему жилищу: видел, что широко разрослись деревья в нашем саду; отметил, что покривилась крыша и чуть-чуть покосились стены; усмотрел, что в окнах переменились занавески; я восстанавливал в памяти расположение мебели в комнатах и старался угадать, что там стоит нового и что из старого исчезло; и я не замечал, что проходило время, что по селению задвигались люди и что солнце, поднявшись над горизонтом, уже начало палить меня сильно.
Вдруг растворилась дверь нашего дома — на пороге появилась сначала сгорбленная старушка, а за ней дряхлый, но еще бодрящийся старик: то были отец и мать, которых я не мог не узнать, несмотря на расстояние, и по чертам лица, и по походке. Сойдя с крыльца, говоря о чем-то друг с другом, они сели на скамеечке у дома, грея свои старые спины в тепле восходящего солнца. Я — бродяга, прячущийся за окраинами города, я — неудачный ландскнехт, неудачный моряк и искатель золота, избороздивший леса Новой Испании, я — грешник, продавший душу дьяволу, коснувшийся несказанного счастия и впавший в бездну последнего отчаянья, я — сын этих двух стариков — смотрел на них украдкою, воровски, не смея стать перед ними на колени, поцеловать их сморщенные руки, просить их благословения. Никогда в жизни не испытывал я такого наплыва сыновней любви, как в ту минуту, сознавая, что отец и мать — это два единственных в мире человека, которым есть до меня дело, которым я не чужой, — и все время, пока две маленькие, сгорбленные фигурки сидели у крыльца, о чем-то беседуя, может быть, обо мне, я не отрывал от них глаз, насыщая свой взгляд давно не виданной мною картиной домашнего счастья. А когда старики поднялись и, тихо двигаясь, вернулись в дом, когда затворилась за ними наша старая, покосившаяся дверь, — я поцеловал, вместо них, родную землю, встал и, не оборачиваясь, пошел прочь.
В тот же день я был уже в Мерциге.
Целью моей было вернуться в Новую Испанию, но у меня не было достаточно денег, чтобы совершить на свой счет это далекое путешествие. Поэтому в имперском городе Страсбурге поступил я, все под именем Бернарда Кнерца, в один торговый дом, который рассылал своих служащих по разным странам и охотно принял меня на службу за мое знание нескольких языков и умение владеть шпагой. Как купеческий приказчик прожил я около трех месяцев, и рассказ о двух встречах, случившихся со мною за это время, необходимо еще присоединить к этой правдивой повести.
Мы посланы были в Савойю покупать шелка, и путь нам лежал через Западные Альпы на город Женеву. Как известно, на альпийских дорогах встречается множество затруднительных переправ через горные потоки, которые нам причиняли особенно много хлопот по причине сильных дождей, что прошли незадолго до нашего приезда, обратив ручьи в свирепые реки и снеся во многих местах мосты. Перед одним из таких потоков довелось нам особенно долго промешкать, так как его невозможно было взять вброд и нам с нашими проводниками пришлось наводить легкий мост.
Одновременно с нами о том же хлопотали проводники двух других путешественников, ехавших в противоположном направлении и стоявших перед нами на другом берегу потока. Тогда как мы были одеты весьма просто, что и подобало купцам, едущим по торговым делам, плащи и шляпы тех двух путешественников обличали их знатное происхождение, и, сообразно с этим, они не вмешивались в работу, гордо ожидая в стороне ее окончания.
Однако, когда переход был устроен, знатные сеньоры, по крайней мере, один из них, непременно хотели переехать первыми, и по этому поводу произошел гневный спор между ними и моими товарищами, хотя я и уговаривал их не придавать значения такому мелочному обстоятельству. Спор мог перейти в вооруженную стычку, но, по счастию, второй из рыцарей убедил своего спутника уступить нам, и наш маленький караван первый, с победными кликами, перешел сам и перевел лошадей по положенным бревнам. Оказавшись на другой стороне, я счел уместным поблагодарить рыцаря, который своей учтивостью и благоразумием избавил нас от неуместной битвы, но, когда я приблизился к нему, с изумлением и волнением узнал я в нем графа Генриха, а в его сотоварище — Люциана Штейна.
Первую минуту показалось мне, что вижу я перед собой выходца из могилы, — так далека от меня была моя прошлая жизнь, и я не мог ни говорить, ни двигаться, как зачарованный.
Граф Генрих тоже всматривался несколько мгновений в мое лицо молча и наконец сказал:
— Я узнал вас, господин Рупрехт. Верьте, я был от души рад, что удар моей шпаги тогда не был для вас смертельным. У меня не было причин убивать вас, и мне было бы тяжело носить на душе вашу смерть.
Я ответил:
— А я должен сказать вам, граф, что во мне нет ни малейшего злого чувства против вас. Это я вызвал вас и принудил к поединку; нанося мне удар, вы только защищались, и бог не поставит вам его в счет.
После этого один миг мы молчали, а потом, с внезапным порывом, даже весь качнувшись в седле, граф Генрих вдруг сказал мне, как говорят лишь человеку близкому:
— Скажите ей, что я жестоко искупил все, в чем виноват перед ней. Все страдания, какие я ей причинил, бог заставил испытать и меня. И я верно знаю, что страдаю за нее.
Я понял, кого граф Генрих не хотел назвать по имени, и ответил строго и тихо:
— Ренаты более нет в живых.
Граф Генрих снова вздрогнул и, уронив поводья, закрыл лицо руками. Потом он поднял на меня свои большие глаза и спросил возбужденно:
— Она умерла? Скажите мне, как она умерла?
Но, вдруг прервав самого себя, он возразил:
— Нет, не говорите мне ничего. Прощайте, господин Рупрехт.
Повернув лошадь, он направил ее на временный мост и скоро уже был на другой стороне ревучего потока, где его ждали проводники и Люциан, а я поскакал догонять своих сотоварищей, ушедших далеко вперед по горной, вьющейся дороге.
В Савойе пробыли мы три недели и, закупив товару, сколько нам было нужно, решили возвратиться через Дофинэ, где можно было сходно приобрести бархат, которым его города славятся, и с этой целью из Турина мы поехали в Сузу, а из Сузы в Гренобль, направляясь к Лиону. В Гренобле, небольшом, но милом городке на Изере, где мы провели больше суток, ждало меня последнее приключение, имеющее связь с рассказанной мною историей. Ибо, когда утром, без особого дела, бродил я по городу, осматривая его церкви и просто виды его улиц, внезапно кто-то окликнул меня на нашем языке по имени, и я, обернувшись, долго не мог признать заговорившего со мной, потому что его менее всякого другого ожидал я повстречать в этой стране, и только когда он себя назвал, увидел я, что это точно ученик Агриппы Неттесгеймского, Аврелий.
Когда я спросил Аврелия, по какой причине он находится здесь, в ответ он высыпал передо мной целый короб жалоб.
— Ах, господин Рупрехт, — говорил он, — для нас настали очень плохие дни! Учитель, покинув город Бонн, думал было поселиться в Лионе, где он и прежде жил и где у него есть родственники и покровители. Но внезапно там его схватили и бросили в тюрьму, пятидесятилетнего старика, без объяснения причин, безо всякой вины с его стороны, кажется, потому только, что в его сочинениях есть нападки на Капетов! Правда, по ходатайству влиятельных друзей, его скоро выпустили, но многого из имущества ему не возвратили, да и сам он, как человек старый и хворый, занемог. Из Лиона переехали мы налегке сюда, но учитель совсем слег в постель, вот не встает который день, и ему очень худо. Еще благодарение господу, что принял в нас участие один из здешних видных людей, господин Франсуа де Вашон, президент парламента, — он дал нам приют и пропитание, а то у нас решительно хлеба не на что было бы купить!
Я спросил, можно ли мне посетить Агриппу, и Аврелий ответил:
— Разумеется, можно, да и пора мне вернуться, так как боюсь я надолго покидать учителя.
Аврелий повел меня по направлению к Изеру, по пути продолжая жаловаться на несправедливость и неблагодарность людей и, между прочим, горько упрекая моего приятеля Иоганна Вейра, который перед отъездом Агриппы в Дофинэ покинул учителя и в настоящее время жил благополучно в Париже. На углу набережной и другой улицы стоял невысокий, старинный дом, украшенный, впрочем, каким-то гербом, высеченным из камня, — и это было жилище, которое занимал теперь, из милости, Агриппа Неттесгеймский. Едва мы вошли в сени, как навстречу нам вышел Августин, весь в слезах, что мало соответствовало его широкому, круглому лицу, и, забыв даже поздороваться со мной, известил, что учителю совсем плохо.
На цыпочках прошли мы в комнату, где на широкой супружеской кровати, под балдахином, в неудобном положении, лежал неподвижно, протянув руки вдоль тела, великий чародей, уже похожий на мертвеца, ибо черты лица его обострились, а борода была давно не брита и казалась отросшей после смерти. Вокруг кровати в скорбном молчании стояли ученики, слуги и сыновья Агриппы, а также и два-три лица, мне незнакомых, так что всего, я думаю, было тут, считая со мной, человек десять или одиннадцать. Около самой постели сидела на задних лапах, положив уныло морду на одеяло, большая черная собака, с мохнатою шерстью, та, которую Агриппа называл Monsegnieur. Вся обстановка комнаты производила впечатление временного привала, потому что среди мебели, оставленной, по-видимому, владельцем дома, везде виделись вещи Агриппы, и, между прочим, повсюду были разбросаны книги.
Собравшиеся шепотом обменивались между собой различными замечаниями, но я не мог понять, что говорили люди, мне незнакомые, так как они беседовали на французском языке. Я слышал только, как Эммануэль сказал Аврелию, что во время его отсутствия был приглашен священник, что Агриппа был тогда в сознании, исповедался и причастился Святых Тайн, и вел себя при этом таинстве, по словам духовника, «как святой», — что меня поразило очень. С своей стороны, я спросил у Эммануэля, навещал ли Агриппу медик, и он ответил мне, что неоднократно и что все меры, предписываемые врачебным искусством, были своевременно приняты, но что никакой надежды на спасение больного сохранять невозможно и что смерть уже поставила свою косу у изголовья этой постели.
Я думаю, более получаса провели мы в томительном ожидании, причем Агриппа не изменял своего положения и не двинулся ни одним членом, и только хриплое его дыхание свидетельствовало, что он еще жив, и я уже собирался, хотя бы временно, вернуться к своим сотоварищам и сообщить им, где я нахожусь, — как вдруг совершилась сцена ужасная и для меня непонятная. Умирающий внезапно открыл глаза и, обведя нас всех взглядом тусклым, как бы ничего не видящим, от которого все мы оцепенели, остановил его на собаке, сидевшей около кровати. Потом костлявая, совершенно пожелтевшая и у краев пальцев даже почерневшая рука отделилась от одеяла, некоторое время колыхалась бессильно в воздухе, как если бы она уже не повиновалась воле человека, и медленно опустилась на шею собаки. Замерев в непонятном ужасе, видели мы, как Агриппа силился расстегнуть ошейник, исписанный кабалистическими письменами, как наконец достиг этого, и звяканье ошейника, упавшего на пол, потрясло нас содроганием, как самая страшная угроза. В ту же минуту склеенные губы Агриппы, во всем подобные губам трупа, разделились, и сквозь тяжкий хрип умирающего мы отчетливо услыхали произнесенными следующие слова:
— Поди прочь, проклятый! От тебя все мои несчастия!
Проговорив это, Агриппа снова остался неподвижен, сомкнув уста и закрыв глаза, а рука его, которой он расстегнул ошейник, свисла с постели, как восковая, но мы еще не успели сообразить смысла услышанных слов, как другое удивительное явление привлекло наше внимание. Черная собака, с которой хозяин снял магический ошейник, вскочила, низко наклонила голову, опустила хвост между ног и побежала прочь из комнаты. Несколько мгновений мы не знали, что делать, но потом некоторые, и я в том числе, повинуясь неодолимому любопытству, бросились к окну, выходившему на набережную. Мы увидели, что Monsegnieur, выбежав из двери дома, продолжал бежать, сохраняя свою униженную повадку, по улице, добежал до самого берега реки, со всего разбега кинулся в воду и более не появлялся на поверхности.
И я, и все другие свидетели этого единственного самоубийства не могли, конечно, не вспомнить таинственных россказней, которые ходили об этой собаке, а именно, что это не кто иной, как домашний демон, услугами которого Агриппа пользовался, уступив в обмен дьяволу спасение своей души. Меня особенно поразили предсмертные слова Агриппы и все его поведение ввиду того сурового осуждения магии, которое он когда-то произнес передо мною, осмеивая лжемагов, занимающихся гойетейей, и называя их фокусниками и шарлатанами. На краткий миг, словно при беглой вспышке молнии, увидел я Агриппу, хотя на смертном одре, тем таинственным чародеем, живущим иной жизнью, нежели другие люди, каким изображает его народная молва. Но в ту минуту мне не было времени задумываться над такими вопросами, потому что горестные восклицания лиц, оставшихся близ постели умирающего, известили нас, что его страдания кончились[278].
Тотчас вокруг началось обычное волнение, какое создает в нашей жизни смерть, всегда падающая словно тяжелый камень в стоячую воду, — и одни из учеников, плача, целовали руки почившему учителю, другие заботились закрыть ему глаза, третьи спешили позвать каких-то женщин, чтобы омыть и убрать тело покойного. Скоро комната стала наполняться множеством людей, пришедших взглянуть на умершего мага, и я воспользовался общей суетней и незаметно удалился из дома, в котором был теперь лишним.
Своим спутникам, знавшим меня за доброго товарища Бернарда, я, конечно, ничего не сказал о виденном мною, и в тот же день вечером мы выехали из города Гренобля.
Вернувшись в Страсбург, я получил на свою долю сумму денег, достаточную, чтобы на свой страх предпринять путешествие в Испанию, и совершил его в глухую зиму, без особых происшествий, через всю Францию. На испанской земле почувствовал я себя словно на второй своей родине и в Бильбао без особого труда нашел лиц, которым мое имя было не совсем незнакомо и которые согласились присоединить меня, как человека опытного и дельного, к замышленной ими экспедиции в Новый Свет, — а именно на север от страны Флориды, вверх по течению реки Святого Духа[279], где счастливым искателям удавалось открыть целые россыпи золота. Таким образом, мои скромные планы осуществились, и весной, с первыми отплывающими каравелами, наше судно отправится за океан.
Месяцы вынужденного бездействия, пока наш корабль грузится, пока собирается для него экипаж и зимние ветры делают опасным плавание в открытом море, я посвятил составлению этих правдивых записок, — мучительный труд, в который вкладываю я ныне последнюю скрепу. Не мне судить, с каким искусством удалось мне пересказать тебе, благосклонный читатель, все те жестокие мучительства и те тягостные испытания, в какие вовлекла меня неудержная страсть к женщине, и не мне оценивать, могут ли эти записки быть полезным предостережением для слабых душ, которые, подобно мне, захотят почерпать силы в черных и сомнительных колодцах магии и демономантии. Во всяком случае, я писал свою повесть со всей откровенностью, выставляя людей такими, каковыми они мне представлялись, и не щадя себя самого, когда надо было изобразить свои слабости и недостатки, а также не утаивал я ничего из тех знаний, какие получил о тайных науках из прочитанных мною книг, из своего несчастного опыта и из речей ученых, с которыми сближали меня случайности моей судьбы.
Не желая лгать в последних строках своего рассказа, скажу, что если бы жизнь моя вернулась на полтора года назад и вновь на Дюссельдорфской дороге ждала меня встреча со странной женщиной, — может быть, вновь совершил бы я все те же безумства и вновь перед троном дьявола отрекся бы от вечного спасения, потому что и поныне, когда Ренаты уже нет, в душе моей, как обжигающий уголь, живет непобедимая любовь к ней, и воспоминание о неделях нашего счастия в Кельне наполняет меня тоской и томлением, ненасыщенной и ненасытимой жаждой ее ласк и ее близости. Но со строгой уверенностью могу я здесь дать клятву перед своей совестью, что в будущем не отдам я никогда так богохульственно бессмертной души своей, вложенной в меня создателем, — во власть одного из его созданий, какой бы соблазнительной формой оно ни было облечено, и что никогда, как бы ни были тягостны обстоятельства моей жизни, не обращусь я к содействию осужденных церковью гаданий и запретных знаний и не попытаюсь переступить священную грань, отделяющую наш мир от темной области, где витают духи и демоны. Господь бог наш, видящий все и глубины сердечные, знает всю чистоту моей клятвы. Аминь.
Приложения
Программа
Глава 1. Моя автобиография до 1535 г.
2. Приключение в трактире. М-ъ, Вейер, Велли.
3. Бегство. Лютеране и сионисты. Первая ночь вдвоем.
4. Дальнейшее бегство. Кельн. Объяснение.
5. Бонн. Розыски Агриппы. Католицизм.
6. Свидание с Агриппой.
7. Решение умереть.
8. «Я дрожа сжимаю труп».
9. Дни перед смертью. Меня посещает Агриппа. Гуманисты.
10. Новая угроза. М-ъ. Бегство из Бонна.
11. Встреча с Л.
12. Вызов на дуэль.
13. Перед дуэлью. Свидание с Л.
14. Дуэль.
15. «Из ада изведенные».
16. Счастье. Опять М-ъ.
17. Второе лицо. Шабаш.
18. Ведьма! Непокойный дух.
19. Исчезновение. Поиски. Маги и колдуны.
20. У доктора Фауста. Мефистофель.
21. В монастыре. Нечистая сила.
22. Заклинание дьявола. Арест.
23. Допрос. Пытка. Приговор суда.
24. Тюрьма. Смерть.
25. У моего отца. Последняя встреча с Л.
26. Смерть Агриппы.
1904–1905
Набросок плана, в котором действие расписано по дням
1534
16 авг. Ночь. Встреча с Рен.
17 авг. Путь через Геердт (и ночлег в Дюссельд).
18 авг. Отъезд из Д. Ночлег в бар.
19 авг. Вечером приезд в Кельн. Ночлег 1-й в К.
20 авг. Искания в Кельне. Стуки. Ночь в К. Утро в К.
21 авг. Ожидания приезда Генр… Ночь 3 в К. Утро 2.
22 авг. Больна.
23, 24, 25, 26, 27 — Болезнь.
28, 29, 30, 31, 1 сент. — Прогулки.
2 сент. День прог. Вечер ласк слова.
3 сент. Утро. То же, переменна.
4, 5, 6, 7, 8. Посещ. церкви.
Воскресенье.
7 понед.
8 вторн.
Сент. 9 среда — шабаш.
По одному из планов видно, что одно время Брюсов думал показать в романе расправу инквизиции с «ведьмами» — сожжение на костре:
17. Допрос. Пытка. Приговор.
18. В тюрьме. Двое. Сожжение на костре.
Предисловие русского издателя
Предлагаемая читателям повесть XVI века дошла до нас в единственной рукописи, находящейся ныне в частных руках. Ее владелец, — благодаря любезности которого мы имеем возможность обнародовать русский перевод ранее появления в печати подлинника, — намерен предпослать немецкому изданию обстоятельное критическое вступление. Отсылая любопытных к его работе, где дано будет всестороннее описание рукописи и подробно рассмотрены вопросы о ее подлинности, времени написания, историческом значении и т. под. — мы ограничимся здесь по этому поводу лишь несколькими словами.
Рукопись представляет собою тетрадь in 4°, в 208 страниц синеватой бумаги, из которых 4 последних — без текста, переплетенную в пергамент, с застежками. Писана она готическим шрифтом, на том «общенемецком» языке, не чуждом, однако, диалектических особенностей, на котором печатались книги в Германии в самом конце XV и начале XVI века; только посвящение составлено по-латыни. Рукопись ни в каком случае не автограф руки автора, который сам говорит, что писал свою исповедь в конце 1535 года, но — список, сделанный значительно позднее, по-видимому, уже в самом конце XVI века, неизвестным нам лицом, как можно догадываться, — католиком. <Есть явные следы, что язык повести несколько подновлен переписчиком. Им же, вероятно, дано повести и ее витиеватое заглавие, несколько противоречащее тону всего рассказа, в общем простого и безыскусственного. На корешке переплета поставлено чернилами заглавие сокращенное: «Правдивая повесть» (Eine wahrhaffte Geschichte), может быть, принадлежащее автору.[280] Сохранность рукописи почти не оставляет желать ничего лучшего, так как все строки могут быть прочитаны, а немногие попорченные места легко восстанавливаются по контексту.
Добросовестность автора, его строгое намерение беспристрастно и верно описать то, что он пережил, — могут быть поставлены вне сомнения. В XVI и XVII столетиях колдовство и ведовство были не столько народными суевериями, сколько определенными доктринами, развиваемыми в книгах самых выдающихся естествоиспытателей и юристов. Неопределенные колдования и гадания Средних веков выросли в эпоху Возрождения и Реформации в стройно разработанную дисциплину наук, которых ученые насчитывали свыше двадцати (см., напр., сочинение Агриппы: «De speciebus magiae»). Лучшие умы тех веков не только верили в сношения с дьяволом, но и посвящали этому вопросу отдельные работы. Так, Жан Бодэн, знаменитый автор «De republica», которого Бокль признавал одним из замечательнейших историков, написал обширное сочинение, доказывающее существование ведьм; Амбруаз Парэ, преобразователь хирургии, описал природу демонов и виды одержания; Кеплер защищал свою мать от обвинения в ведовстве, не возражая против самого обвинения, и т. д. Папы издавали специальные буллы против ведьм, и во главе известного «Malleus maleficarum» стоит текст: «Haeresis est maxima opera maleficarum non credere», то есть: «Не верить в деяния ведьм — высшая ересь». Число этих не верящих было очень невелико, и среди них на видное место должно поставить упоминаемого в нашей «Повести» Иоганна Вейера (или, по другой транскрипции его имени, Жана Вира), который первый признал в ведовстве особую болезнь. <Таким образом нисколько не удивительно, что автор «Правдивой повести» рассказывает о разных сверхъестественных явлениях с тем же спокойствием летописца, как и о всех иных происшествиях своей жизни.>
При передаче «Повести» на русский язык мы имели в виду, что ее автор уделял значительное внимание художественности рассказа. Поэтому мы не считали нужным воспроизводить мелкие особенности в стиле подлинника, и наш перевод должен быть назван свободным. В конце «Повести» будут приложены необходимейшие объяснения переводчика.
Оклеветанный ученый (Агриппа Неттесгеймский)
Потомство оклеветало Агриппу. Из всех его сочинений оно запомнило лишь одно, трактат «О сокровенной философии», которому он сам не придавал большого значения. Народная молва сделала из Агриппы чернокнижника, мага и связала с его именем множество фантастических легенд, одна другой нелепей. Ученые, изучая знаменательную эпоху немецкого Возрождения, как-то сторонятся Агриппы, так как он не принадлежал непосредственно ни к одному из кружков гуманистов. Его образ до сих пор не получил надлежащей оценки, и до сих пор он не занял в истории Просвещения того места, на какое имеет право.
Надо сознаться, что сам Агриппа не совсем неповинен в таком к себе отношении. Конец XV и начало XVI века разделили людей, особенно население Германии, резко на два круга: проповедников нового, сторонников Эразма и Рейхлина, «гуманистов», и защитников старого, «темных людей», «обскурантов». Агриппа не сумел или не захотел определенно выбрать свое место в одном из двух лагерей. Многими чертами своего характера и своей деятельности он примыкал к гуманистам. Свои профессорские чтения он начал с толкования одного сочинения Рейхлина. С Эразмом он был в переписке и отзывался о нем с величайшим почтением. Всю жизнь он боролся с монахами, естественными защитниками всякого обскурантизма, и не раз подвергался преследованиям с их стороны. При всем том Агриппа был хорошо и разносторонне образован, прекрасно знал древних, легко и правильно писал по-латыни. Но много было в Агриппе и «от старого». Он никогда не мог освободиться от чисто схоластической манеры излагать свои мысли. Он как-то чуждался тех тем, которые привлекали особое внимание гуманистов. Предметом его первого большого сочинения была магия. Само по себе это еще не могло восстановить против Агриппы сторонников нового; в силу магии верили многие образованнейшие умы того времени: Пико делла Мирандола написал сочинение, доказывающее существование ведьм, Гемистос Плето изъяснял природу демонов и т. д. Но трактат Агриппы был весь основан на старых сочинениях такого рода, не был свободным исследованием магических явлений, но был переполнен изложением традиционных мнений. Второе большое сочинение Агриппы трактовало о недостоверности познания, тогда как гуманисты выше всего ставили именно просвещение и науку. В жизни Агриппа, замкнутый и суровый, держался особняком и не хотел признавать над собой никаких авторитетов. Он писал к Эразму как равный равному и требовал к себе отношения как к учителю (magister), а гуманисты не считали его притязания обоснованными. Все это отделяло, обособляло его от «новых людей».
В жизни Агриппа был типический представитель людей Возрождения. Как все выдающиеся люди той эпохи, он обладал познаниями энциклопедическими, брался за все, от военного дела до магии, от должности инженера до места историографа, был то юристом, то медиком, то теологом и, не имея на то никаких официальных прав, писал на заглавии своих книг, после своего имени «доктор обоих прав и медицины». Непоседливый, тоже как все люди Возрождения, он не мог ужиться подолгу ни в одном городе, исколесил всю Европу в поисках счастья, поочередно избирал местами своей деятельности то Италию, то Францию, то Англию, то Швейцарию, то разные города Германии. Родившись в сентябре 1486 года, в Кельне, он рано вступил на военную службу, в австрийскую армию, совершил походы в Испанию, Италию и Голландию. Потом слушал лекции в Париже, вновь участвовал в испанском походе, а в 1509 году уже сам выступил как профессор в университете в Доле. В эпоху, когда Меланхтон читал лекции 17 лет от роду, это вовсе не было рано. Вскоре Агриппе, по обвинению в ереси, пришлось укрываться в Англии; затем он был профессором теологии в Кельне, придворным в свите императора Максимилиана в Италии, участником церковного собора в Пизе, вновь профессором в Павии и в Турине. Несколько спокойных лет провел он в Меце, на службе у города, как синдик, адвокат и оратор. От преследований монахов ему пришлось укрыться в Женеве; после того он с успехом практиковал как врач в Фрейбурге, перешел на службу к французскому двору и был лейб-медиком королевы-матери в Лионе, в то же время занимаясь изобретением каких-то военных машин; оставив государственную службу, вновь практиковал как частный врач в Антверпене, но был принужден отказаться от медицинской практики за неимением диплома. Получив звание придворного историографа императора Карла V, он поселился в Милане, но должен был вскоре бежать из этого города. Потеряв почти всех своих покровителей, он вел после того довольно несчастное существование, дважды был брошен в тюрьму кредиторами, в Брюсселе и в Лионе, и умер, почти одиноким, в Гренобле, в 1535 году. За все время этой тревожной, походной жизни он не переставал учиться и писать, издавал и маленькие памфлеты и большие ученые трактаты, вел огромную переписку со всеми видными людьми своего времени и был постоянно окружен группой учеников, которым расточал свои многообразные познания. Остается добавить, что не бедна была и личная жизнь Агриппы: он был трижды женат, имел несколько человек детей, испытал и в семейной жизни немало тяжелых огорчений.
Сочинения Агриппы столь же разнообразны, как и его жизнь. В собрании его сочинений, вышедшем после его смерти в Лионе, в двух больших томах очень убористой печати, мы находим трактаты по магии, демонологии, каббале, рассуждения теологические (о таинстве брака, о первородном грехе и т. п.), историческое исследование о коронации Карла V, книгу о пиромахии (огнестрельном оружии), маленький парадоксальный «опыт» о превосходстве женского пола над мужским, комментарии к сочинениям Раймонда Люлия, комментарии к сочинениям Плиния Младшего, немало других «маленьких трактатов» (так их озаглавил сам Агриппа) и, наконец, сочинение «О недостоверности и тщете наук и искусств», в котором разбираются и критикуются положительно все отрасли знания того времени. В сущности говоря, большинство из них не что иное, как остроумно развитые парадоксы. Бесспорный парадокс — сочинение о превосходстве женского пола (между прочим, имевшее наибольший успех среди всех сочинений Агриппы и много раз переведенное на разные языки в течение XVI–XVII веков), парадоксы и многие «маленькие трактаты»; но также парадоксальны и два основных сочинения Агриппы: «О сокровенной философии» и «О недостоверности наук». Дело в том, что в обоих этих сочинениях Агриппа защищал тезисы, которые сам не разделял. Он, как это видно по его позднейшим письмам, не верил в силы «оперативной магии», считал веру в возможность вызывать демонов и овладевать их силами — предрассудком, а магические церемонии — шарлатанством[281]. Это не помешало ему написать подробное изложение всех знаний, связанных с магией, и постараться привести их в стройную систему, строго по методам науки своего времени. Изложению предпослан род философского вступления, излагающего предпосылки оккультного знания (те самые, на которые, с малыми изменениями, опираются и современные оккультисты): учение о всемирном соответствии, связывающем между собой все явления Вселенной и позволяющем через самое малое влиять на самое великое. С другой стороны, Агриппа был убежден, как сам говорит в письме к Эразму, в пользе и высоком значении науки. Однако он постарался добросовестно выискать все доводы, какие только мог найти, против знания вообще и против каждой науки в частности. Его занимала в этом деле борьба с очевидностью, как бы некоторый tour de force ума и остроумия. И надо сознаться, что иные доводы Агриппы (к сожалению, далеко не все) берут вопрос глубоко и подготовляют почву для будущего критицизма.
Бесспорно, личность Агриппы, его сочинения, его взгляды заслуживают внимания историков культуры и историков философии. Но долгое время личность Агриппы оставалась не освещенной наукой: историки, как бы унаследовав вражду гуманистов к «чернокнижнику», проходили мимо его характерной и далеко не заурядной личности. Бейль был первым, кто в своем знаменитом «Историческом и критическом словаре» (1696 г.) попытался выставить образ Агриппы в истинном свете. В XIX веке были изданы два больших труда, специально посвященных Агриппе, один английский, другой французский: Г. Морлея (1856 г.) и О. Про (1882 г.), в которых сделаны попытки выяснить действительное значение Агриппы для своего времени. Но с появления последней из этих работ прошло уже 30 лет, и громадное количество вновь опубликованных с тех пор исторических материалов настоятельно побуждает пересмотреть многие выводы обоих авторов.
Биографический очерк, предлагаемый теперь в переводе вниманию читателей и принадлежащий перу молодого ученого Жозефа Орсье, не имеет притязания исполнить эту работу. Он почти исключительно основан на сохранившейся переписке Агриппы, которую автор считает «истинной автобиографией» великого авантюриста, — хотя Ж. Орсье и привлек к исследованию некоторые архивные материалы. Но все же Орсье дает яркую и, при всей сжатости очерка, полную картину жизни Агриппы, попутно разъясняя многие темные пункты его биографии. Для русского читателя издаваемая книжка окажется единственным источником для знакомства с одним из значительнейших людей знаменательной эпохи: начала Реформации в Германии.
Мы сочли нужным дополнить биографический очерк Орсье несколькими примечаниями (которые все помечены буквами В. Б. в отличие от примечаний Автора), присоединить к нему очерк о легендах, сложившихся вокруг имени Агриппы (которые Орсье обходит молчанием), и дать краткую библиографию сочинений самого Агриппы и об нем. Добавим еще, что все цитаты из сочинений и писем Агриппы, приводимые Орсье, нами проверены по подлиннику, и довольно свободный перевод, сделанный Орсье, заменен более точным.
Легенда о Агриппе
Современники знали Агриппу преимущественно как чародея. С ранней юности за ним утвердилось имя «мага», и надо сказать, что он и сам не старался разрушить такого представления. Хотя в своих серьезных сочинениях он решительно восставал против «оперативной магии», но эти его книги были мало кому доступны. Большинство продолжало считать его чародеем, и даже короли обращались к нему с просьбами о предсказаниях. Изданием «Сокровенной Философии», в истинный смысл которой не легко было проникнуть, окончательно было утверждено такое мнение.
Это обстоятельство, в связи с особенностями жизни Агриппы, замкнутой, непоседливой, исполненной самыми разнообразными приключениями, повело к тому, что личность Агриппы оказалась окруженной целым роем самых фантастических легенд. Об нем рассказывали удивительные вещи, к нему относили басни, сложенные про всех других чернокнижников, и не было такой нелепой истории, которой не дали бы веры, если она была применена к Агриппе. Агриппа, в народном представлении, долгое время оставался олицетворением чародея, и только слава Фауста (бывшего, кстати сказать, младшим современником Агриппы) несколько поколебала авторитет Агриппы как мага.
Старые биографы Агриппы заполняли свои сочинения преимущественно этими фантастическими легендами, приурочивая их, с большей или меньшей возможностью, к различным эпохам жизни философа.
Вот некоторые из этих рассказов:
Генрих Говард, граф Шерри, даровитый поэт, придворный Генриха VIII, короля Английского, оплакивал смерть своей горячо любимой жены, прекрасной Жиральдины, дочери лорда Кильдара. Говард обратился к Агриппе с просьбой вызвать ему дух умершей. Чародей не отказался и показал Говарду лик его жены в магическом зеркале[282].
Во время испанского похода Антонио де Лейва Агриппа, участвуя в его войске, чародейством способствовал будто бы успеху всех предприятий имперской армии. Антонио де Лейва после того представил Агриппу Карлу V, и чародей осмелился предложить императору снабдить его большими средствами с помощью магических операций. Конечно, Карл V с негодованием отверг это предложение, и Агриппа должен был спастись бегством от справедливого гнева императора.
Часто, во время своих переездов, Агриппа расплачивался в гостиницах деньгами, которые имели все признаки подлинных. Конечно, по отъезде философа монеты превращались в навоз. — Одной женщине Агриппа подарил корзину золотых монет; на другой день с этими монетами произошло то же самое: корзина оказалась наполненной лошадиным навозом[283].
Во время пребывания Агриппы в Лувене, один из учеников философа проник, с помощью его жены, в его кабинет. Там, пользуясь книгой магических заклинаний, он вызвал демона. Но ученик не имел никакой власти над демоном, и тот в ярости бросился на юношу и задушил его. В эту самую минуту Агриппа вернулся. Поняв, что ему грозит обвинение в убийстве юноши, Агриппа немедленно приказал демону войти в тело убитого и, выйдя из дому, отправиться на людную площадь. Там демон покинул тело ученика, и оно пало на землю бездыханным. Многочисленные же свидетели этого явления могли подтвердить с полным убеждением, что бедный юноша умер скоропостижно и что Агриппа в его смерти не повинен[284].
Рассказывали, что однажды Агриппа читал лекцию во Фрейбурге в 10 час. утра, и в тот же самый час он же начал чтение другой лекции в Понт-а-Муссоне (Pont-а-Mousson, в латинизированной форме Pontimussi), на расстоянии многих миль[285].
Агриппе приписывали способность вычитывать на диске луны о событиях, совершавшихся на всех концах света, или получать об них сведения через своих домашних демонов. Жан Вир, ученик Агриппы, объясняет эту осведомленность гораздо проще: обширной перепиской, которую вел Агриппа с учеными всех стран. Смерть Агриппы также окружена легендой. Павел Иовий рассказывал, что у Агриппы была собака с кличкой Monsieur, которая была не что иное, как демон, обращенный чародеем в образ собаки. Чувствуя приближение смерти, Агриппа подозвал собаку к своей постели, снял с нее ошейник, на котором были каббалистические знаки, и сказал: «Поди прочь, проклятое животное, из-за тебя я погиб!» Собака тотчас выбежала из дома, бросилась в реку и утонула. Вир объясняет, что Monsieur был самым обыкновенным псом, так же как и другая любимая собака Агриппы с кличкой Madame.
О смерти Агриппы исторические известия современников расходятся. Есть, напр., совершенно недостоверное известие (Th́еvet), будто он умер в Лионе. Оно опровергается категорическим свидетельством Вира. Другие биографы Агриппы (Jovius) говорят, что он умер в Гренобле, в гостинице. Согласно исследованиям Ги Аллара (Guy Allard, p. в 1645 г., ум. 1716 г.) Агриппа умер (с чем согласен и Орсье) в Гренобле, в доме Франсуа де Вашона. По исследованиям же некоего Шорье, жившего одновременно с Алларом, Агриппа скончался в Гренобле, но в другом доме, на улице des Clercs, принадлежавшем тогда члену парламента Феррану, где в 1457 г. умер известный юрист Ги Пап[286].
Легенда об Агриппе с течением лет все разрасталась. Рабле изобразил своего современника в злой карикатуре, в лице шарлатана Her Trippa. Сирано де Бержерак, в одном из своих писем, заставлял даже дух Агриппы творить чудеса[287]. Отголоски этих сказаний доходят до начала XIX века.
Благодаря трудам новых историков, личность Агриппы начинает выходить из тумана долго окружавшей его легенды. Прочтя хотя бы биографический очерк Орсье, уже нельзя видеть в Агриппе ни чародея, всю жизнь проведшего в общении с нечистой силой, ни только шарлатана, тридцать лет морочившего и простой народ, и королей хитрыми проделками и искусными фокусами. Мы знаем теперь не того Агриппу, которым пугали детей в XVI веке, не чернокнижника, водящего на привязи дьявола в виде собаки, но Агриппу, неутомимого трудолюбца, энциклопедически образованного ученого, бесстрашного и честного мыслителя, прекрасного стилиста и язвительного памфлетиста. Агриппа не был чужд предрассудков своего времени, — но кто же в силах вполне от них освободиться? — Агриппа вел жизнь искателя приключений, был неуживчив, надменен, любил споры и не уступал своим противникам ни в чем, — но таков был дух эпохи, той славной эпохи, когда конквистадоры завоевывали Новый Свет, когда создавались новые империи, когда жили Кортец и Бенвенуто Челлини. Желчность Агриппы, непримиримость его ненависти искупались его нежной любовью к жене, к «ангелоподобной» Жанне-Луизе, и к семье; некоторое лицемерие, которое случалось проявлять Агриппе, его некоторая неразборчивость в выборе покровителей, оправдывается тяжелыми условиями его жизни, постоянной нуждой, доходившей порой до нищеты, гонениями со стороны сильных врагов, черной неблагодарностью, какой ему платили люди, пользовавшиеся его услугами. А все «чародейства» Агриппы, право, искуплены его беспощадной критикой шарлатанства современных ему магов и тем благородством, с каким он, рискуя собственным благополучием, — а, может быть, и жизнью, — бросился на защиту бедной крестьянки из деревни Войпи, обвиненной в колдовстве.
Б. Пуришев. Брюсов и немецкая культура XVI века
В очень широком кругу интересов Брюсова видное место занимала немецкая культура. Брюсов охотно переводил немецких поэтов XVIII–XX вв. Его внимание привлекали и эпоха Просвещения (Гёте, Шиллер), и романтизм (Ленау, Уланд), и поэты новейшего времени (Стефан Георге, Рихард Демель). Среди переводов Брюсова встречаем мы и такое монументальное творение, как гётевский «Фауст».
Но был в истории немецкой культуры (собственно, не литературы, а именно культуры) период, к которому Брюсов питал особое пристрастие как ученый, романист и поэт. Это — XVI век.
Брюсова всегда чрезвычайно привлекали переломные эпохи, когда «из разрушенья творились токи новых сил» («Мир электрона»), новое вступало в ожесточенную схватку со старым, привычные формы жизни давали глубокие трещины и наступали «минуты роковые», о которых столь проникновенно писал Тютчев. Немецкий XVI век, бесспорно, принадлежит к числу наиболее драматических и противоречивых эпох европейской истории. Именно в Германии в начале XVI века началась Реформация, которую Ф. Энгельс рассматривает как первую в Европе буржуазную революцию «с крестьянской войной в качестве критического эпизода»[288]. Мартин Лютер потряс самые основы духовной гегемонии католического престола, но он же, напуганный размахом народного движения, превратился в душителя свободной гуманистической мысли. Германия была родиной выдающегося врача и естествоиспытателя Теофраста Парацельса, который, по словам французского философа XVI века П. Рамуса, «глубоко проник в недра природы», и знаменитого авантюриста, знатока «тайных наук» Агриппы Неттесгеймского. И хотя немецкий гуманизм не смог устоять перед натиском феодально-католической и бюргерской реакции, в Германии в XVI веке возникла легенда о Фаусте, овеянная духом революционных исканий эпохи Возрождения.
Брюсова, несомненно, многое привлекало в немецком XVI веке. Этот интерес возник еще до его поездки в Германию, но особенно отчетливо он определился после крушения русской революции 1905 года: исторические и психологические параллели напрашивались сами собой.
Среди ярких фигур немецкого Возрождения Брюсов особое внимание обратил на Корнелия Агриппу Неттесгеймского (1486–1535), человека своеобразного склада и своеобразной судьбы, о котором, после того как Ф. Рабле осмеял его под именем герр Триппа («Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. III, гл. 25), почти всегда говорили с насмешкой, либо просто игнорировали его существование. Брюсов изобразил Агриппу в романе «Огненный ангел» (1907–1908), а также написал о нем ряд статей. Первые статьи появились в журнале «Русская мысль» за 1911 год, книга II («Агриппа Неттесгеймский»), и в «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, т. I, Спб. (1913). Три статьи: «Оклеветанный ученый» (перепечатка с некоторыми сокращениями статьи из «Русской мысли»), «Легенда о Агриппе» и «Сочинения Агриппы и источники его биографии» — приложены к критико-биографическому очерку Жозефа Орсье «Агриппа Неттесгеймский. Знаменитый авантюрист XVI в.». Перевод Брониславы Рунт. Под редакцией, с введением и примечаниями Валерия Брюсова, Москва, изд. «Мусагет», 1913.
Интересно отметить, что впервые русский читатель ознакомился с Агриппой на исходе XVIII века. Тогда увидело свет его язвительное «Рассуждение о монашеской жизни», перевод с латинского (Л. М. Максимовича), М., 1783, а год спустя появился трактат Агриппы «О благородстве и преимуществе женского пола», переведенный под руководством Московского Архангельского собора протоиерея Петра Алексеева, СПб., 1784. Публикация этой оригинальной книги вызвала неудовольствие Екатерины II[289]. В дальнейшем к литературному наследию Агриппы никто уже с серьезными целями не обращался, и только Брюсов поведал русским читателям об этом забытом и оклеветанном мыслителе и ученом. Впрочем, Брюсову, видимо, не были известны эти старинные русские переводы из Агриппы, поскольку он нигде их не упоминает.
В Агриппе Брюсов видел не только знатока «сокровенной философии», которую сам он в то время усердно штудировал, но и человека во всех отношениях незаурядного, энциклопедически образованного, далекого от филистерского благоразумия. Подобно многим выдающимся деятелям той бурной эпохи, Агриппа был склонен к авантюризму. Ему также была присуща благородная смелость, которая то заставляла его лечить больных чумой, в то время как другие врачи с ужасом покидали зачумленный город, то — вырывать из рук инквизиции несчастную женщину, обвиненную в колдовстве. По словам Брюсова, «всю жизнь он боролся с монахами, естественными защитниками всякого обскурантизма, и не раз подвергался преследованиям с их стороны»[290].
Но и гуманисты не могли считать Агриппу в полной мере своим, поскольку он всегда шел особым, не совсем обычным путем. И в памяти потомства Агриппа сохранился лишь как банальный чернокнижник, один из тех шарлатанов, которые пускали пыль в глаза людям доверчивым. Брюсов сделал удачную попытку развеять эту легенду, показать выдающегося ученого в истинном свете. Он обратил внимание на «дух оппозиции», царящий в творениях Агриппы, на независимый образ мыслей немецкого ученого, не желавшего признавать над собой никаких авторитетов и прокламировавшего опыт в качестве надежной основы знания.
К немецкому XVI веку обращался Брюсов также в стихотворном цикле «Сны человечества». Среди опубликованных текстов этого широко задуманного цикла мы встречаем стихотворения: «Das Weib und der Tod. Женщина и смерть. Немецкая гравюра XVI в.» и «Пляска смерти. Немецкая гравюра XVI в.». Следует отметить, что названные стихотворения непосредственно восходят к немецким ксилографиям XV–XVI вв. И в этом, несомненно, проявляются не только свойственная Брюсову широкая эрудиция, но и умение подмечать характерные черты данной эпохи. Брюсов очень верно уловил «ксилографический» характер немецкой поэзии эпохи Реформации. Во-первых, многие поэтические произведения того времени были теснейшим образом связаны с ксилографией (книги с гравюрами, летучие листки с гравированной картинкой и соответствующим стихотворным текстом). Во-вторых, ни одна европейская страна не знала в XV и XVI вв. такого расцвета ксилографии, как Германия. Даже итальянцы, считавшие свое искусство недосягаемым образцом, восторженно отзывались о гравюрах Дюрера (Лодовико Дольче в «Диалоге о живописи», 1557, и др.), в том числе и о его замечательных гравюрах на дереве. А ведь наряду с Дюрером были в Германии и другие превосходные мастера. Но ксилография не только явилась одним из самых больших достижений художественной культуры Германии XV и XVI вв., она воплотила в себе характерный эстетический строй немецкого бюргерского Ренессанса.
Эту неприкрашенную грубоватую ксилографическую манеру отлично уловил и воспроизвел Брюсов в стихотворениях «Женщина и смерть» и «Пляска смерти» (см. том 2). Графический источник второго стихотворения не вызывает сомнений. Это знаменитая «Пляска смерти» (или, точнее, «Картины смерти») — цикл гравюр по рисункам Г. Гольбейна (1538), хотя Брюсов и не называет прямо автора рисунков, ограничиваясь лишь не совсем ясной ссылкой на «немецкую гравюру XVI века». При всем том и по существу, и по форме Брюсов, несомненно, близок Гольбейну. Правда, он лаконичнее своего графического образца. У Гольбейна гораздо больше бытовых деталей. Но Брюсову эти детали не нужны, поскольку он как бы сочиняет текст к определенным гравюрам. В XVI веке так поступали многие поэты. Например, Ганс Сакс в 1527 году сочинил текст к циклу старинных гравюр, обличавших злодеяния папства и предрекавших его гибель («Чудесное пророчество о папстве»). Он же снабдил стихотворными пояснениями циклы гравюр Иоста, Аммана: «Описание всех сословий и профессий на земле» (1568) и «О различных красивых платьях и одеждах» (1586) и т. п. В Германии в XVI веке еще не угас интерес к различным «зерцалам», столь характерный для средних веков.
Как и у Гольбейна, у Брюсова все очень конкретно и зримо. В его стихотворении нет ничего туманного, отвлеченного. Смерть вместе с крестьянином пашет ниву, качает ребенка, пляшет, играет на свирели. Отчетливо слышен ее властный голос. Из века в век сумрачные анахореты предлагали думать о смерти. «Memento mori!» — мрачно твердили они, глядя на мир. Земную жизнь отвергали они ради призрачной загробной жизни. У Гольбейна (как и у Брюсова) уже нет этой монашеской тенденции. Конечно, художник жил в грозное и бурное время, когда смерть снимала обильную жатву. Ведь и войны, и Реформация, и крестьянские мятежи, и голод, и чума потрясали страну. «Картины» Гольбейна наполнены отголосками этих драматических событий. Но Гольбейн не призывает отречься от жизни. Он только указывает на равенство всех людей перед смертью, то есть природой и богом. По тем временам эта мысль не была лишена социальной остроты, недаром Гольбейн в своих «картинах» такое большое место уделяет представителям господствующих сословий. Но ведь и Брюсов, начав с крестьянина, заканчивает свое поэтическое «зерцало» королем.
С «Пляской смерти» перекликается стихотворение Брюсова «Женщина и смерть». У Гольбейна нет подобного сюжета. Но гравюры и картины, которые в чем-то совпадают с этим стихотворением, есть. Самовлюбленная красотка смотрится в зеркало, а за ней притаился черт, готовый поймать ее в свои сети, — вот иллюстрация из книги Себастиана Бранта «Корабль дураков» (1494), принадлежащая, вероятно, Альбрехту Дюреру. Эта тема присутствует и среди иллюстраций к переведенной с французского книге «Рыцарь фон Турн» (1493), приписываемых в настоящее время Дюреру, и на гравюре Петера Флетнера (ок. 1490–1546) «Смерть и влюбленная пара», и на картинах Ганса Бальдунга, по прозвищу Грин (ок. 1485–1545), «Девушка и смерть» (1517) и «Красота и смерть» (1509–1511). Брюсов не выходит за пределы излюбленных графических образов немецких XV и XVI вв. В его стихотворении есть и выразительные бытовые детали, столь типичные для немецких ксилографии XVI века. Да и общий грубоватый, весьма откровенный тон вполне соответствует как лубочному строю тогдашних вирш, так и характеру немецкой графики XV–XVI вв. (ср., например, гравюру Дюрера «Насильник» или «Аллегория смерти», ок. 1495)[291].
Но, конечно, самым значительным и притом самым монументальным созданием Брюсова, имеющим прямое отношение к немецкому XVI веку, является его роман «Огненный ангел» [292].
Он очень тактично называет свое произведение «мемуарами», поскольку на немецкий роман XVI века «Огненный ангел» вовсе не похож. В немецкой литературе того времени не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало брюсовский роман. Ни народные книги, включая «Тиля Эйленшпигеля» и «Фортуната», ни первые бюргерские романы Иорга Викрама не могли послужить для Брюсова подходящим образцом. Скорее, роман Брюсова соприкасается с немецкими романами XVII века (Мошерош, Гриммельсгаузен), поскольку в них рассказ о событиях ведется от лица главного персонажа. Но и с ними, по существу, у «Огненного ангела» мало общего. Зато очень емкий жанр мемуаров, получивший распространение в эпоху Возрождения, в частности, в Германии (Гец фон Берлихинген), не требовал от автора далеко идущей стилизации и в то же время как бы позволял читателям услышать голос человека XVI столетия. Брюсов хочет быть достоверным и выступает в роли издателя, в руки которого якобы попала рукопись XVI века («Предисловие к русскому изданию»). И он в значительной мере достигает своей цели. Мы верим автору, верим тому, что так все и могло произойти или уж, во всяком случае, почти все могло так произойти. XVI век в изображении Брюсова не условный фон, не красочная декорация, — это подлинный немецкий XVI век. За каждой главой романа стоят горы прочитанных автором книг, изученных документов.
И дело не только в обширной эрудиции, но и в тонком понимании духа изображаемого времени. Конечно, будучи беллетристом, а не историком, посвящая свое произведение трагической любви Рупрехта и Ренаты, Брюсов не считал себя обязанным в строго хронологическом порядке излагать факты немецкой истории первой трети XVI века, тем более что действие романа охватывает очень короткий отрезок времени (с августа 1534 по осень 1535 г.). Возможно, что другой автор на месте Брюсова и вообще пренебрег бы этими фактами как не имеющими прямого отношения к изображаемым событиям. Но Брюсов обладал сильно развитым чувством истории. Он хорошо понимал, что злоключения Ренаты множеством нитей связаны с различными сторонами немецкой жизни XVI века. И черта за чертой он воссоздал верную картину этой жизни. Совершенно права З. И. Ясинская, которая писала, что «судьба героев, как и их характеры, вплоть до трагической развязки, являются порождением эпохи гуманизма и Реформации, противоборствующих им сил католицизма и того массового террора, который осуществлялся инквизицией. В романе не показана религиозно-крестьянская война, но передан тревожный дух времени, смятение умов, стремление к точному знанию, вера в разум у одних и „оглушенность сознания, ощущение какого-то уклона, какого-то полета в неизведанные пропасти у других“ (А. Блок), то есть все характерные противоречия мировоззрения переходной эпохи, породившей их»[293].
Брюсов счел нужным упомянуть и о Реформации, которая началась в 1517 году и всколыхнула всю страну, и о восстании рыцарей под предводительством Франца фон Зикингена (1522), и о Великой крестьянской войне (1525), и о стойкости мюнстерской коммуны (1534–1535), осажденной княжескими войсками, то есть о важнейших вехах исторического развития Германии первой трети XVI века. И читатель видит, как на протяжении десятилетий все в Священной Римской империи кипело и клокотало, как сталкивались враждующие силы, как реакция гасила революционные вспышки, а пламя вновь пробивалось сквозь густой мрак, какой сложной, противоречивой, запутанной была жизнь страны, прошедшей через ряд трагических испытаний.
Из романа мы, например, узнаем, что, несмотря на неудачу народного восстания, крестьяне по-прежнему полны ненависти к своим угнетателям. Однажды к Рупрехту в кабаке подсел какой-то «худо выбритый малый» и «завел длинную речь о бедственном положении мужиков, не новую, хотя и не чуждую правды. Жаловался он на тяготу платежей, оброков, штрафов и всяких поборов, на ростовщичество, на запрещение заниматься ремеслами в деревне, поминал мятеж, который был десять лет назад… грозил рыцарям и горожанам и пожарами, и вилами, и виселицами» (гл. VIII).
В другой раз Рупрехт слышит рассказ о событиях в Мюнстере, явившихся патетическим эпилогом Великой крестьянской войны. Рассказывает Рупрехту «суровый моряк», владелец барки, на которой герои романа плывут по Рейну в Кельн. Он восторженно отзывается о новом пророке Иоанне Лейденском, «воссевшем на троне Давидовом», повествует о деяниях анабаптистов, о том, «как успешно отбиваются мюнстерцы, подкрепляемые воинством небесным, от епископских ландскнехтов». «Долго мы, люди, голодали и жаждали, — восклицает он, переходя на тон проповедника, — и сбывалось на нас пророчество Иеремии: „Дети просили хлеба, и никто не дал им его“. Мрак египетский обнимал своды храма, но ныне они оглашены победным гимном. Новый Гедеон нанят богом в поденщики по грошу в сутки и наточил серп свой, чтобы пожать зажелтевшие нивы. Выкованы пики на наковальне Немврода, и рухнет башня его…» (гл. III)
«Суровый моряк» всего лишь эпизодическое лицо. Но обратите внимание на его экстатическую, пересыпанную библейскими изречениями и образами речь. Ведь именно так в эпоху Реформации и Великой крестьянской войны говорили народный вождь Томас Мюнцер и его последователи. Мюнцер называл себя «Мюнцером с мечом Гедеона», постоянно цитировал Иеремию и других ветхозаветных пророков, заявлял, что хочет огласить своды храма освободительным гимном, который, наконец, рассеет мрак египетский, окутавший грешную землю, твердил, что точит серп свой, дабы сжать колосья господнего гнева, и т. п. Несколькими штрихами набросанный портрет единомышленника мюнстерских анабаптистов лишний раз свидетельствует об исторической конкретности Брюсова, внимательно изучавшего мятежную публицистику XVI века. И в данном и в ряде других случаев он безошибочно находил правильный тон, отчего роман его приобретал историческую глубину и рельефность.
В романе встречаются меткие оценки тех или иных событий. Так, вспоминая о рыцарском мятеже 1522 года, Рупрехт совершенно правильно видит в рыцарях «самый отсталый круг» в тогдашнем обществе, «что бы ни говорил в их защиту Ульрих фон Гуттен» (гл. XII). А по поводу успехов лютеранства, которое очень быстро превратилось в оплот княжеского самовластия и нового духовного рабства, проницательный Мефистофель язвительно замечает: «Эти новые ереси имеют успех потому, что князья почуяли здесь наживу, как собаки чуют жаркое, и самого Лютера один добрый черт водит за нос. В конце концов, после этих вероисповеданий и новых катехизисов, христианство так обмелеет, что аду куда легче будет ловить с берега свою рыбу» (гл. XII).
С немецкой культурой XVI века мы все время сталкиваемся на страницах «Огненного ангела». Впрочем, к середине тридцатых годов немецкий гуманизм уже в значительной степени утратил свою былую активность. Наступала реакция. У гуманизма были подрезаны крылья. К тому же почти все выдающиеся представители немецкой гуманистической культуры, блиставшие в начале XVI века, отошли в царство мертвых. В 1534 году уже не было в живых ни Конрада Цельтиса, ни Ульриха фон Гуттена, ни Генриха Бебеля, ни Иоганна Рейхлина, ни Якоба Вимпфелинга, ни Виллибальда Пиркхеймера. Приближался смертный час Эразма Роттердамского (1535). Но еще продолжали встречаться люди, хранившие заветы гуманизма. Это были хотя бы такие независимые ученые, как Иоганн Вейер (или Жан Вир), смело выступавший против ведовских процессов, ученик Корнелия Агриппы Неттесгеймского, заслужившего лютую ненависть монахов. В романе им обоим отведено заметное место.
Сам Рупрехт хотя и не принадлежал к цеху ученых, но в юности штудировал медицину, много читал и был сведущ в самых различных отраслях знания. В студенческие годы он зачитывался древнеримскими поэтами, а также творениями Эразма Роттердамского, Генриха Бебеля и Ульриха фон Гуттена. О «Письмах темных людей» он отзывается как об одном из самых выдающихся произведений новой литературы. По его словам, «сама древность» может противопоставить этой остроумной книге «разве одного Лукиана». Когда герой романа вступал в жизнь, немецкий гуманизм еще находился в поре своего расцвета. Под его благотворным влиянием и формировалось мировоззрение Рупрехта. Ему совершенно чужд конфессиональный ригоризм, поскольку он «вместе с лучшими людьми современности» сознавал, что «вера заключается в глубине сердца, а не во внешних проявлениях». Его радуют успехи науки, освобождающейся от пут средневековой схоластики. Труды нюрнбергского математика Бернгарда Вальтера, врача и естествоиспытателя Теофраста Парацельса и астронома Николая Коперника вселяют в него надежду, что «благодетельное оживление, переродившее в наш счастливый век и свободные искусства, и философию, перейдет в будущем и на науки» («Предисловие автора»). Гордые слова Пико делла Мирандолы о величии человека (гл. XI, I) прочно вошли в его сознание. Поэтому Рупрехту было так приятно побывать в богатой библиотеке просвещенного графа фон Веллена, в которой он нашел многие выдающиеся творения немецких гуманистов. Он встретил их «как добрых друзей, с коими давно не виделся». Здесь же хранились рукописные кодексы латинских писателей, добытые графом в соседних монастырях, собрание прекрасных древних гемм, вывезенных им из Италии, и, наконец, письма знаменитого друга Эразма Роттердамского швейцарского юриста Ульриха Цазия, с которым Граф состоял в личной переписке. Граф охотно показывал все свои сокровища Рупрехту, потому что не без основания видел в нем одного из тех «новых людей», к числу которых относил и самого себя (гл. XII, II).
Следует к этому добавить, что в памяти Рупрехта роилось множество античных имен, афоризмов, цитат. Известны ему труды итальянских писателей и философов эпохи Возрождения (Поджо, Марсилио Фичино, Саннадзаро, Кастильоне и др.), равно как и создания живописцев и ваятелей немецких (А. Дюрер, Г. Гольбёйн, М. Грюневальд, П. Фишер) и итальянских (Фра Анжелико, Сандро Боттичелли, Донателло, Рафаэль, Андреа Мантенья, Микеланджело Буонарроти, Тициан, Бенвенуто Челлини). С шедеврами итальянских мастеров Рупрехт познакомился непосредственно в Италии. Был он также в Испании и даже в далекой Вест-Индии. Все это не могло не расширить его жизненного кругозора.
Однако, будучи во многом человеком «новым», Рупрехт не был свободен от некоторых «старинных предрассудков», что делало его «мировоззрение крайне противоречивым» («Предисловие к русскому изданию»). Но в этом отношении он вовсе не стоял особняком среди передовых людей тогдашней Германии. «Старинные предрассудки» были весьма живучи в стране, где Мартин Лютер запустил чернильницей в черта, а ученые гуманисты верили в существование ведьм. Зато Рупрехту вполне понятен восторг Ульриха фон Гуттена, который при виде быстрых успехов науки и культуры в начале XVI века воскликнул: «Как радостно жить в такое время!» (гл. XII, I).
Между тем за годы заграничных скитаний Рупрехта в Германии многое изменилось. Лютеровская реформация обернулась против гуманистов, опасных смутьянов видела в них также контрреформация. Рупрехту пришлось соприкоснуться с этой грозной силой в лице инквизитора, добивавшегося и добившегося осуждения Ренаты. Но конфессиональные споры представлялись Рупрехту бессмысленными, даже если они велись такими людьми, как Эразм. Зато о мастерах ренессансной культуры он действительно вспоминает как о «добрых друзьях». К их творениям он обращается по разным поводам. Подчас и на мир смотрит он как бы сквозь призму этих творений. Так, созерцая «толстые животы и жирные самодовольные лица» прелатов и каноников, окружавших архиепископа Трирского, Рупрехт «невольно вспоминал… незабвенные страницы бессмертной сатиры Себастиана Бранта» (гл. XIII, II), а юный спутник графа Генриха, «стройный, как девушка, с нежным продолговатым лицом, в берете с пером», напомнил ему «один из портретов Ганса Гольбейна» (гл. VIII) и т. д.
Разумеется, все вышесказанное имеет значение для понимания духовного мира Рупрехта, кое в чем родственного самому Брюсову — книжнику и эрудиту. Одновременно читатель получает возможность увидеть довольно широкую картину культурной жизни Германии начала XVI века, играющей в романе активную роль.
Если Рупрехт, в душу которого «бросил свои семена» гуманист Я. Вимпфелинг (гл. X, I), полагал, что «к обновлению жизни» следует идти «путем просвещения умов» (гл. III, I), то Рената всецело погружена в мистический визионизм, имевший в Германии прочные и давние традиции. Еще в XIII веке Метхильда Магдебургская сгорала от любви к небесному жениху («Об истекающем свете божества»), а в XIV веке Генрих Сузо, как он повествует об этом в своем «Жизнеописании», танцевал вместе с ангелами, и Дева Мария поила его целебным напитком, истекавшим из ее сердца. Вслед за средневековыми мистиками Рената, отвергая доводы и требования рассудка, жила в причудливом мире грез и видений. Она умилялась, слушая, как Екатерина Сиенская обручилась с самим Христом (гл. X, I). Вьь сшее счастье видела она в том, чтобы душа растворялась в боге (гл. III, I), но пленивший ее сердце огненный ангел роковым образом увлекал ее в царство дьявола. Таких изломанных, потрясенных душ немало было в XVI веке, в котором в какой-то невероятно причудливый узел сплелись людские чаяния и потрясения, жажда обновления и власть вековых предрассудков.
Однако в небольшой статье совершенно невозможно даже в самой сжатой форме охватить все аспекты намеченной темы. Поэтому я коротко остановлюсь еще лишь на фаустовском мотиве, отчетливо звучащем в романе. В «Огненном ангеле» появляется доктор Фауст (гл. XIXIII), стяжавший себе такую большую славу в мировой литературе. В «Предисловии к русскому изданию» Брюсов замечает, что изображенный в романе образ «довольно близко напоминает того Фауста, какого рисует нам его старейшее жизнеописание», изданное И. Шписом в 1587 году. Это, конечно, верно, но лишь до известной степени. Брюсов, бесспорно, опирался на «Историю о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике». В «народной книге» XVI века он нашел и фигуру Мефистофеля, и такие волшебные шванки, как «проглоченный» слуга (в народной книге Фауст пожирает воз сена), и виноград в зимнюю пору, а также чудесное явление Елены Прекрасной и путешествие Фауста по многим городам и странам (включая Константинополь и Московию). Но в книге XVI века Мефистофель — это могущественный бес, которому Фауст продал свою душу, в романе же это всего лишь умный и ловкий фокусник, хотя Брюсов и не до конца совлекает покров таинственности с его проделок. Во всяком случае, именно он, а не Фауст выступает в роли волшебника. Цель старинной книги, написанной какимто ревностным лютеранином, состояла в том, чтобы осудить человеческий порыв к знанию. Титаническое дерзание Фауста, пожелавшего «проникнуть и изучить все основания неба и земли», представляется автору страшным грехом. Он не устает поносить дерзкую самонадеянность ученого, которая, по мнению автора, и довела его до гибели.
У Брюсова, разумеется, эта тенденция отсутствует. Но его Фауст не отрывается от XVI века, не превращается в могучее олицетворение ищущего человечества, как это произошло у Гёте. Подобно другим персонажам романа, он твердо стоит на реальной немецкой почве. В некотором отношении он, пожалуй, даже ближе к историческому Фаусту, чем к герою народной книги. Вместе с тем образ, нарисованный Брюсовым, как бы двоится в глазах читателя. Достойные доверия современники считали исторического Фауста шарлатаном. Аббат Тритемий называл его «бродягой, пустословом и мошенником» (1507), а врач Ф. Бегарди, упоминая о его «весьма ничтожных и бесславных» делах, замечал: «…зато он хорошо умел получать или, точнее, выманивать деньги, а затем удирать, так что только и видели, говорят, как его пятки сверкали» (1539)[294]. В «Огненном ангеле» шарлатаном считает Фауста рассудительный граф фон Веллен. И Рупрехт одно время под влиянием графа склонен был видеть в нем «продажного шарлатана», ибо «только они одни способны в любой час и в любом месте вызывать призраки» (гл. XII, II). В дальнейшем, однако, Рупрехт перестал о нем думать столь худо и откровенно признавался, что доктора Фауста он не постиг до конца и что образ Фауста стоит в его памяти, «словно на горизонте тень Голиафа» (гл. XIII, I).
Действительно, нельзя сказать, чтобы в романе Фауст был изображен в карикатурном виде или хотя бы с легкой насмешкой. И держится он с достоинством (по словам Рупрехта, он «производил впечатление переодетого короля», глава XI, II), и собеседник он «занимательнейший», и познания его разнообразны и весьма обширны (гл. XII, I), и нигде он не стремится развлекать толпу волшебными проделками, как это часто бывало с героем народной книги. Он даже и Мефистофеля укоряет за его склонность к подобному шутовству. А его прощальная речь о магии, в которой он прославлял могучий порыв к знанию, произвела на Рупрехта неизгладимое впечатление (гл. XIII, I).
Но зачем все-таки Брюсову понадобился доктор Фауст, не имеющий отношения к истории Ренаты? Вероятно, по двум причинам. Во-первых, появление Фауста, так сказать, усиливало «местный колорит». Ведь именно в Германии в XVI веке сложилась легенда о Фаусте, и здесь же увидела свет первая книга о «знаменитом чародее и чернокнижнике». Во-вторых, поскольку Брюсов немалое место в романе уделяет «сокровенной философии», Фауст оказался здесь как нельзя более кстати. И тут важно правильно понять: почему, «как это ни кажется нам странным, но именно в эпоху Возрождения началось усиленное развитие магических учений» («Предисловие к русскому изданию»)? А дело в том, что «сокровенная философия» содержала в себе не только застарелые заблуждения, но и тенденцию, весьма характерную для Ренессанса. Вспомним хотя бы мудрого волшебника Просперо, повелевающего как злыми, так и добрыми духами в пьесе Шекспира «Буря». Это была еще достаточно фантастическая вера в титанические возможности человека и его разума. Основываясь на учении о всемирном соответствии, связывающем между собой все явления вселенной, адепты «тайных наук» верили, что человек способен повелевать царством демонов (а в существование демонов верили в то время многие) и тем самым утверждать свою власть в беспредельном мире. В связи с этим и Рупрехт пожелал «попытать свои силы в открытой борьбе с духами тьмы» (гл. V, I).
И хотя Рупрехту пришлось вскоре горько разочароваться в оперативной магии, а беседа со здравомыслящим Иоганном Вейером утвердила его в мысли, что «смешно сводить судьбу человека к таинственной воле инфернальных сил» (гл. VI, I), вопрос о магии не исчез со страниц романа. Наряду с Фаустом в романе появляется выразительная фигура Агриппы Неттесгеймского, великого знатока герметических наук (гл. VI, XVI). В беседе с Рупрехтом, отвергая распространенное вульгарное представление о магии как о способе добывать богатство, разузнавать о завтрашнем дне и вредить людям, Агриппа предлагает искать в ней «сокровенное знание о природе», которого, по его мнению, не содержит современная университетская наука, разрывающая «единый цветок вселенной на части» и дающая человеку вместо познания «силлогизмы и комментарии». Только наука, способная познать единство мирообразующего духа и устанавливать «связь всех вещей и пути, которыми они влияют друг на друга», может называться подлинной наукой, но ведь это «и есть магия, истинная магия древних», «полное воплощение совершеннейшей философии». Такая наука требует от своего адепта «чистой веры и сильной воли, — ибо нет силы более мощной в нашем мире, чем воля, которая способна совершать и невозможное, и чудеса!» (гл. VI, II). И все же Рупрехту показалось, что как ни отзывался Агриппа скептически о «темных и не заслуживающих одобрения» магических опытах, он и сам не был им вовсе чужд. Эпизод с собакой умирающего Агриппы (гл. XVI, II) мог только усилить эти подозрения героя романа. Даже один из учеников Агриппы, выслушав его тираду об «истинной науке», заметил: «Вот не ожидал я, что учитель еще втайне верует в магию!» (гл. VI, II).
Но, как ни отлична философия Агриппы от трезвых взглядов Вейера, можно сказать, что перед читателем предстают две грани немецкой ренессансной культуры. Их роднят стремление как можно ближе подойти к «истинному источнику познания» и вера в поразительную силу человеческого порыва. Своему Фаусту Брюсов вложил в уста крылатые слова: «Разве не жаждет человек познать все тайны всей вселенной, до самого конца, и обладать всеми сокровищами, безо всякой меры?» (гл. XIII, I). Этот «фаустовский» порыв присущ также Агриппе. Ненавидимый и травимый сорбоннистами, схоластами, «делателями силлогизмов», всей «несчетной толпой бездельников в рясах, капюшонах, мантиях» (гл. VI, II), Агриппа, вопреки всему, как подлинный титан Возрождения, не перестает возлагать свои надежды на несокрушимую волю человека, способную совершать невозможное. Подобно Фаусту Марло и Гёте («Я философию постиг…»), он посмел посягнуть на официальную университетскую науку, не раз вызывавшую насмешки и резкую критику гуманистов. В сущности, Агриппа в гораздо большей мере, чем исторический Фауст, имел право стать героем великой фаустовской легенды. Ведь о нем и люди рассказывали самые удивительные истории (гл. VI, I и др.). Брюсов оттеняет все эти «фаустовские» черты выдающегося ученого и мыслителя. В условиях все усиливающейся реакции фаустовская тема звучит как напоминание о человеческом дерзании. Реакция успела нанести жестокие удары немецкому гуманизму. Она раздавила Ренату. Она всюду искала и находила царство дьявола. И в этом душном, гнилом, бьющемся в конвульсиях мире такие трагически одинокие люди, как Агриппа Неттесгеймский, осмеливались все же говорить о величии истинного познания и силе человеческого духа. Введя в роман Агриппу, Брюсов не только воздал должное незаслуженно забытому ученому, которым он в то время был увлечен, но и указал на одну из интересных граней немецкой ренессансной культуры XVI века.
В то же время фаустовская тема, отчетливо звучащая в романе, увидевшем свет в 1907–1908 гг., в русских условиях приобретала особый смысл. Ведь те годы в России также были годами реакции, охватившей как политическую, так и духовную сферу. Фаустовская вера в силу человеческого разума и трезвый взгляд Брюсова на самые, казалось бы, «таинственные» явления решительно противоречили взглядам и настроениям, которые культивировались в тогдашних реакционных кругах. А точное изображение инквизиции и ее бесчеловечных деяний не только знакомило читателей с тем, что происходило когда-то в Германии, но и вызывало свежие воспоминания о трагических событиях, разыгравшихся в России после 1905 года. Так немецкая старина в романе Брюсова обретала новую жизнь. Под академическим, подчас тяжеловесным, покровом резко проступала злоба дня. Прошлое перекликалось с настоящим.
Е. Чудецкая. «Огненный ангел». История создания и печати
[текст отсутствует]
Примечания
1
«В конце 1504 г., февраля 5-ое». В начале XVI века год еще считался с Пасхи.
(обратно)2
«Двойной и тройной докторат» — utriumque iuris et medicinae(Обоих прав — гражданского и канонического (церковного) — и медицины (лат.).).
Сочинение по медицине Иоанникия, сирийского врача, несторианца, пользовалось в латинском переводе в Средние века большим почетом, наравне с сочинениями Гиппократа.
(обратно)3
«О видах магии» (лат.).
(обратно)4
«О государстве» (лат.).
(обратно)5
«Демономания колдунов» (фр.).
(обратно)6
«Молот ведьм» (лат.).
(обратно)7
Другу читателю (лат.).
(обратно)8
«Наставление в учении» (лат.). «Doctrinale», сочинение, в гекзаметрах, по латинской грамматике Александра Вилльдье (XI–XII вв.); «Copulata» — сочинение по логике Петра Испанского, впоследствии папы Иоанна XXI (XIII в.); это — школьные учебники, не раз упоминаемые в «Письмах темных людей».
(обратно)9
«Сборник» (лат.).
(обратно)10
«Vallis humanitatis» — сочинение Германа фон Буша (1468–1534), в котором он защищает гуманистическое миросозерцание (изд. 1518 г.). Эразм Роттердамский (1467–1536) в 30-х годах XVI в. уже пережил свою славу. Речь Пико делла Мирандола (1463–1494) «De hominis dignitate» пользовалась великим уважением в среде первых немецких гуманистов.
Бернгарт Вальтер, ученик Региомонтана, открывший атмосферическое преломление света (XV–XVI вв.), был известен лишь в кругах специалистов. Напротив, слава Теофраста Парацельса, врача, алхимика, философа, фантаста (1493–1541), была очень громкой, и его знала вся Европа. Сочинение Коперника «О круговращениях небесных тел» в печати появилось лишь в 1543 г., но его идеи в ученом мире были известны раньше.
(обратно)11
Выражение «время императора Фридриха» (1415–1493) было в ту эпоху как бы поговоркой(В Авторском экземпляре (в Авторском экземпляре романа издания 1910 г. рукой Брюсова были сделаны правки, которые учла комментатор 4 тома Собрания сочинений (1974) Е. В. Чудецкая. — С. И. далее вычеркнуто: Торопливость жизни в начале XVI в. казалась современникам «столь же удивительной, как нам промышленная энергия нашего времени» (выражение К. Лампрехта).).
(обратно)12
Герман фон Нейенар — один из немногих гуманистов, живших в ту эпоху в Кельне (1491–1530).
(обратно)13
«Грамматика Цинтена» — сочинение Иоанна Цинтена, ученого схоластика, под заглавием «Composita verbum».
Сочинения, перечисляемые автором, были новинками только для того захолустья, где он жил. Первое издание «Похвалы Глупости» Эразма появилось в 1509 г.; затем в 30 лет вышло около 40 ее изданий. Первое издание «Разговоров» (Colloquia) Эразма вышло в 1519 г. Автор «Торжества Венеры» Генрих Бебель умер в 1581 г. Первая часть «Писем темных людей» появилась впервые в 1515 г., вторая — в 1517 г.
(обратно)14
Нападение на Трир Зикингена относится к сентябрю 1522 года.
(обратно)15
Флоризель Никейский, сын Амадиса Галльского, — герой одного из «рыцарских» романов.
(обратно)16
«Rustica gens optima flens pessima gaudens», т. е. крестьяне лучше всего, когда плачут, хуже всего, когда радуются, — выражение в книге Феликса Геммерлина «De nobilitate» (1457 г.). Крестьянин был постоянным предметом насмешек для немецких писателей XV–XVI вв. Говорили: «Крестьянин отличается от быка только тем, что рогов у него нет».
(обратно)17
«Непобедимым еретиком» называл Лютера Агриппа Неттесгеймский (Epistolae, VII, 13).
(обратно)18
Автор называет Георга фон Фрундсберга (1473–1528) «победителем французов», вероятно, как участника битвы при Павии.
(обратно)19
Марсилио Фичино — итальянский гуманист (1433–1499).
(обратно)20
Дюрер в это время уже заканчивал свою жизнь (1471–1528), Рафаэль умер несколько лет назад (1483–1520), С. дель Пиомбо (1485–1547) и Микель-Анджело (1476–1564) были в расцвете своей славы, Б. Челлини (1500–1571) пользовался уже большой известностью.
(обратно)21
Кортец (1485–1547), после своих завоеваний в Мексике, приезжал в Европу весной 1528 г., был принят королем (т. е. Карлом V, который был одновременно и императором германским) в Толедо и получил титул маркиза Долины Оахаки.
(обратно)22
Название Америки было предложено (в космографии Мартина Вальтцемюллера) еще в 1507 г., но утвердилось за «Новой Испанией», «Новым Светом» или «Западной Индией» лишь значительно позднее(В Авторском экземпляре далее вычеркнуто: Автор «Повести», употребляя иногда слово Америка, предпочитает выражение «Новая Испания», которое означало собственно только Мексику.).
(обратно)23
Королевской Аудиенсией называлось высшее правительственное учреждение Мексики.
(обратно)24
Крупные верхненемецкие купцы уже с самого начала XVI в. стали основывать колонии в Америке. Вельзеры, как и Эллингеры, держали, в начале XVI в., в аренде медные рудники на Сан-Доминго; у Фуггеров были фактории на Юкатане; Кромбергеры владели серебряными рудниками в Сультепеке; Тецели — медными рудниками на Кубе (К. Лампрехт. История немецкого народа. М., 1896).
(обратно)25
Чикора (Chicora) — прежнее название Каролины. Тумбес (Tumbes) — город в Перу (J. Egli. Nomina geographica. Leipz., 1893).
(обратно)26
Эскудо — экю, испанская монета; здесь, конечно, имеются в виду серебряные эскудо. Иоахимсталеры — серебряные двойные гульдены, которые с 1517 г. стали чеканить графы Шлик в Иоахимстале. Пистоли — испанские золотые монеты, содержавшие 2 золотых эскудо. Монетная система в Германии XVI в. была крайне сложной и неопределенной.
(обратно)27
Анагуак — местность в Мексике.
(обратно)28
Коли понравилась тебе девка, // Так молчи, раз нет ни гроша (нем.).
(обратно)29
Раймонд Люллий (1235–1315) устроил особый прибор, вращающимися кругами которого можно было, как он думал, механически вырабатывать истины. То были зачатки алгебраической логики. «Реалисты» — последователи «реализма», одного из направлений средневековой философии, противоположного номинализму. «Miracula» и «Natura», чудеса и естественный ход вещей, — схоластические термины.
(обратно)30
«Имел я рыцарское право». В XVI в. рыцарство находилось в упадке, и рыцарями часто называли себя все военные люди, не имея на то формального права.
(обратно)31
«Никогда до того дня не видел я таких содроганий и не подозревал, что человеческое тело может изгибаться так невероятно». Эти истерические конвульсии, изученные ныне школою Шарко, были наблюдаемы и старинными врачами и описаны у И. Вира в его книге «Des illusions et impostures des diables» (L. I., chap. XII; о Вире см. прим. к гл. VI).
(обратно)32
«Освободи меня, Господи, от вечной погибели» (лат.).
(обратно)33
Св. Амалия Лотарингская, жена пфальцграфа Витгера, жила в VII в. Ягненок — эмблема св. Агнессы.
(обратно)34
«Благочестивейший», piissimus, — титул французских королей(В Авторском экземпляре далее вычеркнуто: Во Франции долго было распространено поверие, что прикосновение короля исцеляет все недуги.).
(обратно)35
Герцог австрийский Фердинанд — впоследствии император Фердинанд I (1503–1564).
(обратно)36
Рассказ Ренаты о явлении ей в детстве ангела Мадиэля принадлежит к числу типических рассказов такого рода. Ср., напр., рассказ Мадлэны де Ла-Круа, сожженной в 1546 г. (который приведен в книге: Jules Baissac. Les Grands Jours de la Sorcellerie. P. 1890).
(обратно)37
Лактанций Фирмиан — латинский писатель (около 250–330).
(обратно)38
«Перекидывались — он в волка, она в волчиху» — явление, известное в ту эпоху под названием ликантропии. Во Франции ликантропов называют loup garou(волк-колдун (фр.).). Деланкр посвятил ликантропии целую часть своего капитального труда (Pierre Delancre. Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons. Paris., 1612).
(обратно)39
Кресценция Дидрихская — героиня народных сказаний и немецкой поэмы XIII в., жена императора Дидриха (Теодориха).
(обратно)40
«Merenda» или «underimbiz» назывался в XVI в. ранний обед. В богатых немецких домах XVI в. ели четыре раза в день: рано утром (завтрак, frohstock, jentamen), позже (второй завтрак, frohmahl, prandium), среди дня (предобедие, underimbis, merenda), по окончании всех дел (обед, nachtmahl, caena). В более скромных домах ели дважды на дню, утром и вечером. В «Корабле дураков» Гейлера фон Кайзерсберга (1445–1519) приводятся стихи:
Ест кто однажды на дню, тот бог; человек тот, кто дважды; Трижды ест зверь; ест четырежды демон; и пять — его матерь.
Употребление вилок в начале XVI в. в Германии только входило в обычай.
(обратно)41
Ротвельш (от Rot — бродяга и Welsch — иностранец) — одно из немецких названий воровского языка.
(обратно)42
«Гадание и на костях, и на воске, и на картах» etc. — И. Вир (Livre II, chap. XII–XIII), кроме некромантии, перечисляет 25 видов гадания; Дель Рио в своей книге (Disquisitiones magicae) насчитывает еще гораздо больше.
(обратно)43
«Чудесный автомат Альберта Великого». Альберт Великий построил, после тридцатилетней работы, из разных металлов удивительный «андроид», который мог двигаться, совершать разные действия и во всем походил на живого человека. Андроид был разбит Фомою Аквинским, учеником Альберта, который заподозрил в машине присутствие дьявольской силы.
(обратно)44
Джангалеаццо Висконти — миланский герцог (1347–1402).
(обратно)45
«Мейссенский говор» считался одним из наиболее чистых диалектов немецкого языка. Общелитературный немецкий язык был создан Лютером, хотя уже на многих изданиях XV в. находим помету: nach rechter gemeinen deutsch(на правильном общенемецком языке (нем.).).
(обратно)46
Берг — некогда самостоятельное герцогство, теперь часть прусской Прирейнской провинции. Дюссельдорф стал столицей этого герцогства в 1511 г. Бахарах — город на Рейне, славившийся вином.
(обратно)47
«У льва» (нем).
(обратно)48
общий стол (фр.).
(обратно)49
Картина Сандро Филиппепи, т. е. Боттичелли, о которой говорит автор «Повести», известна теперь под названием «Отверженная» и находится в Риме, в собрании Паллавичини.
(обратно)50
Вставать в шесть, обедать в десять, ужинать в шесть, ложиться спать в десять, значит, прожить десять раз десять (фр.).
(обратно)51
Иоанн Бейкельсзон, или Боккольд, известный под именем Иоанна Лейденского, стал во главе анабаптистов Мюнстера в апреле 1534 г.; в июне 1535 г. город был взят войсками епископа, и Иоанн Лейденский казнен 23 января 1536 г.
(обратно)52
Св. Мартин и Св. Гереон — кельнские церкви; Сенаторский дом — ратуша; Собор Трех царей или Трех магов — Кельнский собор, работы по постройке которого были прерваны в конце XV в., чтобы возобновиться лишь в 1824 г. В XVI–XVIII вв. Кельнский собор представлял собою два отдельных здания, покрытых временной крышей и замкнутых, друг против друга, временными стенами.
(обратно)53
«Словно в первый круг ада Алигиери». Автор «Повести» намекает на известные стихи (Inf. III, 25–27):
Diverse lingue, orribile favelle, Parole di dolore, accenti d’ira, Voci alte e fioche…(Смесь всех наречий, говор многогласный // Слова, в которых боль и гнев, и страх, // Плесканье рук, и вопль, и хрип неясный… (Пер. Лозинского.) В Авторском экземпляре это примечание вычеркнуто.) (обратно)54
Городские рейтары — конная полиция.
(обратно)55
Альб — мелкая монета.
(обратно)56
Св. Куниберт, Св. Северин, Св. Апостолы и т. п. — различные кельнские церкви, Гюрцених — здание, построенное кельнцами в середине XV в., для приема высоких гостей. Капитолийская Мария — древняя церковь, освященная папою Львом IX в 1049 г. Паперть Св. Георга была закончена в 1536 г. «Святое воинство Гереона» — 318 мучеников, которые, по преданию, были с их вождем Гереоном замучены при преследованиях Диоклетиана; мощи их покоятся в церкви Св. Гереона. «Одиннадцать тысяч непорочных дев» — 11 000 девственниц, замученных, по преданию, со Св. Урсулою в VII в. близ Кельна — гуннами; мощи дев покоятся в церкви Св. Урсулы. «Громадное око Миноритов» — большое окно в портале церкви бр. миноритов.
(обратно)57
Кнек-бурса, Лаврентьевская у XVI домов — общежития для студентов Кельнского университета.
(обратно)58
Мастер Герард — архитектор XIII в., заведовавший тогда постройкой Кельнского собора. Генрих фон Вирнербург — архиепископ Кельнский, освятивший в 1322 г. отстроенные к тому времени части собора. Ни собор Св. Петра в Риме, ни Миланский собор не были закончены, когда происходило действие «Повести» в начале XVI в.
(обратно)59
Уверенность, что существуют «духи», которые дают о себе знать стуками и с которыми, при помощи этих стуков, можно вступить в разговор и в общение, — не составляет исключительного достояния современных спиритов. Известны чисто «спиритические» явления, относящиеся к XVI, XVII и XVIII векам, причем оказывается, что задолго до знаменитого 1848 г. уже были установлены знаки для сношения со стучащими духами (см. статьи В. Я. Брюсова «Спиритизм до Рочестерских стуков» в «Ребусе», 1902 г.).
(обратно)60
знать грешно (лат.).
(обратно)61
Гарчильясо де Вега — испанский поэт (1503–1536).
(обратно)62
вывод (лат.).
(обратно)63
так как (лат.).
(обратно)64
ни король, ни тура (исп.); здесь: никто.
(обратно)65
Сохранилось немало рецептов той мази, которой намазывали себя ведьмы и ведуны перед полетом на шабаш. Вот один из таких рецептов, сообщаемый Иеронимом Карданом (1501–1576): сваренный жир младенца, сок опихи (opium), волкозуб (aconitum), жбаник (potentilla reptans), паслен (solarium), сажа (Hieronymus Cardanus. De Subtilitate. Lib. XVIII).
(обратно)66
Объяснение слов «Emen — hetan» дает Деланкр (Р. Delancre, Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons. Paris, 1612).
(обратно)67
удивительный художник (лат.). — Artifex mirabilis — обычное выражение о Дьяволе. Лютер также говорит: «Diabolus potens et mirabilis spiritus est» (Дьявол — дух могущественный и удивительный (лат.).) (Gen, с 40).
(обратно)68
«Какая сила» etc. Схоластики затруднялись признавать реальность полета ведьм и ведунов на шабаш. Альберт Великий и Фома Аквинский клонились к тому, чтобы считать эти полеты «фантастическими», «phantastici». Напротив, Гюго де-Сен-Шер и многие другие настаивали на их реальности. (Свод мнений по этому вопросу см. в книге Н. Сперанского: Ведьмы и ведовство.) Ведьмы чаще всего переносились на шабаш верхом на козле, но пользовались для этого также метлами, граблями, палками.
(обратно)69
Мастер Леонард, иначе называемый Великий Негр, по учению демонологов (Дель-Рио, Деланкра, Бодэна и др.) — демон первого чина, заведующий черной магией, постоянный председатель шабашов (Dictionnaire Infernal, par M. Collin de Plancy. 2 ́еd. P. 1825, Ĺеonard).
(обратно)70
«Кто-то другой, стоявший близ трона, низкого роста и безобразный». — Иоганн Мюллин (у французов — maоtre Jean Mullin), лейтенант мастера Леонарда.
(обратно)71
Сарацинка, т. е. арабка (от арабск. sarqin — восточные, т. е. арабы).
(обратно)72
танец со шпагами (исп.).
(обратно)73
«Помилуй нас!», «Молись за нас!» (лат.).
(обратно)74
Беанами в старонемецких университетах называли новичков.
(обратно)75
прислуживающих (лат. minister).
(обратно)76
Инкуб — демон, вступавший в телесное общение с женщиной; суккуб — демон, вступавший в такое общение с мужчиной. Демонологи учили, что искусственное тело демонов не могло заключать в себе естественного мужского семени. Поэтому демон, явившись в одном месте суккубом, сберегал полученное семя, чтобы использовать его в другом месте, когда явится инкубом.
(обратно)77
Кодр Урцей — писатель XV в., получивший известность своими свободными взглядами на религию и нравственность.
(обратно)78
Описание шабаша дают: Del-Rio, Delancre, Bodin, Maiol, Leloyer, Danaeus, Boguet, Monstrelet, Torquemada, «Flagellum hereticorum», «Malleus maleficarum» и многие другие источники. Частью там же, частью в судебных протоколах инквизиционных и иных судов сохранились подлинные показания обвиняемых в полете на шабаш (Из новых сочинений, трактующих о шабаше, см.: J. Michelet. La Sorcíеre. 1861; Roskoff. Geschichte des Teufels. 1869; Heppe-Soldan. Geschichte der Hexenprocesse. 1880; Bourneville et E. Teinturier. Le Sabbat des Sorciers. 1882; J. Baissac. Les Grands Jours de la Sorcellerie, 1890; F. Helbing. Die Tortur. 1907, и мн. др.).
(обратно)79
искусством гадания (от лат. divinatio — гадание).
(обратно)80
Здесь: книга малого формата (лат. opuscula).
(обратно)81
М. Дель-Рио (1551–1608) различает четыре рода магии: naturalis, artificialis, praestigiatrix, daemoniaca. Агриппа — только три: mathematica, naturalis, veneficia, ставя отдельно гойетейю, или некромантию. Отличали еще белую магию, которая опиралась на силы ангелов, а не демонов. Церемониальная магия называлась иначе оперативной.
(обратно)82
О Иоганне Райме то же самое говорил Агриппа в своем известном обличительном письме к кельнским властям, 11 января 1533 г. Упоминаемые далее сочинения известны нам в следующих изданиях: Ulricus Molitor. De lamiis et phitonicis mulieribus. Tractatus ad illustrissimum principem dem Sigismundum archiducem austriae. Anno Dni 1489 (s. l), Martinus, concionator Tubing. Opusculum de sagis maleficiis. C. preafat. in. Bebelij. In aedibus Th. Anshelmi imp. S. Stir. 1597; Jac. Hochstraten, ord. Praed. Ad. Philippum archiep. Coloniae tractatus magistralis, declarens quam gravier peccent quaerentes auxillium a maleficis. Colonia. Mart de Werdena. 1510.
(обратно)83
Ульрих Целль почитается старейшим Кельнским типографом; его издания, большею частью помеченные «apud Lyskirchen», известны с 1466 г. и ценились долгое время как образцовые. Иоганн Сотер — типограф, работавший в Кельне в начале XVI в. Общеизвестны имена создателя «альдин» — Альдо Мануция, работавшего в Венеции (с 1495 г.), и Генриха Стефана, или Этьена (1460–1520), члена известной семьи типографов, работавших в Париже.
(обратно)84
труд… «Тайна святой Гертруды к приобретению тленных сокровищ и благ» (нем.). — «Das Geheimniss der heiligen Gertrudis zur Erlangung zeitlicher Schatze und Giiter». Издано в Кельне в 1506 г. Рукописи: «Buch Mosis und dreifacher Hallenzwang», «Machtige Beschwarung der hallischen Geister» и «Hauptzwand der Geister zu menschlichen Diensten», теперь напечатаны, на основании монастырских рукописей конца XV и начала XVI в. в издании: Bibliotheca Magica, Koln, 1810.
(обратно)85
«Книга Моисея и тройное адское принуждение», «Могучие заклинания адских духов», «Главное принуждение духов к служению людям» (нем.).
(обратно)86
«О колдуньях и насылающих бедствия женщинах»… труд «О чародейских предсказаниях»… «Молот ведьм» (лат.). — Что касается трактата Malleus maleficarum in tres partes divisus, inquibus concurentia ad maleficia (etc.) continetur Шпренгера и Инститора, то после своего первого появления (Кельн, 1487) он постоянно переиздавался и в короткое время приобрел такой авторитет, что его называли liber santissimus(священнейшая книга (лат.).), и папа Иоанн XXIII рекомендовал его как руководство епископам.
(обратно)87
«Как тяжело грешат ищущие спасения в чародействе» (лат.).
(обратно)88
«Естественная философия»… «Элементарная магия» (лат.).
(обратно)89
«Генрих Корнелий Агриппа из Неттесгейма, об оккультной философии. Три книги» (лат.).
(обратно)90
«Тут, наконец, попали в мои руки» etc. Называемые далее писатели действительно считались в XVI в. авторитетами по магии. Сходный перечень находим у Ж. Вира (1. II. ch. IV). Творения Альберта Великого (1195–1280) были изданы, более или менее полностью, лишь в 1651 г.; но отдельные его сочинения были широко распространены в конце Средних веков. Из магических сочинений Арнольда де-Вильнев (ум. 1314) особенно ценились: «De phisicis ligaturis» и «De sigillis duodecim signorum»; Роджера Бэкона «De mirabilis potestate artis et naturae». Ансельм Пармезанский (ум. 1440) известен как алхимик, но Вир (Liber apologeticus) относит его к числу магиков. Пикартикс (XIII в.) и особенно аббат Иоанн Тритгемий (1462–1516) — авторитеты по магии, как и Петр Апонский (или Абанский, 1250–1316), сочинения которого часто приписывались Агриппе. Первое печатное издание сочинения Агриппы (см. ниже, гл. VI) «De Occulta Philosophia» помечено: июль 1533 г.
(обратно)91
«Уксус мудрецов», «голова ворона» etc. — алхимические термины.
(обратно)92
«Sententiae», «Processus», «Copulata», «Reparationes» — схоластические учебники.
(обратно)93
«Познать природу демонов» etc. У Анания Таберната, в его книге «De natura Daemonum» (1458), находим сходные слова: «Daemonum naturam corumque vim nosse rem summe arduam ac difricilem semper extitisse» (Всегда признавалось, что познать мощь демонов вещь очень сложная и трудная (лат.).).
(обратно)94
Предание говорит, что св. Киприан и св. Анастасий были в юности могущественными чародеями. В конце Средних веков пользовались большой славой магические формулы, приписываемые св. Киприану (Cypriani citatio angellorum, Dimisso Cypriani, etc). (Bibliotheca Magica, Keln, 1810).
(обратно)95
учитель с товарищем (лат.).
(обратно)96
«По заслугам твоих ангелов, Господи, облачаюсь в одеяние спасения, дабы то, что желаю, мог я привести в исполнение» (лат.). (Пер. В. Брюсова.)
(обратно)97
освященная книга (лат.).
(обратно)98
«Окропи меня, Господи» (лат.).
(обратно)99
«Мы, созданные по образу божию, одаренные его властию и созданные по его воле, могущественнейшим и сильнейшим именем бога, Эль, весьма дивным, вас заклинаем…» (лат.). (Пер. В. Брюсова.)
(обратно)100
«Се — пятиугольник Соломона, который я поставил пред вами…» (лат.). (Пер. В. Брюсова.)
(обратно)101
Услышь, Анаэль. Я, Рупрехт, недостойный служитель бога, заклинаю, требую и зову тебя не по своей мощи, но силою, доблестью и могуществом Бога Отца, искуплением и спасением Бога Сына, и силою и разрешением Бога Духа Святого. Этим понуждаю тебя, где бы ты ни был, в море или в бездне, на воде или в огне, в воздухе или на суше, чтобы ты, демон Анаэль, тотчас предстал предо мною в пристойной человеческой форме. Итак, явись поспешно по доблести сих имен: Айа Сарайа, Айа Сарайа, Айа Сарайа, не промедли явиться по силе вечных имен Элои, Архима, Рабур, поторопись явиться по силе личности поклявшегося заклинателя, со всем спокойствием и терпением, без какого-либо шума, без вреда для моего и других людей тела, без лжи, обмана, хитрости. Заклинаю и принуждаю тебя, демон сильный, во имя Он, Хей, Хейа, Иа, Иа, Адонай и во имя Садаи, сотворившего четвероногих, пресмыкающихся и человека в шестой день, и во имя ангелов, служащих в третьем воинстве пред ликом Дагиеля, великого ангела, и во имя звезды, которая есть Венера, и по печати ее, которая есть свята, — тебе, Анаэль, поставленного над шестым днем, дабы ты для меня старался… (лат.). (Пер. В. Брюсова.)
(обратно)102
Что медлишь? спеши! повинуйся повелителю твоему во имя господа Батат, стремясь на Абрак, являясь. Быстро, быстро, быстро! Явись, явись! (лат.). (Пер. В. Брюсова.)
(обратно)103
«Удались поспешно, прочь, немедленно исчезни!» (лат.). (Пер. В. Брюсова.)
(обратно)104
«Через него самого и с ним самим и во имя его» (лат.).
(обратно)105
Наиболее полная биография Агриппы Неттесгеймского из числа известных нам: Aug. Prost. Corneille Agrippa, sa vie et ses оeuvres. Paris, 1882 (2 vol.). По-русски об Агриппе см. брошюру: «Агриппа Неттесгеймский», критико-биографический очерк Жозефа Орсье, перевод под ред. и с примечаниями Валерия Брюсова. К-во «Мусагет». М., 1913.
В Бонне Агриппа жил, после своего пребывания в Нидерландах, с ноября 1532 до начала 1535 года, поступив на службу к архиепископу Кельнскому Герману фон Виду (арх. с 1515 по 1547 г., ум. в 1552 г.).
(обратно)106
непосвященной черни (лат.).
(обратно)107
добрый знак, доброе предзнаменование (лат.).
(обратно)108
«Ученейшему высокопочтенному мужу Генриху Корнелию Агриппе, ближайшему другу, Годфрид Геторпий» (лат.). — Готфрид Геторпий был издателем многих сочинений Агриппы и его корреспондентом.
(обратно)109
«Всякие небылицы» составляли главное содержание старых биографий Агриппы. Основою их были сочинения: A. Thevet. «Les vrais portraits et vies des hommes illustres» (1584); P. Jovius. «Elogia virorum litteris illustrium» (1577); M. Del-Rio. «Disquistiones magicae» (1599) и др.
(обратно)110
Понтимуссы — латинское название города Pont-а-Mousson (J. Egli, Nomina geographica, Leipz. 1893).
(обратно)111
день пагубный (лат.).
(обратно)112
В переписке Агриппы упоминаются его «ученики»: Аврелий, Августин, Эммануэль; Иоганн Вейер (Жан Вир) вступил в число учеников Агриппы в 1533 г. Как известно, в XVI в. «ученики», группировавшиеся вокруг выдающихся художников, философов, ученых, занимали в их доме место среднее между членом семьи и слугою.
(обратно)113
Гостиница «Жирных Петухов» в Бонне несколько раз упоминается в письмах «Темных людей». «Explicuit contractae seria frontis». Hor. Serm., lib. II, eсl. II, 125.
(обратно)114
Шарлахерберг — поныне знаменитое вино из окрестностей Бингена.
(обратно)115
О «забавных» обрядах, долго державшихся в Германии, в праздник Св. Катарины (25 ноября) и в ночь на День Св. Андрея (29–30 ноября), см., напр.: A. Schultz. Das Hausliche Leben Europeischen Kulturvalker. Munchen. 1903.
(обратно)116
«Спутники» (или «телохранители») вместо «панталоны». — «Trabanter wie jene Jungfrau, die nicht gerne das Bruch nent, sagt» («Спутники», как молодая девица говорит, которая никогда не скажет «панталоны» (нем.).) — выражение XVI века.
(обратно)117
В предисловии к своему сочинению «О сокровенной философии» Агриппа говорит, что, написав свою книгу в юности, он сообщил ее аббату Тритгейму, после чего она стала ходить по рукам, в Италии, Франции и Германии, причем даже собирались ее напечатать; это будто бы его и побудило самому напечатать свой юношеский труд, сделав в нем только несколько незначительных поправок.
(обратно)118
магическую книгу (от фр. grimoire).
(обратно)119
Приключение с Гансом Вейером (Жаном Виром), укравшим книгу гримуаров, рассказано им самим (Prost., II, 398). В духе легенды оно пересказано М. Дель-Рио (Disquisitionum magicarum, lib. II, sectio I, q. 19) и вошло во все старинные биографии Агриппы.
(обратно)120
В Клингенберге на Майне,// В Вюрцбурге на камне,// В Бахарахе на Рейне//Созревают лучшие вина! (нем.). — О винах, распространенных в XVI в., см. современную книжку: Vinс. Obsopocus. Vonn der Kunst zu trinken. Uebers. V. Georg Wicram. Freb. i. Br. 1537. (Новое издание: Keln, 1891.)
(обратно)121
«Закрыли женский монастырь, и все монахини перешли в публичные дома». Подобный случай имел место в Нюренберге в 1526 г.
(обратно)122
«Кводлибетарий». Раз в году в средневековых университетах весь артистический факультет, магистры, бакалавры и схоляры, с ректором и деканами во главе, собирались на главную словесную битву — disputatio de quodlibet(диспут на любую заданную тему (лат.).). Руководитель этого диспута назывался — quodlibetarius.
(обратно)123
женщина (лат.).
(обратно)124
Ганс Вейер, или Жан Вир (немецкая его фамилия была Weyer, в латинской форме Wierus, во французской передаче Wier), род. в 1515 г., ум. в 1588-м. Те же соображения, которые автор «Повести» передает от его имени, были позднее им изложены в его сочинении: «De prestigiis daemonum et incantationibus ас veneficiis» (Базель, 1563). Основная мысль этого сочинения в том, что так называемые «ведьмы» суть больные женщины, которых надо лечить, а их судьи — палачи. Появление трактата Вира произвело сильное впечатление; за 14 лет трактат вышел в пяти изданиях и вызвал множество возражений, на которые Вир отвечал «Апологетической книгой» («Liber apologeticus»). Особенно резко нападали на Вира инквизиторы М. Дель-Рио и Варфаломей Спина и знаменитый Ж. Бодэн (1530–1596), посвятивший в своем сочинении «Demonomanie des sorciers» особый отдел «Опровержению мнений Жана Вира». Между прочим, в этой книге Бодэн доказывал несомненную связь Вира с дьяволом тем фактом, что в юности Вир водил на веревке собаку Агриппы, которая была не кто иной, как дьявол. Еще в XVI в. появился французский перевод основного сочинения Ж. Вира: Jean Wier. Histoires, disputes et discours des illusions et impostures des diables. Paris. 1579. Переиздание; Paris, 1885.
(обратно)125
дружище (лат.).
(обратно)126
Агриппа был женат трижды и имел семь человек детей. Биографы знают имена только трех сыновей: Гэмона (род. 1522), Генриха (род. 1524) и Иоанна (род. 1525). Из остальных некоторые умерли в раннем детстве. Сам Агриппа в письме, относящемся к 1528 г. (Ер. V, 43), насчитывает в своей семье десять человек: отца, мать, четырех детей, служанку, двух слуг и мальчика. Имена служанок и слуг упоминаются в переписке Агриппы так же, как и имена собак (Ер. V, 76, 84 etc.). В собрании сочинений Агриппы приведено пять латинских стихотворных эпитафий Filiolus’y.
(обратно)127
Сыночка (лат.).
(обратно)128
До нас дошло 451 письмо из переписки Агриппы. Среди корреспондентов Агриппы действительно были величайшие ученые того времени (Эразм), коронованные особы (император Карл V, принцесса Маргарита Австрийская, королева Мария Венгерская), высшие духовные лица (Лев X, кардинал Кампеджи) и т. д.
(обратно)129
«Facetiae», веселые новеллы, Дж. Поджо Браччолини (1380–1459).
(обратно)130
Идиллии Якопо Саннацаро (1458–1530) «Arcadia», написанные по-итальянски, пользовались всю первую половину XVI века громкой славой.
(обратно)131
Дамианом издано в 1512 г. руководство к шахматной игре.
(обратно)132
«Агриппа несколько туг на ухо». Мы знаем это, между прочим, из «Пантагрюэля» Рабле, где Агриппа выведен в комическом виде, под прозрачным псевдонимом: Her Trippa(Господин Триппа (нем.).).
(обратно)133
«ученейший учитель» (лат.).
(обратно)134
«Милостивый государь» (фр. Monsegnieur); в Средние века во Франции титул герцогов, пэров и т. п.
(обратно)135
«Epistola apologetica ad clarissimum urbis Agrippinae Romanorum Coloniae senatum» — было напечатано в начале 1535, в Бонне(Между звездочками (*) дан текст, вычеркнутый в Авторском экземпляре.) *. В своих жалобах Агриппа вспоминает подлинные обстоятельства своей жизни. Он именовал себя доктором медицины, хотя не получал такой степени ни в одном из университетов, и, довольствуясь привилегией, полученной в 1523 г. от города Фрибурга, занимался медицинской практикой до 1530 г., пока ученая корпорация Антверпена не вынудила его от этого отказаться *. На службу к императору, как историограф, Агриппа вступил в 1530 г.*, имея в виду, по собственному признанию, посвящать своей должности только свободные минуты; это не мешало ему в письмах горько жаловаться на то, что жалованье ему платят неисправно *. В тюрьму за долги Агриппа был брошен в Брюсселе в 1531 г.
(обратно)136
Взгляды Агриппы на магию резко отличают его от других магиков XVI в., делают его предшественником учения современных «оккультистов», которые и ценят высоко его сочинения. Однако надо помнить, что сам Агриппа дает своим последователям знаменитый совет: Sile, cela, occulta, tege, tace, mussa(Молчи, таи, прячь, прикрывай, не говори, помалкивай (лат.).).
(обратно)137
«Я не неаполитанец». У Дж. Понтана (1426–1503) читаем в его «Historia Neapolitana»: «Neс est quod Neapoli quam hominis vita minoris vendatur» («Неаполитанской истории»: «Человеческая жизнь нигде не продается так дешево, как в Неаполе» (лат.).).
(обратно)138
«Вечная молодость». Алхимики верили, что «философский камень», обращающий все металлы в золото, дает, в то же время, в известном растворе, эликсир жизни. Предание прибавляло, что число лиц, знающих тайну этого эликсира, не может превышать одиннадцати. Когда новый алхимик, в свой черед, открывал тайну эликсира, один из одиннадцати должен был умереть.
(обратно)139
Пифагор почитается в числе «великих божественных посланников»; Плотин в числе «великих посвященных». Хирам, по преданию, обладал властью над стихийными духами, которые и помогали воздвижению Соломонова храма.
(обратно)140
«Звери Востока и Запада» — Магомет и папа.
(обратно)141
«Эмблема сына господня, озаренная светом» — знак розы и креста, позднее ставший эмблемой ордена розенкрейцеров (XVIII в.).
(обратно)142
«Семь ступеней из свинца, латуни, меди, железа, бронзы, серебра и золота» — мистическая лестница алхимиков, принятая позднее и франкмасонами.
(обратно)143
«Пэмандр» — первая из «герметических» книг, диалог о мудрости и могуществе творца, разысканный в XV в. и тогда же переведенный на латинский язык Марсилием Фичино.
(обратно)144
Гермес Трисмегист(Гермес трижды великий (лат.).) — предполагаемый автор сочинений, известных под названием «герметических книг», в том числе «Изумрудной скрижали» (отрывок). «Пентаграмма» — пятиконечная звезда, «один из наиболее полных пентаклей, какие только можно себе представить». «Тернер», или «тернарий», — сочетание элементов по три, которое символически знаменует: Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого; крайнее, среднее, нижнее; невинность, мученичество, исповедничество; движимое, неподвижное, общее. «Кватернер», или «кватернарий», — соединение элементов по четыре, «квинарий» — по пяти и т. д. Учение о мистическом значении чисел, основанное Пифагором на халдейском предании, было развито магиками XVI в. Позднее (XVIII в.) учение о мистике чисел развил К. фон-Эккартсгаузен. Сходные идеи развиты современными оккультистами, преимущественно французскими (Eliphas Levi, St. de Guaita, Fabre d’Olivet, M. de Figaniures, St. — Ives d’Alveydre и др.).
(обратно)145
«Рыцари Храма» — тамплиеры, орден, основанный в 1118 г., магистр и важнейшие члены которого, после громкого процесса, были осуждены и сожжены на костре (в 1310 г.).
(обратно)146
«Две двери». Verg. Aen. VI. 894 sqq.
(обратно)147
Scientia est assimilatio scientis ad rem scitam, scientia est sigillatio scibilis in intellectu scientis(Наука есть уподобление познающего познаваемому, наука есть запечатление познаваемого в разумении познающего (лат.).) — схоластические аксиомы.
(обратно)148
«Первый народ земли». Согласно оккультным учениям, первобытные люди обладали способностью воспринимать не явления, но сущность вещей. Поэтому мы тем ближе к истинному пониманию мира, чем ближе к древнейшему преданию. (Мистическая история человечества рассказана Фабром д’Оливье в его сочинении: «Histoire philosophique du genre humain», 1 ed, P. 1822.)
(обратно)149
В XV и начале XVI в. дуэли достигли громадного распространения во Франции. Здесь им покровительствовали короли, лично дававшие дворянам разрешение выйти на поединок, en champ clos(Загороженное место для поединка (фр.).). Так продолжалось до 1547 г., когда Генрих II, после того как на дуэли был убит его фаворит, воспретил поединки.
(обратно)150
«Прекраснейшее, что принадлежит нам, есть честь». Выражение Рейхлина в частном письме, от 6 августа 1514 г.; в XVI в. письма выдающихся людей широко распространялись в списках.
(обратно)151
«Сами венценосцы». Намек на вызов на поединок, посланный Франциску I — Карлом V (1582 г.).
(обратно)152
Жак Понц и Петер Торрес составили трактат о фехтовании (1474 г.).
(обратно)153
семья (лат. familia).
(обратно)154
Старинный университет делился на четыре факультета: богословский, юридический, медицинский и артистический. Артистический составлял преддверие к высшим, и на нем изучались семь свободных искусств, делившихся на trivium (грамматика, диалектика, риторика) и quadrivium (геометрия, арифметика, астрономия, музыка). Существовали три академические степени: бакалавра, лиценциата и магистра (или доктора). Степень бакалавра давала права преподавать (licentia docendi), но с некоторыми ограничениями. Начало самостоятельного преподавания называлось инцепцией. Достижение высших степеней было связано с большими расходами (промоции) на подарки профессорам, на угощение товарищей и т. под.
(обратно)155
«Старый спор поэтов с софистами» — распря между «поэтами», как называли себя гуманисты, и «софистами», как называли они сторонников средневековой философии, разгоревшаяся в 10-х и 20-х годах XVI в. в университетах Эрфуртском, Лейпцигском, Виттенбергском и др.
(обратно)156
В Средние века студентам воспрещалось ношение оружия. С XVI в. этот обычай, равно как и ношение студентами особого полумонашеского платья, был оставлен, и студенческие дуэли в Германии начали входить в обычай. «Докторами-по булле», doctores bullati, назывались лица, получившие ученую степень не путем законным, в университете, но по милости, дарованной императором, папою или князем.
(обратно)157
Пивные в Германии получили распространение с начала XVI в.
(обратно)158
Конец XV и начало XVI в. были в Германии эпохой полного обнищания крестьянства и постепенного прикрепления их к земле. Политические памфлеты, появившиеся перед крестьянским восстанием 1525 г., как и различные «петиции» и «программы» того времени, переполнены примерами жестоких притеснений, которым дворяне подвергали крестьян.
(обратно)159
Линденталь — ныне предместье Кельна, с лесом, называемым «городским» (Stadtwald).
(обратно)160
«Ганса Гольбейна», вероятно, младшего (1497–1543).
(обратно)161
Искусство фехтования было уже достаточно развито в Европе XVI в. Первый фехтовальный союз, св. Марка, был основан в Германии в 1487 г., во Франкфурте-на-Майне.
(обратно)162
Cempoalla — приморский город в Мексике, под которым Кортец одержал одну из своих побед в 1520 г.
(обратно)163
Черный плащ и круглая шляпа были обычной одеждой немецких медиков XVI в. Медицина Средних веков заключала о пользе тех или других лекарств не столько на основании опыта, сколько на основании умозрений. Только с 30-х годов XVI в. фармакология вступила на истинно научный путь после работ Буонафеде, Нордуса, де Орта и др.
(обратно)164
«Как райские птицы воздухом». В Европе об этих птицах ходили самые невероятные рассказы, принимавшиеся на веру естествоиспытателями, в том числе и тот, будто райские птицы никогда не садятся и питаются воздухом.
(обратно)165
В старину рождественские праздники в Германии были связаны с целым рядом обрядов и обычаев, напр., 28 дек. юноши стегали девушек лозами, а те откупались пирожками и т. под. Обычай устраивать в ночь под Рождество в церкви вертепы и изображать поклонение волхвов не вывелся до сих пор. Лучшая коллекция таких вертепов, художественно выполненных, имеется в Мюнхене (A. Schultz. Das Hausliche Leben. Munchen) (1903).
Средние века и эпоха Возрождения были очень богаты странствующими забавниками всякого рода: фокусниками, акробатами, показывателями диковинок и т. д., которых по-латыни называли joculatores, по-французски — jongleurs, по-немецки — Spielleute. До нас дошло немало зазывательных объявлений (афиш и листков) от таких предпринимателей, с изображением разных редкостных животных (Th. Наmре. Die fahrende Leute. Leipz. 1902).
(обратно)166
Человек Божий (лат.). — Что на лице человека написано Homo Dei, — мысль Бертольда Регенсбургского (XIII в.). Что Иерусалим — центр земли, обычное мнение средневековых картографов. Что на земле столько видов растений, сколько на небе звезд, и что изумруд разбивается, если при нем совершается любовный грех, — мнение Конрада Мегенбергского (XVI в.) (Г. Эйкен. История и система средневекового миросозерцания. Спб., 1907).
(обратно)167
вступления (лат. exordium).
(обратно)168
«Образуя своими сочетаниями мистические буквы D, I, L». Сходное видение есть у Данте (Paradiso, XVIII, 76–78). Указанные буквы образуют начало фразы: Diligite justitiam quid indicatis terram(Возлюбите справедливость вы, судьи земные (лат.).).
(обратно)169
Бригиттианский орден допускал в одном монастыре мужчин и женщин.
(обратно)170
Гуманист Яков Вимфелинг (Wimpheling, 1450–1528) — защищал идею свободы совести. Пфеферкорн (XVI в.) и Яков Гогстратен (1454–1527), на которых направлено особенно много ударов в «Письмах темных людей», издали немало чисто богословских сочинений.
(обратно)171
Книга «О подражании Христу» приписывается обычно Фоме Кемпийскому. Один из «Enchiridion», первоначально изданный в 1525 г. в Страсбурге, был перепечатан в новое время facsimile(точное воспроизведение (лат.).). (Erfurt, 1848); книга Ланцкраны известна в следующем издании: Siephan Lanzkranna, propst zu St. Dorotheen in Wien. Das Buch ist genannt die Hymmelstrass, Augsburg, 1501. Трактат Леандра, архиепископа Севильского, написан в VI в., печатных изданий этого трактата, относящихся к началу XVI в., нам неизвестно. Бернард Клервосский канонизирован в 1174 г.; Норберт Магдебургский — в XII в.; Франциск Ассизский (1182–1226) еще при жизни почитался за святого; его первые жития появились тотчас по его смерти. Елизавета Венгерская, ландграфиня Тюрингенская, канонизирована в 1235 г.; Екатерина Сиенская — в 1461 г.
(обратно)172
«Маленькое руководство, которое полезно иметь при себе, к нынешнему Христову празднику» (нем.).
(обратно)173
«Путь на небо» (нем.).
(обратно)174
«Путеводитель ума» (лат.). — Иоганн Бонавентура, «серафический доктор» (1221–1274), канонизирован в 1482 г. и папою Сикстом V причислен к пяти величайшим учителям церкви. Его «Itinerarium mentis in Deum» существует во многих изданиях. «Summe theologiae in tres partes distributa» — главное сочинение Фомы Аквинского, «универсального доктора» (1226–1274), канонизированного в 1323 г., осталось не оконченным автором. Католическая церковь, после некоторого колебания, признала трактат Фомы «таким творением, которому радуется сам Христос».
(обратно)175
«Сумма теологии» (лат.).
(обратно)176
Цифры ударов бичом и др., по преданию, были сообщены в видении Иисусом Христом святой Елизавете, святой Бригитте и святой Мельхуде. Эти цифры перечислены в старинной книжке, переизданной в начале XIX в.: La Clef du paradis et le chemin du ciel. P. 1816.
(обратно)177
Бертольд Регенсбургский в середине XIII в. ходил по всей Германии, собирая вокруг себя своими проповедями тысячи слушателей; его считали пророком и чудотворцем. Некоторые из его проповедей были в свое время изданы.
(обратно)178
Загорелись огни, и союза свидетель горный эфир // и нимфы на высях стонали утесов. Verg. (Вергилий), Аеп. («Энеида»), IV, 167-8 (лат.). (Пер. и прим. В. Брюсова.). — Fulsere ignes etc. Verg. Aen. IV, 167-8.
(обратно)179
«Фильтром» называется привораживающее зелье, то есть питье, внушающее любовь.
(обратно)180
На обычаи Валентинова дня, распространенные у всех германских народов, намекает Офелия в одной из своих песен. Молодой человек обязуется служить весь год той девушке, которая первая взглянет на него в этот день и поцелует его.
(обратно)181
«Откровения св. Бригитты под ред. кардинала Туррекрематского» (лат.). — Sanctae Brigittae revelationes ex recensione cardinalis de Turrecremata. Lubeck, 1492. Переиздания: Антверпен, 1611; Кельн, 1628. Книга имела значительный успех, была переведена на французский язык, и Торквемада представил похвальный отзыв о ней Констанскому собору.
(обратно)182
«Смилуйся, Христос, над рабами твоими…» (лат.).
(обратно)183
«Марпезийская скала». Verg. Aen. VI, 470-1.
(обратно)184
Книга Baldassare Castiglione (1478–1526) «Il Cortegiano», — в диалогах рисует тип идеального придворного.
(обратно)185
Как известно, Фауст — лицо историческое. Целый ряд писателей XVI в. упоминает о Фаусте: аббат Тритгемий, Конрад Муциан Руф, Иоаганн Гаст, Иоганн Вир (Вейер), Лютер, Меланхтон и др., но, по-видимому, они говорят о двух лицах, Фаусте старшем и младшем. Иоганн Фауст родился близ Вюртенберга, в конце XV в., учился в Кракове, потом путешествовал, выдавал себя за чудотворца, читал лекции и умер в начале 40-х годов XVI в. Первое жизнеописание Фауста было издано в 1587 г. некиим Иоганном Шписсом: «Historia von D. Johann Fausten». Gedruckt zu Frankfurt am Mayn, durch Johann Spies. MDLXXXVII. Эта старейшая книга о Фаусте перепечатана, вместе с другими историческими материалами, касающимися Фауста, в издании: Doctor Johann Faust. Von J. Scheible. Stuttgart. 1846. Наиболее обстоятельный обзор всего, что мы знаем о Фаусте, принадлежит К. Кизеветтеру: Carl Kiesewetter. Faust in der Geschichte und Tradition. Leipzig, 1893; Histoire de la ĺеgende de Faust par Ernest Faligan. Paris, 1888.
(обратно)186
Деревянный журавль на крыше неоконченного Кельнского собора высился в течение нескольких столетий. В таком виде собор изображен на целом ряде гравюр XVI–XVIII вв.
(обратно)187
Тела евангельских трех волхвов были перенесены в Константинополь императрицей Еленой; позднее переданы в Милан, а после разрушения Милана, в 1164 г., благодаря содействию Фридриха Барбароссы, — в Кельн. Шписс рассказывает о посещении Фаустом Кельнского собора и мощей трех волхвов и предание, называя трех евангельских волхвов по именам (Мельхиор, Балтазар, Каспар), говорит, что они были крещены в Парфии апостолом Фомою.
(обратно)188
Солиман II Великолепный — султан с 1520 по 1566 г.
(обратно)189
Княгиня Елена — т. е. княгиня Елена Васильевна, вдова Василия III, правившая с 1533 по 1538 г.
(обратно)190
«О тайной философии» (лат.).
(обратно)191
Вино! Вино! // С Рейна! (нем.).
(обратно)192
шута, скомороха (от нем. Gauck’ler).
(обратно)193
Проделку Фауста с виноградом рассказывает Шписс.
(обратно)194
обо всем познаваемом (лат.). — Выражение: De omni re scibili — девиз Пико делла Мирандола. Продолжение этого изречения et quibusdam allis(и еще кой о чем ином (лат.).) возникло позже и, может быть, принадлежит Вольтеру.
(обратно)195
Юдициарной астрологией называли в XVI в. то, что мы теперь называем просто астрологией, так как просто астрологией называлась вообще наука о звездах, т. е. наша астрономия.
(обратно)196
Лоллардами назывались члены религиозных общин, возникших в XIV в. и распространившихся в Англии, Нидерландах и Германии. Во время Реформации лолларды были ее энергичными сторонниками. В «Письмах темных людей» выражение «лоллард» употребляется иногда в смысле вообще еретика.
(обратно)197
События, о которых поминает здесь автор «Повести», относятся к концу 1533 и к 1534 г., когда к Шмалькальденскому союзу примкнули многие новые члены (города Аугсбург, Франкфурт, Ганновер и др.), когда продолжалось сопротивление мюнетерских анабаптистов войскам архиепископа, когда Генрих VIII побудит парламент издать «Устав о королевской власти», когда в Швеции вводил Реформацию Густав Ваза, а в Дании, по смерти короля Фридриха I (1533), шла борьба между католиками и протестантами, кончившаяся торжеством последних(В Авторском экземпляре это примечание вычеркнуто.).
(обратно)198
«Два ключа» (нем.).
(обратно)199
Карстганс — кличка, данная мужику вообще. Один из диалогов Гуттена озаглавлен «Neu Karsthans» (Новый Ганс-мотыга (нем.).) (1522).
(обратно)200
Проделку Фауста с проглоченным трактирным слугою рассказывает Шписс.
(обратно)201
Церковь Мюнстерейфеля относится к XII в.; крипт ее еще древнее.
(обратно)202
Рихард фон Грейфенклау был архиепископом Трирским с 1511 по 1531 г.
(обратно)203
«По-флорентийски». В XV–XVI в. флорентийцы почитались отъявленными содомитами, на что намекает одно из «Писем темных людей».
(обратно)204
Тициан род. в 1477 г., ум. в 1576-м.
(обратно)205
«Пищали и мушкеты» стали входить в употребление в 20-х годах XVI в.
(обратно)206
«Банкиры спорят влиянием с королями». Фуггеры в 1530 г. получили звание имперских графов и полную территориальную власть по отношению к личностям и имуществам, а в 1534 г. и право чеканить свою монету.
(обратно)207
XVI в. был эпохой крайнего падения и общего разорения рыцарства. Гуттен, защитник рыцарства, признавал, что в Германии четыре класса разбойников: рыцари, купцы, юристы и попы. О внутреннем устройстве рыцарских замков в Германии см.: М. Heyne. Das deutsche Wohnungen. Leipz., 1899.
(обратно)208
«Науки процветают, умы пробуждаются. Как радостно жить в такое время!» — известные слова Ульриха фон Гуттена в его Послании к Пиркгеймеру.
(обратно)209
Художник Матвей Грюневальд р. в 1470 г., ум. после 1529 г. Фишеры (Vischer) — семейство немецких скульпторов, живших в Нюренберге в конце XV и первой половине XVI в. Особенно знаменит был Питер Фишер (1455–1529).
(обратно)210
«Кавалеры в шляпах». В XVI в. мужчины оставались в шляпах в комнатах, даже за столом(В Авторском экземпляре это примечание вычеркнуто.).
(обратно)211
«Скуп, как герой Макция Плавта» — скряга из комедии «Aulularia».
(обратно)212
О кольце, делающем невидимым, писали все выдающиеся оккультисты, в том числе Порфирий, Ямвлик, Петр Апонский, Агриппа. Кольцо Гигеса, царя Лидийского, описано в книжке: Le veritable Dragon rouge, впервые изданной в 1521 г. и перепечатанной в конце XIX в.
(обратно)213
Предание говорит, что с тех пор, как Иисус Христос совершил въезд в Иерусалим на ослице, все ослы имеют на спине знак креста. В Вероне долгое время показывали останки этой ослицы. Что касается ослицы, на которой ехал пророк Валаам, то, по талмудическому преданию, то было особенное животное, созданное господом богом в самом конце шестого дня творения; на этой же самой ослице Авраам вез дрова для костра Исаака, и на ней же жена и сын Моисея направлялись в пустыню (Dictionnaire Internal, par Collin de Plancy it ne).
(обратно)214
Интимная ночная посуда только начинала входить в употребление в XVI в. Мы видим ее на некоторых гравюрах А. Дюрера и др.
(обратно)215
Сохранился счет расходов, сделанных городом Ульмом по случаю приезда императора Сигизмунда, причем видное место занимает сумма, употребленная на угощение императора и его свиты в публичном доме. Подобным же образом чествовал Сигизмунда город Берн в 1414 г.
(обратно)216
«Письма темных людей», «Похвала Глупости», «Овод» (лат.). — «Epistolae», «Laus Stultitiae» см. выше примеч. к предисловию автора. «Oestrum» — знаменитая сатира Германа Буша (1468–1534). Армиллы — собрание кругов, изображающих важнейшие дуги небесной сферы. Армиллами пользовались античные астрономы и новые вплоть до Тихо де Браге. Торкветы — старинные астрономические приборы. О Копернике см. примеч. к предисловию автора.
(обратно)217
Ульрих Цазий (1461–1535), швейцарский юрист, сторонник гуманизма, бывший в дружеских отношениях с Эразмом.
(обратно)218
пошлый остряк (исп.). (Пер. В. Брюсова.)
(обратно)219
Испанец Торральба, doctor graduado(врач, имеющий ученую степень (лат.).), пользовался в Испании, и во всей Европе, в первой четверти XVI в. громкой славой, как знаток магии и мощный чародей. В 1531 г. он был по обвинению в занятиях магией приговорен к вечному заключению, но позднее он был освобожден. Имя Торральбы упоминается в Дон-Кихоте (ч. II, гл. XLI).
(обратно)220
Говоря о «тенях Орка», граф фон Веллен употребляет обычные выражения гуманистов, которые в своем увлечении гуманизмом Иисуса Христа именовали сыном Юпитера.
(обратно)221
Вызывание Александра Македонского и Елены Троянской (давшее повод для бессмертных сцен трагедии Гете) были совершены Фаустом, по рассказу Шписса, для императора Карла V.
(обратно)222
Католический швабский союз, основанный в 1488 г., дошел до такого падения к 1534 г., что на сейме в Аугсбурге решено было его уничтожить. — Герцог Ульрих вторгся в Виттемберг (откуда ранее был изгнан) в апреле 1534 г. В том же месяце состоялся и сейм в Вормсе по поводу Мюнстерских дел.
(обратно)223
Петр Мартир Ангиериус, или Ангиера (P. Martire Anghiera, род. в 1477-м, ум. в 1525 г.), на основании сведений, сообщенных ему Колумбом, Кортецем и др., написал по-латыни «De Orbe novo Decades», сочинение, изданное в Испании, по смерти автора (Alcala, 1530).
(обратно)224
«Математический трактат о северном (звездном) небе» (лат.).
(обратно)225
«Созвездия не лгут, но астрологи хорошо лгут о созвездиях» (лат.). — «Astra non mentiuntur» etc. Слова Бенвенуто де Имола, одного из ранних комментаторов Данте.
(обратно)226
Клянусь Геркулесом! (лат.).
(обратно)227
В диалоге «De nobilitate» Поджо Браччолино отстаивает мысль, что человеческое достоинство не зависит от происхождения. Та же идея повторяется и у других гуманистов (Салутати, Полициано, Платины). Эней Сильвий Пикколомини, впоследствии папа Пий II (ум. в 1464 г.), написал сочинение «О воспитании князей».
(обратно)228
Увы мне! (лат.).
(обратно)229
Альбрехт Бранденбургский (1480–1545), архиепископ Магдебургский (с 1513 г.) и Майнцский (с 1514 г.), был приверженцем гуманизма, но врагом Реформации. Им, между прочим, был послан тот Тецель, торговля которого индульгенциями повела к «95 тезисам» Лютера.
(обратно)230
Инфула то же, что митра, головное одеяние католических епископов.
(обратно)231
«Бессмертная сатира Себастиана Бранта» (1457–1521) — «Корабль дураков» («Narrenschiff»).
(обратно)232
Начало инквизиции, в позднейшем, специальном смысле этого слова, относится к концу XII и началу XIII в. Первоначально инквизиторов для розыска еретиков назначал местный епископ; потом инквизиторские обязанности были вверены доминиканцам, зависевшим непосредственно от папы.
(обратно)233
Фома де Торквемада р. в 1420 г., ум. в 1498 г.
(обратно)234
Папская булла Summis desiderantes affectibus, направленная прямо против ведьм и ведунов, издана папою Иннокентием VIII в 1484 г.
(обратно)235
«Он ни скоттист, ни альбертист, ни фомист, ни оккамист», т. е. не последователь ни Дунса Скотта, ни Альберта Великого, ни Фомы Аквинского, ни Вильгельма Оккама — светил средневековой философии.
(обратно)236
Томас Мурнер (1475–1537) сначала был сторонником Реформации, потом резко нападал на нее. Им написана книга: «Von dem grossen lutherischen Narren, wie ihn Doctor Murner beschworen hat» (1522).
(обратно)237
«Благодарение тебе, всемогущий боже» (лат.).
(обратно)238
Святая Елизавета — Елизавета Тюрингенская (1207–1231). Святая Клара Шиффи (1193–1253) — основательница ордена клариссинок.
(обратно)239
Об архиепископе Кельнском см. примечание к гл. VI. Союз Трира с протестантским Гессеном был заключен в 1532 г.
(обратно)240
«Се — ты почиваешь на законе» и т. д. — К Римл. II, 17.
(обратно)241
Взгляд Гемиста Плетона (ум. в1451) на демонов был изложен им в обширном философском сочинении, весьма распространенном в XV и начале XVI в., но до нас дошедшем лишь в отрывках. Рассказ Поджо о Тритоне входит в его «Facetiae».
(обратно)242
«Заметь, что ни Цицерон, ни Гораций…» Замечание нелепое, ибо при Цицероне и Горации не было христианских монастырей. Но и Петрарка писал: «Я нигде не встречал, чтобы Сципион или Цезарь занимались турнирами».
(обратно)243
искусством беседы (итал.).
(обратно)244
Как известно, в XVI и XVII вв. в целом ряде монастырей открывались эпидемии одержания. Наиболее знамениты из этих случаев: процесс урсулинок в Эксе (дело Гоффриди, 1609–1611 гг.) и процесс урсулинок в Лудене (дело Урбана Грандье, 1632–1634 гг.), но всех их можно насчитать несколько сотен. (J. Michelet. La Sorciere; J. Baissac. Les Grands Jours de la Sorcellerie. P. 1890; P. Regnard. Les maladies epidemiques de l’esprit. P. 1880; etc.). Специалисты различали тот случай, когда дьявол одержал свою жертву изнутри, то были одержимые, possessi, possedes, besessene, или когда он лишь овладевал ею извне, — obsessi, obsedes, geplagte. Некоторые указывали еще на третий случай, когда жертва была под влиянием чар — maleficti, ensorceilles, behexte.
(обратно)245
«Обсерватинки». В 1517 г. папа Лев X образовал из тех групп клариссинок, которые держались особо строгих правил, особый отдел ордена «обсерватинок».
(обратно)246
«Не идет кровь» и т. д. — признаки анестезии. «Не тонут в воде» — на этом было основано древнейшее испытание ведьм, практиковавшееся в раннем Средневековье (Hexenbad, iudicium aquae).
(обратно)247
«Изводили ли скот, делали ли женщин бесплодными» и т. д. Бодэн насчитывает 15 преступлений, в которых повинны ведьмы.
(обратно)248
Сбитые черною словно бурею в кучу голубки. — Verg. (Вергилий) Аеn. («Энеида»), II, 516. (Пер. и прим. В. Брюсова.)
(обратно)249
«Всемогущий, вечный боже» (лат.).
(обратно)250
«Тебя призываем, тебе поклоняемся» (лат.).
(обратно)251
«Благословит тебя всемогущий Бог Отец и Сын и Святой Дух» (лат.).
(обратно)252
О стуках см. примечание к гл. III. В современных свидетельствах об эпидемиях одержания в монастырях XVI и XVII вв. мы также не раз встречаем рассказы о «спиритических» стуках. (См. напр., La merveilleuse histoire de l’esprit qui s’est apparu au monastire des religieuses de St. — Pierre-de-Lyon, par Adrien de Montalambert. Paris, 1528; Aubin, Histoire des diables de Loudun. Amsterdam, 1693).
(обратно)253
Се раба Господня! молись за нас! (лат.). (Пер. В. Брюсова.)
(обратно)254
Отыди! (лат.).
(обратно)255
Господом Христом, тем, кто грядет судить живых и мертвых, заклинаю: повинуйся! Духи злые, осужденные, проклятые, изгнанные, извергнутые, вам повелеваю и приказываю, во имя и по достоинству бога всемогущего и праведного! Во мгновение ока изыдите все, сотворившие неправое! (лат.) (Пер. В. Брюсова.)
(обратно)256
«Новое Имперское Уложение» — то есть Уложение, изданное Карлом V в 1533 г., известное под названием Carolina.
(обратно)257
Иоганн фон Шварценберг (1463–1528) — юрист, реформатор немецкого законодательства, составивший «Бамбергское уложение» и позднее проект общеимперского уложения, легший в основание «Каролины».
(обратно)258
«Crimen exceptum». По общему правилу немецкого судопроизводства, преступления делились на обыкновенные и исключительные (crimina ordinaria et excepta), как оскорбление величества, измена, ересь и др. Для «исключительных» преступлений суд имел особые полномочия и не был связан обыкновенными формами судопроизводства. «In his ordo» etc., т. е. «В таких случаях правило — не соблюдать правил» (С. Muller. Hexenaberglaube und Hexenprozesse in Deutschland. Leipz. 1893; Я. Канторович. Средневековые процессы о ведьмах. Спб., 1893; и др.).
(обратно)259
В таких случаях правило — не соблюдать правил (лат.).
(обратно)260
В булле «Summis desiderantes» (1484) читаем: «Чтобы не получалось, что области, города, диоцезы, епархии и другие местности верхней Германии лишены учреждения инквизиции, мы постановляем, в силу нашей апостолической власти, что названным инквизиторам дозволено в сих местностях исполнять оные обязанности инквизиции и озаботиться преследованием, заключением в тюрьму и наказанием лиц за вышеназванные проступки и преступления».
(обратно)261
«Crimen fori mixtum», то есть преступление смешанного характера. Первоначально процессы по делам ведовства велись исключительно духовными судами; позднее на них распространил свое действие суд светский. Князь-архиепископ соединял в себе власть духовную и светскую, и спор шел между властью местною (которую он представлял) и общецерковною (представителем которой являлся инквизитор).
(обратно)262
«Следствие должно начаться общим вызовом, который прибивается к дверям приходской церкви или ратуши» («Malleus maleficarum», pars. III, q. 1).
(обратно)263
Павел III — папа с 1534 по 1549 г.
(обратно)264
«Не нуждаемся мы в доносе, ни в inscriptio». «Молот ведьм» признает три способа, чтобы начать дело по ведовству: обвинение, донос и инквизицию; первый встречался редко, так как обвинитель должен был нести соответственное наказание, если бы обвинение не было доказано. По каноническому праву, обвинение основывалось на inscriptio, т. е. на письменном обвинении, причем процесс не должен был выходить за пределы обвинительных пунктов.
(обратно)265
Агриппа Неттесгеймский в 1519 г. спас своим вмешательством одну женщину из деревни Войппи, обвиненную инквизиционным судом в ведовстве (см.: A. Prost. С. Agrippa, I. 319).
(обратно)266
Существовали в XVI и XVII вв. и другие «Наставления к допросу ведьм», предлагавшие по нескольку сот весьма подробных вопросов(В Авторском экземпляре это примечание вычеркнуто.)
(обратно)267
«Ex nobis egressi sunt». Johan. II. 19.
(обратно)268
Обряд «устрашения» (territio, territion, Schreckenerregen) составлял необходимую часть судопроизводства того времени.
(обратно)269
Жом (Daumenstock), шнур, испанский сапог (Beinschraube), дыба, а также вытягивание на лестнице и кобыла (Воск) были в Германии XVI в. наиболее употребительными формами пытки. Рядом с ними употреблялись еще: вбивание гвоздей под ногти, ожерелье с остриями, стул ведьм, пытка огнем, смолой и водой (см. Fr. Helbing. Die Tortur. G. Lichterfelde, 1907).
(обратно)270
По правилам судопроизводства пытка не должна была продолжаться дольше 50 минут, и возобновлять ее было дозволено лишь в том случае, если в деле открывались новые улики. Но так как ведовство было преступление исключительное (crimen exceptum, crimen atrocissimum), то найден был обход этого правила, а именно возобновление пытки называли ее «продолжением» (Далее цитата по-латыни из «Молота ведьм», ч. III, вопрос 19.). Известны случаи, когда пытали свыше двадцати раз(В Авторском экземпляре это примечание вычеркнуто.).
(обратно)271
к продолжению пытки, не к повторению (лат.).
(обратно)272
Ведьмы получали особый знак, sigillum diabolicum, при заключении пакта с дьяволом, большею частью на шабаше. Знак этот мог быть на любом месте тела, но особенно часто бывал на спине, у самого конца спинного хребта. Знак часто имел форму зайца, или жабьей лапы, или черной кошки.
(обратно)273
«Молот ведьм» советовал, еще до начала допроса, все волосы на теле ведьмы сбривать и подпаливать огнем, чтобы она не скрывала в них какой-либо чары.
(обратно)274
далее (лат.).
(обратно)275
При дружественном молчании луны. — Verg. (Вергилий). Аеп. («Энеида»), II, 255. (Пер. и прим. В. Брюсова.)
(обратно)276
Не будем медлить! (лат.)
(обратно)277
«О дружбе» (лат.).
(обратно)278
О кончине Агриппы до нас дошли известия противоречивые. Согласно с разысканиями Ги Аллара (Guy Allart, p. 1645, ум. 1716), она совершилась в Гренобле, в доме Франсуа де Вашона, президента парламента в Гренобле. Кончине предшествовали те горестные события (заключение Агриппы в тюрьму в Лионе и т. п.). Согласно же исследованиям некоего Шорье, жившего в то же время, как Аллар, Агриппа скончался в Гренобле, но в другом доме, на улице де-Клерк, который в ту эпоху принадлежал члену парламента, Феррану, и в котором, в 1457 г., умер известный юрист Ги Пап. Другие источники сообщают, что Агриппа умер в Гренобле, в больнице на улице Перьер. Некоторые, наконец (A. Thevet и др.), передают, что Агриппа умер в Лионе, в жалкой лачуге (A. Prost. С. Agrippa, II, 404-6). Рассказ о том, как Агриппа проклял перед смертью свою собаку, которая после того немедленно утопилась, передан в книге: P. Jovii Novocomensis, «Elogia virorum litteris illustrium» (1577).
(обратно)279
Река Святого Духа (Rio del Espiritu Santo) — старинное название Миссисипи. Как известно, в 30-х годах XVI в. долина Миссисипи была областью совершенно неисследованной; ходили баснословные рассказы о таящихся там богатствах. В 1539 г. Фернанд де Сото предпринял в те страны обширную экспедицию, но почти все ее участники погибли в девственных лесах и непроходимых болотах. Может быть, такая же участь, несколько раньше, постигла и ту экспедицию, к которой присоединился автор нашей «Повести».
(обратно)280
Угловыми скобками обозначены места, вычеркнутые в отдельном издании 1908 г.
(обратно)281
Одним из благороднейших эпизодов в жизни Агриппы является, между прочим, его защита одной бедной женщины из деревни Войпи, обвиняемой в 1519 году в колдовстве. Агриппа взял на себя вести ее процесс, выиграл его и в полном смысле слова спас несчастную из рук инквизитора, может быть, от костра.
(обратно)282
Вальтер Скотт воспользовался этой легендой в своей балладе «The lay of the Last Ministrel».
(обратно)283
Все эти истории передает Del Rio «Disquisitionum magicarum libri sex» lib. II, sec. I, quaestio XXIX (Цитируем по изд. 1640 г., Venetiis; первое изд. книги появилось в 1599 г.).
(обратно)284
Поводом к этой легенде послужил случай с Жаном Виром.
(обратно)285
Это сообщает Th́еvet в книге «Les Vrais Portraits»; он же повторяет многие рассказы Дель-Рио.
(обратно)286
Aug. Prost. «Corneille Agrippa», II, 404-6.
(обратно)287
Приведено у Colin de Plancy. «Dictionnaire Infernal», I, 41–46.
(обратно)288
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 147.
(обратно)289
Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. Т. I. M., 1962. С. 24.
(обратно)290
Орсье Ж. Агриппа Неттесгеймский: Знаменитый авантюрист XVI в. М., 1913. С. 10.
(обратно)291
Подробнее см.: Пуришев Б. И. Брюсов и немецкая культура XVI века // Брюсовские чтения 1966 года. Ереван, 1968. С. 455–460.
(обратно)292
Не так давно австрийский литературно-художественный журнал «Вестерманновские ежемесячники» провел анкету среди писателей и критиков. Им следовало ответить на вопрос: «Какие пять романов, по вашему мнению, стоят того, чтобы их читали еще сегодня». И молодой австрийский писатель X. Крамер наряду с «Мертвыми душами» Гоголя назвал «Огненного ангела». См.: Розен М. Романы классиков в наши дни // Вопросы литературы. 1965. Љ 9. С. 197.
(обратно)293
Ясинская З. И. Исторический роман Брюсова «Огненный ангел» // Брюсовские чтения 1963 года. Ереван, 1964. С. 104.
(обратно)294
Легенда о докторе Фаусте. Издание подготовил В. М. Жирмунский. М.; Л., 1958. С. 11, 17.
(обратно)

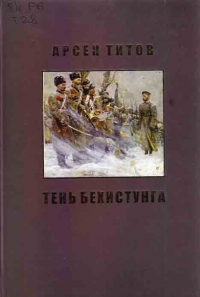
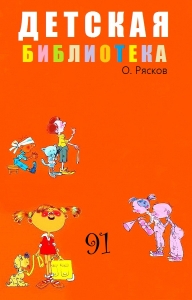

Комментарии к книге «Том 4. Огненный ангел», Валерий Яковлевич Брюсов
Всего 0 комментариев