Вячеслав Юрьевич Софронов Кучум (Кучум — 3)
ОТ АВТОРА
Сегодняшний интерес к истории Сибири не случаен. Долгие годы Сибирь воспринималась как нечто второстепенное, всего лишь как "задворки Российской империи". А между тем история этого отдаленного края необычайно богата, насыщена драматическими событиями, трагичными судьбами.
…Личности легендарного Ермака Тимофеевича посвящено множество романов. Да и сам он со временем стал восприниматься как некий сибирский Илья Муромец. Еще меньше нам известно о правителе Сибири, хане Кучуме. В третьей, последней книге исторической трилогии "Кучум" дается своя, до сих пор не встречавшаяся на страницах популярных или научных изданий, трактовка происходящих четыре века назад событий. Примет ли читатель новую версию, которую предлагает автор на основе многолетнего изучения летописей, легенд и преданий, — дело читателя. Дело автора — донести до читателя свою точку зрения. А будет ли она принята… время покажет.
Русское государство во второй половине XVI века ведет трудную, кровопролитную войну на западе. Иван IV Грозный призывает на помощь казачью вольницу, что противостоит на южных рубежах крымскому и ногайскому ханам. Среди казачьих атаманов, отправившихся в Ливонию, Ермак Аленин. Пройдет какое-то время, и он поведет свою дружину на восток, в Сибирь.
В это самое время в Бухаре готовится к войне с человеком, убившим его отца, молодой князь Сейдяк. Теснят сибирского правителя, Кучума, и господа Строгановы, стремительно осваивающие уральскую землю. Такова политическая обстановка того времени. Как предстоит разворачиваться событиям, читатель узнает из третьей книги романа.
Заканчивая этот труд, автор приносит искреннюю благодарность всем тем, кто так или иначе помогал ему в работе, родным и близким, с пониманием и интересом принявшим на себя многочисленные хлопоты по изданию, руководителям предприятий г. Тобольска, оказавшим материальную помощь, президенту ОАО "ТНХК" Владимиру Васильевичу Юдину, на чьи плечи лег непосредственный груз по изданию книги. Спасибо всем вам!
Сестре моей Елене и брату Игорю
посвящается.
Хан Кучум известный и неизвестный
Перед вами, читатель, третья книга исторического романа В. Ю. Софронова — "Кучум". Более четырех веков звучит в нашей истории это имя. Но ошибочно думать, что о Кучуме стало известно только после того, как песенный наш Ермак, атаман казачьей дружины, разбил войска Кучума и занял столицу Сибирского ханства — Искер (Кашлык). Как повествуется в первых двух книгах романа, Кучум не сразу стал правителем обширного сибирского государства, но затем его владения занимали территорию современной Западной Сибири, Зауралья, Северного Казахстана в бассейнах рек Иртыша, Ишима и Тобола. Имя этого правителя знали как на Руси, так и в Казахском ханстве, в Ногайской орде, в Средней Азии еще задолго до завоевания русскими Сибири.
Значимость личности Кучума уже в том, что он стал первым азиатским правителем, кто противостоял движению русских сил за Урал. На протяжении четырех столетий он характеризовался в старой российской и советской литературе лишь негативно. Зато Ермак стяжал себе лавры героя. Налицо идеализация образа.
Еще со времен М. В. Ломоносова и А. Н. Радищева ради поддержания государственных интересов России подчеркивался народный и почти мирный характер похода дружины Ермака. И декабрист К. ф. Рылеев в своей думе "Смерть Ермака", ставшей со временем народной песней, и В. Г. Белинский, и А. И. Герцен, рисуя подвиг Ермака, приписывали Кучуму черты злодея.
Однако, в настоящее время идет переосмысление как образа хана Кучума, так и его места в истории Сибири.
В предыдущих двух книгах романа-трилогии В. Ю. Софронов подробно описывает события, происходящие в эпоху царствования династий Тайбугинов и Шейбанитов, Рюриковичей. Он пишет о Сибири, в которую стремилась Русь и которой интересовались правители Средней Азии и Китая. Эта страна привлекала всех. И вот не без помощи бухарских правителей на завоевание Сибири отправляется хан Кучум из рода Шейбани, потомок Ибак-хана. (Надо сказать, что сейчас наблюдается интересная тенденция, когда и узбекские, и казахские историки одновременно стали считать хана Кучума своим земляком).
В трилогии В. Ю. Софронова описываются события, когда сибирскому правителю властной рукой удалось сломить сопротивление местных князей, которые далеко не сразу подчинились его власти. В отношениях с Москвой Кучум проявил традиционные азиатские хитрость и коварство, сперва заискивает перед Иваном Грозным, а затем убивает царского посла Третьяка Чубукова. В это время Москва ведет неудачную и кровопролитную Ливонскую войну и ей просто не хватает сил на проведение военных действий на востоке. На фоне этих драматических событий и разворачивается сюжет многопланового романа В. Ю. Софронова. Впервые в исторической романистике автор воссоздает исторические события тех лет, описывает новые страницы в истории Сибири и долгой, богатой бурными и кровавыми вехами биографии Кучума.
Почти сорок лет прожил Кучум в Сибири. Его ханство занимало регион не меньший, чем территория Франции. Несметные пушные богатства дали Кучуму возможность стать несомненно одним из богатейших людей своего времени. Соболиная казна заменяла тогда валюту во всех странах мира. Уже в XVII веке Русь получала из Сибири по 500–600 тысяч соболиных шкурок в год.
Третья книга романа В. Ю. Софронова посвящена наиболее драматическому периоду жизни хана Кучума, когда он, потеряв былое могущество, вынужден бежать из Искера (Кашлыка), терять близких ему людей, подвергаться преследованиям.
В своем романе В. Ю. Софронов описывает самые различные стороны жизни того времени: государственный строй, торговые связи, распространение ислама, взаимоотношения с соседними государствами, и за всем этим стоят характеры героев, их личные судьбы. Автор не просто переносит на страницы романа исторические типажи, персонажи, но и переживает вместе с ними, заставляя делать это же и читателя. Если в первой книге главное место действия — Сибирь, то во второй книге события перемещаются и в Москву, Бахчисарай, Бухару, чтобы в третьей книге вновь встретиться у стен столицы Сибирского ханства.
В. Ю. Софронов создал эпическое произведение, яркое по языку, со своей авторской концепцией на исторические события тех лет, большое и сложное по форме. В трилогии создана типичная романная ситуация, когда постепенно, от страницы к странице меняются характеры героев, возникают конфликты между человеческими и нравственными началами, идет переосмысление ими содеянного, принимаются совершенно неожиданные решения. При этом замечательно и с глубоким знанием дела описана сибирская природа, ее неукротимая стихия, которой человек вынужден противостоять или подчиниться. Стилистическое построение романа идет от классических традиций этого жанра, чем пользовались известные русские писатели, беря за основу не просто действие, событие, его результат, а прежде всего нравственный критерий поведения героев, что характерно для всей передовой русской литературы.
Сегодня автором исторического романа может стать человек, отчетливо видящий и понимающий ход и суть исторических процессов, их движущую силу, роль личности в истории. В. Ю. Софронова, без сомнения, можно назвать не только продолжателем традиций русского классического исторического романа, но и автором, сумевшим привнести в этот жанр множество новаторских, самобытных идей и направлений. Думается, что это замечательное по силе своего таланта произведение займет достойное место среди книг российского читателя.
М. Е. Бударин, доктор исторических наук, член-корреспондент международной академии наук высшей школы.
Часть I. ПОЛОВОДЬЕ
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Евангелие от Матфея, гл. 5, 8.И создал Бог землю…
Унылой и неказистой выглядела она. Голая и нагая, вся серого цвета. Кинул Бог горсть зерен — и взошли травы. Кинул другую — выросли леса. Только тихо в лесах, песен, гомона не слышно. Взял Бог кусок глины и вылепил из него зверушек, пташек разных, пустил их на землю. Побежали они, полетели, кинулись в разные стороны. Сплошная суета и никакого порядка.
Вырвал Бог из бороды клок и слюной скрепил, вылепил Медведя, поставил его главным над всеми, чтоб за порядком следил, вершил суд-расправу и лишь перед Богом ответ держал. Ходит Медведь по лесу, рыкает. Пташки-зверушки как его голос услышат, так и присмиреют враз, тихо становится, никто друг дружку не обижает, всяк в своем углу живет.
Смотрит Бог на землю и не нарадуется — до того все хорошо и спокойно на ней — мир да благодать. Умаялся он от работы и заснул, притомившись. А за ним и солнышко на бочок прилегло, за край неба спряталось, не светит, не греет. Студено на земле стало, снег полетел, вьюга запуржила, песню угрюмую завела, запела. И Медведь загрустил, нашел глубокую берлогу, вход камнем завалил, лег на бок да и уснул до весны, когда тепло обратно на землю придет, возвернется.
Видит Волк серый, что нет никакого надзора за зверьем, начал свои порядки наводить, с каждой зверушки даны требует, велел себя царем лесным звать-величать, издалека кланяться. А кто не по нраву, разговор короток — хвать зубами за горло и полетела шерсть клочьями, побежала кровь на землю, одна шкура на снегу лежит да косточки под деревьями блестят, белеют.
Вылез весной Медведь из берлоги, начал подданным своим счет вести и половины досчитаться не может. Куда по девались, сгинули? Лисица рыжая шепнула ему на ухо, мол Волк серый свой порядок завел, задрал зверей и велел себя царем лесным звать-величать.
Взревел Медведь от известия такого, обратился к Богу:
— Помоги, Боже, наказать Волка серого, что ввел в разор подданных моих, покарай его за злодеяния.
А Бог и отвечает ему:
— Куда же ты глядел, когда Волк серый бесчинствовал? Для чего я тебя на землю отправил? Найди Волка серого и накажи его властью своей, чтоб больше не губил зверье малое.
Отправился Медведь в лес дремучий Волка серого искать, к присяге того привести, наказать примерно. Только тот узнал обо всем от Сороки-стрекотуньи, что разговор Бога с Медведем слышала, обратился в камень-валун, лежит на опушке лесной, не шевельнется.
Ходил Медведь по лесу, искал три дня и три ночи Волка серого, а найти никак не может. Притомился, едва обратно бредет, тащится. Как стал мимо камня проходить, а Волк серый как хватит зубами его за зад и клок волос вырвал. Взревел Медведь, обернулся, а никого нет.
Бог все сверху видел и говорит Медведю:
— Неужели ты не понял, что Волк серый в камень обратился, да еще тебя и укусил исподтишка? Пойди, найди камень тот, утопи в реке.
Кинулся Медведь обратно, а Сорока-стрекотунья успела рассказать все Волку серому, и тот в лес убежал и там в шиповник колючий превратился, стоит меж березок белых, колючки выставя.
Ходит Медведь по лесу, Волка серого ищет. Шесть дней и шесть ночей ходил, а ничего не выходил, не нашел обидчика своего, зато о шиповник в кровь ободрался, половину шерсти на колючках оставил. Вышел на полянку, задрал морду к небу, спрашивает Бога, как быть ему, где Волка серого сыскать. Велел Бог шиповник весь вытоптать, землей присыпать и ждать, когда Волк серый покается в злодеяниях своих.
Бежит Медведь к лесу обратно, а на том месте, где шиповник рос колючий, лишь ветки сухие лежат. Вытоптал их, зарыл в землю, упарился. А с ветки осиновой Змея гадюка спустилась тихонечко, ужалила Медведя в ухо и обратно уползла. То Волк серый в Змею обернулся, над лесным хозяином в который раз насмеялся. Тому обидно, зло берет, а как совладать с серым не знает.
Смотрел Бог, смотрел, а потом собрал медвежью шерсть в клубок, намочил своей слюной и вылепил Человека, повелел ему помогать во всем Медведю, почитать за главного, Волка серого поймать и наказать примерно за непослушание.
Так и стали Человек с Медведем на земле жить один подле другого, с серым разбойником бороться, зверье малое от него защищать. Только и Волк не дремал, обернулся Сорокой-стрекотуньей, нашептал Человеку, будто Медведь готовится напасть на него, жизни лишить. Не стал Человек ждать напасти такой, соорудил ловушку, поставил на тропе. Попал в нее Медведь, взревел от горя-обиды. Поднапружился, разломал ловушку, выбрался на волю и ушел в дальний лес-урман, перестал с Человеком дружбу водить. А Волку серому того и надо, рад-радехонек.
Но прошел срок, понял Человек, что обманули его, насмеялись, решил помириться с Медведем, устроил пир-праздник, насобирал ягод разных, трав душистых, разложил на полянке, сидит, ждет, когда Медведь к нему из леса выйдет. Ждал день, ждал другой, да на третий и уснул, не выдержал. Тут Медведь на полянку и вышел, отведал лакомство-угощение, все умял и обратно подался, не стал ждать, когда Человек проснется. А на другой день принес к его жилищу шишек кедровых, меда липового, у порога положил, а сам из кустов смотрит, как Человек обрадовался, когда дары лесные увидел.
С тех самых пор и живут Медведь с Человеком в мире, в согласии, если Волк серый меж ними распрю не затеет. И пока будут доверять они один другому, то и прочее зверье плодиться будет, в лесах жить, и Божия радость на земле не переведется, не исчезнет.
ТАШКЫН[1]
Земля и воздух были одинаково пропитаны влагой, словно брынза, только что вынутая из кислого молока.
Влагу источала каждая веточка, покрытая мельчайшим бисером дождевых капель; набухшее от воды небо пучилось заворотами серых туч, едва удерживающихся в чреве своем и готовых в любой момент обрушиться вниз многодневным дождевым потоком; наконец земля, вобравшая талую воду через овраги, ложбины, буераки, ямы и впадины, казалось, захлебнулась от неудержимого буйства весеннего разлива и не в состоянии уже больше поглощать льющуюся отовсюду, радостно журчащую, посверкивающую миллиардами разноцветных брызг извечную свою соперницу, лишь жалобно, тяжко вздыхала и чавкала, отзываясь на каждый шаг ступающего по ней человека.
Казалось, еще чуть — и вода одолеет, поглотит принявшую вызов к единоборству землю, восторжествует, возрадуется и станет полновластной правительницей мира, зовущегося земным. Но проходит день, два, неделя, выступают суглинистые проплешины, бугры, просыхают тропинки, сбрасывая, сгоняя с себя влагу, так и не захотев слиться с ней, сделаться одним целым, единым существом, и снова до следующей весны расходятся, разделяются, не уступив своих владений.
Блажен тот, кто поостерегся выйти в дорогу в те дни, когда две могучие соперницы, земля и вода, затеяв извечный спор, слились в жестоком объятии, забыв обо всем на свете. Горе человеку, попытавшемуся в пору половодья отправиться в дальний путь пешим или конным. Вот тогда он в полной мере ощутит, поймет малость и незащищенность свою. Весеннее половодье, происходящее ежегодно на сибирской земле, не дает человеку забывать, кто он есть, умеряет дерзновенность замыслов, широту свершений, делая его столь же жалким и беспомощным, как всякая малая тварь на этом свете. И человек, кто бы он ни был, властелин народа или раб властелина, останавливался, глядя на безбрежную гладь всепоглощающего весеннего половодья.
Кучум, привстав на стременах, взирал на бесконечный простор водной глади, внешне столь мирный, спокойный и безмятежный, однако таящий в глубине смертельную погибель. Вода за одну ночь обошла их со всех сторон, отрезав путь к возвращению, затопив еще вчера вечером слабо угадываемую тропинку, по которой он со своими нукерами ехал четвертый день, чтоб усмирить взбунтовавшихся диких карагайцев.
Последняя зима была особенно неспокойной: отказались платить наложенную на них дань табердинцы, ушли в дальние степи тевризцы, не пустили к себе даругов, сборщиков дани, закрывшие ворота жители Саургачика и, наконец, чашу его терпения переполнили вечно всем недовольные карагайцы. Их предводитель Кузге-бек, прозванный невидимкой, разрушил недавно построенную в их земле мечеть, обесчестил муллу, убил пятерых даругов, чьи головы кто-то из мятежников перебросил темной ночью через крепостную стену Кашлыка. Этого простить карагайцам Кучум не мог! И, едва дождавшись, когда чуть просохнут дороги и лесные тропы, сам повел нукеров усмирять бунтовщиков.
Конечно, он мог отправить башлыком и старшего сына Алея, и племянника Мухамед-Кулу, и любого из преданных ему князей. Каждый посчитал бы за честь выполнить волю сибирского хана. Он было в первый момент именно так и хотел поступить, призвав к себе Алея, но взглянув на его расплывшееся в улыбке молодое безусое лицо, светящиеся радостью глаза, передумал. Нет, сын пока не готов, не осознал важность безжалостной расправы с бунтовщиками. Он мягок, сердце не зачерствело, не обострилась воля, нет той ярости, что сдерживает в груди каждый правитель, чтоб в нужный момент обрушить ее на головы провинившихся отступников, не пожелавших подчиниться его воле. Нет, Алей не годился для подобного. Рано возлагать на юношу столь важную задачу, от которой зависит покой и порядок всего ханства.
Мухамед-Кул уже несколько лет жил в собственном улусе и редко наезжал в Кашлык. Он мог бы покарать мятежных карагайцев, придав огню их селения, повесить на деревьях каждого второго, взявшего в руки оружие, пригнать в Кашлык детей и женщин и сделать так, чтоб народа, зовущегося карагайцами, более не существовало, и через несколько лет никто бы и не вспомнил о них. Но для этого мало быть воином, и пусть он даже родной племянник хана Сибири, но сам Кучум никогда не забывал, чьим сыном тот был. Карача-бек несколько раз уже намекал, подпуская в голос таинственности, мол косо поглядывает племянник на своего дядю, отпускает злые шутки, не является по первому зову. С чего бы это? Да все от того, что гордость и зависть говорят в почуявшем собственную силу Мухамед-Куле. Да, он бесстрашный воин, меткий стрелок, но Аллах наделил его знатностью происхождения, неумеренностью запросов и жаждой власти. И кто знает, как он поведет себя, встретившись вдали от ханских глаз и ушей с мятежным Кузге-беком. Не переметнется ли он на его сторону, не повернет ли сотни против законного правителя… Кто знает… Тут надо тысячу, десять тысяч раз подумать, взвесить и выбрать единственно правильный путь.
Единственно, кого бы мог отправить Кучум на усмирение карагайцев, не задумываясь ни на мгновение, это Карача-бек. Тот слишком умен и осторожен, чтоб принимать чью-то сторону. Он будет бить наверняка. А что карагайцы? Сегодня они с ним, а завтра пожелают видеть иного правителя. Тот народ, что усомнился в сегодняшнем господине, до конца дней останется таковым. Привыкший оступаться конь — ненадежный спутник в дальнем походе. Понимает это и Карача-бек и никогда не протянет руку мятежникам, не примкнет к ним. Но Кучум слишком дорожил своим визирем и, признаваясь лишь самому себе в том, не хотел рисковать им. Мало ли что могло случиться во время похода. У Карачи-бека не было того воинского опыта, который накопил сам хан.
Да и самое главное — Кучуму опостылело день за днем просиживать на кожаных подушках возле заботливо раздуваемого рабом костра в укрытом толстыми шкурами шатре. Он всю зиму мечтал сесть в седло, огреть плетью молодого коня-пятилетку, заменившего любимца Тайку, промчаться по самой кромке высокого иртышского берега, слететь вниз к воде и по узкой полосе желтого глинистого песка нестись вперед, осыпаемым брызгами речной воды, вбирая в себя силу могучей реки. Он даже вздрагивал, явственно представляя себе радостный миг скачки, когда сидел, сосредоточенно глядя на огонь, долгими зимними вечерами.
И вот уже четыре дня он едет впереди своих нукеров, растянувшихся длинной цепью по лесной тропе Кучум верил и не верил, что карагайцы, узнав кто идет башлыком против них, разбегутся или вышлют старейшин просить о мире, о снисхождении. И верил и не верил. И он, и Кузге-бек, и жители мятежных улусов знали, какова будет расплата за ослушание. Смерть каждого второго! Так и не иначе! Он их властелин и вправе распоряжаться жизнями своих подданных. Вправе карать и миловать. Еще вчера они вступили на земли карагайцев и проехали через два пустых, оставленных жителями селения. Даже бездомные псы попрятались в чащу леса, чуя издалека приближение его воинства. Его никто не встречал, не падал на колени, не просил о мире. Значит, крови прольется вдвое больше, чем он думал. Сегодня, не позже чем в полдень, они должны достичь их главного селения, где по донесениям лазутчиков укрылся Кузге-бек со своими воинами. Но вода, весеннее половодье, неожиданно преградила им путь.
…Кучум, привстав на стременах, снова и снова взирал на бесконечный простор водной глади, искал и не находил решение. Неужели взбунтовались не только подлые карагайцы, но и природа встала на их сторону? Может, то речные и лесные боги, которым до сих пор поклоняется дикий сибирский народ, словно в насмешку затопили тропу, отрезав им путь? Если с людьми он может бороться, то как бороться, противостоять стихии? Тут он бессилен.
— Проверь, на много ли поднялась вода, — крикнул он сотнику Сабиру.
— Будет исполнено, — с готовностью откликнулся тот, будто только ждал его команды.
По взмаху руки Сабира от основного отряда отделились двое всадников и, понукая настороженно взмахивающих мордами коней, поехали вперед, древками копий щупая глубину поднявшейся воды. Но уже через полсотни шагов кони брели, погрузившись по самое брюхо, вскоре первый всадник замахал высоко поднятым копьем, показывая, что не может достать дна.
— Что хан прикажет делать? — подобострастно заглядывая в глаза, спросил Сабир. — Может отправить еще нескольких человек рядом с тропой поискать проход?
— Отправляй, — кивнул Кучум, зло хмурясь. Он хорошо понимал свое бессилие, но гордость не позволяла повернуть обратно. Он не может вернуться в Кашлык, не проучив карагайцев, иначе… иначе на следующую зиму взбунтуются остальные племена — и останется лишь сидеть в Кашлыке, наглухо заперев ворота.
Еще два десятка всадников направились в разные стороны от тропы, ища проход. Конь воина, что ехал по направлению к небольшому березовому леску в двух сотнях шагов от тропы, попал передними ногами в яму, запнулся, и всадник полетел, не удержавшись в седле, головой вперед, но вскоре вынырнул, встал на ноги, выплевывая изо рта воду, поймал коня за повод.
— Не так и глубоко, — показал рукой в его сторону Сабир. Действительно, вода доходила тому до груди. — Пройти можно…
— А как дальше? — и словно в ответ на его слова из березняка вылетела, тонко пропев, стрела и ударилась в шлем стоящего спиной к леску нукера. От испуга он пригнулся, опять уйдя с головой под воду.
— Засада!!! Карагайцы!!! — завопили остальные.
— Молчать! — крикнул Кучум. — Луки к бою! Всем спешиться!
Нукеры соскочили с коней, очутившись по колено, а кто и выше, в холодной талой воде, повытаскивали луки, настороженно ожидая команды.
— Первая сотня, взять их! — выкрикнул хрипло Кучум, сам оставшийся в седле, и дав шпоры, поехал вперед, прикрыв лицо круглым щитом.
Со стороны леска вылетело с десяток стрел, но, не долетев до нукеров, попадали в воду. Зато первая сотня тут же осыпала редкий лесок тучей стрел, и оттуда по
слышались крики, протяжные стоны.
— Хан, смотри, — указал влево сотник Сабир.
Кучум повернул голову и увидел десятка два лодок долбленок, что, рассыпавшись полукругом, плыли прямо на них.
— И там лодки! И сзади! — послышались голоса.
Кучум крутанул коня на месте и былая острота зрения вмиг вернулась к нему, как случалось в минуты наивысшей опасности. Со всех сторон к ним направлялись долбленки, низко сидевшие в воде, с двумя, а то и тремя четырьмя лучниками, укрытыми плетенными из прутьев щитами.
— Вторая сотня… — зычно, набравшим силу голосом, растягивая слова на окончании и чуть торжественно, отдал приказание Кучум, краешком глаза следя за выражением лиц нукеров. — Рассыпать-ся-я-я… прикрыть нас сзади… Близко лодки не подпускать! Стрелять по команде, — и уже негромко, вполголоса, но зная, нукеры ловят каждое сказанное им слово, интонацию, добавил. — Думают, они нас взяли, песьи дети… Это мы их выманили на себя. Теперь они наши…
Второй сотней командовал Кутай-бек, и он, не сходя с коня, подбадривал нукеров, указывая коротким взмахом руки, где кому встать, посматривая на быстро приближающиеся к ним долбленки.
— Копья готовь, — кивнул он тем, что стояли в первом ряду. — Как подплывут ближе, на бросок, бросайте в гребцов.
Меж тем первая сотня мерным шагом брела по направлению к березовому леску, все больше погружаясь в воду, вытягивая вверх руки с зажатыми в них луками. Наконец они миновали наиболее глубокое место и с криками бросились на укрывшихся меж березок карагайцев. Те не выдержали и бросились бежать, но их тут же настигали, рубили саблями, кололи короткими копьями. Вскоре все было кончено, и нукеры, возбужденные короткой схваткой, радостно закричали, потрясая оружием.
Но карагайцы добились своего, задержав отряд Кучума возле леска, и теперь сжимали их кольцом, обложив, словно волка в логове, цепью вертких и юрких долбленок. Но подплывать на выстрел они опасались, держась на порядочном расстоянии. Может, они надеялись на испуг, когда, увидев их, нукеры бросятся бежать, не сумев организовать должной обороны. И Кучум в который раз поблагодарил Аллаха, что сам повел отряд, не доверился кому-то. Кто знает, как бы повел себя иной человек на его месте.
— Может попробовать отбить у них несколько лодок? — предложил Сабир. — Потом мы оттеснили бы остальные…
— А ты сам когда-нибудь садился в такую лодку? — криво усмехнулся Кучум.
— Нет, а что…
— А вот то, что не усидеть тебе в ней, перевернешься тут же.
— Тогда нам нужно идти вперед, — робко пожал плечами сотник, — не век же здесь стоять…
— Они только и ждут этого. Нет, вперед нельзя. Надо выбираться на сухое место. — И Кучум повел головой, всматриваясь в окрестности, отыскивая ближайшее возвышенное место.
— И что потом? — не унимался Сабир. Наверное, велико было его желание отбить лодку у карагайцев.
Кучум тоже допускал, что найдутся воины, которые смогут управлять верткой долбленкой, но что-то подсказывало ему об опасности подобного решения. Он не мог объяснить, в чем именно, но… опыт старого воина противился тому.
— Хорошо, я согласен, — наконец согласился он, — но мне не столько нужна лодка, как один из карагайцев. И желательно молодой.
Сабир, не задавая больше лишних вопросов, побрел к нукерам и о чем-то начал совещаться с двумя плотно сбитыми коренастыми воинами, время от времени указывая им в сторону долбленок. Те согласно кивали головами, внимательно слушая сотника.
У Кучума наконец созрел хоть какой-то план, и он, покусывая тонкий ус, подозвал к себе Кутай-бека. Тот подъехал ближе и заявил как ни в чем не бывало:
— Хорошо, комаров пока нет, а то бы заели давно…
— А эти комары как? — Кучум кивнул в сторону долбленок.
— Э-э-э… хан! Разве у них есть крылья? То караси, а не комары. Сонные караси, ленивые, — скривился, показывая полное презрение к противнику. — Пусть себе плавают. Нам они не мешают.
— Раненых нет?
— Ни единого, мой хан.
— Но глазеть на этих карасей я больше не желаю, — Кучум сплюнул в воду и смотрел, как плевок застыл у конской ноги, постепенно растворяясь в ней. — Сделаем так. Пусть твоя сотня прикроет отход первой, а потом меняется местами. Мы с тобой отходим последними. Все понял?
— Конечно, что тут не понять. Отходим…
— Не просто отходим, а медленно, прикрывая друг друга.
— Пусть будет так, хан, — беспечно пожал плечами Кутай-бек. — Значит обратно в Кашлык возвращаемся? — он все же хотел незаметно, исподтишка уколоть Кучума.
— Когда-нибудь мы вернемся в Кашлык, но не сегодня. Отдавай приказ.
Вторая сотня по приказу Кутай-бека растянулась строем на две стороны, образовав широкий проход для первой. И нукеры под предводительством Сабира медленно попятились назад, огрызаясь как раненый зверь, поводя угрожающе луками и копьями в сторону карагайцев. Кучум подумал, что эти воины, многие из которых пришли с ним когда-то из-под Бухары, не предадут, не бросят, скорее умрут, чем позволят упасть хоть волосу с его головы. Приятно было смотреть, как покрытые сабельными шрамами нукеры неспешно отступают, не выказывая паники или малейшей растерянности. Таким же неспешным шагом они проходили мимо его шатра во время посещения Кашлыка послами от других правителей. Вот они прошли меж прикрывающих их рядов и остановились, образовав ровный строй для выхода второй сотни. Так меняясь местами, не подпуская к себе близко плывущих следом карагайцев, они выбрались наконец на сушу, где рос густой хвойный лес и виднелась уходящая вдаль широкая тропа. Только раз позади раздался чей-то крик, звонкие удары веслом о воду, всплески, но и они быстро смолкли.
— Всем разводить костры! — приказал Кучум. — Выжимайте одежду и сушите на огне. Остаемся здесь до вечера. А вам проследить за мятежниками и выставить охрану, — кивнул Сабиру и Кутай-беку.
Но Сабир вскоре вернулся и, радостно улыбаясь, сообщил:
— Взяли, мой хан…
— Кого? — удивился тот, забыв уже о своем прежнем распоряжении, но по сияющему лицу сотника понял, кого он имеет в виду. — А-а-а… Ну, веди, веди. Одного взяли?
— Остальных зарубили, — все так же радостно улыбаясь, поведал Сабир. — А надо было и тех привезти?
— Поглядим, что этот скажет.
Сабир провел Кучума на небольшую полянку, где сидел привязанный спиной к разлапистой ели совсем еще молодой карагаец. Он с тоской поглядывал на своих охранников, тех самых плотных и кряжистых воинов, с которыми совсем недавно совещался сотник. Они еще не успели обсохнуть и стояли, подрагивая от холода, стуча зубами, вода капала с них, и когда Кучум махнул им рукой, что могут идти, то с радостью побежали к ближайшему костру, даже не взглянув на доставленного ими пленника.
— Как зовут? — присаживаясь на корточки, спросил Кучум.
— Маймыч,* — трясясь всем телом, покорно отозвался тот.
— Точно, Маймыч, — ухмыльнулся Кучум, оглядывая тщедушное тело карагайца, что так же неимоверно дрожал от холода и страха, с ужасом смотрел на беседующего с ним человека. — Догадался, кто я? — Тот еще сильнее затряс головой. — Вот и хорошо, значит, все поймешь с первого раза. — Кучум вытащил из-за пояса кинжал и поднес его к пленному, закрывшему от страха глаза. — Не бойся, я не стану тебя убивать, — и с этими словами он разрезал ремни на руках и ногах карагайца, но тот даже не шевельнулся и лишь сильнее вжался в комель ели, словно пытался врасти в нее. — Встань, — резко приказал хан. — Пленный вскочил и тут же упал назад, больно ударившись головой о корень. Так он и лежал, как вынутый из силков зайчонок, лишившийся сил от испуга. — Видишь, — провел кинжалом перед его лицом Кучум, — я могу лишить сил любого человека, а тебя, Маймыч, уже лишил.
— Пощади, хан, — прошептал тот и заплакал, — меня мать дома ждет.
— Выполнишь все, что я прикажу, вернешься к матери. Скажи, выполнишь? Да? А не то… умрешь медленно и мучительно. Ты не сможешь шевельнуть рукой или ногой, коль ослушаешься, и будешь долго так лежать и видеть, как разлагается твое тело, его разъедают черви, вывалятся наружу кишки, и пока не вытекут глаза, ты все будешь видеть, но и после этого еще долго, много дней, чувствовать все происходящее с твоим телом. Ты в моих руках и не смеешь ослушаться моего приказа. Попробуй, шевельни хоть пальцем. — Пленный бросил взгляд на прижатые к туловищу руки и потому как напряглись вены у него на лбу, было понятно, каким неимоверным усилием он заставляет сделать хоть одно движение пальцами. Но те не слушались, словно окаменели, и слезы покатились по сморщенному лицу пленного, делая его еще более жалким и беспомощным. — Не надо реветь, ведь ты мужчина. Все кончится хорошо, коль будешь слушать меня. Договорились? — Маймыч захлопал короткими ресницами, но страх не уходил из глаз, и так он слушал Кучума, теперь уже окончательно став похожим на кролика, лежащего перед раскрывшим пасть удавом.
Кучум еще долго говорил с ним, а потом резко выбросил руку вперед и воткнул в толстый ствол кинжал. Маймыч вздрогнул, неожиданно вскочил, сделав несколько неуверенных шагов, и побежал, поминутно оглядываясь.
— Помни, что ты в моей власти, — крикнул вслед ему Кучум.
Поздно вечером с одного из постов раздался окрик дозорного и вскоре Кучуму доложили, что к их лагерю приплыл на лодке тот самый пленник, с которым хан долго беседовал. Пройдя вслед за воином, Кучум еще издали различил маленькую фигурку карагайца, покорно стоящего у берега, сложив руки на груди.
— Это ты, Маймыч? — спросил для верности.
— Да, мой хан. Я все выполнил, как было приказано, — и он указал на темнеющую неподалеку лодку.
— И тебе удалось справиться одному? — в голосе Кучума послышалось неимоверное удивление. — Как ты смог?
— Хан своим заклинанием дал мне сил вдесятеро больше, нежели прежде.
— Понятно, понятно, — свел брови на переносье Кучум, — веди, показывай.
Они прошли к лодке, на дне которой лежало тело мужчины в боевых доспехах. Кучум ногой пошевелил его и по всему было видно, что тот мертв, а рана, зияющая на горле, лишь подтверждала это.
— Кто-нибудь видел, как ты убил его?
— Нет, — спокойно ответил Маймыч, — я позвал его к своей лодке, желая сообщить что-то важное, а когда он наклонился, то ударил в горло кинжалом, — и он протянул Кучуму его собственный кинжал, покрытый коркой крови. Хан принял его, отер о рукав и небрежно опустил в ножны. — А остальное было нетрудно сделать…
— Хорошо, хорошо, — хан брезгливо поморщился, — можешь не пересказывать. Ты свободен, плыви обратно.
— А как же награда? — тонким голоском спросил Маймыч.
— Я даровал тебе жизнь, — коротко ответил Кучум.
Когда лодка карагайца отплыла довольно далеко от берега, хан продолжал стоять на берегу, напряженно глядя в едва темнеющий ее силуэт. Потом вынул кинжал, несколько раз прочертил в воздухе круг и с силой воткнул его в ствол ближайшего дерева. Тут же лодка остановилась, замерла, над ней показались очертания человеческой фигуры, а потом послышался вскрик и отдаленный всплеск. Вскоре все смолкло, и лишь невысокий борт долбленки спокойно покачивался на водной глади.
— Так-то оно лучше, — негромко обронил Кучум и, повернувшись, встретился взглядом с одним из охранников, что оцепенев наблюдал за всем происходящим.
— Тс-с-с! — хан приложил указательный палец к губам. — А то знаешь, что с тобой может случиться? Вот и ладно. Лучше найди веревку покрепче и за ноги привяжи этого мертвеца к верхней ветке вон той березы. Справишься? Охранник молча закивал головой и кинулся к убитому, которого оставил на берегу Маймыч.
Вернувшись к своему костру, где сидели Кутай-бек и сотник Сабир, Кучум как бы между прочим сообщил:
— Завтра возвращаемся обратно в Кашлык. С предводителем карагайцев, которого прозвали невидимкой, Кузге-беком, покончено.
— Как! — в один голос вскрикнули Кутай-бек и Сабир.
— Да очень просто. Он висит вниз головой на ветке березы. Завтра сами можете убедиться в этом. Нет-нет, сидите, — остановил их жестом, — не стоит ради презренного изменника прерывать нашу беседу. Впрочем, я мог бы расправиться с ним, и не выходя из Кашлыка, но решил чуть поразмяться. — Кучум говорил высокомерно, оттопырив нижнюю губу, как бы нехотя произнося слова, а сотник и Кутай-бек благоговейно взирали на своего хана как на некое высшее существо. Недаром о нем ходили всякие слухи, мол обращается он то в орла, то в волка, может разить врага, лишь взглянув на него издали. Сейчас они сами убедились в правдивости тех слухов. Что ж, тем лучше. Трудный поход закончен.
Весть, что Кузге-бек убит, мигом разнеслась по лагерю, но ни один из нукеров в сумерках не решился идти к дереву, где висел бунтовщик, все ждали утра. А утром все с удивлением задирали головы вверх, где на толстенной ветке висел привязанный за рукоять крепкой веревкой изогнутый у основания кинжал хана Кучума. Долго искали охранника, которому поручено было втащить на дерево мертвого Кузге-бека, но и его не удалось отыскать. Не было видно и карагайцев, ни одна лодка не разрезала водной глади, да и сама вода заметно пошла на убыль.
— Отправляемся обратно в Кашлык, — хмуро приказал Кучум, для которого исчезновение бека, прозванного невидимкой, было такой же загадкой как и для остальных нукеров.
"Может быть, карагайцы сняли его с дерева и увезли с собой, — успокаивал он себя всю обратную дорогу. — Только как не видели их караульные, что менялись дважды за ночь. Странно все это…"
Все селения, лежащие на их пути, казались вымершими. Люди бежали от ханского отряда в глубь леса, прятались на болотах. С одной стороны, это злило Кучума, а с другой… подданные должны бояться своего правителя. Так было и будет всегда, пока существует этот мир.
А земля вокруг них просыпалась, оживала, наливалась силой, и грешно было не улыбнуться ее первозданной девичьей наготе, сбросившей пелену зимних одежд и пока не успевшей одеть летнее одеяние. Ее погрузневшее, разомлевшее под весенним солнцем тело роженицы устало дышало всеми порами кожи-земли, вздымалось буграми холмов, провалами оврагов.
Весенние воды ушли, освободив место для буйства трав и цветов, что украсят землю, оденут ее и возвестят миру о появлении на свет еще одного года жизни, несущего с собой радость и веселье.
Цепочка медленно едущих над речным обрывом всадников напоминала издали стаю черных птиц, парящих у самой земли. Впереди ехал, опустив плечи, человек с седой бородой, тягостно думающий о чем-то своем и не замечающий пьянящих красок весны и прихода на сибирскую землю нового и молодого года, обещающего множество перемен.
В Кашлыке их ждало известие, что взбунтовались вогульцы, живущие в верхнем течении реки Тавды. В другой бы раз Кучум немедленно направил несколько сотен на их усмирение, но сейчас… сейчас у него просто не было сил для нового похода. Приказав начальнику не пускать к нему кого бы то ни было до следующего утра, он лег, укрывшись с головой, чтоб не слышать доносящихся снаружи шорохов, вскриков гнездившихся неподалеку птиц, радостных воплей детей, радующихся весеннему солнышку и теплу.
Сон долго не шел, но усталость взяла свое, и вскоре он уже погрузился в тяжкое забытье, как вдруг кто-то тронул его за плечо и назвал по имени.
— Кто здесь? — встрепенулся он. — Я же просил никого не пускать…
— Это я, мой хан, — услышал он знакомый голос, но не сразу смог припомнить, кому он принадлежит. — Ты звал меня и я пришел…
То, как вошедший говорил, растягивая слова на окончании, что обычно свойственно всем сотникам и башлыкам, привыкшим выкрикивать команды, пересиливая ветер и пургу, а так же знакомая шепелявость, наконец, позволило Кучуму узнать разбудившего его.
— Алтанай?! Ты?!
— Я, мой хан. Ты еще не забыл меня?
— Но ведь ты умер…
— Да, умер.
— Как ты можешь говорить со мной? Может быть, и я умер? Ответь…
— А какая разница между живым и мертвым? Мы находимся в одном мире. Сейчас ты думаешь, что спишь, а на самом деле твоя душа беседует со мной. Иной живой больше на мертвого походит. Так-то…
— Почему ты раньше не приходил? Почему именно сейчас?
— Раньше, хан, ты не звал меня. Занят был. Сейчас тебе очень тяжело и уже который день зовешь своего старого башлыка.
— Устал я, Алтанай. Ох, как устал. Жить не хочется больше…
— То не от нас с тобой зависит. Все в руках Аллаха. Нельзя смерть торопить. Видно, не пришел пока твой час.
— А ты можешь сказать, когда он придет? Скажи, дружище, мне очень нужно знать, сколько отмерено мне.
— По делам нашим отмерено: по благим и дурным. Ты все сделал, что хотел?
— Нет пока…
— Вот видишь. Свершишь одно, а там открывается другое. Сам себе меру и кладешь. Много, много пока дел у тебя, хан. Пострадай еще.
— И тебе не хочется обратно, Алтанай? Помог бы мне. Видишь, как маюсь один без верной руки. Тяжко…
— Нет, не хочется. Я уж не тот, что был раньше. Все мне видится иначе. Отвык от суеты вашего мира.
— Значит не поможешь? И ты против меня. Эх, Алтанай, Алтанай…
— Зачем хан рвет себе душу? Пустое это все. Живи как живешь.
— Подожди, не уходи, — Кучум протянул руку, чтоб коснуться плеча старого башлыка, но рука не слушалась и осталась неподвижной. — Ответь тогда, где тебя похоронили.
— Это могу. Садись на своего вороного и поезжай на полуночь. Он сам привезет тебя к моей могиле.
— И еще… Тебя убил хан Едигир?
— Нет. Просто пришло мое время. Аллах призвал меня.
— А Едигир? Он живой или тоже умер? Ответь. Для меня очень важно знать об этом, умоляю…
— Скоро узнаешь. Все в этом мире становится явным, — и, не договорив, старый башлык вдруг исчез.
Кучум сидел на сбитой лежанке и безумно таращил глаза, поглядывая по углам шатра. Тихо вошла Анна, присела рядом, прильнула к груди.
— Проснулся уже?
— Сам не пойму. Спал или нет.
— А я вот что нашла возле шатра, — и она подала ему медную бляху, которую он много раз видел на кольчуге старого башлыка.
БЛАЖЕНСТВО ГОРЕСТНЫХ
Василий Ермак сидел на берегу небольшой речушки и, неторопливо подбирая рукой камешки, бездумно кидал их в воду, наблюдая, как тихая гладь ее разбегается кругами, похожими на глаз живого существа, пытающегося высмотреть нарушителя спокойствия, но, так и не разглядев его, снова тихо засыпающего. Наконец, Ермаку надоело это пустое занятие, он повел широкими плечами, поднялся на ноги, оглядел степную даль, вслушиваясь в полуденную тишину, нарушаемую лишь стрекотанием кузнечиков да побрякиванием удил пасшейся лошади.
Второй день поджидал он посланных в разведку к ногайцам своих казаков, что должны были отыскать в степи конские табуны мурзы Урмагомета, давнего казачьего недруга. Прошлой весной он со своими нукерами едва не накрыл отряд Ермака, когда они возвращались из Крыма, с рынков Бахчисарая. Пьяный казак — плохой казак. А они пьянствовали всю обратную дорогу, беспечно полагаясь на близость казачьих станиц. Вот тут-то и наскочил на них Урмагомет с сотней нукеров. А казаков всего-то два десятка. Слава Богу, что пищали держали заряженными, отбились и, рассыпавшись, ушли: кто вдоль берега, кто по дну балки, кто скрылся в ближайшем леске. В станицу добралась лишь половина от всего отряда. Голосили бабы-казачки, хмурились старики. Ермаку, а он был старшим в том походе, никто и слова не сказал. Но он сам все знал — виноват. Не уберег казачков. С него и спрос. Может, от того, что был легко ранен стрелой в бедро, в открытую не высказывались, не вызвали на круг для суда, но про себя он дал слово посчитаться с мурзой, чего бы то не стоило.
Долго, всю зиму, вынашивал план мести, как это делал обычно, без спешки, ни с кем не делясь задуманным, а пару дней назад пригласил к себе в курень Гришку Ясыря, Яшку Михайлова, Гаврюху Ильина (все они были с ним в тот раз и тоже ходили зиму как оплеванные, чуя вину) и изложил план мести.
— Нынче гнуса много, и ногайцы погонят свои табуны от становий, в степь подале, где ветерок прохладный отгоняет мошкару. Пастухов на сотню голов у них не больше трех человек бывает. Если табун большой, то не больше двух десятков.
— Как и нас в тот раз было, — вставил слово Гавриил Ильин.
— Да, как и нас, — Ермак внимательно глянул на него, пытаясь угадать, согласен ли Гаврюха идти в набег. Низовые атаманы на кругу толковали, что с ногаями надо дружбу держать, мол, царь Иван Васильевич не велел до поры до времени ссориться. Поэтому их набег шел в разрез с планами казацких старшин. Сами же они сидят по куреням, живут от дележа общей добычи, приносимой казаками из набегов. Им нет нужды рисковать жизнью. К тому же и царское жалование как ни как, а им попадает в первые руки. Ермак, не желая ссоры со старшинами, решил собрать в набег лишь близких ему казаков, которым тоже невтерпеж сидеть по куреням без дела, ждать общего похода на казылбашев или турок, когда собираются и стар, и мал, идут всем войском, а в результате — больше шума, чем дела.
— Не пожалуют нас старшины за это, — словно угадал его мысли самый рассудительный из всех Яков Михайлов, — ох, не пожалуют.
— Чхать нам на них! — вскочил полукровка Гришка Ясырь. — Пущай свои толстые задницы греют на солнышке, старшины наши. Им чего? На них не каплет…
— А на тебя давно капать начало? Камышом бы прикрылся, — ответил, топорща белесые усы, Яков Михайлов. — Сам в прошлый раз первый наутек пустился. Забыл, что ль?
— Это я первым? — Гришка сделал вид, что ищет кинжал на широком поясе. — Я первым бежал? А ты меня в балке так шибко обошел, что я сколь не гнал за тобой, а догнать не сумел.
— Ладно, все хороши, — Ермак нажал легонько на худое плечо Ясыря, усаживая того на место, — дело будем говорить или квитаться начнем?
— Давай о деле, — подал голос молчаливый Гаврила Ильин, самый крупный и неповоротливый из всех, — а то их брехунов не переслушаешь. Идите вон на улочку, да там и цапайтесь.
— Так вот о деле, — Ермак чуть выждал, собираясь с мыслями, и продолжал. — Коль на большой табун наскочим, голов с полтыщи, то пастухов там не больше, чем два десятка будет. Снимем их: и мурзе отомстим, и кони наши.
— И куда ж мы их денем? — похоже, Яков Михайлов не хотел идти в набег или просто кочевряжился, набивал себе цену. — Съедим? Старшинам подарим? Может, и скажут они за то спасибо, а может, и пожурят, что без спроса ихнего в набег на ногаев пошли…
— Добрых под себя оставим, а остальных на продажу угоним.
— Это куда ж? В Бахчисарай, что ли? Там они нас, ногайцы, мигом накроют, за ушко, да на солнышко сушиться подвесят.
— Дай договорить-то, — поморщился Гаврила Ильин, — все норовишь поперек батьки в пекло проскочить.
— Тоже мне, батька нашелся, — скривился Яков, но, встретившись с налившимся гневом взглядом Ермака, осекся, — прости, Тимофеевич. Не про тебя я… Про этого увальня, — ткнул рукой в сторону Ильина.
— Коней к кабардинцам отгоним. Есть у меня там дружки кой-какие, — закончил Ермак и замолчал, ожидая, что скажут остальные.
— Я согласен, — беспечно махнул рукой Гришка Ясырь.
— Выдюжим ли втроем? — покачал головой Ильин.
— Ясно дело, что втроем и соваться неча. Тут дюжина добрых казаков нужна. Точно, — высказался Яков Михайлов. — И чтоб не кинулись, как зайцы, в разные стороны, в случае чего.
— Вот каждый из вас еще троих и приведет. Таких, за кого головой ручаетесь, — сжал жесткую пятерню в кулак Ермак, — как за себя.
— Это можно, — протянул Гаврила Ильин, — есть такие.
— Вот и добре. Завтра под вечер и выходим. — Ермак встал.
— А чего другим говорить, коль спросят, куды собрались? — не успокаивался ершистый Яков Михайлов.
— На кудыкину гору…
— Скажешь, на богомолье попремся грехи замаливать.
— Ага, в монастырь подадимся. Кафтан на рясу менять, шапку — на клобук. Это точно, — засмеялся вместе с другими Михайлов. — Эх, давненько не ходил я в доброе дело. Руки чешутся.
— Вот и почешешь скоро, — подтолкнул его в плечо Ермак, выпроваживая, чтоб поскорее остаться одному и обдумать до конца план набега, после того как заручился поддержкой друзей.
На другой день, под вечер собрались у переправы за станицей, подальше от любопытных глаз, и, оглядев друг друга, узнавая старых знакомцев, перемигнулись, посмеялись над Гришкой Ясырем, у которого, похоже, не ко времени загуляла кобыла, и тихой рысью тронулись вдоль реки.
…Сейчас Ермак поджидал их с известиями о ногайских табунах, разослав отряды по четыре человека в каждом в разные стороны. Сам не поехал, не желая впустую маять коня, метаться по степи. Все одно, все съедутся к нему, сообщат об увиденном.
Первым вернулся Яков Михайлов со своими людьми и безнадежно махнул рукой, спрыгивая с коня и тяжело отдуваясь.
— Никого, кроме зайцев да байбаков, по всей степи не встретили. Видать, в другую сторону откочевали.
— Ладно, отдыхайте покуда, — щелкнул плетью по голенищу Ермак, — авось, другие наткнутся.
Когда солнце упало бочком на край земли, удлинив тени, давая степи возможность остыть, умерив свой зной до следующего дня, показался отряд Гришки Ясыря.
— На ногаев наскочили! — еще издали закричал он возбужденно.
— И чего? — все вскочили на ноги, потянулись к оружию.
— Да их всего три кибитки стоит. Мы и подъезжать не стали.
— Фу-у-у, — выдохнул Ермак, — правильно сделал, а то бы все дело испортил. Они вас не заметили?
— А кто их знает, — Гришка бросился к баклажке со свежей водой, — они глазастые, могли и разглядеть.
— Там узнаем, — Ермак направился к своему коню.
— Куда ты, Тимофеевич?
— Поеду навстречу Гаврюхе. Ежели и он ни с чем вернется, то сам искать стану. Ждите тут.
Казаки удивленно переглянулись, но перечить не стали. Пусть атаман решает сам, его затея.
Немного отъехав от лагеря, он остановился и стал чутко вслушиваться, пытаясь угадать, откуда должен появиться последний отряд разведчиков. Справа от него виднелись едва заметные издали курганы. К ним-то он и направился, прикинув, что забравшись наверх, увидит возвращающихся казаков даже раньше, чем они его. Так и вышло. Едва взобрался на курган, как различил чуть в стороне скачущих на рысях четверых всадников, державшихся парами. Пустил коня наперерез им, ловя лицом приятно освежающий ветерок, слившись телом со стелющимся под ним скакуном, направляя бег его одними коленями, отпустив повод, похлопывая правой рукой того по шее.
Казаки, заметив еще издали верхового, приостановились, подняли ружья, но узнав атамана, радостно заулыбались, Гаврила Ильин пустил коня навстречу к нему.
— Нашли! — закричал издали. — Огромный табун будет. Точно с полтыщи голов! И одного ногая в полон захватили, с собой везем.
Ермак и сам увидел притороченного к седлу маленького плотного ногайца в грязном сером халате. Ему неловко было висеть вниз головой — и он силился поднять ее, непрерывно задирал вверх, но это плохо удавалось, и он что-то бессвязно бормотал толстыми губами, верно, моля отпустить его.
— Зачем он нам? — неодобрительно спросил Ермак Ильина.
— Да наскочил на нас сам. Убивать — жалко. Без оружия был. Отпустить, значит своих наведет. Решили до тебя привезть, а ты уж решай как знаешь.
— Решай! — зло выдохнул Ермак. — У самого башка не варит?! — Ильин смутился, хлюпнул носом и, несмотря на свои солидные размеры, сделался рядом с атаманом маленьким и невзрачным. Подъехали и остальные казаки. Гаврила подбирал их словно себе под стать: все плечистые, рослые, с пудовыми кулачищами. Такие и полсотню легко одолеют.
— Чего делать с ногайцем? — спросил тот, у которого он был привязан к седлу. — Бормочет все чего-то по-своему. Может, молится?
— Не молится, а детей вспоминает. Шестеро их у него. Говорит, мол, помрут одни, — ответил Ермак, вслушавшись в бормотанья пленного. — Развяжи, — приказал.
Когда пленник очутился на земле и его освободили от пут, то он первым делом поднес руки к лицу и закачал головой из стороны в сторону. Его налитое кровью лицо от долгого пребывания головой вниз покрылось пунцовыми пятнами и того же цвета стали белки глаз. Он долго качал бритой головой, несвязно бормоча чего-то, наконец, разобрав в Ермаке старшего, заговорил, обращаясь к нему:
— Казак якши! Моя казак не трогай! Казак мой не трогай! Якши, бачка?
— Якши, якши, — сдержанно отозвался Ермак, — скажи лучше, сколько пастухов у табуна, — и повторил фразу на ногайском наречии.
— Ун, ун, — выкинул тот два раза растопыренные пальцы рук, — егерме, — и широко заулыбался. Но в уголках его глаз светилась тревога, улыбались лишь складки округлого лица и толстые губы. Глаза смотрели настороженно и недоверчиво. Он хорошо понимал, зачем казаки выспрашивают о пастухах при конском табуне, но не отвечать не мог, опасаясь за свою жизнь. И не понятно, правду ли он говорил. Может быть, пастухов там окажется не двадцать, а полсотни.
— Где ваш улус? — спросил Ермак.
— Шибко далеко, казак, не доехать. Там, — и махнул рукой на восход солнца.
— Так чего делать с ним? Секир башка, — полушепотом спросил Ильин, оттопырив нижнюю губу.
— Отпусти. Он нам зла не сделает. Какой из него воин. Стыдно о такого и руки марать, — Ермак, не отводя глаз, смотрел на ногайца. Что-то неприятное, холодное шевельнулось внутри. — Иди, — приказал он и, повернувшись к казакам, пояснил, — пока до своих доберется, мы уже у них побывать успеем. Главное, чтоб они его не хватились, розыск не начали. Надо выступать прямо сейчас.
Ногаец бросился бежать, время от времени оглядываясь назад и все еще не веря, что его отпустили. А Ермак отправил двух казаков к берегу кликнуть остальных.
— Найдешь дорогу в темноте? — спросил Ильина.
— Должен, однако. Под утро, глядишь, и доберемся, — уныло ответил он, — только кони пристали. Весь день без передыху скакали.
— Чуть отъедем и отдохнем, своих дождемся. Негоже на том месте стоять, где ногайца отпустили. Встретит своих, наведет на нас, тогда держись.
Остановились у небольшого озерка, заросшего высоким камышом. Стреножили коней, улеглись прямо на землю, подложив под головы снятые седла. Вслушивались, как где-то на другой стороне озерка пикал кулик, вскрякивали изредка утки, хлопая крыльями. Верно, птицы, встревоженные приближением людей, отлетели на ту сторону и теперь никак не могли успокоиться.
— Вы вздремните малость, а я наших дождусь, — тихо проговорил Ермак, — как светать начнет, разбужу и выступим.
Он дождался подхода остальных казаков, которые безошибочно нашли их ночевку, перекинулись парой фраз, улеглись. Те, намаявшись за день, дружно захрапели, а он лежал с открытыми глазами, жевал крепкими зубами травинку, прикидывал, как завтра подкрадутся к табуну, как будут гнать его, уходя от погони.
Он не первый раз шел в набег. Но раньше ходил рядовым казаком и лишь теперь решился сбить свою ватагу, стать атаманом. Первый раз его взял с собой Богдан Барбоша, язвительный на язык и отчаянного нрава человек. Ермаку не понравились с первого раза его маленькие бегающие глазки, шепелявая речь, раздрызганная походка полупьяного человека.
— Эй, ты, чернявенький, — обратился он к Ермаку, когда тот только первое лето вместе с Евдокией и ее матерью Аленой прибыл на Дон, выстроил кое-как свой дом-курень и присматривался к местным казакам, не зная, чем занять себя. — Двух баб с собой возишь, да? Как султан, однако. Может, подаришь одну? Молоденькую. Ту, вторую, себе оставь. Старая, она лучше греет. Соглашайся, пока добром прошу.
Кровь ударила Ермаку в голову, но он справился с собой и обвел взглядом толпу бездельничающих на майдане казаков. Их было человек двадцать и все были не прочь подразнить новичка, развлечься его растерянностью.
— А ты ее спроси, — неожиданно для самого себя нашелся Ермак.
— Да ну! — Барбоша прошелся по кругу, вихляя толстым задом в широких синего сукна шароварах. — Выходит, ты ей не хозяин. У нас, казаков, так не принято.
Мужик решает, а баба — она баба и есть. Что корова, куда приведут, там и доится.
Казаки дружно заржали, пытаясь подбить Ермака на драку. Он не боялся тщедушного Барбошу и даже хотел уже подойти к нему, схватить поперек и бросить на землю. Но потом, чуть помедлив, достал кинжал, повел глазами и, увидев врытый посреди майдана в землю столб, точно через плечо метнул кинжал. Тот мягко вошел в древесину, подрагивая рукоятью.
— Попади, — кивнул Барбоше.
Тот понял, что ему предлагают состязание и, также вихляясь, подошел к Ермаку, вынул свой длинный с перламутровой рукоятью кинжал, прищурился и с силой метнул его. Он прошел в ладони от столба и, кувыркнувшись, зарылся в пыль. Казаки возбужденно закричали, заулюлюкали.
— Ай, Барбоша, оскандалился перед чужачком! Как он тебя!
— Бывает, — смущенно ответил тот, — а пущай он еще раз попробует. Ну-ка, Ефим, дай ему свой ножичек.
Рыжеусый казак подал Ермаку кинжал. Тот не раздумывая принял его, прикинул вес, взявшись за конец лезвия и отведя руку, метнул. Кинжал точнехонько впился рядом с первым. Казаки радостно загомонили, подбадривая Ермака. "А ну, мой метни!", "Покажи и моим", "Любо", — послышались крики и к нему потянулись руки с кинжалами самой разной формы. И он, не глядя, брал их, прикидывая на вес, отводил руку, щурил глаз, видя лишь столб, и метал, метал… Остановился, вытер испарину со лба, лишь когда весь столб был утыкан кинжалами, а казаки похлопывали его по плечу, приговаривая: "Наш будет", "Такой не подведет", "Айда, выпьем по чарочке за дружбу казачью".
Подошел и Богдан Барбоша, примирительно протянул руку, чего-то там шепелявил, Ермак и не разобрал. Горячая волна опять прилила к голове, и он уже не мог различить отдельных голосов. Потом все же понял, что Барбоша зовет его с собой в набег на ногаев красть коней. Согласился. Отбили табун в две сотни голов, но ногайцы нагнали их далеко в степи. Около сотни всадников, а казаков всего два десятка. Едва ушли. С тех пор они не то что подружились с Богданом Барбошой, но и не чурались друг друга. Тот несколько раз напрашивался в гости к Ермаку, хвалил угощения, что выставляли Алена и Евдокия. Ермак видел, какими глазами он глядел на Дусю, но сдерживался, молчал.
Как-то, вернувшись с рыбалки, застал его сидящим в своем курене на лавке на хозяйском месте пьяненького в расстегнутой рубахе. Алены дома не было, а Дуся раскрасневшаяся и слегка захмелевшая сидела рядом и смеялась каким-то россказням Богдана. Тот, увидев хозяина, тут же заспешил, засобирался на выход. Ермак не противился. А ночью ушел спать один на улицу.
С тех пор между ним и Евдокией будто бы пробежала черная кошка. Она ходила, низко опустив голову, почти не разговаривала с Василием. И Алена, заметившая перемену, произошедшую с дочерью, украдкой принесла от соседки святой воды, обрызгивала ее спящую, шептала молитвы. Но Евдокия оставалась столь же безрадостной и угрюмой, лишнего словечка не обронит, не взглянет как раньше радостно, не одарит улыбкой. Казаки в то лето собирались в большой поход на турок, готовили струги, и Василий подолгу пропадал на берегу, домой приходил поздно. Когда суда были готовы и сбор назначили на другой день, он попробовал поговорить с Дусей, выбрав момент, когда Алена ушла из дома.
— Что случилось? — начал первым, притянув ее к себе за руку. — Или разлюбила. Так я не неволю — уходи. А не хочешь ты, так я уйду.
— Василий, прости меня, прости. Я сама не знаю, что случилось. Ребеночка хочу, а Господь не дает. Не венчаны мы, вот и причина вся в том.
Василий чувствовал, что она не договаривала чего-то, но разговорить ее, заставить открыться не мог, не умел, не был научен тому.
— Ладно, живи, как знаешь. Коль вернусь живым с похода, то или в другую станицу уйду, или в другой курень напрошусь на постой.
Поход оказался тяжелым. Турки словно поджидали их и разгромили несколько стругов из пушек, не дав им подойти к берегу. Ермака легко зацепило осколком в левую кисть руки, рана долго гноилась, вызывая раздражение и злость. Вернувшись, застал Дусю столь же сумрачной, молчаливой, не отвечающей на вопросы. Словоохотливые соседки мигом поведали ему, что она желала утопиться, да спасли рыбаки, ставившие сети неподалеку. Поздним вечером Алена вызвала его на двор и зашептала:
— Слышь, Василий, хороший ты мужик, да дочери моей счастья дать не сумел. Твоя ли, ее ли в том вина, но не сложилось у вас чего-то. Как быть-поступить, и ума не приложу. На родину к себе подаваться надобно.
— А я как же… — задал нелепый вопрос.
— Ты как, говоришь? А как ране жил, так и дале жить будешь. Не судьба, видать.
Ему хотелось закричать, выхватить саблю и крушить все, что попадется под руку, но сдержал себя, пересилил, ответив:
— Я Дусе зла не желаю… Может, и впрямь дома ей лучше будет.
Через два дня увидел возле своего куреня подводу, запряженную парой меринов. На телеге сидел старый казак Афанасий Кичка, к которому вдовица Алена частенько заглядывала, водила дружбу.
— Вот, отвезти попросили… — пожимая сухими плечами, словно оправдываясь, пояснил он Василию.
На крылечко вышли Дуся с матерью, обе одетые подорожному, закутанные по самые глаза в строгие черные платки. Из глаз Алены одна за другой, накапливаясь в глазницах, бежали слезы.
— Чего удумала, чего удумала, — повторяла она, растягивая слова и всхлипывая, — в монастырь собралась. В твои-то годы, — выговаривала, обернувшись к дочери. Василия они обе словно и не видели. Уселись на телегу, перекрестились на деревянный крест часовенки, выглядывающий из-за камышовых крыш казацких куреней, и Афанасий хлестнул лошадей, телега со скрипом тронулась.
Василий обескуражено стоял во дворе, словно не верил, что Дуся, его Дуся, не простившись, уезжает. Кинулся следом, догнал, схватил за руку, пошел, подстраиваясь под неторопливый шаг меринов, рядом. Неожиданно Дуся обняла его, поцеловала в лоб, в щеки, легко коснулась губ и выдернула руку, закрыла лицо.
— Останься, — тихо проговорил он и приостановился, надеясь, что она спрыгнет с телеги, подбежит к нему, обнимет, и они вместе вернутся в дом. Бросилось в глаза, как одно из колес у телеги подпрыгивает, верно, плохо закрепленное, мотается из стороны в сторону, и почувствовал неожиданно, что сейчас разрыдается, не сможет удержать соленую влагу, если не протолкнет комок, скопившийся в горле, перекрывший дыхание. Резко повернулся, широко зашагал к дому, но не стал заходить, а прошел к речке и просидел там до позднего вечера. На другой день вернулся Афанасий, смущенно, как-то бочком подошел к нему и протянул, держа осторожно двумя пальцами, колечко с зеленым камешком, что он подарил Дусе после первого своего похода.
— Передать просила… Сказала, мол, кровь на том кольце. Может, ты его с мертвой какой снял, да ей и привез.
Ермак схватил кольцо, хотел зашвырнуть подальше, но передумал и оставил, зажав в кулаке.
— Чего еще говорила?
— Все про монастырь толковала, что грехи замаливать отправится туда. Не по душе ей жизнь наша вольная. Алена-то отговаривала ее всю дорогу, а она уперлась и на своем твердо стоит. Кремень, не девка. Ты уж извиняй меня… — кашлянул и заковылял на майдан.
Василий оставил колечко на память о Евдокии, расклепав, закрепил на ножнах кинжала и, каждый раз притрагиваясь к ним, вспоминал недолгую любовь свою, что не уходила, не угасала, а жгла изредка, нагоняя тоску, постоянно шевелилась внутри тяжелым комком. Он не сразу заметил, что пропал куда-то из станицы Богдан Барбоша, но не хотел соотнести его исчезновение с отъездом женщин. Поинтересовался у знакомых казаков, отвечали, мол, подался с небольшим отрядом на Волгу промышлять купеческие суда, караваны брать. Решил, что так оно и к лучшему. Может, чувствовал тот вину за собой какую, может, совпал его уход с отъездом Евдокии, но Ермаку казалось, что встретятся они еще. Непременно встретятся. Должно так случиться.
И еще думалось, что недолго жить ему в казачьих станицах, скакать по степи. Снились изредка родные сибирские леса, слышалось шуршание снежного наста под ногами, кожей ощущал мягкое прикосновение тончайших снежинок, опускающихся на раскрытую ладонь. Сибирь звала, манила к себе, но он не знал пока, какая дорога выпадет ему, кто направит, укажет единственный путь.
…Он так и не уснул до самого рассвета. Как только начал сереть краешек неба, предвещая восход, растолкал казаков, первым пошел к озерцу умыться и, наскоро перекусив, выехали навстречу взбирающемуся на небесный купол дневному светилу.
По вытоптанной траве, выщипанной до самых корней, по многочисленному конскому помету безошибочно определили — табун находится где-то неподалеку. Нашли неглубокую балку, спустились в нее, начали совещаться вполголоса:
— Может, мне прикинуться, мол, заблудился, своих ищу, и подъехать к табунщикам? — предложил Гришка Ясырь.
— Думаешь, они дурнее тебя будут? — усмехнулся Яков Михайлов. — Тут же с коня ссадят да свяжут, поинтересуются, куда ихний человек делся. Не-е-е… тут чего-то поумней придумать треба.
— Налетим сходу и в сабли, — вставил Пашка Ерофеев, закадычный друг Гришки, такой же тонкий в поясе и с длинным чубом, свисающим на лоб.
— Уйдут и табун утянут за собой, — покачал головой Ермак, — я бы на их месте в серединку табуна забился, шевелил, гнал его и вовек вам меня не схватить. Они-то умеют это делать, насмотрелся…
— Чего же предлагаешь? — Яков сидел на корточках и обрывал травинки левой рукой, правой удерживая коня за повод. — Ночи дождаться? Ночью поди разбери, где свой, где чужой.
Ермак долго не отвечал, пристально вглядываясь в лица казаков, ждавших от него главного слова. Потом остановил взгляд на Гришке Ясыре, спросил как бы между прочим.
— Кобыла твоя точно загуляла?
— Нашла дура время, — засмеялся тот, — от пашкиного жеребца едва отбиваюсь, уворачиваюсь. Того и гляди заскочит, меня сомнет. — Все дружно захохотали, похлопали Гришку по спине.
— Да они за ночь, пока ты дрых, давно уж разобрались. Мой Орлик не промах. Так что с тебя причитается, — Пашка Ярофеев радостно оскалился, погладил по шее своего вздрагивающего и всфыркивающего жеребчика, который и впрямь беспрестанно косился на гришкину кобылку, тянулся к ней губами, натягивая повод.
— Это хорошо, хорошо, — несколько раз повторил негромко Ермак, — это нам на руку.
— А-а-а… Понял, — заговорил Гаврила Ильин, — к табуну подпустим ночью, а она жеребца приманит. Так говорю?
— Так-то так, да это еще полдела. Табунщики его мигом обратно завернут. Это им не впервой. Тут особая хитрость нужна.
— Так говори! Чего кота за хвост тянешь?! — раздались неторопливые выкрики. — Ты у нас башковитый, сказывай.
— Главное — это табунщиков от косяка выманить, не дать к своим уйти, погоню направить. Ежели хоть один до своих кочевей доберется, подымет, то они всем скопом навалятся, достанут, с живого кожу сдерут…
— Да не пужай ты, пуганы мы, — перебил Яков Михайлов, — дело говори. Коль пришли, не обратно же вертаться.
Ермак присел на корточки и, вынув кинжал, стал чертить на земле, где кому размещаться и как действовать. Казаки внимательно слушали, согласно кивали головами, теперь уже никто не перебивал, понимая, что от правильности решения атамана зависит не только удача, но и жизнь.
Троих казаков вместе с Григорием Ермак отправил подкрасться к табуну и высмотреть, сколько там пастухов, где стоят, чем заняты. Когда те уже по темноте вернулись, рассказали все, что удалось увидеть, коротко отдал приказания, направив каждого по своим местам.
— Они с двух сторон табун стерегут. Ты, Гаврила, со своими казаками подкрадетесь к тем, что ближе к лощине стоят. Постарайтесь снять без шума. Яков с другой стороны костерок запалит, и они, что со стороны степи охраняют, обязательно поинтересоваться подъедут. Не все, но человека два-три непременно. Не зевайте, сшибайте их и на остальных наскакивайте. Не давайте в середину табуна забраться, завертеть его, а то их потом оттуда никакими чертями не выкуришь. А тебе, Ясырь, кобылкой своей жеребца приманить и увести подале в сторону. Глядишь, и весь табун за ним потянется, поскачет. Тут уж как повезет. Ну, с Богом.
— С Богом, — отозвались все и дружно перекрестились, нащупывая кресты под рубахами, о которых большинство и вспоминало лишь в минуты опасности, близости смерти. Такие как Ясырь-полукровка и вовсе были не крещены, но крест носили, шептали что-то наподобие молитв или заговоров, что кто умел. Почти все поголовно носили ладанки с землицей, набранной с родных мест, откуда пришли, надеясь, что уж землица родная точно спасет и от стрелы, и от пули, и саблю отведет.
Ермак, разослав казаков и оставшись один, долго вслушивался в ночные шорохи, пытаясь разобрать хоть малейший шум, производимый кем-то из его товарищей. Но все было тихо, словно и не было вокруг никого, и лишь он один затерялся под звездным небом у края неглубокой балки, да конь его чуть всхрапывал, тыча мокрыми губами в спину. Ему стало вдруг жутко и показалось, будто кто-то большой, невидимый подсматривает из темноты, ждет случая, чтоб напасть, схватить за горло, придавить к земле. Ощупав заряженную пищаль, проверил на месте ли кресало и трут, поправил саблю, легко вскочил в седло, поехал шагом, не давая коню перейти на рысь, натягивая повод.
Чуть проехав, различил два огня, мерцающих один по правую руку, а другой по левую. То, верно, были, как он и предполагал, костры табунщиков, что готовят себе в медных котлах пищу, беззаботно переговариваются меж собой, не подозревая о казаках, крадущихся к ним. Но вот чуть дальше от правого костра засветился сперва слабо, а затем поярче костерок, запаленный, как было уговорено, казаками Якова Михайлова. Теперь он подхлестнул коня, перешел на рысь, держа направление точно меж двух костров, где, по его расчетам, должен быть сам табун.
Вскоре он услышал призывное ржание яшкиной кобылы, отметил про себя, что и Ясырь добрался до места, выманивает жеребцов. Василий подумал и направил коня вправо, где могла понадобиться его помощь.
Один за другим грянули два выстрела и по раскатистому звуку трудно было понять, откуда стреляли. Задрожала земля, кто-то закричал, заголосил, и Ермак понял, что табун рванулся с места и несется на него. Теперь он нахлестывал коня что есть силы, уходя в сторону, чтоб не быть смятым, растоптанным несущимся сзади него табуном. Но неожиданно где-то сбоку послышалось громкое хлопанье бича, гортанные крики… Табун поворачивал обратно… Значит, случилось худшее. Табунщики успели пробиться к табуну и теперь их будет трудно различить среди конской массы, они не дадут направить его в нужную сторону, будут всячески мешать этому. Он опять развернул коня, на этот раз заставив его мчаться в том направлении, откуда слышалось хлопанье бичей, выхватил на ходу саблю и, пригнувшись к седлу, слился с конем, зорко всматриваясь в замаячившие перед ним силуэты.
Ногайцы, сидевшие у дальнего костра, сразу заметили беспокойство коней и встрепенулись, приготовили луки, вслушивались настороженно в темноту. Когда увидели вспыхнувший неподалеку костер, удивление их возросло, и они отправили двух подростков узнать, в чем там дело. Но тут пара жеребцов, отделившись от основного табуна, кинулась в степь. Трое пастухов вскочили в седла и поскакали за ними и тут наткнулись на казаков Гришки Ясыря, схватились за сабли, подали сигнал своим, и те, мигом все поняв, начали заворачивать табун, погнали его в степь.
Якову Михайлову удалось схватить и сбросить с коней двух напуганных до смерти подростков. Другие казаки зарубили еще двух табунщиков, но остальные, укрывшись в центре табуна, гнали его в степь. Тогда казаки, щелкая бичами, разбили табун пополам и попытались направить его в сторону реки. Подоспели казаки Гаврилы Ильина, разделавшись с пастухами у ближнего костра, принялись помогать остальным.
Табунщики решили спасти хоть часть вверенных им коней и, улюлюкая, уходили в степь, надеясь, что ускакали от невесть откуда налетевших казаков. Но неожиданно кони замерли, остановились, задние напирали на передних, сжали пастухов. Не помогали плеть, бешеные крики и ругательства. Вдруг они явственно услышали злобный волчий вой, несшийся из степи. Табуном овладело всеобщее смятение и он, сминая малолеток-жеребят, повернул обратно, помчался вслед за той половиной, что отбили казаки. На табунщика, застывшего в растерянности, налетел кто-то из темноты, рубанул саблей. Другого, поспешившего к нему на помощь, застрелили в упор.
Ермак неторопливо вложил саблю в ножны и поскакал вслед за несущимся по ночной степи табуном, горяча коня. Когда обе половины распавшегося было табуна соединились, взмокшие от бешеной скачки казаки съехались, узнавая, не ранен ли кто. Бог миловал, и даже ни единой царапины ни у кого не было, настолько табунщики растерялись и не смогли дать отпор.
— Ну, атаман, и точно, голова ты у нас!
— Башка у тебя, Тимофеич, крепко варит, — восхищались казаки, перекидываясь на скаку словами. — Теперь главное дело — пригнать их до самого места, да чтоб погони не было.
— Ничего, мы следы запутаем, а пока они нас ищут, далеко уйдем.
На другой день он приказал несколько раз перейти мелкую речушку вброд со всем табуном, прогнать его по тому же следу, крутнулись в сторону, потом в другую и дальше гнали коней без остановки, спали в седлах по очереди и, наконец, на третий день поняли, что ушли, оторвались и теперь уже ногайцам не догнать их. Жалко было только жеребых кобылиц да малолеток, не желавших отставать и падающих без сил в степной ковыль. Табун сократился почти на одну треть, зато им стало легче управлять. Больше всего теряли времени на переправах, сбивая коней в единую массу, заставляя плыть на другую сторону.
Уже на седьмой день показались отроги гор. А вскоре они наткнулись на посты черкесов, укрывшихся в небольшом леске. Обсказали им свои условия обмена табуна на оружие, одежду, богатую посуду, и те послали гонца к своему князю. Тот приехал на другой день в окружении свиты, а позади казаки увидели ряд длинных повозок, укрытых цветастой дерюгой. Догадались, привезли товары для обмена. Князь придирчиво оглядывал едва ли не каждого коня, сетовал, что казаки чуть не загнали их, торговался, как простой купец на базаре. Зато совершенно не интересовался, откуда табун, хотя, конечно, догадывался, поглядывая время от времени по сторонам, словно опасаясь, что сейчас явятся настоящие хозяева коней.
Наконец, ударили по рукам и казаки взяли под уздцы запряженных в повозки лошадей, предварительно осмотрев и оружие, и посуду, и одежду. Владельцами всего этого богатства теперь становились они. Не оборачиваясь, поехали неторопливо обратно, в душе браня черкесов, что, как обычно, надули, подсунув ношеную одежду, мятую посуду, только ружья и пистоли были исправны.
Добирались долго. Не торопились. Ночью не разводили огня, все еще опасаясь, что ногайцы наткнутся на них, а днем держали на телегах горящие фитили и наготове заряженные ружья. Но вместо ногайцев уже на подходе к Дону встретили своих казаков. Тех было около сотни, вели их Богдан Барбоша и Иван Кольцо, чернобровый красавец с кудрявыми волосами. Про Кольцо Ермак слышал как про добычливого казака, который, случалось, грабил русских купцов, ходил аж под самую Казань. Видел он его лишь один раз в своей станице, куда тот приезжал в окружении таких же удальцов.
Первым подъехал Барбоша, осмотрел повозки, усмехнулся. Стал сетовать, мол, сами они возвращаются после неудачного похода из Крыма и не грех бы поделить богатую добычу. Встреченные ими казаки и впрямь недвусмысленно, недобро, чуть не облизываясь, жадно поглядывали на их повозки. И Ермак, перекинувшись взглядом с товарищами, махнул рукой, чтоб сняли сундуки и мешки с двух повозок, оставив себе половину.
— Да тебе чего, повозок что ли жалко? — захохотал Барбоша, — нашел, чего жалеть. Давай вместе с повозками.
Ермак ничего не ответил и поехал вперед, врезавшись в толпу конников, расступившихся перед ним, яростно глянул из-под насупленных бровей на Кольцо и его товарищей. И твердо решил, что при первой же возможности уйдет с Дона. Тут ему не жить.
БЛАЖЕНСТВО ВЛАСТИ
Московский царь Симеон Бекбулатович пребывал в добром расположении духа. Мог ли он думать еще год назад, сидя у себя в городке Касимове, что вскоре очутится на самом знатном среди ближайших государств престоле московском. Когда ему передали грамоту царя Ивана Васильевича, в которой тот не приказал, нет, а милостиво просил прибыть его в Москву, то Симеон попрощался со своими родичами, полагая, что ехать ему предстоит не иначе как для принятия смерти. За что? Да, может, за то, что тесть его, князь Иван Федорович Мстиславский в опалу попал, а теперь, страшно подумать, всех родственников на плаху потянут.
Слезно попрощавшись со всеми, выехал Симеон Бекбулатович тогда в печали великой из Касимова. Сам-то город ему давно опостылел. Не жаловал его народ касимовский за то, что крещение православное принял, русскую жену взял, обрядов дедовских, обычаев не придерживался, одевался под стать русским князьям и даже бороду отпустил им в подражание. А кто знал, что царь Иван Васильевич, уставший от трудов государственных, на него все княжество Московское переложит. Кто знал о том? Скажи о том ранее, так на дыбу в застенок поволокли бы.
Но нет, иная судьба была уготовлена князю Симеону. Еще в Казани живя, в малолетстве, видел, что все татарское не в чести у московитов. Смеялись над ними и за глаза узкие, и за бороды тощие. С дворовыми людьми лучше обращались, нежели с ними, с князьями. А все почему? Татары потому что. Когда же ему городок Касимов пожаловал царь Иван Васильевич, он нарадоваться не мог. Свои покои. Своя охрана. Свой выезд. Виновных карал, нужных людей возвеличивал. А уж про царскую милость не забыл, до конца дней своих помнить будет, чья рука подвела его к княжескому креслу. Потому на каждый праздник и отправлял в Москву подарки дорогие: скакунов наилучших, кречетов для соколиной охоты — дюжинами. Подарок, он не только руку греет, но и память оставляет о дарителе. Вспомнил-таки царь Иван, кто более других холопей ему предан, призвал Симеона ко двору, и не просто призвал, а (…страшно подумать) венец царский на него возложил.
Симеон Бекбулатович слез с царского кресла, на котором сидел, пока не было в покоях обычных гостей, просителей, при них он все же стеснялся восседать на царском троне, прошелся по зале и отворил осторожно крышку сундука, где лежал, посверкивая золотом, венец. Опустил крышку, пробежался к окну, выглянул, проверяя, не идет ли кто ко дворцу, и вернулся к сундучку, вынул венец и возложил себе на голову поверх шапочки, отороченной собольим мехом. Венец был маловат для его округлой тяжелой головы, посаженной на плечи при полном отсутствии шеи.
"Кто бы чего не говорил там, а ведь ни кому-нибудь царь место уступил, а я воспринял престол московский. Ко мне все бояре и послы иноземные на прием просятся, — горделиво откинул голову Симеон Бекбулатович, прошелся широким шагом по зале, опять глянул в окно, — да что послы-бояре, а сам царь кланяется низехонько и на лавку с краешку смирненько садится, глаза в землю опустив. Ох, я им еще покажу, дел понаделаю", — раскипятился новый царь московский, отставив чуть правую ногу и горделиво оглядываясь вокруг.
В это время дверь неожиданно открылась и вошел старший царев сын Иван Иоаннович, зыркнул по сторонам и, увидев Симеона Бекбулатовича, стоящего с гордо откинутой головой, выставленной вперед ногой, прыснул от смеха.
— Ты чего это, Семка, блудный сын, венец царский на башку нацепил? Спереть захотел? Я вот батюшке-то скажу, он повелит тебе плетей всыпать, спустит шкуру твою басурманскую.
— Зачем так говоришь, — обиделся тот, быстро снимая и пряча за спину злосчастный венец, — мне его царь носить доверил, чтоб видно было всем, кто государством правит.
— Это ты-то правишь?! Ты?! Морда татарская! Моя бы воля, так я тебе псарней собственной не доверил управлять, — вкладывая все возможное презрение в свои слова, двинулся на Симеона царевич.
— Но, но, — попятился тот, — не балуй, а то стрельцов позову и царю пожалуюсь, как ты говоришь нехорошо.
— Зови, зови своих стрельцов! Поглядим, что они сделают мне. А?! Испужался! А ну, отдавай сюда венец, я его в свои покои снесу, — он протянул руку, придерживая другой длинную саблю, висевшую на боку.
Симеон Бекбулатоввич не на шутку струхнул и попятился в сторону двери, надеясь, верно, спастись бегством от расшумевшегося царского сынка, чей крутой нрав (а уж нравом он точно в батюшку пошел) был всем хорошо известен. Не известно, чем бы все закончилось, но тут дверь вновь открылась и в залу робко вошел младший сын царя Федор Иоаннович. На его бледном, еще безусом лице блуждала застенчивая улыбка, и занят он был какими-то своими потащенными мыслями, не сразу разобрав, что происходит. Но, увидев испуганно пятившегося к нему Симеона Бекбулатовича с зажатым в руке золотым венцом и приступающего старшего брата, все понял и бросился вперед, выставив руки, заговорил тихим, но очень чистым голосом:
— Братец, опять ты донимаешь бедного нашего Симеона Бекбулатовича. Ему батюшка такое дело доверил, такое дело… — он внезапно смешался, словно забыв, о чем же он хотел сказать, вновь обвел взглядом залу и, проведя тонкой рукой по лбу, закончил, — искал посла английского, да не нашел… А он сказывал, мол будет здесь с утра. Не было? — вопросительно глянул по сторонам, словно посол мог укрыться за лавкой или огромным шкафом с серебряной посудой.
— Зачем тебе посол тот надобен? — ворчливо проговорил Иван, делая вид, будто забыл про свою ссору с Симеоном Бекбулатовичем.
— Хотел у него порошок попросить…
— Вот те на… Наша телятя бодаться вздумала? — своей насмешливостью Иван пытался уколоть младшего брата. — Отравить кого вздумал? Уж не меня ли?
— Что ты, братец! Посол говорил мне, будто есть такой порошок, который всех людей счастливыми делает. А травить… — лицо Федора при этом исказилось судорогой, пробежавшей по губам, — этого и в мыслях никогда не держал. Как можно человека жизни лишить…
— Как, говоришь?! — Иван захохотал громко и несдержанно, показывая всю неприязнь к Федору. — Или ни разу на казнях не был? Не видел, как жизней лишают? Бжик, и все! — и он провел ребром ладони по горлу.
Симеон Бекбулатович меж тем незаметно подошел к сундуку и, осторожно приоткрыв его, просунул вовнутрь злосчастный венец. Иван повернулся на скрип открываемой крышки, хотел чего-то сказать, но лишь махнул рукой, скорчил презрительную гримасу, и подойдя к Федору, взял его за локоть, повел к двери.
— Куда ты меня ведешь, брат? — попытался тот вырваться.
— Ты ж англичанина Сильверста хотел найти, вот и пошли. Мне он тоже по делу нужен, — и вывел слегка упирающегося Федора из залы, метнув на прощание взгляд, полный злобы, Симеону Бекбулатовичу и даже подмигнул ему.
Касимовский царевич, оставшись один, выпустил воздух, тряхнул головой, словно наваждение отогнал, и со стоном опустился на помост возле царского кресла.
— За что он меня так не любит? — спросил, ни к кому не обращаясь. — Зачем такие плохие слова говорит? Зачем глядит так? — и вдруг соскочив, топнул короткой ногой, завизжал дико с подвыванием: — Убью! Зарежу! На плаху пошлю! Пусть только уедет царь из Москвы, я им всем покажу!
На его голос в дверь сунулся дьяк Андрей Клобуков и с изумлением уставился на кричавшего.
— Тут вот купцы ждут, — проговорил негромко.
— Какие там купцы? Кто велел?
— Так сами же и приглашали купцов с Твери. Велели сегодня с утра пожаловать, — Клобуков стоял на пороге и не входил в покои, показывая тем самым, что его дело сторона, как скажут, так и исполнит. Царь Иван Васильевич приставил его к Симеону Бекбулатовичу, строго наказав сообщать ему самолично обо всем, что тот будет говорить, кого принимать, и доносить немедля. Однако царь не объяснил, как звать касимовского царевича, по какому титулу величать перед послами, купцами и другим разным людом. Поэтому дьяк исхитрялся говорить с царевичем вообще без титула. Хуже приходилось, когда он вводил послов в палату и должен был при этом громко объявлять не только имя, но и титул царя. Но и тут хитрый дьяк нашел выход. Впуская послов, он объявлял: "Прибыл такой-то…" — и тут же скрывался за дверью, предоставляя послам догадываться самим, кто перед ним находится на царском троне.
— А-а-а, — вспомнил, или только сделал вид, что вспомнил, Симеон, — проси, проси, давно жду.
"Ну и дурак, — подумал Клобуков, — давно ждет. Разве может царь московский давно ждать. То его ждут, а не он", — и распахнул широко дверь перед купцами.
Тех было трое — из Твери и Торжка — торговые люди. Они приехали жаловаться на утеснения своего посадника и даже не ожидали, что могут столь быстро попасть к царю. Другие болтали, будто по полгода сидят, в приказе дожидаясь, проедая кучу денег по московской дороговизне и еще поднося дьякам и приказным разные подарки. А тут… вчера пришли, а сегодня их царь принял. "Ну и дела", — крутили они головами.
Войдя в палату, упали на колени, дружно стукнувшись лбами о большой, смягчающий удары красный ковер. Потихоньку подняли головы и обомлели, перед ними стоял не царь, а узкоглазый и кривоногий самый настоящий татарин. Они соскочили с колен, стали оглядывать залу, но никого более не найдя, спросили:
— А царь-батюшка где-кось будет? Мы до него…
— Я царь и есть, — ответил татарин.
Купцы переглянулись, но деваться было некуда и они обсказали свое дело, приведшее их в Москву. Татарин выслушал и крикнул дьяка.
— Пиши мою грамоту, — объявил ему. Клобуков послушно вынул перо, чернильницу, достал чистый лист и пристроился у небольшого стола.
— Велю я, Симеон, царь московский, купцам тверским урону никакого не чинить, а коль они мне сызнова пожалуются, то обидчика ихнего велю сечь плетьми до смерти, — продиктовал Симеон Бекбулатович.
Андрей Федорович быстро и скоро записал сказанное, посыпал грамоту песком, стряхнул, дунул для верности и подал на подпись.
Когда обескураженные купцы вышли из Кремля, держа в руках грамоту, вновь переглянулись, перекрестились истово на купола церквей, и самый пожилой Савелий Карнаухов зашептал:
— Подменили царя-то… Точно говорю — подменили татарином.
— А взаправдашний где теперь? — спросил Фрол Нестеров, державший на тверских базарах кожевенные ряды, и самый состоятельный из них.
— Слышал я, будто нашенского царя в бочку засадили, да за море свезли к иноземцам…
— Дома чего говорить будем?
— А ничегошеньки не скажем. Не нашего то ума дело. Царь Иван Васильевич в это самое время принимал английского посла Даниила Сильверста и прибывшего с ним медика Елисея Бомеля в своем новом дворце. Все, кто мало-мальски разбирался в делах, творящихся в Московском государстве, не принимали всерьез недавно посаженного на трон касимовского царя Симеона Бекбулатовича. Но мало кто понимал, зачем царю понадобилось подобное лицедейство, когда государь жив-здоров, а царем его называть нельзя. И дети есть, но и они престол не восприняли, а неотлучно при царе, при отце своем находятся. Ладно бы кого из знатных, родовитых людей определил царь на свое место, вон их сколько бояр, ан нет… Татарина захудалого, словно в насмешку над народом русским, определил Иван Васильевич и заставлял всех ему ручку целовать, кланяться. Оно хоть и болтают, будто окрестили татарина, да и жена у него русская, из древнего рода Мстиславских, будет, но кто его знает, чего там наболтать, наговорить могут. Москва нынче ничему уже не верила после всего виданного, слыханного. То царь в слободу Александрову съехал, то с собачьей башкой и метлой у седла ездил, то и вовсе за море отъезжать собирался, а тут, на тебе, татарин в Кремле сидит, себя царем называет.
Но народ московский нынче не тот, ох, не тот, что ране был. Лишнего слова не скажет зазря, чужому человеку думку свою не откроет. Вон они, чурбаки дубовые, на которых шибко говорливым головы секут, а рядом качельки стоят, где подвешенные на пеньковой веревке за шею болтаются. Лучше промолчать, дурачком прикинуться, целее будешь, дольше проживешь.
Иван Васильевич, чуть прищурившись и покачивая в такт словам посла лобастой головой, внимательно слушал перевод толмача Савина. Тот несколько раз побывал в дальней земле, зовущейся Англией, и хорошо понимал по-ихнему, справно переводил, едва успевая за быстро роняющим слова Сильверстом. На худом, изможденном лице рыжеволосого англичанина лежала тень настороженности, и он не сводил глаз с Ивана Васильевича, пытаясь понять, как он воспринимает сказанное. Ему, Даниилу Сильверсту, выпала нелегкая задача, возложенная королевой Елизаветой. Она передала московскому царю письмо, но в письме всего не напишешь, не обскажешь. Царь Иван в предыдущем послании намекнул королеве, что не прочь видеть ее своей женой. Это английскую-то королеву! Так дальше пойдет, то скоро от турецкого султана сваты явятся, чего доброго, и предложат ей стать наложницей в гареме мусульманском. У царя Ивана уже четыре или пять жен было и говорят, будто бы последнюю собирается в монастырь сослать. Хорош женишок! При живой жене предлагать королеве ехать в Москву и лечь в постель к этому старику!
Иван Васильевич, словно прочел мысли посла, неожиданно свел брови, от чего и без того суровое лицо приобрело хищное выражение, а нос сделался похожим на клюв. Но это продолжалось недолго, лицо царя вновь размякло, морщины на лбу разошлись, взгляд потеплел.
Если с женитьбой еще можно отговориться, сославшись на плохое здоровье королевы Елизаветы, то хуже обстояло дело с торговлей. Иван то разрешает английским купцам беспошлинную торговлю в Московии, то отменяет, велит описать все товары, самих купцов сажает в крепость без всяческих объяснений, то отпускает их, возвращает товары, одаривает подарками. Предыдущий английский посланник, Антоний Дженкинс, объездил всю страну вдоль и поперек и добрался до далекой Бухары, хотел побывать и в Китае, но не сумел пробраться туда из-за какой-то азиатской войны. Он говорил Сильверсту, что все азиатские владыки одинаково капризны, как лондонская погода, их поведение невозможно предугадать, и сегодня не знаешь, как они поведут себя завтра. Дженкинсу повезло: он нажил себе громадный капитал и навсегда покинул эту варварскую страну, передав ему, Сильверсту Даниилу, все полномочия.
— Как здоровье друга моего, Антония? — неожиданно спросил Иван Васильевич и, пока толмач переводил, Сильверст уже догадался, о чем речь, ему опять стало не по себе, подумалось, что царь действительно читает мысли находящихся рядом с ним.
Посол почтительно ответил, глядя в серые, водянистые, с красными прожилками на белках царские глаза.
— Чего от нас убежал вдруг? Будто волки за ним гнались, — захохотал, покашливая, Иван Васильевич, — или наворовал полные карманы и боялся, отберу? Тьфу на него! Хитрый вы народишко, англичане. Говорите одно, а на уме другое. Думаешь не вижу? Насквозь я вас, бестий, вижу! Так и знай. Вы к нам зачем едете? Хапнуть хорошо и деру дать. Как татарва крымская. А везете чего взамен? Барахло, которого и у нас завались…
— Государь не справедлив, — попытался вставить слово посол, но царь только отмахнулся, делая знак толмачу, чтоб не переводил.
— Хочу, чтоб в следующий раз купцы ваши привезли селитры, пороха доброго, свинцу, меди для литья пушек. Иначе, скажи, пусть и не суются, — дождался пока Савин, тщательно подбирая слова и поджимая губы, переведет все сказанное, а посол закивал головой, выражая согласие, ткнул длинным, худым пальцем на лекаря Елисея Бомеля. — Кто таков хитрец этот. По глазам вижу — проныра. Чего заявился? Лекарь, ты говорил?
— Очень искусный лекарь, — подтвердил посол, — а еще предсказывает по звездам судьбу. Может излечить всякого…
— Пущай он моих бояр излечит, чтоб измены не мыслили, черных дум не держали, — и опять махнул Савину, — не переводи, незачем.
— Могу сказать, что великого государя ждут великие дела, — заговорил Елисей Бомель, поняв, что речь идет о нем, — я могу приготовить такие лекарства, что царь станет молод и силен. Могу…
— Ты, кабан английский, говори, да не заговаривайся, — неожиданно вспылил Иван Васильевич, — ты не Господь Бог, чтоб меня молодым сделать. Чародейство это все, а за чародейство знаешь, что положено? — и Иван Васильевич показал, как затягивается на шее воображаемая петля.
— Ноу, ноу, — запротестовал лекарь, — я лечил великих владык мира сего, и никто не сказал мне зато худого слова…
"То-то ты в Лондоне в тюремном подвале темном сидел, — чуть усмехнулся Сильверст, — за добрые дела, верно, посажен был".
Но его усмешка не укрылась от глаз Ивана Васильевича — и он, живо повернувшись к послу, спросил, упершись в него взглядом горящих, как уголья, глаз:
— Многих людей лекарь сей на тот свет отправил? Отвечай!
— Совсем нет. Государь не так меня понял, — засмущался посол, но Иван Васильевич, не слушая перевода, уже отвернулся от него и опять без смущения стал разглядывать лекаря.
— Как зовут-то? — и когда тот повторил свое имя, как бы подвел черту, сказав, — Бомелиус, значит, по-нашенскому будет. Проверю тебя завтра же в деле. Готовь свои порошки и зелья. И про звезды, про предсказания потолкуем еще…
Дверь неслышно раскрылась — и в царские покои вошли, осторожно ступая, Иван и Федор. Также осторожно приблизились к отцу и поцеловали его по очереди в щеку. Глаза царя увлажнились, когда он посмотрел на отошедших к окну сыновей. Иван был статен и красив, с тонкими бровями, таким же как у него самого орлиным носом, широк в кости, и лишь что-то неуловимо знакомое от покойницы Анастасии проглядывалось в его облике. Федор же был больше похож на мать: и кротким характером, и белизной кожи, манерой говорить, чуть нажимая на "а", и даже походку ее унаследовал. Иван и по части женского пола пошел в отца, сослав в монастырь уже двух своих жен, и также любил пиры, охоту, бывал в пыточных застенках, сам не раз брал в руки клещи, развязывал языки изменникам. Федор же дрожал всем телом при одном упоминании о пытках и лишь раз попытался присутствовать на площади при казни, но его вынесли оттуда на руках, едва живого, с закатившимися под лоб глазами, и недели две после этого младший сын царя не мог подняться с постели.
Иван Васильевич твердо зная, что при слабом здоровье Федора нечего и думать о наследовании трона, нимало не беспокоился о том. Старший, Иван, должен стать достойным преемником и будет на кого оставить неспокойное государство, когда придет смертный час.
При мысли о смерти Иван Васильевич зябко передернул плечами, перекрестился и вновь уперся взглядом в заморского лекаря. Было что-то притягательное в его черных глазах, расчесанных на прямой пробор волосах, спадающих на плечи, смоляных, без единой седой волосинки, хотя лекарь прожил уже верных пять десятков. Его мягкие, неторопливые движения, кошачья поступь и вкрадчивая манера говорить завораживали собеседника. Такому скажи отравить хоть отца родного, он лишь ценой поинтересуется и с благодушной улыбочкой подаст яд. В том-то и отличие русского человека от немца или англичанина, что русский мужик или добр и предан до беззаветности, или как тать черен душой до самого бездонного зла людского. Середка встречается редко. А иноземцы всегда на вид добренькие, ласковые, податливые, особенно когда дело о их выгодах заходит. Но помани кто другой, более сильный, богатый, и не вспомнят о прежнем благодетеле, переметнутся безоговорочно. И этот таков же. Но Иван Васильевич уже знал, какое применение лекарю он найдет, и, при всей неприязни к нему, решил оставить до поры при дворе.
— С чем пришли? — перевел цепкий взгляд на сыновей.
— Вот Федор порошок какой-то ищет, — насмешливо ответил Иван и чуть подтолкнул брата в спину, заставляя того выйти на середину.
— Про порошок мне говорили… — застенчиво начал Федор.
— Какой еще порошок, — тут же насторожился Иван Васильевич, — кто тебе про порошки наговорил?
— Человек один говорил, — уклончиво ответил Федор, — будто у посла английского есть такие порошки, что всех людей счастливыми могут сделать, — по всему было видно, Федор боялся отца и уже не рад был, начав разговор, да еще в присутствии посторонних, терялся, бледные щеки окрасились легким румянцем.
— Счастливыми делает… — переспросил царь, силясь понять, о чем толкует царевич. Меж тем Савин успел перевести слова Федора, и лекарь Бомелиус торопливо замахал руками, что-то залепетал по-своему.
— О чем он? — повернул голову царь к Савину.
— Говорит, есть у него такой порошок, — пожал плечами Савин.
— Так уж и есть? — не поверил Иван Васильевич и, спохватившись, тут же добавил. — Знаем мы их порошки-снадобья: до смертушки доведут, а там счастья полные штаны, радоваться успевай, святых выноси.
— Опием называется его порошок, — переводил дальше Савин, — предлагает всем отведать.
— Ладно, пущай готовит, а там поглядим, — отмахнулся царь, быстро утратив интерес к лекарю и собственным сыновьям, — завтра большое дело у нас готовится — изменников на площади казнить будем. Скажи послу и лекарю, мол царь велит быть им поутру на площади.
— Отец, — вскрикнул Федор, услыхав о казни, — ты же обещал мне…
— Что обещал?! — взвился тот. — Ну обещал, что безвинных казнить не буду, а ежели он враг мне, то что прикажешь? Ждать, когда он меня на тот свет отправит, с трона царского спихнет?! И так я уже передал царство Симеону Бекбулатовичу, он всем заведует, а я по малости своей, по убогости лишь с послами беседы веду, о здоровье государей их справляюсь.
— Не слушай ты его, — вышел вперед царевич Иван, — по недоумию он говорит. Казнить надо ворогов, чтоб другим неповадно было. Моя бы воля, — начал он, но царь привычно сдвинул брови, и Иван Иванович вмиг умолк, замер.
— Навоюешься еще. Аника-воин. Идите все. Мне с послом потолковать о тайных делах надо. — Все торопливо вышли, царь встал с кресла, взял в руки посох, с которым не расставался и, обращаясь к Савину, приказал:
— Гляди, чтобы все, о чем говорить будем, с собой в могилу унес.
— Государь… — соскочил тот с лавки.
— Сиди, — приказал Иван Васильевич, — верю тебе, — и глянул так, что у толмача мороз по коже прошел. — Спроси-ка посла, отчего королева ничего не написала о предложении, которое я к ней делал.
Даниил Сильверст догадался, о чем пойдет речь, еще когда царь велел всем выйти вон. Наслышанный об упрямстве Ивана Васильевича он с самого начала ждал этого вопроса.
— Королева Елизавета плохо себя чувствует, — не поднимая глаз, проговорил, — врачи не советуют ей ехать за море. У нее слабое здоровье. Она ждет московского царя к себе в Англию.
— Где это видано, чтоб жених к невесте ехал! — вспылил Иван Васильевич. — Да кто она такая, чтоб от моего предложения отказываться?! Под моей властью столько земель, что на пять королевен хватит. Знаем мы эти уловки! — и повторил, скривив губы, — "плохо чувствует!" К нам бы приехала, и мы бы ее тут мигом в чувства привели.
— Королева предлагает царю свою дружбу, — послу совсем не хотелось выслушивать оскорбительные нападки насчет своей королевы, которую сам же тайно обожал, хоть и не желал признаваться в том, но сейчас испытывал что-то вроде ревности к этому дряхлому московскому царю, от которого к тому же дурно пахло, и в уголках глаз виднелись капельки желтого гноя. Он бы научив его вежливости, не будь послом.
— Да куда мне ее дружбу засунуть? — продолжал кипятиться Иван Васильевич. — Дружбу со мной все государи, окромя польского, водят. Папа римский и то легатов своих шлет, тоже в дружбе уверяет. Так что, мне теперь жениться на нем, что ли?
— Королеве сообщили, что у царя уже есть жена, — попытался сделать свой выпад Сильверст.
— Кто есть? Кто у меня есть? — Иван Васильевич низко наклонился к лицу посла и запах лука, чеснока и еще чего-то отвратительного становился невыносим. — Померли они… — царь попытался сделать скорбное выражение — Так и передай королеве — померли! Отравлены были врагами-недругами. А те, кого за жен считают, то девки мои спальничные. Девки, и все тут, — лицо его, так и не приняв соответствующего выражения скорби, теперь выражало похотливую усмешку. — Ты коль мужик, то понимать должен Мало ли кто при дворе моем живет. Всех их женами что ль называть?
— Я не знаю, — Сильверст развел руками, — но королева не уполномочила меня говорить о женитьбе.
— Ну и не говори, коль сказать нечего, — царь вдруг резко оборвал разговор и по всему было видно, как он устал. Верно, какая-то давняя болезнь давно подтачивала его, и лишь недюжинное здоровье противилось ей, выдерживая и крутой царский нрав, и многочисленные неумеренности.
Даниил Сильверст поспешил подняться, поняв, что прием окончен, и прошептал про себя молитву, благодаря Бога за мирное окончание встречи с московским царем.
— Завтра чтоб на площади был, — напомнил царь ему уже в спину.
Тяжело ступая и не выпуская посох из рук, Иван Васильевич направился по внутреннему переходу в свои покои. Он не переставал размышлять о притворстве английской королевы, которая, с одной стороны, добивалась его расположения, заискивала, посылая ласковые письма, ища выгоды для своих купцов, скупавших русские товары по самым низким ценам и вывозивших их в Англию без всякой пошлины, но когда зашла речь о том, чтоб объединить два могучих государства и установить владычество на море и на суше, то тут она делала вид, будто не понимает, о чем речь.
"Вот славно было бы, если бы мы хвост поприжали разным там свеям, немцам и прочим замухрыжистым государям, что носы наружу повысовывали. Тут бы, глядишь, и султан турецкий присмирел, не то что паны польские…" После смерти давнего своего врага — польского короля Сизигмунда — Иван Васильевич очень надеялся, что сумеет окончательно закрепиться в Ливонии, получив долгожданный выход к морю, и сможет сам вести торговлю со всеми странами, не особо дожидаясь, пока английские или датские купцы приплывут для закупки товара по дешевым ценам, предлагая собственные втридорога.
Погруженный в раздумье, он не заметил, как из боковых покоев вышла Анна Васильчикова, что уже долгое время жила при дворе. Она была взята царем после ссылки в монастырь ее предшественницы, тоже Анны, из рода Колтовских. Царю намекнули, будто родственники ее задумали извести царя чародейством, и Анна дала на то согласие. Не раздумывая, Иван Васильевич приказал отправить ее в дальний монастырь, а всех близких родичей лишить жизни, забрав в казну их имущество. Нынешняя сожительница его, поскольку обвенчаться с ней, если бы даже захотел, царь не мог из-за несогласия церкви, которая признала лишь первых трех его жен, ныне покойных. И все же с оговорками дала согласие на четвертый брак. Но жениться на сей раз не желал и сам Иван Васильевич. Увидев раз Анну Васильчикову, которая и жила сейчас при дворе, он повелел слугам доставить ее к нему и легко сломил сопротивление неопытной девушки. Его даже забавляла ее стыдливость и неопытность, делая привлекательной, желанной. Стройное молодое тело возбуждало желание, а слезы делали страсть еще более сильной. Но слишком юна была Анна Васильчикова и даже красота ее: волосы цвета спелой ржи, голубые глаза, щеки с детской припухлостью, умение петь — ничто не могло завлечь, удержать царя на долгий срок.
Вначале он не хотел сознаваться даже сам себе, что она прискучила ему. Все реже и реже заходил он в ее покои, не приглашал на пиры, а найдя заплаканной, закипал гневом, кричал, топал ногами. Потом, овладев ею, смирялся, утихал, но это длилось весьма недолго. Так человек, напившись, утолив жажду, быстро забывает, у какого ручья совершил то, и движется далее, пока не наткнется на очередной источник. И во дворце появилась новая царская сожительница, Василиса Мелентьева, знавшая про Анну, да и та знала о Василисе. Но царя мало интересовало внутреннее состояние женщин, их ревности, муки. Теперь он знал цену и слезам, и страданиям искусительниц рода человеческого. Мысли его были заняты более важными делами, а когда тело напоминало о себе, то он легко находил утешение, и на следующее утро мысли уносились далеко, к той единственной женщине, жившей на туманных берегах, отказавшей ему во взаимности, и тем самым не только нанесшей позорное оскорбление, но ставшей источником злобы, вымещаемой на близких к царю людях.
Наткнувшись на Анну Васильчикову, протянувшую к царю тонкие руки в дорогих перстнях, подаренных ей еще в первые незабываемые дни пребывания в царских покоях, он оторопело отшатнулся, выставив вперед посох.
— Чего тебе? — спросил настороженно.
— Я ждала тебя, — просто ответила она.
— Зачем?
— Мне плохо без тебя. Я скучаю и… — чуть замялась, испугавшись чего-то, — и я боюсь.
— Чего боишься, дура? — спросил нарочито грубо, с нажимом.
— Боюсь, что забудешь меня. Боюсь умереть…
— Молись лучше, — Иван Васильевич отстранил девушку, намереваясь пройти дальше. Но она прильнула к нему, припав щекой к плечу.
— Отпусти тогда меня домой. Страшно мне. Тебя по сколько дней не вижу.
— Вот еще. Чего тебе не живется, — в царе уже назревала вспышка гнева, но он сдержался, попытался подыскать нужные слова, — питье, кушанья тебе с моего стола несут, наряды выбирай любые. Чего не живется? Любая бы только мечтала о жизни такой.
— Немужняя жена… Грех-то какой.
— Ладно о грехах-то. Еще ты мне говорить будешь. Жди, сегодня приду, — и, уже не сдерживая раздражения, с силой оттолкнул Анну к стене, торопливо зашагал дальше, не оборачиваясь.
В это время в одном из покоев дворца аптекарь Елисей Бомелиус уединился с царевичем Федором и пытался знаками что-то объяснить ему. Федор смотрел на него и согласно кивал головой.
— Если царевич примет вот этот порошок, то он будет очень счастлив, — говорил Бомелиус, протягивая царевичу небольшую серебряную ложечку, на кончике которой виднелась щепоть какого-то белого вещества. Федор, наконец, понял, что ему предлагается, и отстранил руку аптекаря.
— Нет, то не мне надо, а батюшке моему, боярам. Бомелиус, не понимая причины отказа, настойчиво продолжал протягивать к нему ложечку, указывая пальцем на свой рот. Наконец царевич сдался и со вздохом взял ложечку.
— Что ж, доставлю тебе приятное, — и облизал ее. Аптекарь кинулся в поисках воды и принес неполный ковш.
— Пить, — указал знаками. Царевич сделал и это.
Сидеть, — Елисей подвел того к лавке, — в голове ого-го, — покрутил правой рукой в воздухе и закатил глаза. Но царевич и без того стал ощущать действие принятого и лекарства и залепетал, раскрывая губы.
— О, Господи, хорошо как… Ангелов небесных вижу… Дворцы сказочные… Вон батюшка мой идет… Вон братец… Катушку вижу, она меня зовет к себе, — и заплакал, преклонив голову к стене.
Бомелиус с интересом разглядывал Федора, прикидывая, какую выгоду он сможет извлечь из завязавшейся дружбы с ним. Впрочем, он тоже понимал, как и многие, при дворе, что Федор слаб здоровьем и особых привилегий или наград у него не выхлопотать. Но лекарь привык наклоняться и подбирать за свою долгую жизнь даже не нужные на первый взгляд вещи. А царевич — это тебе ни какой-нибудь купец с улицы. Кто его знает, как дело обернется. А он осторожно вышел из покоев, оставив Федора в сладком забытье.
Иван Васильевич велел кликнуть кравчего Бориса Годунова, который после гибели своего тестя Малюты Скуратова незаметно стал едва ли не самым близким царевым человеком. С рассудительным Борисом царь просиживал подолгу, обсуждая многие дела, готовя посольства и военные походы. Годунов знал о всех царских слабостях и умел подсластить любую самую, горькую пилюлю, смягчили, печальные известия из Ливонии, ободрить царя. Он же как бы ненароком, указывал ему то на одну, то на другую глазастую красавицу, когда им случалось вместе ездить по столице или посещать дома именитых людей. Потом, как бы невзначай, девица оказывалась в царских покоях а что делать с ней дальше, царя не нужно было учить. Одно плохо — пил Борис мало, а Иван Васильевич опасался трезвенников, памятуя изречение древних: непьющий за общим столом — или обманщик, или предатель. Борис же ссылался на плохое действие на него хмельного пития, если и случилось ему принять чарку, другую, то на следующий день появлялся опухший, угрюмый, и царь махнул на этот его едва ли не единственный недостаток. Может, и лучше, когда среди подгулявших гостей кто-то будет с чистой головой.
Борис Федорович вошел, мягко ступая, и поклонился низко, до самого пола. От дальнего предка своего, мурзы татарского Чета, сохранил он смуглость лица, выдвинутые скулы и зауженные к вискам глаза. Взяв в жены дочь Малюты Скуратова, Марию Григорьевну, сумел избежать сам и родственников уберег в опричные времена от расправы и подозрений в измене. За Малютиной широкой спиной легко было укрыться. Порой Иван Васильевич думал, что не будь Бориса Годунова, он не знал бы, с кем посоветоваться, кому поручить сложное дело. Вот и сейчас Годунов должен был обсказать ему о своей встрече с лазутчиками, прибывшими из Польши.
— Что болтают про дела польские, — начал Иван Васильевич, не отвечая на приветствие и не предлагая сесть.
— Болтают, что войне быть большой, — со вздохом произнес Борис Федорович, — король их новый, Баторий, обещал Москву взять.
— Ха! Он пусть лучше о своих землях печется. Москву захотел! Это мы еще поглядим…
— Войско набирает. Сейм деньги немалые выделил, — коротко сообщал Годунов, стоя у стола.
— Били мы панов, били, а все им мало. Уж ихнюю панскую спесь нипочем не выбьешь, пока башку с него не сымешь. Сам как думаешь?
— Думаю, не шутит король Баторий. Им без Ливонии никак нельзя. Кинутся отвоевывать.
— Да… — Иван Васильевич поскреб поредевшую за последний год бороду. — Кинутся, говоришь? А мы на что? Надо тоже войско готовить. Где только людей набрать. Казна у нас нынче совсем пустая.
— А почему нам казаков воровских с Дону, с Волги на службу не пригласить? Сила там немалая скопилась, народишко лихой. Крымчакам проходу не дают, ногайцев в узде держат. Глядишь, и панам чубину укоротят.
— Пошли к ним кого-нибудь, — согласился Иван Васильевич, чуть подумав, — отпиши, мол царь приглашает в поход и жалование пообещай доброе. Понял? Есть такой человек, кто бы добрался до них без промедления?
— Есть, государь Князь Федор Барятинский.
— Знаю молодца. Его и пошли.
В это время в светелку, где обычно уединялись царь с Годуновым, пошатываясь, вошел царевич Федор. Глаза его блуждали и было не понять, видит ли кого перед собой или не различает совсем. Иван Васильевич, не скрывая удивления, повернулся к младшему сыну, спросив тихо:
— Феденька, что с тобой? Не заболел ли?
— Мне хорошо, батюшка, — засмеялся тот, — очень хорошо. Я с матушкой виделся, и она просила передать, что любит тебя, и просила не забывать о ней.
— Да что с ним? — царь вскочил, взял сына за руку.
— Тебе батюшка тоже надобно порошок попробовать, что мне лекарь дал. Велю сказать, пусть принесет. Ты сразу добрым станешь.
— Сыскать мерзавца! — топнул ногой Иван Васильевич. Годунов выскочил стремглав, не прикрыв за собой дверь. Когда он вернулся, то был совершенно спокоен и сказал царю как о чем-то постороннем:
— Мои люди займутся им. — Царь недоверчиво глянул на кравчего, но промолчал.
БЛАЖЕНСТВО НАСЛЕДУЮЩИХ
Жарким было лето, когда гордые поляки избрали, наконец, короля Речи Посполиты. После смерти Сизигмунда-Августа множество претендентов явилось в державу польскую. Был среди них и брат французского короля — Генрих, занявший было престол, но не знавший ни языка польского, ни обычаев, бежавший обратно в Париж после смерти брата своего и трон французский принявший. Был и Максимилиан — император австрийский. Был и царь московский Иван Васильевич, пожелавший отправить младшего сына Федора воздеть на себя корону польскую и объединить затем две великие славянские державы. Но долги были сборы московские, долги хлопоты, а всех опередил венгерский князь Стефан Баторий, что по первому зову явился в Краков и быстрехонько короновался, оставив с носом и государя московского, и императора германского, и многим другим желающим кукиш показал.
Король польский Стефан Баторий ехал в сопровождении малой охраны из мадьяр к своему замку под Краковым. Он любил ездить верхом, поскольку не так в глаза бросался и рост малый его, и хромота не очень заметна. Еще в детстве пытались украсть его разбойники и продать туркам, приковав на цепь за левую ногу, держали в лесной сторожке. Но сумел Стефан освободиться, сбить цепь, а рана осталась и не заживала до конца дней его. Да еще в юности начались и припадки, после чего впадал он в безумие и не помнил всего, им в те минуты содеянного. Женщины припадочного Стефана не любили, да и он их не особо жаловал. Придворные и то пугались дикого взгляда короля Батория и маленьких, глубоко посаженных глаз на скуластом лице Верно, правду говорили, будто предки его пришли с далеких северных земель, где едят сырое мясо, запивая кровью звериной. И может, в силу этих древних традиций новый польский король велел всех бродяг и разбойников на дорогах ловить и в котлы с кипящей водой бросать, а мясо охотничьим собакам скармливать.
Изначально поляки хотели женить французского принца Генриха на дочери покойного короля Сизигмунда, да тот, глянув на невесту, которой в ту пору уже полсотни лет накатило, в смущение великое пришел, отнекивался как мог от брака, а потом и вовсе бежал, оставив Анну Яголлонку и дальше проживать в девичестве. Стефан Баторий и глазом не моргнул, пойдя под венец с невестой на десять лет его старше. Она тут же уехала в Варшаву, а он остался в Кракове, где, впрочем, редко бывал, занятый приготовлениями к войне с московским царем.
Баторий, погруженный в свои думы, не отвечал на приветствия крестьян, снимавших шапки за полсотни шагов и стоявших так, пока он не проедет. Сейчас он думал о том, как избавиться от назойливого Самуила Зборовского, что отчасти помог ему на выборах, но теперь вместе с братом Христофором требовали слишком больших льгот для своего дома. Баторий считал себя солдатом и жизнь вел простую, неустроенную. Разбалованные и разнеженные поляки чуть ли не смеялись ему в лицо, видя незатейливую одежду своего короля, и шутили, что надобно выделить из казны кое-какие средства и приодеть его, а то трудно пастуха отличить от государя великой державы. Но он все терпел до поры до времени, хорошо, впрочем, помня и обиды, и усмешки ясновельможных панов.
Единственным человеком, которого он отличил сразу и выделил из прочих, был шляхтич Ян Замойский. Они изъяснялись на латыни, поскольку король еще плохо знал язык своих подданных. Такие, как Замойский, не обремененные отцовским наследством и высокими титулами, сразу почувствовали в новом короле близкого человека, потянулись к нему, предложили свои шпаги. И он принял с благодарностью молодых шляхтичей, поставив тех на самые важные посты.
Первое, что Баторий сделал после коронации, — отправил грамоты соседним государям, заверяя их в своей любви и дружбе. Те не замедлили прислать ответные послания, поздравив его с коронацией и восшествием на польский престол. Не было только грамоты от московского царя Ивана. А вскоре верные люди передали Баторию, что тот перед послами иностранными насмехался над ним и даже слова бранные говорил о его предках, не признавая Батория равным себе, а сравнивая со своими дворянами, служившими при русском царе на посылках. Нет, Баторий ничем не выдал гнева, но запомнил те слова надолго и поклялся отомстить московитам за неслыханную дерзость, за бесчестие свое, с тех пор и начал подумывать, как проучить тех, отобрав и землю Ливонскую, и те города, что они успели у короля Сизигмунда отвоевать. Он не любил долгих сборов, но к войне готовился тщательно, стараясь предусмотреть любую мелочь, от одежды для своих гусар и до запаса подков для их лошадей. И, заняв в сейме солидную сумму золотых, нанял несколько полков из немцев, шведов и своих земляков мадьяр. Они-то и объяснят московскому зазнайке Ивану, чье происхождение выше. Может, тогда он поймет, что острая шпага и хороший мушкет уравнивают и короля, и простого солдата. Бог дарует победу не за звание, а за доблесть.
Приехав в замок, он тут же велел позвать своего любимца Замойского, и когда тот вошел, Баторий, не отвечая на приветствие, знаком указал ему на громадную карту, придавленную к столу двумя пистолетами.
— Как считает, пан, с чего мы начнем наши военные действия против московитов?
Замойский чуть наморщил лоб, отчего его красивое лицо приобрело грустное выражение, и, подумав, ответил:
— Их армии готовы вновь вторгнуться в Ливонию, а заняв ее, будут угрожать и нашей безопасности.
— Согласен с паном. Я думаю так же, — коротко, как всегда согласился Баторий, — но я вижу, пана что-то смущает.
— Да, — на этот раз без раздумий ответил тот, — черкасские казаки. Они обнаглели до того, что держат в страхе целые воеводства, заставляют наших шляхтичей отдавать им задаром скот, оружие. Тех, кто отказывается, увозят к себе и берут потом баснословный выкуп с родственников. На них нет никакой управы.
— Повесим каждого второго. Четвертуем. Посадим на кол, но заставим вести себя, как должно подданным, и не возмущать спокойствия. Кого мы можем отправить на их обуздание?
— Ходкевича или Сапегу, — поскреб чисто выбритый подбородок Замойский, — они храбрые воины и… мои добрые знакомые.
— Пусть будет так. Напиши им от моего имени и вели прибыть в Краков в ближайшее время.
— Слушаюсь, мой государь. Но у меня есть сомнения…
— Говори. Мне нужно знать все. Я не хочу, чтоб потом выяснилось то, что можно было предвидеть сегодня.
— Казаки сдерживают крымского хана и турок. Если мы уничтожим половину из них, то кто станет защищать наши границы от иноверцев?
— И это легко решить. Тех казаков, что пожелают встать на государственную службу, мы поставим на казенное довольствие, оставив их жить, где и жили ранее. И к тому же я собираюсь отправить большое посольство к турецкому султану, чтобы заключить с ним перемирие на десять лет. Тогда у нас будут развязаны руки для войны с Москвой, и мы не будем бояться удара в спину. Насколько мне известно, турецкий султан будет весьма нам признателен, если мы укоротим жадные руки царя Ивана. Судя по тому, сколько людей он казнил в Московии, там скоро некому будет взять в руки саблю…
— И казни продолжаются, — поспешил вставить слово Замойский.
— Еще я думаю, — согласно кивнул головой король, — московиты не любят воевать в чистом поле. Обычно они залазят на стены крепостей, наглухо закрывают ворота и лишь тогда обретают храбрость.
— Это так.
— Мы воспользуемся их слабостью и заставим драться в открытом поле. Многие крепости в Ливонии уже разрушены. К тому же мной приказано отлить побольше осадных орудий. Думаю, через два, самое большее через три года мои солдаты войдут в Москву.
Замойский с интересом посмотрел на своего короля, которого увидел совершенно по-новому. Даже его малый рост стал не столь заметен, глаза блестели, мысли, высказываемые им, были верны и четки. Перед ним стоял решительный, полный сил человек, и так ли важно, какого он происхождения. Ведь и сам Замойский вышел из незнатного шляхетского рода и все его состояние вполне умещалось в обычном походном сундуке. Он так же как и Баторий не любил бородатых московитов, неопрятных в одежде, превозносивших свою веру превыше других. Оставаясь католиком, Баторий водил дружбу и с гугенотами-протестантами, охотно принимая их на службу. В то же время он привлек на свою сторону отцов-иезуитов, которые открывали по всей стране школы и выдворяли из храмов православных священников. Нет, с таким королем Польша воистину станет великой державой!
— Итак, панове, готовь большое посольство к турецкому султану и воевод для усмирения казаков.
— Давно нет известий от наших послов, что выехали к шведскому королю.
— От них я жду хороших известий.
— Объявлять ли о войне с Московией?
— Немного подождем, когда войска будут полностью готовы. Об этом сообщить всегда успеем.
В дверь постучали — и в комнату вошел запыленный гонец, держа в вытянутой руке грамоту с большой красной печатью на шнурке. Баторий торопливо принял ее, вскрыл, прочел вслух:
— Император Максимилиан находится при смерти, — и со вздохом, перекрестившись, добавил, — и тут Господь за нас.
* * *
Престарелый Девлет-Гирей все лето провел в Бахчисарае, не предприняв даже слабых попыток пойти в очередной набег на Русь. Тяжелая болезнь изнуряла его одряхлевшее тело и не позволяла подолгу оставаться в седле. Теперь он заходил в свой гарем, по праву считавшийся одним из лучших среди многих владык, лишь для того, чтоб полюбоваться юными созданиями, все с тем же постоянством привозимых к нему со всех концов света. Он подходил к новой девушке, трепетавшей уже при одном его приближении, гладил ее шелковистую кожу, проводил рукой по выпуклостям груди, безошибочно определяя девственницу ли ему привезли, и… с тяжким вздохом шел дальше. Девушки томились в безделье и ожидании, когда же их поведут в покои своего господина. Но проходил день за днем, на их половине появлялись мрачные евнухи, придирчиво оглядывая наложниц, тонкими бабьими голосами отдавали распоряжения и вновь исчезали. Хан Крыма не желал тратить силы на любовные забавы, проводя все время в саду с сыновьями и визирями.
Он знал, дни его сочтены, и понимал, что не сделал всего того, о чем мечтал в молодости. А как велики были те мечты! Царь Иван трепетал в своем дворце, когда сотни нукеров Девлет-Гирея пересекали границы его владений. Сколько городов и малых селений он покорил, разрушил. Сама Москва лежала у его ног, застланная дымом пожарищ. Тогда он написал царю гневное письмо, обвинив его в трусости, потребовал посадить своего сына Адыл-Гирея в Казани, увести стрельцов из Астрахани. Иначе… клинки его нукеров обратят в прах полки московитов.
Царь Иван откупился богатыми дарами, но Казань не уступил. И король литовский, и хан ногайский просили помощи у Девлет-Гирея, присылали гонцов, богатые поминки, надеясь с его помощью разбить полки московитов. Но что могут дать нищие литовцы? Присылаемые раз в десять лет дары не прокормят доблестных ханских воинов, которым совсем не хочется подставлять свои головы под тяжелые московские топоры. А разве можно верить ногайскому хану, что сегодня обещает дружбу навек, а завтра нападает на его улусы, грабит его людей? Нет, друзья даются один раз и на всю жизнь, и лишь когда казаки поприжали ногаев, те сразу вспомнили о дружбе с Крымом.
Но труднее всего давалась Девлет-Гирею дружба с турецким султаном, который видел в нем не столько друга, сколько своего подданного. Султан требовал отбить у русских Астрахань, отогнать казаков с его владений, регулярно присылать рабов и наложниц. Какая же это дружба, когда один приказывает, а другой и возразить не смеет.
По-настоящему испугался крымский хан, когда султан Селим решил сам взять Астрахань, чтоб по морю с персами воевать. Войско, им отправленное, могло поглотить все запасы его ханской казны. Янычары требовали свежего мяса, вина, женщин, лошадей, повозки. И отказать он не смел. Выполнял все требования ненасытных своих друзей. Но больше всего он боялся, что янычары возьмут Астрахань и обоснуются там. Русские, те хоть в Крым не лезут, а турки чего доброго и его, хана, в море спихнут и сами править начнут, переустраивать все по-своему. Хвала Аллаху, испугались они долгой зимы, вернулись обратно и больше в его владения не совались. Надолго ли…
Девлет-Гирей сидел на мраморной скамье в тенистом саду, перед ним нежно журчал фонтанчик, отдавая влажную прохладу струй, навевая грустные мысли и воспоминания. Хану доложили о прибытии московского посла Афанасия Нагого, который почти ежедневно навещал его, ведя длительные переговоры и привозя каждый раз с собой поминки от московского государя. Хан хотел пойти во дворец, но решил, что и здесь, в саду, тоже его покои, и какая разница, где вести беседу с послом, лишь бы она завершилась удачно, велел пригласить Нагого в сад.
Афанасий Нагой уже с начала весны жил в Бахчисарае, неоднократно встречался с ханом, склоняя того на подписание длительного мира с царем, но тот в последний момент уперся из-за пустяка, требовал увеличить размер поминок-даров, обещаемых ему Иваном Васильевичем. Было смешно и противно слушать, как хан торгуется из-за каждого халата, серебряного блюда, мешка зерна. С одной стороны, Нагой понимал, что затягивание переговоров выгодно для Руси, значит, нынешним летом татары уже не нападут, не выйдут из Крыма. С другой стороны, осточертело жить в чужой стране, вести торг, как на базаре, хорошо помня при том, скольких несговорчивых русских послов до него татары бросили в темницу, лишили жизни, надругались, обобрав до нитки, выгоняли обратно ни с чем. Но царь наказал без мира не возвращаться и вести торг хоть год, хоть десять лет, но мир заключить.
— Как здоровье достопочтенного хана? — спросил Нагой, слегка поклонившись. Даже кланяться ханские визири требовали от него по своему разумению — доставать рукой до земли. Едва отбился от них, объясняя, мол, так только в церкви русский человек кланяется Господу Богу. А хан, хоть и называет себя наместником Аллаха на земле, но не Бог еще. Вскоре и совсем забыли про поклоны, лишь о подарках и напоминали.
— Благодарю, — сведя морщины вокруг узких глаз, улыбнулся Девлет-Гирей, — здоровье наше в руках Аллаха. Садись вон туда, — указал на маленькую скамеечку, стоявшую под деревом. Афанасий глянул на нее и понял, что хан хочет хотя бы таким способом унизить его, и, гордо вскинув голову, ответил с достоинством:
— Не пристало мне, посланцу царя московского, сидеть на детской скамеечке. Вышел я из того возраста.
— Да ты, Афанасий, никак обиделся? — притворно всплеснул руками хан и хлопнул в ладоши, велев выросшему как из-под земли рабу принести кресло для гостя.
— Вот это другое дело, — проговорил Нагой, надежно усаживаясь, и приказал толмачу, исполнявшему роль писца, подать из походного сундучка бумаги.
— Согласен ли ты, Афанасий, обещать мне, что поминки, братом моим Иваном посылаемые, будут теми же, что и отец его посылал хану нашему Махмет-Гирею?
— Как я могу за царя отвечать, — улыбнулся Нагой, — у царя своя голова на плечах. Все ему передам как есть, а решать ему.
— Царь хочет мир со мной подписать?
— Давно хочет, да только ты, хан, не соглашаешься.
— Как же я могу согласиться, когда Казань у царя Ивана, брата моего, просил? Просил. Астрахань просил? Просил, — хан начал загибать свои морщинистые пальцы, поднося их близко к глазам, — а царь Иван мне что ответил?
— Царь наш, Иван Васильевич, отвечал, мол, как можно города те отдать, когда там в посадах и по селам давно церкви православные поставлены и русские люди живут. Татарам же даны поместья и службы в землях новгородской, псковской, московской, тверской. А в казанской земле поставлены семь городов: на Свияге, на Чебоксаре, на Суре, на Алатыре, на Курмыше, — как по писаному начал перечислять посол, но хан замахал руками, показывая нежелание слушать дальше.
— Вон сколько у брата моего Ивана городов! А он?! Двух городов пожалел. Ай-яй-яй, — совсем по-русски закончил хан.
— Мал золотник, да дорог, — усмехнулся Нагой.
— Говорили мне, будто бы царь Иван жадный, да я не верил. А какой город он вздумал ставить на Тереке? Он мое разрешение на то спросил? Нагой, затаив усмешку в озорно блеснувших глазах, оправил русую бороду, с достоинством ответил:
— А как же. Он сына твоего хотел в Касимов город на княженье посадить? Хотел, да хан отказался. Жену ему из нашенских предлагал. Хан не пустил сына жениться. Зато черкесский царь Темгрюк дочь свою царю нашему в жены отдал, сыновей отпустил, а царь наш, Иван Васильевич, за то в помощь ему и крепость для обороны ставит. Разве он у тебя, хан, согласия дружить не спрашивал? А ты до сих пор судишь-рядишь, с кем дружить, с кем в мире жить… и решить не можешь.
— Так ведь мне, бедному, как иначе? Кто больше предложит — тот мне и друг, — чистосердечно признался Девлет-Гирей.
— Вот-вот. А ногайцы тебе чего дали? А султан турецкий?
— И они дружбу предлагают. И хан Бухарский, и хан Сибирский — все дружбы моей ищут.
При последних словах Нагой насторожился. До него уже давно доходили сведения, будто из Бухары вместе с караванами к крымскому хану шлют грамоты, в которых предлагают соединить усилия всех мусульманских государей и вернуть обратно и Казань, и Астрахань, потеснить Москву, мечтают о временах Батыева нашествия.
— Как же насчет поминок, — вернул его к своим заботам Девлет-Гирей, — хочу те, что при Махмет-Гирее, были назначены. Так и отпиши царю своему. Иначе небывать миру меж нами.
Афанасию надоело торговаться, и он решил немного остудить боевой задор крымского правителя, напомнить о его действительном положении. Прошли те времена, когда Русь боялась татарских полчищ. Не усмотрели те, как буквально под носом у Крыма возникла немалая сила, называемая казаками.
— Хан, верно, знает, что на Дону, на Волге живут люди, что казаками себя прозывают? Сколь их там обитается, и мы того не ведаем.
Сила их столь велика, что хан ногайский слезно к царю нашему писал, жалился на них. А вдруг да казаки те на Крым пойти похотят? Тогда как?
— Не бывать тому, — презрительно усмехнулся Девлет-Гирей, — всякий сброд, казаки какие-то не посмеют напасть на мое ханство.
— Еще как посмеют, — поднял предупредительно руку Афанасий Нагой, — только тогда пусть ваши послы не стучатся в двери царского дворца, не просят о помощи.
— Зачем такие нехорошие слова говоришь? — хитро сощурился крымский хан, хорошо понимая, что русский посол не зря напомнил ему о казаках, которые последнее время начали регулярно тревожить его аулы, каждый раз все ближе подбираясь к границам ханства. Много уже жалоб получил он от беков и мурз, чьи табуны были угнаны невесть откуда налетающими никому ранее не известными воинами. Урон, конечно, был от них небольшой, но укус даже маленького комара в больное место всегда ощущаешь болезненно и, даже раздавив зловредное насекомое, долго чешешь оставшуюся после него ранку. И сейчас посол задел ту самую болячку, которая последнее время не давала покоя крымскому хану. — Мы хотим в мире жить с нашим братом, царем московским, а просим его всего лишь о такой малости.
— Малости? — переспросил Нагой. — Астрахань и Казань — малость? Что же тогда будет большим для хана?
— Аллах с ними, с городами, — пренебрежительно отмахнулся Девлет-Гирей, — хлопот с ними не оберешься, с городами теми. Пущай ими брат наш московский владеет, коль они ему так нужны. У меня и здесь дел полно, — и он тяжело вздохнул, давая понять, как нелегко ему приходится в собственном дворце. — Троим сыновьям недавно обрезание делали, четверых дочек замуж собирать надо, а денег в казне нет, пусто. А все почему? Потому что на Москву давно не ходили мои нукеры, не привозили мне десятую часть от взятого в набеге. И царь московский поминок не шлет.
— Сколь надо? — обыденно, словно они находились на базаре, спросил Нагой.
— Две тыщи рублев надо, — выдохнул доверительно в лицо послу Гирей и добавил, — золотом.
— Как скоро нужны деньги? — поинтересовался Нагой.
— Ой, да хоть завтра, — обрадовался крымский правитель и глаза его ласково заблестели, — в вечном мире с братом моим московским жить будем.
— Я напишу моему государю, — проговорил Афанасий Нагой, вставая, — но пока гонец до Москвы доскачет, пока его там примут, обратно вернется…
— Ждать стану, время терпит, — торопливо закивал головой Девлет-Гирей, — приходи сегодня ко мне ужинать, когда гонца в Москву направишь.
— Хорошо, — согласился Нагой, — сегодня и направлю, но ужинать, извини, хан, придти не могу, свой повар у меня готовит. Нынче ведь пост Успенский, а ты, поди, сызнова барашка молодого к столу подашь.
— Для дорогого гостя ничего не жалко, — осклабился крымский правитель, — но как знаешь, неволить не буду.
— Поди радуешься, что одним едоком меньше будет, — буркнул про себя Нагой, уже выходя из дворца и с неприязнью глянув на стражников, что буквально ели его глазами, ожидая обычной подачки. — Фиг вам, — проговорил по-русски, надеясь, что те не поймут его слов.
Через два месяца из Москвы вернулся гонец и привез всего двести золотых, которые Иван Васильевич поручал послу вручить хану. Девлет-Гирей несказанно обрадовался этой подачке, словно позабыл, что просил в десять раз больше. В грамоте к Афанасию Нагому государь писал: "Отдай крымскому хану наши деньги, что под рукой оказались, а буде он еще поминок несуразных требовать, то припомни ему, что деньги и все злато земное есть тлен, которые с собой на небеса взять не можно…" Посол счел лучшим не сообщать о тех царских словах обидчивому Девлет-Гирею и через две недели, окончательно удостоверившись, что крымчаки не собираются готовить очередной набег на Москву, благополучно выехал из Бахчисарая.
БЛАЖЕНСТВО ЮНОСТИ
Последние несколько лет Зайла-Сузге жила в Бухаре при дворце Амар-хана, доводившегося дальним родственником правителю страны Абдулле-хану. При ней был и сын ее Сейдяк, который стал к тому времени статным юношей и уже дважды ходил в походы на кочевья Хакк-Назара, проявив при том удаль и отвагу.
Порой ей не верилось, что она не наложница, не скрывается по лесам от головорезов, не мчится верхом по степи, спасаясь от преследователей, не прячется на окраине Бухары, а живет свободно и открыто у друга отца. Верно говорят восточные мудрецы: человек должен долго, очень долго страдать, прежде чем счастье чуть-чуть улыбнется ему и протянет благодать на мизинце. А ведь все произошло почти случайно. Но разве есть в этом мире что-то случайное? Разве человек не ищет тот случай, не выбирает себе путь и не идет по нему? А счастье — это лишь заветный оазис в конце пути.
Раз в неделю, когда на бухарских базарах появлялись дехкане с окрестных кишлаков, привозившие на небольших повозках овощи, свежее мясо, и цены были самыми низкими, она отправлялась обменять или продать сшитые за неделю вещи. Ей помогала соседская девочка, дочь лудильщика Зухра, с родителями которой она дружила и в особо трудные времена могла попросить взаймы ложку масла, горсть муки, пучок лука. Зухре шел уже одиннадцатый год и родители поговаривали, что пора бы выдавать ее замуж за юношу, с которым она с детства была обручена. Когда Зайла-Сузге спрашивала о ее женихе, девочка краснела и убегала в соседнюю комнатку, откуда выходила нескоро с гордо задранным носиком и оттопыренной верхней губой.
— Любит ли тебя твой жених? — пыталась разговорить девочку Зайла-Сузге.
— Не знаю, ата. Но он обещал быть хорошим мужем и не наказывать меня. Сейчас они с родителями готовят калым, и как только соберут его, то приедут свататься.
— Да за что же тебя наказывать? — всплескивала руками Зайла-Сузге. — Ты такая послушная, такая красивая, все умеешь делать.
От этих слов Зухра лишь краснела и рука с иглой начинала бегать еще быстрее, а головка склонялась ниже к шитью. Однажды она отважилась спросить:
— А Сейдяк тоже обручен с кем-нибудь? У него есть невеста в Сибири?
— Нет, — грустно ответила Зайла-Сузге, — когда мы бежали оттуда, не было и времени подумать об обручении. А здесь… Я думаю, рано говорить Сейдяку о свадьбе. Еще не известно, как все повернется.
— Что повернется? — не отставала Зухра, и по ее заинтересованности легко было понять девичий интерес к молодому парню, ее ровеснику, с которым она виделась почти каждый день.
Зайле-Сузге нравилась быстрая и исполнительная Зухра, и она была бы не прочь видеть ее своей невесткой. Но она хорошо понимала, что не вправе распоряжаться судьбой своего сына, и не от нее зависело, как сложатся дальнейшие события. Все же он законный наследник сибирского престола и, войдя в лета, став мужчиной, сам должен выбрать себе место в этом мире.
Сейдяк обращался с Зухрой как с сестрой, ничем не выделяя ее среди других девочек, живущих поблизости. Но Зайла-Сузге опытным материнским взглядом, а больше сердцем угадывала влечение сына к робкой, застенчивой Зухре.
"Но разве пара дочь простого медника, что целыми днями лудит на своем дворе медные кувшины и тазы, ее сыну, чей род восходит к потомкам великого Чингиза? — размышляла она. — Не будут ли они оба несчастны, если соединят свои судьбы? У ее сына невеста должна соответствовать его положению. Вряд ли он станет таким же лудильщиком или красильщиком шерсти. Нет, он воин, и должен унаследовать то, что принадлежит ему по праву рождения. Как лудильщик унаследовал инструменты своего отца, а красильщик — чаны, пастух — седло и стада, дехканин — кусок обработанной земли, так и ее сын должен стать наследником земли своего отца".
Теплыми вечерами, сидя в небольшом садике за домом, она изредка заводила с сыном разговор о Сибири, о ее непроходимых лесах, могучих реках, рассказывала о Бек-Булате, Едигире. Сейдяк слушал с интересом и лишь потом, когда она умолкала, осторожно спрашивал, чувствуя, сколь болезненны для матери эти воспоминания:
— А когда я вырасту, то мы вернемся в Сибирь?
— Обязательно, сынок, — отвечала она, гладя его черную голову с большим вихром на лбу.
— И у меня будут свои нукеры?
— Конечно, будут…
— И я, как отец, буду ханом той земли?
— Если Аллах позволит, то обязательно будешь.
— Скорей бы мне стать большим, — вздыхал Сейдяк.
Мухамед-Кул за все эти годы лишь раз приезжал в Бухару, разыскал их, долго разглядывал племянника, который не подошел к нему, а, прижавшись к матери, бросал на приезжего настороженные взгляды. Но когда Мухамед-Кул достал из привезенных им подарков маленький кинжал, оправленный в узорчатое серебро, и привесил на пояс мальчику, он оживился и попросил разрешения взобраться в седло, взял в руки поводья и ударил маленькими пятками в конские бока.
— Воин! Настоящий воин! Он еще покажет себя! — восхищенно воскликнул Мухамед-Кул, глядя сбоку на племянника.
Зайла-Сузге вздохнула и ничего не ответила. Ей было страшно за сына, за его будущее, которое не предвещало легкого пути.
Мухамед-Кул торопливо перекусил с ними, рассказал, что Кучум выделил ему свой улус в верхнем течении Иртыша, и в Бухару он приехал, чтоб набрать воинов для своей, своей собственной, сотни.
— Как поживает мой брат? — осторожно спросила Зайла-Сузге. — Здоров ли? Как его дети?
— О, у хана уже четверо взрослых сыновей и еще пятеро мальчиков бегают по Кашлыку. Алей, самый старший, настоящий богатырь! Уже сам несколько раз водил сотни в походы.
— Хан все воюет? — грустно усмехнулась Зайла-Сузге.
— Конечно. И я ходил на усмирение бунтовщиков, потеснил соседей, показал им нашу силу. Да зачем женщине знать о войне? — высокомерно обронил он. — Женское дело — рожать детей.
— Ты очень изменился, — Зайла-Сузге больше не задавала вопросов, а ушла к себе, принялась за шитье.
Поиграв некоторое время с Сейдяком, Мухамед-Кул простился. А она поняла, что вряд ли еще когда-нибудь он приедет к ним. Он стал мужчиной, воином, и для него женщина — всего лишь женщина.
— Да, чуть не забыл, — протянул он перед уходом большой сверток, — старый рыбак просил передать.
— Назис? Помнит меня? — воскликнула Зайла-Сузге, развязывая сверток, в котором лежали несколько вяленых огромных рыб. — Спасибо ему. Ни за рыбу, хотя и за нее тоже, а что помнит меня. Передашь?
— Передам, если встречу, — небрежно ответил Мухамед-Кул и выехал со двора.
Долго еще грусть не покидала ее после отъезда человека, что спас ее когда-то, вырвал из Девичьего городка, помог добраться до Бухары, а теперь… теперь у него своя жизнь, в которой для нее просто нет места.
"А в чьей жизни есть для меня место? Кому-нибудь я нужна?! — горестно спрашивала она себя. — В чем я провинилась, что должна жить в одиночестве, всеми забытая?" — и не находила ответа. Изредка она навещала престарелую Анибу, с которой делилась своими горестями, единственного человека, кому могла выплакаться, рассказать обо всем и услышать в ответ заботливое, ласковое слово участия. Единственный близкий человек в этом городе… Пусть она не могла ничем помочь, но для женщины порой сочувствие гораздо важней всего остального. И еще, к чему призывала ее Аниба, — смириться и ждать. Ждать без ропота на свою судьбу, жить, как и она прожила свою долгую жизнь. И, глядя на старую слепую женщину, Зайла-Сузге понимала, что это и есть ее единственный путь — покориться и ждать.
…Она была удивлена, когда в тот день на базаре к ней неожиданно подошел высокий воин с черными пронзительными глазами и негромко произнес:
— Тебя хочет видеть один человек, пойдем со мной, — и молча указал на высокую повозку, закрытую сверху пологом от солнца и любопытных глаз, в которую была запряжена пара красавцев-коней.
— Кто он? Что ему надо? — Зайла-Сузге испугалась и схватила за руку Зухру, стоявшую рядом, понимая, что друзей в городе у нее нет, а значит… Если не друзья, то враги. Только они могли найти ее. Но зачем она им? Ах, им нужен Сейдяк, как она сразу не сообразила… И тихо шепнула девочке, застывшей как и она в испуге: — Беги домой и уведи Сейдяка к соседям, спрячь его.
— Госпожа зря волнуется, — воин провел рукой, украшенной дорогим перстнем, по темно-каштановой бороде, — тебе не причинят зла.
— Но кому я понадобилась, несчастная и одинокая женщина?
— Тебе все объяснят. Это друг.
— Но у меня нет друзей, — Зайла-Сузге обернулась. Вокруг них уже начали собираться любопытные, прислушиваясь к разговору. Может, броситься в толпу, укрыться, бежать… Но если ее выследили теперь, то выследят и в другой раз. Нет, это не поможет. Она должна смириться, как учит ее Аниба, и вынести очередное испытание. Увидев краешком глаза, что Зухра уже мчится к воротам рынка, свернула свое нераспроданное шитье, взяла его под мышку и смело шагнула к повозке.
— Разреши помочь тебе, — подставил сильную руку незнакомец и подсадил ее в повозку, заботливо одернул полог и скомандовал сидевшему спереди вознице, — пошел, — сам запрыгнув легко на стоявшего невдалеке скакуна.
Зайла-Сузге внимательно следила через небольшую щель меж занавесками, куда ее везут. Выехав с базара, они поехали по направлению к главной городской мечети, затем повернули налево, оставили в стороне дворец бухарского правителя, повернули еще раз и вдоль небольшого арыка стали подниматься в гору меж роскошных садов и виноградников. Вскоре повозка остановилась у высокой белой стены, и Зайла-Сузге поняла, что они приехали. Открылись крепкие деревянные ворота, возле которых стояли два воина с саблями на боку, и они въехали в тенистый, обсаженный высокими тутовыми деревьями двор. Посреди его сразу бросался в глаза бассейн, выложенный плитками розового мрамора. От бассейна в разные стороны вели ступени. Судя по своему, то был дворец весьма состоятельного человека, и это еще больше насторожило испуганную женщину. Взглянув на плотно закрывшиеся за ними ворота, она мысленно попрощалась с сыном, Зухрой, Анибой.
— Наш господин ждет тебя, — послышался голос незнакомца, протягивающего ей руку.
Взойдя по мраморным ступеням, покрытым толстым ковром, она поразилась убранству помещения, куда ее ввели: высокие узкие окна под потолком пропускали немного света, но отделанные камнем стены, оружие, висевшее на них, ковры, в которых тонула нога почти по самую щиколотку, — все сияло яркими красками, блестело, переливалось и вызывало восхищение. Она не решалась пройти на середину комнаты и стояла у самого входа, зажав в смущении узелок с шитьем, который был просто неуместен среди окружающего великолепия. Воин, сопровождавший ее, скрылся в боковом проеме и больше не показывался. Зато явилась тонкая в талии девушка, одетая в легкие шальвары и цветастый халатик, облегающий ее грациозную фигурку, и поставила на низкий столик поднос с двумя пиалами, меж которыми стояло блюдо, синеющее росистыми гроздьями винограда, желтела горкой сладкая халва, темнели дольки щербета. Но Зайла-Сузге все еще пребывала в напряжении и думала, что столь богатые угощения поданы неспроста. Так всегда подманивают птицу, прежде чем накрыть ее плотной сетью, посадить в клетку.
Она не заметила, когда к столику, слегка сутулясь, приблизился невысокого роста мужчина с седой бородой и чуть навыкате глазами. Остановился напротив нее и мягко проговорил:
— Прошу простить, что не смог сам пригласить госпожу посетить мой дом. Я редко показываюсь на людях с тех пор, как отравленная стрела отняла у меня руку. Не хочу показывать свое уродство, — просто пояснил он.
Только тут Зайла-Сузге заметила пустой правый рукав халата, заткнутый за широкий белый пояс. В фигуре хозяина дома была неуловимая осанка человека, привыкшего повелевать, держался он с достоинством, но без высокомерия.
— Прошу сесть, отведать угощения и я объясню, по какой причине пригласил тебя к себе, — он сделал знак левой рукой, указывая на место подле столика, подождал, пока Зайла-Сузге сядет, а потом опустился напротив нее. Она при этом постаралась спрятать под себя узелок с шитьем, испытывая от того неловкость. Хозяин хоть наверняка и заметил ее поспешное движение, но не показал вида. — Прежде всего я должен назвать себя, — продолжал он, — меня зовут Амар-хан и я долгое время служил начальником стражи при дворе хана Абдуллы. Еще там я случайно услышал, что в городе появилась женщина с малолетним сыном, и что она… — он, чуть помолчав, сверля ее взглядом пытливых глаз, закончил, — что она дочь хана Муртазы, да земля ему будет пухом.
— Вы знали моего отца, — не сдержалась Зайла-Сузге, — вижу, что знали. Да?
— Я начинал свою службу совсем юношей при его дворе. И я хорошо помню и твоих братьев, и маленькую Зайлу. Ведь так тебя зовут?
— Да, — качнула она головой, и робкая слезинка упала на колено.
— Я помню, как сокрушался хан, когда разбойники похитили его дочь. Потом я узнал, будто тебя увезли в далекую Сибирь, но ничем не мог помочь. Извини. Вижу, верно, нелегко пришлось на чужбине?
Зайла-Сузге не отвечала, едва сдерживая душившие ее слезы. Она была готова ко всему: к угрозам, насилию, к потере свободы, но встретить столь теплый и дружеский прием она просто не ожидала.
— Я была замужем за очень хорошим человеком. Но он мертв. Со мной его сын. Он законный наследник Сибирского ханства, сын Бек-Булата.
— Вот как? — заинтересованно проговорил Амар-хан, — а я думал, что это все глупые выдумки, будто в Бухаре живет наследник Сибирского ханства. Знаешь, — обратился он, чуть понизив голос, — у меня три жены и по нашим законам я мог бы взять четвертую и дать твоему сыну свое имя, часть того, что имею. Но я не знаю, как отнесется к этому дочь Муртазы. Предлагаю тебе подумать над моим предложением. А сейчас я представлю тебе своих сыновей. Надеюсь, что еще сегодня ты переберешься вместе с сыном ко мне в дом, где вам будет оказан достойный прием. И пусть твои руки забудут о шитье, недостойном тебя, — он громко хлопнул в ладоши и в комнату вошли трое юношей, что, верно, ждали рядом.
Амар-хан поднялся с улыбкой, озарившей его сосредоточенное до этого лицо, подошел к ним.
— Этот старший — Сакрай, средний — Гумер и младший — Сафар. Они будут братьями для твоего мальчика. Вы слышите, дети мои? — юноши согласно кивнули головами, заинтересованно рассматривая Зайлу-Сузге.
В тот же вечер она перебралась в дом к Амар-хану и Сейдяк действительно вскоре подружился с его сыновьями, с младшим из которых, Сафаром, оказался ровесником. Зайлу-Сузге не обременяли работой по дому, где постоянно суетилось два десятка слуг, она была вольна выходить из дворца, когда ей заблагорассудится. Но она так ничего и не ответила на предложение гостеприимного Амар-хана стать его женой, а он и не напоминал ей об этом. Но каждый раз при встрече она словно читала по его глазам, что он не забыл о своем предложении.
Так прошла зима, а весной ее Сейдяк ушел в свой первый поход вместе с сыновьями Амар-хана. Вернулся он только к концу лета, повзрослевший, загорелый до черноты, и вбежал в ее комнату в пыльных одеждах, бросился на шею, расцеловал и совсем по-детски, как когда-то, положил голову на плечо, заглянул в глаза, спросил:
— Ты боялась за меня, мама? Скажи, знаю, что боялась, переживала.
— Еще как, но теперь ты вернулся живой и здоровый и не скоро отправишься в новый поход. Ведь так? Он кивнул, но по мелькнувшей в глазах хитринке поняла, он чего-то недоговаривает.
Вскоре он был приглашен вместе с сыновьями Амар-хана во дворец бухарского правителя и вернулся оттуда гордый, что был представлен всем знатным молодым людям, собравшимся во дворце.
— Надеюсь, ты никому не говорил о своем происхождении? — недоверчиво спросила Зайла-Сузге. У них был уговор с Амар-ханом, и сына она просила пока не открываться кому бы то ни было о его принадлежности к роду Тайбугинов. Она не столько головой, сколько сердцем понимала, что именно в этом таится главная опасность. Сейдяк покачал головой, успокоил ее. Но она знала, что вечно так продолжаться не будет и когда-то откроется, кто он и какого рода. Но хотелось, чтоб это случилось как можно позже, чтоб они дольше оставались рядом, вместе.
Следующей весной Сейдяк ушел в очередной поход на нагрянувшего из степей Хакк-Назара. Через неделю его привез слуга Амар-хана с раной в плече. Он недолго пролежал дома, дождался, пока рана затянулась, и со смехом вспоминал, как неловко увернулся от копья и уже раненый зарубил наскочившего на него степняка. А через день опять умчался догонять своих друзей.
И так повторялось каждую весну. Но лето прошлого года выдалось мирным. Бухарские земли не было нужды защищать от врагов и Сейдяк подолгу пропадал на охоте, ездил с сыновьями Амар-хана к родственникам по соседним селениям. А однажды, когда лето пошло на убыль, объявил, что дал согласие сопровождать купцов и паломников, отправляющихся в Мекку. Что-то кольнуло в груди у Зайлы-Сузге, но она лишь вымученно улыбнулась, посчитав, что Аллах защитит ее сына, коль он собрался совершить хадж к святым местам. Она проводила его, но ни паломники, ни купцы не вернулись обратно ни зимой, ни через год. И только теперь она заметила, что половина волос у нее стали седыми.
БЛАЖЕНСТВО ЖАЖДУЩИХ
Нечасто приходила радость за последние годы в Кашлык, но именно нынешним летом Кучум полной грудью ощутил непередаваемое и неповторимое чувство, подобное опьянению от хорошего вина. Два дня назад вернулись сваты, посланные к властелину ногайского народа хану Тай-Ахмату. Они привезли его дочь Файрузу, что должна стать второй женой ханского сына Алея. Калым, который Кучум отправил за нее, составил большую часть собранной за год дани со всего ханства На него можно было нанять пару сотен отборных воинов, но родство с Тай-Ахматом стоило большего. Его владения простирались до порубежья с русским царем Иваном, а Кучум пока не оставил мыслей, в которых видел себя главным ханом и верховным правителем всех мусульманских владык, что скоро поднимутся против русского засилья. Кто как не он может объединить и повести всех ханов от Барабы до Волги на борьбу против Москвы? Он, и только он, способен на такой шаг. И возраст, и опыт, и происхождение позволяли ему стать верховным ханом.
Не успели закрыться ворота Кашлыка за свадебной процессией, как следом прибыли сваты от родственника хана Тай-Ахмата, Ак-мурзы, что просил руку дочери Кучума, красавицы Рабиги. А почему и нет, если привезенный калым почти полностью покрывал отправленное за файрузу? Правда, льет слезы старшая жена его Самбула, сидит, забившись в уголок, Рабига, но рано или поздно девочке придется выйти замуж, так почему не сделать это сейчас? Долгие сборы — лишние слезы. Нет, отпраздновав свадьбу Алея, он тут же прикажет собирать в дальний путь Рабигу. А пока, пусть поплачет, попрощается с матерью, с братьями и сестрами, последний раз спустится с высокого ханского холма к Иртышу, окунется в его мутные воды. У всех женщин похожая судьба, не избежать ее и Рабиге.
Алей же ходил по городку, обрядившись в новый халат, сопровождаемый насмешками младших братьев. Извещенные о предстоящей свадьбе, прибывали многочисленные гости из числа соседей и подвластных Кучуму мурзи беков. Явился еще более потолстевший Соуз-хан, прибыл тесть Кучума, хан Ангиш, поддерживаемый за руки двумя нукерами, с многочисленными сыновьями и внуками. С поздравлениями подошли Кутай-бек и Шигали-хан, привезли дары от хана Немяна, сын которого, Муран, так и жил в аманатах в Кашлыке вместе с другими заложниками, которых Кучум считал за лучшее держать подле себя. Приготовления к свадьбе шли полным ходом. Не было только Карачи-бека, отправившегося в дальние улусы вместе с шейхом Шербети для приведения в истинную веру скрывающихся в лесах племен чебургинцев.
После неудачного весеннего похода на карагайцев Кучум решил избрать другую тактику — направил в очередной раз прибывших из Ургенча шейхов увещевать бунтовщиков. Чего не могли сделать силой его нукеры, то должны были выполнить силой убеждения проповедники. Прошедший год был неурожайным: ушел зверь, не было ягод, не уродились кедровые орехи, плохо ловилась рыба. Может, потому и взбунтовались карагайцы, а вслед за ними отказались нести дань пугливые чебургинцы, ушли на дальние недоступные озера топкинбашцы, выражали неудовольствие тевризцы и туранцы, ответили отказом молчаливые тавдинцы, убили сборщиков дани вогульцы, затаились люди хана Немяна. Нет, саблей здесь ничего не добиться. Казнив даже каждого второго, он потеряет ровно половину собираемой с них дани. Пусть лучше шейхи расскажут им о страшных небесных карах, что ждут человека после смерти, пусть расскажут о победах правоверных по всей земле, пусть заставят сжечь деревянных истуканов и отвернуться от своих шаманов, которые и есть главные бунтовщики, зачинщики всех выступлений против хана Сибири. А Карача-бек должен найти общий язык с князьями и беками, пообещать им высокие должности при дворе.
Алей видел издалека, как в городок въехала свадебная процессия, где на носилках несли невесту, тщательно скрывавшую лицо от взглядов посторонних. Не скоро он увидит ее лицо — ровно через тридцать дней после свадьбы, как и положено по законам шариата. И первую жену для него, Хабису, отец ездил выбирать сам, а вернувшись приказал готовиться к свадьбе. В отдельном шатре гуляли мужчины, а в другом — женщины и родственники, оплакивающие невесту. Потом ее увезли на месяц в Девичий городок…
То была первая в его жизни женщина, и он хорошо помнит, как трепетал, изнывал в преддверии брачной ночи. Когда подруги ввели девушку уже с расплетенными косами, в полупрозрачной накидке и со смехом запахнули полы шатра, он растерялся. И она стояла, дрожа всем телом, хрупкая, маленькая, и не решалась сделать шага к нему. Тогда, вспомнив рассказы старых нукеров, он протянул левую ногу в мягком сапожке и молча кивнул головой. Она все поняла и принялась с видимым усилием стягивать сапог с ноги, тяжело дыша, уперев подошву в худенькую грудь, стараясь угодить мужу.
— Пусти, — сказал он нарочито грубо и, вырвав ногу, сам скинул сапог, но она уцепилась за второй, пытаясь доказать свое умение. И он уступил ее настойчивости, терпеливо дождался пока ее попытки не увенчались успехом, криво улыбнулся и начал снимать с себя халат. Затем схватил ее за руку, притянул к себе, сбросил накидку и жадно впился глазами в ее лицо…
Он до сих пор помнит, и, верно, долго будет помнить, ее глаза. В них были только страх и покорность. Широко раскрытые глаза и полураскрытый рот, вздрагивающий подбородок, прижатые к груди руки.
— Боишься меня? — спросил, стараясь говорить мягче, но хриплый голос выдал его напряженность. Мог бы и не спрашивать, и так видел, боится.
— Нет, — ответила и замотала головой, пытаясь улыбнуться, но улыбка получилась вымученной.
— Ложись, — приказал, указывая на лежанку. Девушка сделала два шага и остановилась, повернула голову к нему — и столько мольбы, страха было в ее глазах, что понял, если сейчас не пересилит себя, не совершит то, что должен сделать мужчина, потеряет себя самого не только в супружеской жизни, но в гораздо большем. Как дикий зверь когда-то первый раз, не выдержав человеческого взгляда и опустив голову, приблизился к протянутой руке, принял подачку, а потом до конца жизни оставался рабом, исполняя его желания, покорно служа ему, оставаясь преданным уже не за еду, а из боязни в другой раз пережить унижение. Так и он теперь не должен быть покорным, а во что бы то ни стало переломить себя. И ощутив вспышку гнева, злобы, неистовства, даже сам удивился, увидев в своей руке зажатый хлыст.
— Кому сказал! — заорал, не помня себя, и ударил Хабису несколько раз подряд, все больше зверея от власти и вседозволенности.
Она упала не столько от ударов, сколько от неожиданности, от окончательно напугавших ее криков и безумных глаз того, кого должна называть отныне своим мужем, поползла, пряча лицо и вздрагивая от сыплющихся ударов, натянула на себя меховое покрывало и что-то кричала, пытаясь противопоставить свой крик его воплям.
И тогда, отбросив хлыст, он упал, обрушился на нее, выставя вперед обе руки, настиг, навалился, зажал зубами открытый рот, разорвал одежды и вдавил, вжал, распластался на ней, не сразу заметив ее закатившиеся под взбровья глаза и неподвижность тела. Хлопнул раз, другой открытой ладонью по щекам, но она не приходила в сознание, дыхания почти не было слышно, и только тонкая голубенькая жилка билась на тонкой смуглой шее.
Испугался ли он тогда, что Хабиса может умереть? Он не помнил. Посчитал девичьей слабостью и плеснул в лицо воду из кувшина. Потом уже не спеша разделся и легко взял ее, так и не пришедшую в сознание. А удовлетворив первое желание, встал, накинул халат и крикнул, выйдя из шатра, служанку. Та разохалась, хлопоча над Хабисой, что-то приговаривала, причитала, но он не слушал. Ушел в шатер к друзьям, напился и под утро вернулся обратно, опять овладел ею, уснул, несколько раз просыпался и, не спрашивая согласия, не говоря, молча овладевал снова и снова, кусая шею, заламывая руки, ударяясь головой в маленькую грудь, пока не обессилил и не уснул окончательно, пробудившись лишь в полдень.
Только через год он научился ласкать жену, уже родившую к тому времени их первого ребенка, девочку, научился понимать ее ласки, позволяя доводить себя до безумия, до исступления, до провалов в памяти, до жаркой волны забытья. Но ее широко раскрытые глаза, наполненные страхом, ужасом той первой ночи, так и жили рядом все эти годы.
Теперь он знал, через тридцать дней встретившись с Файрузой все в том же шатре, он поведет себя иначе и скорее всего просто уснет, заставив ее просидеть рядом всю ночь, а потом осторожно притянет к себе, положит рядом и… От сладостных видений горячая волна пронеслась по телу, прилила к голове, и он, круто повернувшись, зашагал к реке, чтоб охладиться там под порывами слабого ветерка.
И хотя Алея занимали мысли о предстоящей свадьбе, но не шел из головы и последний разговор с Карачи-беком, который тот начал в присутствии Шербети-шейха, выбрав день, когда отец уехал на столь любимую им соколиную охоту. Тут же крутился коротышка Халик, что прислуживал им.
Шербети-шейх, высокий и прямой старик с твердым взглядом и редко улыбающимися глазами, как бы невзначай обронил:
— В Ургенче интересуются планами будущего наследника Сибирского ханства. Будет ли он так же привержен учению пророка Мухаммеда, как и его отец?
Карача-бек испытующе глянул на Алея, которого вопрос шейха застал врасплох, и попытался помочь ему:
— Молодой царевич будет, надеюсь, достойным продолжателем дела хана Кучума.
— Конечно, — кивнул тот.
— А не хотел бы патша-улы попросить у отца улус достойный его высокого положения, — мягко продолжал Шербети-шейх. — У Мухамед-Кула улус намного больше твоего. У тебя всего лишь несколько стариков, да десяток воинов, а твой двоюродный брат нанял в Бухаре отборную сотню и подданных у него больше в два раза. Ясак хороший берет с них, верно, и хан не знает его доходов.
Алей вспыхнул. Он давно уже замечал высокомерие Мухамед-Кула, когда разговаривал с ним. И одевался тот не в пример богаче его. Один конь под ним стоил целого табуна, что пасется на отцовских пастбищах. Но, сдержавшись, нашел достойный ответ:
— Нам с братьями перейдет все, а он… без нашей помощи не сможет удержать и десятой доли того, что даровано моим отцом.
— Все так, уважаемый патша-улы, но если бы ты попросил отца отдать в твое владение старую сибирскую столицу, Чимги-Туру, то мы могли бы оказать тебе посильную помощь.
— И в чем? — взметнулись тонкие брови Алея.
— Дали бы тебе не сотню, а две, три сотни отборных воинов, чтоб они железной рукой насаждали истинную веру, боролись с идолопоклонниками. Тогда в своих деяниях ты превзойдешь отца, хана Кучума.
— Истинно так, — кивнул Карача-бек.
— Почему вам не поговорить об этом с ханом? — Алей удивлялся все больше и поглядывал то на Шербети-шейха, то на Карачу-бека.
— Хан слишком занят своими делами. Я бы сказал, он… — шейх замялся, подбирая слова, и при этом вынужден был улыбнуться. Алея поразила его улыбка, обнажившая хорошо сохранившиеся, почти как у юноши, зубы. "То опасный человек. Очень опасный", — мелькнуло в голове. — Я бы сказал, что хан Кучум мягок к своим подданным. Заботясь о сборе ясака, он забывает о вере и вспоминает о ней, лишь когда это ему выгодно.
— А надо выбирать что-то одно, — поддержал шейха Карача-бек, — или веру, или богатство.
— Он построил слишком мало мечетей, а может, просто не разрешает бекам строить их…
— Но это неправда! — воскликнул Алей. — Я сам слышал не раз, как он увещевал беков и мурз строить мечети, совершать службу, приглашать муллу в свои селения. Что делать, если сами беки поклоняются двум богам?
— Ты можешь назвать их? — Шербети-шейх впился в него взглядом.
— Да хотя бы… — начал Алей и осекся, закончил с неохотой, — многие…
— Я вижу, царевич боится назвать имена нечестивцев. Да, а мы надеялись на твою помощь.
— Я готов помочь, но не желаю быть доносчиком, — Алей гордо вскинул голову, но понял, что в любом случае проиграет в споре с хитрым стариком, умеющим все повернуть в нужном ему направлении.
— Хорошо, хорошо, — успокаивающе поднял тот руку, — нам и без того известно, кто готов принять веру пророка, а кто пребывает в заблуждении. Но нам бы хотелось видеть царевича владельцем старой столицы, — как бы подвел итог разговору Шербети-шейх.
Кучум был удивлен, когда старший сын, после его возвращения с охоты, неожиданно завел разговор о свадебном подарке — старом городке Чимги-Тура.
— Да там же одни развалины и почти никто не живет, — пытался вразумить Алея, который стоял перед ним, набычив голову. Тут же находились и другие сыновья, внимательно слушавшие их. — Это одно из самых опасных мест. Все, кто приходит с войной из степи, должны овладеть тем городком. Ты еще неопытен и молод…
— А почему у Мухамед-Кула в несколько раз больше улус, нежели ты выделил мне?
— Погляди на братьев, — Кучум старался не терять спокойствия, хотя слова старшего сына его обижали, — вот Ишим, вот Алтанай, вот Абдур-Хаим, Асманак, Мамыш и Яныш, — повел рукой в сторону двух близнецов, что были всегда неразлучны, — скоро придет время и им выделять свои собственные улусы. Если я все отдам тебе, то что останется им?
— Я не прошу всего. Почему ты не хочешь отдать мне Чимги-Туру, коль говоришь, будто это захудалый городок и самый опасный.
— Потому и не хочу! — вспылил Кучум. — У меня другие планы, и не пришло пока время говорить о них. Все! — и он торопливо вышел наружу, боясь не справиться с накипающим гневом внутри.
"Нет, определенно, — думал он, вышагивая вдоль обрыва и всматриваясь в дальний иртышский берег, — кто-то подговорил Алея просить именно Чимги-Туру, а не другой городок. Кто научил его? Зачем они хотят поссорить отца с сыном? Зачем?"
Впрочем, он понимал, откуда дует ветер. Шербети-шейх во время своего последнего приезда недвусмысленно намекнул, что в Бухаре и Ургенче недовольны тем, как медленно идет обращение сибирцев в праведную веру. Если кто-то из его князей, беков и строил у себя мечеть, то по году не казал глаз в нее, оправдываясь то болезнью, как хитрющий Соуз-хан, то занятостью военными делами. Знал он об этом, знал, но ничего не мог поделать. Притупилась его воля, направленная на переустройство сибирской земли. За долгие годы, проведенные здесь, чего он добился? Подчинения? Да, если против одного сибирца было двое наемников из его сотен. Понимания? Да, если дело касалось снижения ясака. Взаимности? Да, если он отпускал князей из Кашлыка в их улусы, где те пропадали по году и больше, избегали участия в походах, не подвергали свою драгоценную жизнь смертельной опасности быть убитыми в бою. Симпатии? Да, если отпускал аманата-заложника под небольшой выкуп в свое селение, после чего тот пропадал, уезжал, скрывался. Боялись ли они его? Тут он мог ответить себе однозначно — да. Ему не раз передавали слухи, будто бы обладал он сверхъестественной силой, умением обращаться в зверя, насылать порчу и лишать людей воли. Они будут бояться его до тех пор, пока не явится кто-то другой, более сильный. Так малый зверь боится большого, но дряхлый, обессиленный волк не страшен никому. Нет, он не даст усомниться в своей силе. Пусть не ждут, не надеются.
На свадьбе сына Кучум сидел мрачный, не отвечая на хвалебные речи, которые больше произносились в его честь, нежели в честь жениха. Невеселым оставался и Алей, памятуя отказ отца насчет Чимги-Туры. Если бы он знал, что Кучум метит его на место Мухамед-Кула, сделать главным башлыком, бессменным во всех походах. Если бы он мог посвятить старшего сына в свои планы, в которых и сам-то себе боялся признаться. Уже этой осенью он хотел направить Алея в набег с большим войском на русские городки за Уралом. Пришла пора проведать их силу, узнать, могут ли они выдержать длительную осаду, каковы их силы, оружие, сколько воинов стоит на стенах. Но пока рано сыну знать об этом. Пусть повеселится, погуляет на свадьбе, а потом… потом он посвятит его в свои планы.
Кучума удивило отсутствие на свадьбе Мухамед-Кула. Верно, обиделся на неприезд Кучума на его свадьбу, что играли прошлым летом, и теперь решил ответить тем же. Ладно, поймет еще, что нельзя кусать руку, кормящую тебя. Поймет… Только поздно бы не было.
Веселил всех Халик-коротышка, смешно прыгая меж сидящих гостей, наставляя им незаметно рога, выхватывая лучшие куски, выливая за шиворот вино, дергая за бороды. Старики не обижались, а молодые парни пугали коротышку длинными ножами. Осмелился Халик скорчить рожу и Кучуму, вскрикнув при этом:
— Наш хан сегодня хмурый сидит, верно, жалко сыну хорошую девку отдавать. Ничего, не жалей, себе еще найдешь. Вон их сколько у тебя. Подарил бы хоть мне одну. Подаришь?
— Пошел вон, дурак, — пнул его под зад Кучум. Тот упал прямо головой в котел с пловом, заверещал от боли.
Когда уж под утро Кучум слегка навеселе возвращался в свой шатер, возле уха просвистел кинжал и воткнулся в землю чуть впереди него.
БЛАЖЕНСТВО АЛЧУЩИХ
Братья Яков и Григорий Аникитичи Строгановы, старшие в роду после смерти отца, возвернувшись с Москвы, решили собрать всех родственников у себя в городке. Требовали того новости, привезенные ими из стольного города. Собственно и собираться нужно было им двоим да младшему брату Семену, да сыну старшего Якова — Максиму, которому шел двадцатый год, но ходил он еще под отцом и дела своего не завел.
Послали человека за Семеном — и к вечеру второго дня тот уже входил в горницу улыбчивый и просветленный радостью встречи. Все три брата, воспринявшие после смерти Аникиты Федоровича огромное и неспокойное хозяйство, выбрали каждый себе по городку и жили в дружбе: вели совместно торговлю, совместно же оборонялись от наскакивающих едва не каждый год вогульцев. Правда, последние два года набегов не бывало, но караульщики все также исправно день в день несли службу на дозорных вышках, держали наготове пороховое зелье, чинили сгнившие острожные стены, зная, не успокоятся их соседи и непременно нагрянут в урочный час попытать свое разбойное счастье.
Семен Аникитич троекратно перекрестился на образа и лишь после обнялся с братьями, внимательно оглядел каждого, пошел к племяннику Максиму, у которого уже пробивалась рыжеватая бородка и легкий некогда пушок под носом начинал походить на настоящие усы.
— О, каков, — шутливо хлопнув его по плечу, притянул к себе, но, почувствовав сопротивление, отпустил, — да у тебя и силищи поприбавилось… Гляди-ка…
— Силы много, да ума чуть, — поддразнил наследника Яков Аникитич.
— Не скажи, не скажи, — не выпуская руку племянника из своей, Семен продолжал рассматривать того, словно увидел, открыл в нем что-то новое. Хотя между дядей и племянником существовала разница всего в десять лет, но Семен был давно уже хозяином сам себе, а Максим жил под зорким отцовским оком, и прежде чем сделать что-то, должен был испросить разрешения у отца, человека нрава крутого, не терпящего ни в чем, ни то что возражений, а даже косой взгляд домашних мог привести его в бешенство. Характером он пошел в отца, да и другие братья были своенравны и упрямы. Единственный человек, кого побаивался Яков Аникитич, была его супруга Евфимия из дворянского рода Охлопковых, что просватал ему отец через своего стародавнего друга Алексея Басманова. Ходила она по дому всегда в черном платке, не снимая его после гибели своего первенца, и была главной советчицей и управительницей по дому, не раз предостерегала Якова от шагов необдуманных, оберегала детей от отцовского гнева. Не могла только простить себе, что не доглядела за бойкой дочерью Аннушкой, которую совратил иуда-приказчик. Тот-то сбежал ночью тайком, а дочь прознавший про грех Яков Аникитич всенародно, при людях дворовых, осрамил, оттаскал за волосы и выгнал за ворота. Сгинула девка с тех пор и неведомо куда делась. Может, медведь задавил, может, сибирцы в полон угнали. Ходила Евфимия, не убоясь принять греха на душу, к бабке-ворожее. Наворожила-нагадала та, будто бы жива доченька и, Бог даст, свидятся когда. Да что утешения в том, коль не может обнять доченьку, с внучатам понянчиться.
Видать, и Яков Аникитич казнил себя, мучился за горячность, и хоть вида не показывал, а седина в бороде сама за себя говорила, руки ходуном ходить начали, как у старика древнего. Вот и пойди, пойми их, Строгановых: то добры, ласковы, словно ангелы небесные, то хуже зверя дикого. Такой, видно, нрав, наследие от предков получили, вынесли.
Сказывал отец еще, будто бы вышел род их из ханов Золотой Орды, перешедших к князьям московским на службу. И будто бы татары, поймавши перебежчика того, с живого кожу с мясом ножичками до костей сняли, сострогали. За что и зовутся с тех самых пор Строгановыми… Так ли, нет ли, но служили князьям московским справно, заслуги многие имели, за что и вотчины в Пермской необжитой земле получили, от сборов-податей освобождены царем были.
Григорий Аникитич на год брата помладше, но такой же кряжистый, ухватистый и на расправу скорый. Дети у него, правда, все слабыми рождались, и через год-другой помирали от болезни непонятной, а прошлым летом и жену Ирину в землю опустил, угасшую раньше времени. Остался при нем единственный сын Никита, которому двенадцать годиков минуло, но уже помощник в отцовских делах, по варницам вместе разъезжают. Будет на кого хозяйство оставить, земли наследные переписать. Вот и сегодня при отце Никитушка тут же в сторонке стоит, на дядю Семена поглядывает, ждет, когда его черед поздороваться придет.
— А моего и замечать не хочешь, — наконец не выдержал Григорий Аникитич и указал Семену на сына, что исподлобья поглядывал на взрослых, испытывая неловкость от своего малолетства.
— Ой, прости, племянничек, — воскликнул тот, — как же я мог не заметить такого мужика. Да я тебе даже и подарочек припас. Где это он у меня, — засунул руку в суму, что постоянно возил с собой. Братья шутили даже, мол, не золото ли он там таскает и сроду не расстается с драгоценной заношенной, затертой до дыр сумой, что впору калике-страннику иметь. Семен отшучивался, не разубеждал братьев, но ни разу не показал содержимого заветной котомки. Порывшись, извлек разноцветного петушка-свистульку и, приложившись, дунул пару раз, извлекая тонкий переливчатый свист. — Вот мастеровой у меня один наладился делать. Взял у него, думаю, свезу племяшу, порадую, — и протянул петушка Никите.
— Не стану я свистеть в него, — отпихнул тот дядькину руку, заговорив ломким юношеским баском.
— Это отчего же? — удивился Семен Аникитич. — Не угодил, выходит? Не по нраву петушок пришелся?
— Чего я… малец какой, что ли, — набычился Никита. — Пущай свистит, кто желает, а я не буду.
Семен Аникитич озадаченно поскреб в затылке, подбросил свистульку вверх, поймал, поставил на стол.
— Ладно, — сказал миролюбиво и без обиды, — вырос значит, коль от игрушек отказываешься. Кому другому подарю…
Своих детей у него не было. Да не только детей, но и женой все не мог обзавестись за хлопотами, пребывая в вечных разъездах, ночуя то на варнице, то в мужичьей избе. Правда, поговаривали, что девок при дворе своем держал Семен круглых да гладких, одна к одной. С ними и в баню хаживал, и гулянки закатывал. Но братья старшие не лезли с расспросами, мол, у него своя жизнь, ему и решать, как на том свете ответ держать станет, а тут и своих забот хватает. Семен в отличие от старших братьев, кряжистых и малорослых, похожих один на другого, как грибы-боровички, был на голову выше их, голубоглаз, тонок в поясе, быстр в движениях и привык сызмальства все решать по-своему, не споря, но и не уступая. И если Яков с Григорием обустраивались в своих землях всерьез, надолго, то Семен набирал ватажников на варницы лишь на лето, а по первым холодам расплачивался с ними, распускал и забирался в лесную глухомань с верным слугой, где охотничал, промышлял зверя, выбираясь к жилью лишь по талому снегу.
Отец, перед уходом в монастырь, оставил все на старшего Якова, а тот указал братьям на варницы, прикинув, чтоб было по-честному, предложил вести хозяйство совместно, но рабочих и дворовых людей поделить поровну. Григорий согласился, а Семен, отмолчавшись, как обычно, уехал к себе, где и раньше проживал и теперь наезжал лишь по приглашению братьев, когда случалось решать дела, требующие присутствия всех Строгановых.
— Сперва угощения отведаем, что хозяйка моя сготовила, или о делах поговорим? — спросил на правах хозяина дома Яков Аникитич. Все переглянулись, пожав плечами, предоставив хозяину решать по своему усмотрению порядок встречи, и он, поскребывая косматую бороду, мигнул появившейся в дверях Евфимии Федоровне, указал гостям на лавки вдоль стен.
— Тогда потолкуем без посторонних ушей, а потом уж и откушаем, коль хозяйка на стол подаст.
— Давай поговорим, потолкуем, — Григорий Аникитич первым, чуть прихрамывая, заковылял к лавке, сделав знак Никите, чтоб садился с краю от взрослых, — пущай и мой посидит, послушает, о чем взрослые речь ведут. Глядишь, на пользу пойдет…
— Пущай посидит, коль скучно не станет, — повел кустистыми бровями Яков Аникитич, — а скучно быть не должно. Интересные новости с Москвы привезли, — он занял свое место в центре под образами, Григорий Аникитич сел от него по правую руку, Семен умастился на краешке лавки напротив, а Максим и Никита сели чуть в сторонке, ерзая на узкой скамье.
— Ты грамоту царскую достань, достань, — засуетился Григорий Аникитич, бросая взгляды на небольшой ларец, стоявший на лавке подле старшего брата.
— Придет время, достану, — обрезал тот, — хочу сперва о делах московских всем рассказать. А дела там такие, что не приведи Господь. Казни чуть не каждый божий день. Прогневался царь Иван Васильевич на бояр своих и лютует крепко…
Семен открыто зевнул, не спеша перекрестил рот, давая понять, что ему нет дела до тех казней, своих забот по горло.
— Ты пожди, Семка, зевать, пожди. Назеваешься еще, как обо всем услышишь, — налился моментально гневом Яков Аникитич, но, кашлянув в кулак, справился с собой и продолжал уже спокойнее, — а дело наше худое…
— Чего, и нас казнить приказал? — насмешливо спросил Семен. — Так чего он вас обратно отпустил? Может, сюда палачей пришлет? Так они нас не скоро сыщут. Леса кругом темные, непроходимые.
— Тьфу на тебя, паршивца, — не сдержался Яков Аникитич, — ты дашь слово сказать? Хватит юродствовать! Дело наше тем худо, что отец наш освобождение от податей выхлопотал когда еще, а теперь срок выходит. Скоро по полной мере платить начнем. Пробовали мы с Григорием лазейку к царю найти, чтоб новую отсрочку выхлопотать, срок продлить, да ее вышло. Так что думать на как быть…
— Как быть, как быть, — передразнил его Семен платить надо. Вот как быть. Ты у нас старший, вот и думай. Голова-то эвон какая.
— Я уж давно все продумал, в уме прикинул и в Москве нашел нужного человека, пока ты здесь по лесам гоняешь, за девками ухлестываешь…
— А тебе кто мешает, — вполголоса проговорил Семен, но брат не расслышал его и продолжал, самодовольно оттопырив нижнюю губу.
— Вызнали мы, что при царе первый его советчик ныне Годунов Борис Федорович. Как царь всех бояр и ближних людей порешил, то он, почитай, один и остался. Батюшку нашего покойного, царство ему небесное, он говорит, неплохо знал. Вот и шепнули мне, мол, встреться, перетолкуй с Борисом Годуновым. Он все с полуслова понимает, через него и к царю попасть можно. Ну встретились мы, перетолковали… Твердо он мне ничего не пообещал, но одно сказал, мол царю доложит, какие мы от разбойных набегов людишек сибирских убытки несем, как нынче соль добывать нелегко стало, головой рискуючи каждый день. Обо всем и порассказал ему как есть. — Яков Аникитич остановился, перевел дух, придвинул к себе ковш с квасом, сделал несколько больших глотков, утер бороду рукавом и, отдышавшись, продолжал. — Написал я грамотку, чтоб он ее царю передал при случае. Через неделю от него человек приходит. Просит к себе пожаловать Борис Федорович…
— Мы и поехали, — наконец вставил свое слово Григорий Аникитич, до того томившийся от своей задвинутости рядом со старшим братом.
— И поехали, — повысил голос Строганов-старший. — Приезжаем, а хоромы у него… Не хуже царских…
Семен опять зевнул, глянул на племянников, которые в отличие от него слушали, открыв рты, и поглядел в потолок. Ему были скучны напыщенные речи старшего брата, старавшегося показать значимость и старшинство над остальными. Начал разглядывать старинные образа, привезенные еще отцом и потемневшие от времени. Слова Якова долетали издалека, утрачивая смысл и значение…
…Царь повелел… Мы просили кланяться… Отблагодарил боярина… Строить крепости… Соль дорожает… Ливония…
Наконец, Строганов-старший, который и речь держал больше для Семена, придвинул к себе ларец и вынул из него длинный свиток с темно-красной печатью величиной с ладонь, развернул его на столе, ткнул пальцем, зачитал вслух нужное место, из чего выходило, что царь дарует им земли и по Иртышу, и по Туре, и по Оби, чтоб они строили там городки, собирали ясак с татар и вогульцев и везли прямехонько к нему в казну.
"Вот пусть сам и строит, и ясак собирает, — зло подумал Семен, — чужими руками жар загребать всяк горазд. А как те городки построить, да потом в руках удержать, то он не сказывает. Дарует! Да как туда сунешься, когда за каждым деревом по татарину с саблей".
— Что скажешь, Семен? — вывел его из задумчивости голос старшего брата.
— А то и скажу, что хан Кучумка нас и здесь теснит, а потащимся на Иртыш, на Туру, можно панихиду хоть завтра заказывать. У него там войско сидит, а у нас что?
— Да… Просто так к Кучумке тому не сунешься. Он всех князьков к рукам прибрал, все под ним ходят, — закивал головой Григорий Аникитич, — мы вон с Яковом опробовали в захудалом местечке, что Тахчеи зовут по-ихнему, варницы поставить, так мужики наши едва ноги унесли.
— Так-то Тахчеи, — постучал пальцем по столу Семен, — а попробуй дальше пойти. Чего и говорю.
— Все мы, Семушка, и без того понимаем, — помягчал вдруг Яков Аникитич, — не о том речь, чтоб на рожон лезть, голову под саблю кучумову подставлять. Мы тебя и позвали, чтоб решить, где народ набрать воинский.
— Рать что ли собираетесь снаряжать?
— Думаем, у ногайцев сотен несколько испросить, чтоб повоевали Кучума, потеснили малость. Недорого и станет.
— Сколько? — напрямую спросил Семен, до которого, наконец, дошло, зачем братья пригласили его на разговор.
— Кто знает, сколько ихний хан запросит. Посылать гонцов будем. Так даешь свое согласие, али как?
— Он согласится… Дело наше общее, — попытался подбодрить младшего брата Григорий Аникитич.
— Не-е-е… С ногаями связываться не стану. Они и деньги возьмут, и сами сбегут.
— Чего ж предложишь тогда? — мигом посуровел и насупил брови Яков Аникитич, а вслед за ним подобрался и средний Строганов, как бы с осуждением поглядывая на несговорчивого младшего. — У царя войско просить? Не даст. Думал и о том. Там войне с немцами, шведами, ляхами и конца краю не видать. Черемисы на Волге голову подняли, русских мужиков с деревень выгоняют, избы жгут. Опять же с Кучумом снюхались. Болтают, будто бы он к ним своих ратных людей послал, чтоб на Москву поднять. От царя помощи ждать, не приходится. А вот не сегодня-завтра вогульцы попрут, а если еще и татары с ними сговорятся, то… — и он широко перекрестился, — несдобровать нам одним с мужиками нашенскими.
— С ногаями дела иметь не буду, — упрямо отвечал Семен, — свет на них клином не сошелся. Копье, саблю не только они в руках держать умеют. Есть и получше.
— Это ты о ком, — враз спросили старшие братья.
— О ком, о ком, да о казаках! На Волге, на Дону вон сколько их обитается. Они и ногаев воюют, и с татарами поговорить смогут. Те их уважают…
— Да ты думаешь, что говоришь? — теперь Григорий не на шутку разгорячился. — То ж первые воры и разбойники. Супостаты! Ногайцы, те хоть деньги возьмут, а в городок не полезут. У них хан есть, его послушают. С ханом же мы завсегда договоримся. А с казака что взять? Он и деньги возьмет, и последние портки с тебя сымет…
— С тебя сымешь, — огрызнулся Семен.
— А дядя Семен верно говорит, — неожиданно подал голос Максим, смирно сидевший до этого и внимательно прислушивающийся к разговору, — мне и купцы сказывали и несколько дозорных у нас службу несут из казаков. Они попало кого не грабят, чтоб без разбору. У них с басурманами свои счеты…
— Тебя кто спросил? — Григория Аникитича будто кулаком в бок вдарили. — Советничек выискался! Молоко на губах не обсохло, а туда же! Пошел вон отсюда! Против отца голос подал! Покудова я живой — не бывать казакам у нас в городках, — брызгая слюной, прокричал вслед Максиму, который, не смея ослушаться, встал с лавки и понуро пошел к двери.
— Чего завелся? — фыркнул Семен. — Думаешь, не знаю, как твой обоз казаки пограбили? Вот ты с тех пор на них зло и держишь.
— А коль знаешь, то прикуси язык, прикуси, — Григорий Аникитич неожиданно побледнел и схватился за грудь, но потом справился с неожиданно накатившей болью и выпрямился.
— Вот и поговорили, — Семен встал, шагнул к двери, — поеду я, однако, а то темнеет рано. Надобно бы засветло добраться.
— Так чего решим? — привстал Яков Аникитич, и Семен, поглядев на него сверху вниз, отметил как сдал тот за последний год, стал совсем седым, нездоровая желтизна выступила на лице.
"Лучше бы о себе подумал, а он все гребет да хапает… На тот свет с собой добро не потащишь…" Но вслух ответил:
— А ничего не решим. Вы за ногаев — нанимайте. А я согласия не даю. Прощевайте покудова, — и прошел мимо стоявшей в дверях Евфимии Федоровны, опустившей глаза вниз, поклонился ей и заспешил во двор, громыхая каблуками по высоким ступеням.
Возле крыльца стоял хмурый Максим. Остановился возле него, шмякнул ладошкой по плечу, подмигнул:
— Не боись, мы свое слово еще скажем. Поглядим, чья возьмет.
— К тебе на заимку хочу, — тихо проговорил тот, — скучно мне здесь, со стариками.
— Приезжай, — просто ответил тот и вскочил на коня. — Буду ждать, — прокричал, обернувшись на скаку.
БЛАЖЕНСТВО ИЩУЩИХ
Ермак гнал от себя мысли о Евдокии, которая даже не попыталась объяснить причину своего отъезда. Да не просто отъезда, а скорее поспешного бегства. Чем он обидел ее? Почему не пожелала жить в казачьей станице как другие женщины, сошедшиеся с казаками, живут и кажутся вполне довольными своим положением: хлопочут по дому, рожают детей, ждут своих мужей из походов. И нет таких, по крайней мере, ему не известно, чтоб кто-то из них сбежал, кинув мужа.
Впрочем, случалось, что, пожив с одним мужиком, или чаще, не дождавшись мужа из похода, казачка находила себе другого и вместе со всеми пожитками перебиралась к нему в курень. Случалось, и дрались мужики из-за баб, но без оружия, на кулаках, метеля друг дружку, расквашивая в кровь лица, кроша зубы. Остальные не вмешивались, наблюдали со стороны. Потом, высказав все, что накипело, мирились, распивали кувшин, другой вина и расходились, не держа обиды.
Он догадывался, понимал, что послужило главной причиной бегства Евдокии и вдовицы Алены — Богдан Барбоша. Несомненно, он смутил Дусю, наговорил ей что-то непристойное, домогался ее и, возможно, получил свое. Нет, об этом ему меньше всего хотелось думать, чтоб не пачкать ее имя грязными подозрениями.
Поначалу он хотел подойти к Барбоше, встретив его где-нибудь на майдане или у реки, схватить за горло и сжимать до тех пор, пока язык не вывалится из его похабного рта, не выскочат из орбит глаза, не обмякнет тело… Он знал, что способен на такое и… боялся себя. Боялся не найти оправдания в глазах товарищей-казаков, относившихся к нему по-доброму, считавших своим, доверявших ему. И как он сможет убить одного из них? Как?! Волки в стае и то не загрызают собрата. Так может ли он, человек, лишить жизни такого же, как он?
А теперь после постыдного дележа добычи, полученной его отрядом после обмена угнанного табуна, с казаками Барбоши и Ваньки Кольцо… Ему стыдно было глядеть в глаза Ильину, Михайлову, Ясырю. Подай он тогда знак — и казаки воспротивились бы несправедливому дележу. И можно ли это назвать дележом? Скорее, грабеж. Нет, каждый казак по неписаному закону должен приносить на майдан часть добытого, делиться со всеми, чтоб удача не покидала его в дальнейшем. Но то делается по доброй воле, без принуждения. Таков закон.
А сейчас, уступив Барбоше почти половину, он выказал слабость, трусость, и мог ли теперь напасть на того, совершить задуманное ранее. Не мог… Уступив раз, ты обрекаешь себя на дальнейшее унижение.
Василий Ермак сидел в пустом курене, где кроме оружия и пары горшков ничего другого не было. Сидел, вырезая по давней привычке из куска дерева какую-то фигурку, сосредоточенно хмуря лоб, уйдя в себя, в занятие, горестно размышляя о неудачах, постоянно преследующих его. Не заметил, как открылась дверь и в курень вошли бочком Яков Михайлов и Гавриил Ильин. Сзади них кто-то еще шумно дышал, невидимый за спинами передних.
— Здорово, казаче, — улыбаясь, заговорил Яков, и по крепкому винному запаху Василий понял, что тот изрядно пьян, — решили заглянуть к тебе. Не ждал?
— Проходите, — безразлично отозвался Василий, — садитесь, где можете.
— Да мы не одни, — чуть качнувшись, проговорил Михайлов, перешагивая через ноги хозяина и ища место, где можно было бы присесть.
— Думаем, сидит наш атаман и не с кем слова доброго сказать, перемолвиться, — зычно пробасил Гаврила Ильин и махнул в сторону стоявших сзади двух казаков, также едва державшихся на ногах, — вот, привели с собой Ваньку Кольцо да Микитку Пана. Не знаком?
— Как не знакомы, виделись. Меня всякая собака и на Дону, и на Волге знает, признает, — отозвался Иван Кольцо и плюхнулся на лавку.
— А меня Микитой звать, — хлопнул Василия по плечу приземистый, слегка округлый казак с выбивающимся из-под шапки чубом-оселедцом. Его мягкий говор выдавал уроженца запорожских или черкасских земель, а небольшие хитрые глазки, пытливо мерцающие из-под кустистых с рыже-медным отливом бровей, говорили о недюжинном уме и смекалке. Сам Никита Пан в движениях был проворен и точен. Достав из походной торбы глиняный кувшин с вином, поискал глазами, куда бы его поставить, сдвинул со стола неубранную посуду и аккуратно пристроил сосуд с драгоценным напитком с краю. — Говорили мне казаки про тебя, мол, хорошо к ногаям сбегали с тобой…
— Это точно, — замотал согласно головой Яков Михайлов, — знатный косяк угнали у косоглазых и сбыли хорошо.
Василий ждал, что переведет разговор на дележ добычи с Богданом Барбошей, но Яков и не вспомнил об этом.
— Слышь, чего скажу, — стукнул он кулаком по столу, — скачем мы с ним, с Ермаком по степи, табун впереди себя гоним, а у меня одна мысля в башке сидит…
— Признавайся, какая, — ехидно подмигнул всем Иван Кольцо, — поди, думал, как бы вместо кобылиц тех да баб табун гнать. Да? Долго бы ты его гнал, точно… — все дружно засмеялись, но Яков лишь отмахнулся от них и пьяно глянул на Никиту, сделал знак рукой в сторону глиняных кружек, мол, наливай, чего тянешь, и продолжал. — Мысля, значит, сидит такая: нагонят нас сейчас ногаи, зачнут сечь… А кругом степь, деваться некуда…
— Струсил, казачок, струсил, — ершисто подвел его Кольцо.
— А ты бы не струсил? — взъерепенился Яков. — Храбер тот бобер, что в хате сидит, на нас не глядит. Чего же с нами не пошел, коль удалец такой?! — закончил с вызовом. — Только и можете с Барбошей что по Хопру, по Медведице шарить, ждать, когда какой купчишка заплутает, тут вы молодцы против овцы, а супротив молодца и сам овца.
— Да, мы такие, — нимало не смущаясь, ответил Кольцо.
— Зря мы тогда вам половину свою уступили, — запоздало вздохнул Гаврила Ильин, — могли бы и не отдать.
— И не отдавали бы. Я б так нипочем не отдал, — похоже было, что Ивана Кольцо ничем не прошибить. Он лишь посмеивался и легко отшучивался.
— Ладно, чего собачиться, — стал раздавать кружки с вином Никита Пан, — Мы выпить пришли с хорошим человеком, а вы, словно бабы, лясы точите. Айдате-ка выпьем за волю нашу, за Дон-батюшку, Волгу-матушку, что нас приютили, хлеб-прокорм дают…
— Не, не стану пить, — Кольцо поставил свою кружку на стол.
— Чего так? — удивился Никита, успевший уже отхлебнуть полкружки.
— За баб красивых выпью, а за всякие разности пить, что ты тут гуторишь, не стану. Кто желает за баб выпить, чтоб нас любили? — поднял свою кружку и обвел всех почти трезвым взглядом. И трудно было понять, шутит он или действительно у него на уме лишь бабы… Но все казаки подхватили кружки, дружно гаркнув:
— Аида за баб! Чтоб любили, тешили! — и мигом осушили кружки. Никита тем временем вытащил из торбы полкаравая ржаного хлеба, две сушеные желтоватые подсоленные рыбины, плюхнул их рядом с кувшином и первый, отломив изрядный кусок хлебного мякиша, сунул в рот, принялся сосредоточенно чистить одну из рыб, протянув вторую Ермаку.
— Завсегда только за баб и пью, — пояснил меж тем Кольцо, отерев длинные, усы двумя пальцами. — Не за царя же пить.
— Дурак ты, Ванька, — погрозил пальцем в его сторону захмелевший Яков Михайлов, — без царя бы и Руси не было. А не было бы Руси, так и нас, поди, не было бы. Турки, крымцы, ногаи, ляхи нас бы мигом полонили, в свою веру обратили.
— Вот ты дурак и есть, — беззлобно отозвался Кольцо, бесцеремонно отламывая рыбье брюшко прямо из рук Никиты Пана, который только проводил его взглядом, но ничего не сказал и лишь чуть подвинулся в сторону, впился острыми зубами в рыбью спину. — Царь на что дан?
— Ты и скажи, на что царь дан, — все более распалялся Яков. Остальные не участвовали в споре, поглядывая на тех, ожидая, чем закончится дело. — Да на то он дан, чтоб нас в страхе держать, волю не давать. Ты вот зачем в казаки подался? Вольной жизни захотелось. Чего ж не жил под царем-батюшкой? Пахал бы себе землицу, сеял хлебушек, детишек растил, жену на печке ублажал каждый день. Чего в степь подался?
— Э-э-э, не хитри, не крутись, братец, словно вошь на гребне. Тут все подобрались такие, кто работать не желает, а прокорм себе через саблю добывает. Или пан, или пропал. Так говорю? — повернулся к Никите, который уже умял рыбешку и разливал остатки вина по кружкам.
— Правду глаголешь, сын мой, — отозвался тот, — только вина мало.
Ермак, до сих пор молчавший и лишь поглядывающий то на одного, то на другого быстро хмелеющих казаков, откашлялся и подал голос:
— А я так скажу… Бывал я на службе царской и полевал с вами, под Астрахань ходил с Мишей Черкашениным, всего повидал. А вот по мне, царева служба сподручней выходит…
— Отчего так? — глаза Ивана Кольцо неподвижно и изучающе застыли на нем, словно открыл он что-то новое для себя. — Так отчего? — повторил настойчиво.
— А оттого, что там знаешь, за что служишь, — Ермак не отвел глаз и также изучающе разглядывал Кольцо. — Там тебя отправили, к примеру, на заставу или в крепость — и стоишь против врага. Знаешь, откуда он попрет, знаешь, как бить… А тут, что выходит?
— Говори, говори, — невозмутимо подбодрил его Кольцо, — занятно гуторишь.
— Скажи им, скажи, — икнул опустивший вниз кудлатую голову Гаврила Ильин, — пущай послухают.
— А тут выходит, что на кого наскочил, тот тебе и враг. Кого хочу, того и граблю. Вот угнали мы у ногаев коней, а хозяин тех пастухов на первой лесине повесит…
— И правильно сделает, — зло засмеялся Иван Кольцо.
— Чего ты их жалеешь, Тимофеич? — не выдержал и Яков Михайлов. — Они ж ногаи. Хоть всех бы их перевешать… Нам-то что?
— Именно! Нам ничего. Худо грабить. Тьфу, — плюнул Ермак на глинобитный пол.
— А когда они в набег идут на нас? Тогда как, коль они всех мужиков режут, баб сильничают, да в полон с детишками гонят. Их тебе не жалко?
— Не о том речь, — сопротивлялся Василий, но видел единство казаков. — Они нас зорят, а мы их. Чего тут доброго?
— Да тебе, Тимофеич, в попы пойти надобно, а не в казаки, — зло усмехнулся Иван Кольцо. — Мне мужики сказали, будто бы ты воин добрый, атаман удачливый, а ты ногаев жалеешь. Родичи что ли там объявились?
— Родичи не родичи, а знаю, что дурное дело творим.
— Ладно, ногаев более грабить не будем, — переменился вдруг Иван Кольцо и с обычной усмешкой продолжил, — тем более, сказывали, будто после вашего набега ушли они в степь подале и соваться к ним сейчас бестолку. А на турка пойдешь?
— Отчего ж не пойти, — легко согласился Ермак. — Я и на ногаев пойду, коль надобно.
— Я же говорил, что добрый казак Тимофеевич наш, — сквозь зубы промычал, положив голову на стол, Яков Михайлов, — выпьем за его здоровье.
— Можно и за здоровье, да вина нет, — отозвался Никита Пан, — сейчас схожу до дружка своего. У того должно быть, — и пошатываясь, с трудом направился к двери.
Иван Кольцо, проводив его взглядом, опять усмехнулся и неожиданно пересел поближе к Ермаку, положил руку ему на плечо.
— Слышь, Василь Тимофеевич, ты прости нас за тот раз…
— Чего? — удивился Василий. — За какой раз?
— Когда мы с Барбошей добычу вашу ополовинили. Не мы бы, так старшины, все одно, потребовали свою долю. А нам бы тогда щиш досталось. Барбоша же у них свой человек. Шепнул слово кому надо — и все тихо. Понял? Не журись, панове. Да, еще, — вспомнил он, — от Урмагмет-мурзы люди по станицам ездили, выспрашивали, кто косяк у них угнал…
— И что, — напрягся всем телом Ермак.
— Да ничего, — успокаивающе махнул рукой Кольцо, — направили, заворотили их в другую сторону. Своих не выдаем. Только, думаю, все одно дознались они про тебя. Будь осторожней.
— Спасибо, — коротко отозвался Ермак.
— А насчет турок я ведь всерьез спросил, — казалось, что Кольцо и вовсе не пил, — такими чистыми и незамутненными были его глаза. — Готовим поход на них. Пойдем стругами и верхами. Струги перетащим — и по воде дальше к морю. А по берегу конников для разведки пустим. Как ты? Думаем, тебя в атаманы с верховыми вместе направить. Затем и пришли к тебе.
— Барбоша тоже идет? — испытующе глянул Ермак на Кольцо.
— Вон ты о чем, — громко засмеялся тот, — да нет его в станице. Неделю уж промышляет где-то. Только зря ты на него так. Казак он добрый, а испытать новичков любит. Ты ж на Дону всего ничего, а Богдан и родился, и вырос тут, свое прозвание получил…
Ермак молчал, сосредоточенно слушал Ивана Кольцо. Думал, казаки тем и хороши, что своих не выдадут, не бросят в беде, стоят крепко за каждого. Может, потому и сильны станицы казачьи, не суются к ним ни крымцы, ни ногаи. Вспомнились ему и молодые князья, с которыми нес сторожевую службу. С теми он так и не смог сдружиться, и хоть в бою слушали его, исполняли все, что приказывал, но видно было, не по нутру это князьям. — Так ты даешь согласие, или как? - вновь подал голос Кольцо. — Казаки, что с тобой ходили в набег на ногаев, в один голос тебя требуют атаманом над дозорными ставить. Я же на стругах головным пойду. По рукам? — и протянул ему узкую ладонь с массивным золотым перстнем на среднем пальце, продолжая вглядываться все так же пытливо.
Ермак покосился на уснувших прямо за столом Якова и Гаврилу, протянул было Ивану ладонь, но в последний момент спросил:
— А что за дело? Кого воевать пойдем? Опять грабить, а потом улепетывать? Не по мне это…
— Тебе, так и быть, скажу, — Иван тоже глянул на спящих казаков, поднял пустую кружку, промолвил беззлобно: — Все выжрали! — подавил вздох и заговорил тихим голосом. — Тут такое дело… Прознали мы от верного человека, что идет большой турецкий караван из Бухары…
При этом слове Ермак вздрогнул и переспросил:
— Откуда, говоришь?
— Из Бухары, — Кольцо не придал значения его взволнованности, — купцы товары везут к туркам, а с ними еще знатные князья на поклонение к своим святым местам едут, где их пророк проживал…
— Мухаммед, — пояснил Ермак.
— Да какая разница. Мухаммед или иной кто. Вот мы и хотим двух зайцев за уши ухватить — караван пощупать и князей тех захомутать. Года два назад нескольких наших атаманов крымцы похватали спящими на переправе, да и продали бухарским купцам, а те их в свои края увезли. Вот и думаем наших атаманов на тех князей поменять.
— Проще их в степи брать. Зачем струги?
— Проще-то проще, да боюсь, умыкнут они к морю, сядут на суда, на каторги свои и поминай, как звали. А мы тут как тут, на стругах и подопрем их у бережка. Так по рукам?
— По рукам, — и Ермак без раздумья вложил свою пятерню, накрыв ей сразу узкую кисть Ивана Кольцо.
— А вот и я… — просунул голову в дверь Никита Пая, втащил, тяжело отдуваясь, огромный кувшин и поставил его на стол меж казаками.
Выступили двумя отрядами уже в конце недели, потратив много времени на сборы: проверяли струги, снасти, грузили провизию, не надеясь раздобыть что-то в пути. На стругах поместилось сотни две казаков под началом Ивана Кольцо. Есаулом к себе он взял Никиту Пана. С Ермаком конных казаков оказалось раза в два меньше, не более сотни. Там же были и Гришка Ясырь, Гаврила Ильин, Яков Михайлов и другие казаки, ходившие с ним в набег на ногаев. Своим есаулом Василий указал быть Михайлову, памятуя, что тот отличался от остальных и сметкою, и умением предугадать обстановку, выбрать удачное место для ночлега.
Казачки собрались на берегу провожать мужей и родных, стояли чуть в стороне, не мешая отплытию. Не было криков, плача, никто не бежал по берегу. Как бабы в русских деревнях провожают на заработки мужиков — без вздохов и вскриков, так и казачки, давно привыкшие к проводам и расставаниям, не рвали душу, не сушили себя потоками слез, не голосили с надрывом, словно на похоронах.
Ермак, уже не раз наблюдавший казачьи проводы, попривык к спокойствию и мужеству, с которым казачки оставались у околицы станицы или на берегу реки, не хватали мужей за стремена, не заламывали руки, не падали без чувств. Но когда первый раз сам, оставаясь в станице, стоял среди пожилых казаков и наблюдал отбытие нескольких сотен в очередной поход, то показалось ему, будто едут те на праздник какой, столь веселы были все, не раздалось ни единого крика отчаянья. И сами казаки сыпали шутками, подмигивали женам, подругам, и те отвечали тем же. Только изредка вырывалось у кого-нибудь: "Григорий, береги себя, не балуй…", "Платочек мне присмотри там новый…" Словно мужики их отправлялись на базар за покупками, обещая через пару-тройку дней возвернуться обратно.
Евдокия так ни разу не нашла в себе сил выйти за околицу, чтоб, как все замужние бабы, проводить Василия, улыбнуться ему ласково на прощание, смотреть, как конники скроются за ближайшим курганом, и потом уже, вернувшись домой, терпеливо ждать и молиться за него. Нет, провожать выходила к воротам городка вдовица Алена, а Дуся оставалась, наревевшись накануне, в курене, хмурая, опухшая от слез, и тихо шептала вслед ему: "Василий, останься…" Но как он мог остаться? Или он не сам выбрал удел казака, чем-то напоминающий его прежнюю жизнь? Или он перестал быть воином и его не уважают другие казаки, не надеются на него, не верят ему?
Нет, между женской привязанностью и мужской дружбой он выбрал последнее. Верно, это прежде всего и подтолкнуло Евдокию покинуть станицу, уехать обратно на Русь, где, возможно, она и найдет себе мужа, который утром будет уезжать в поле, а вечером усталый возвращаться домой. Они обвенчаются в храме, нарожают детей и… будут счастливы. При этих мыслях у Василия что-то сжималось внутри, кровь бурлила, приливала к голове и хотелось рвануть коня под узды, поскакать прямо сейчас вслед за женщинами, догнать их, удержать, остановить. Но нужен ли он им такой? Если Дуся не смогла привыкнуть к его постоянным отлучкам, походам, то и ему не привыкнуть к обыденной тихой деревенской жизни, не стать крестьянином… Значит… Значит, не судьба… И ему не иметь детей, которыми он смог бы гордиться, садить в седло, учить обращаться с оружием, нападать в бою, уходить от погони.
Еще тоскливее стало у Василия от этих горестных мыслей и вспомнилась едва ли не единственная любовь его — Зайла-Сузге, родившая ему сына. Где-то они сейчас? Живы ли? Сейдяк наверняка уже вырос, стал воином и ходит в набеги, водит сотни.
Он многое бы дал, чтоб получить хотя бы малую весточку от Зайлы-Сузге, поглядеть хотя бы издали на сына, чем-то помочь ему. Но чем больше он думал о том, чем больше распалялся, тем тягостнее становилось на душе и хотелось закричать, завыть волком, быстрее увидеть врага, схватиться с ним, располовинить одним ударом сабли любого, кто встанет у него на пути. Любого…
— Атаман, чего невеселый такой? — услышал словно издалека доносившийся голос и, повернув голову, увидел, что его нагоняет на взмыленном коне Гришка Ясырь, а он сам далеко оторвался от остального отряда и мчится галопом, постоянно пришпоривая коня, охаживая нагайкой и не замечая этого. — Мы подумали, увидел чего, коль вперед поскакал. Едва нагнал тебя… Прыткий конек…
— Да, — кивнул головой Ермак, — показалось чего-то впереди.
— А я так ничего не вижу, — отвечал удивленно Григорий, привстав на стременах, вглядываясь в степь.
— Показалось, видать… Давай подождем остальных, — придержал коня Ермак, придирчиво оглядывая приданный ему отряд.
Казаки шли рассыпанным строем, закрепив у стремян длинные пики, надвинув на глаза мохнатые бараньи шапки с красным верхом. Почти у каждого под кафтаном была надета кольчуга, у седла подвязан остроконечный шлем. Многие имели пищали, пистоли, но лишь изредка можно было заметить круглые щиты, которых казаки не любили, считая, что он лишь мешает, отягощает, а от ружейной пули и вовсе не защитит. Кроме сабли у многих болтался притороченный к поясу топор-секир на длинной рукояти, которым казаки пользовались, если под ним убивали коня и он оказывался пешим против конника. Одним ударом своей секиры умелый боец раскраивал череп лошади, а потом уже управлялся с всадником. И короткий лук имел едва ли не каждый казак, даже если у него и была пищаль или пистоль. В сырую погоду фитиль плохо горел и тогда выручал лук, владели им казаки в совершенстве, попадая в цель на полном скаку, ничуть не хуже крымчаков или ногайцев.
Ермак, привыкший к луку более тяжелому, изготовил его себе сам и стрелы подобрал подлиннее, выковал к ним наконечники с зазубринами на острие, оперил и, проверив, остался доволен — стрела летела на сто шагов, точно впиваясь в цель.
Дождавшись подхода сотни, не спешившей с рыси переходить на галоп (все одно струги шли медленнее), Ермак влился в общую массу, приглядываясь изучающе к лицам казаков. Некоторых он видел впервые или просто не запомнил, не отличил. Большинство же были так или иначе знакомы, обменивались с ним понимающими взглядами, проезжали мимо, покачиваясь в седлах, бросая малозначимые слова, отхаркиваясь от прилипчивой пыли. Двое казаков приотстали и Ермак придержал коня, поджидая их.
— Чего тянемся? Пристали что ли? — спросил нарочно грубо.
— Гуторим едем… А куда спешить? — развязно ответил гнусавый казак с приплюснутым к верхней губе широким носом и отвисшей, чуть оттопыренной нижней губой, которого в станице прозвали Брязгой за ворчливость и несговорчивость.
— А коль наскочит кто? Назад подадитесь?
— Мы сроду из боя не бегали, — обиделся второй, по прозванию Ларька Сысоев.
Ермак не стал препираться с ними, а, дав шпоры коню, поскакал догонять ушедших вперед казаков, не оглядываясь: знал, что те двое подтянутся, подберутся, чтоб не попасться второй раз на глаза походному атаману. Прослыть трусом мало кому хотелось. Засмеют, бабы начнут пальцами тыкать.
К вечеру, так никого и не встретив в степи, повернули к реке и, став лагерем, ждали подхода стругов. Те появились уже далеко заполночь, ткнулись носами в песчаную отмель, казаки, тяжело отдуваясь, вываливались на берег, чертыхаясь и костеря конный отряд, что те дали лишку, уйдя далеко вперед, а могли бы разбить лагерь и чуть пораньше. Казаки из ермаковой сотни спустились к воде, помогли вытащить суда на берег, посмеивались над гребцами, звали к кострам перекусить.
— Никого не встретили? — спросил Кольцо, подходя к Ермаку. Тот лишь покачал головой, повел его к своему костру, где кашеварил Гаврила Ильин еще с двумя казаками.
— Хотел дозоры отправить, да все одно пусто кругом… — пояснил Ермак. — Верно, завтра к вечеру и вышлю с десяток охотников.
— Бог даст, так завтра и до переволока дойдем, — согласился Кольцо, — а там глаза да ушки держи на макушке. Как на Волгу переправимся, то места там пойдут опасные — и ногаи, и крымцы летают. Держитесь кучней, от нас далеко не отходите.
Кольцо хоть и был в походе первым атаманом, но с Ермаком держался на равных, говорил спокойно, сдержанно. Серебряная серьга в левом ухе поблескивала при свете костра, и сам он, ловкий, увертливый, собранный, с цепкими, внимательными, чуть насмешливыми глазами, нравился Ермаку. Было в нем что-то надежное, придающее уверенность, и в то же время в любой момент он мог взорваться, кинуться на обидчика.
К костру подошел Никита Пан и вынул из-за спины небольшую баклажку, тряхнув в руке и озорно улыбнувшись, спросил:
— Трошки выпьем? Как ты, атаман? — обращаясь главным образом к Ивану Кольцо.
— Убери. И чтоб больше не видел, — не поднимая головы, ответит тот. — Не погляжу, что друг, заверну в станицу, только запах учую.
— Да ты шо, батько? — изображая смущение, запричитал тот, пряча баклажку обратно за спину. — Да с устатку чего же не выпить? А? — и вопросительно глянул на Ермака. — Скажи ты ему, Василий…
— Я сказал, ты слышал, — принимаясь за еду, все так же тихо, но отчетливо выговаривая слова, отозвался Кольцо. Никита крякнул и, бросив баклажку на землю, уселся рядом, потянулся к вареву.
— Так всегда и поступают товарищи: он на корме сидел весь день, кормовым веслом управлял, а мы гребли, как проклятые. Словно нанялись… — беззлобно балагурил Никита, отправляя в рот ложку за ложкой. Остальные казаки с усмешкой поглядывали на него, не вступая в разговор.
— А хошь, Микита, я тебя к себе сзади на мерина посажу? — предложил со смехом Гаврила Ильин. — И грести не треба, и нам веселей будет. Мерин мой здоровущий, выдержит двоих. Пойдешь?
— Ага, — добродушно согласился Никита Пан, — согласен, согласен. Особливо, когда татарва наскочит или ногаи. Ты рубиться станешь, а я тобой командовать буду, кого первым рубить, кого вторым.
— Не… так не пойдет, — под дружный хохот замотал головой Гаврила, — ты оборону сзади держи. Вдвоем нас никто не одолеет, ни с какой стороны не возьмет.
— Ты лучше Богданку Брязгу возьми, — не отрываясь от еды, возразил Никита, — он от любого ворога отбрехается. И сабли не надо. У него язык так подвешен, что побрить может запросто, — кивнул в сторону сидевшего у соседнего костра Брязги. Тот не расслышал, о чем идет речь, но догадался по хохоту, что Никита помянул его, и ответил:
— Слушайте, слушайте его, пустобреха. Он вам намелет с три короба и еще столько же останется.
— Богдаша, меняемся ложками, — громко крикнул Никита, — ты, говорят, свою заместо палицы возишь. Как шлепнешь кого по лбу, тот и с копыт долой. Меняемся?
Все знали, что Богдан Брязга и впрямь имел ложку размером чуть меньше половника, которым кашевары мешают в котлах. Он, несмотря на свой небольшой рост, выхлебывал уху или похлебку в два раза быстрее остальных казаков, за что те постоянно и насмехались, подтрунивали над ним. Но он отвечал обычно:
— Кто в еде скор, тот и в работе спор. Меня не трожь и я не трону. А казаку без прибавки никак нельзя. На пустое брюхо не повоюешь.
— Чего, Богдаша, не хочешь меняться? Гляди, передумаю…
— Как же он без своего черпака, — подхватили другие казаки, — помрет еще с голодухи.
Кольцо, успевший перекусить, встал и, наскоро перекрестившись, отозвал Ермака к берегу. Спустились к самой кромке воды, присели на борта стругов, прислушиваясь к тихому плеску воды, к голосам казаков, едва долетавшим сюда.
— Думается мне, если кто из степи нас заметил, то обязательно на переволоке караулить станут, — проговорил вполголоса Кольцо.
— Могут, — ответил также негромко Ермак, — беречься будем.
— Ты дозоры отправь затемно, чтоб разведали, что к чему, — посоветовал Кольцо, — бывал раньше на волоке?
— Разок пришлось…
— Отправь кого знающего. Брязгу того же. Он хоть и занудистый мужик, но глазастый. Его не обдурить. Нутром ногайцев чует.
— Пошлю, коль сам захочет.
— Только предложи, а уговаривать не придется. Пойдет первым.
Условились о месте встречи, где Ермак будет ждать струги с казаками, и разошлись спать. Ермак еще раз подивился обстоятельности, с которой Кольцо руководил походом. Он не шел, как другие атаманы, очертя голову, напролом, а заранее продумывал каждый шаг. Дай-то Бог, чтоб все сложилось удачно, без особых неожиданностей.
Богдан Брязга тут же согласился ехать вперед дозорным, но для вида проворчал:
— Как дело важное, так сразу меня. Знают, что лучше Богдана никто не исполнит. Без Богдана ни шагу… — и продолжая бормотать себе под нос, пошел собирать охотников.
Верховая сотня шла почти подле самого берега реки, отходя в сторону лишь в поисках переправы через небольшие речушки. К вечеру вышли к месту, где казаки обычно по суше перетаскивали свои суда. Но отряда Брязги там не оказалось. Спешились и, ослабив подпруги, решили чуть подождать. Не объявились они и позже, когда струги Ивана Кольцо тяжело причалили к месту стоянки. Обеспокоенные долгим отсутствием сторожевого отряда, костров не разводили, вслушивались в ночной сумрак. Уже ранним утром послышался конский топот и первым подскакал Богдан Брязга на загнанном кауром коньке, а вскоре еще пятеро из его отряда, понурые и уставшие, подъехали к месту сбора.
— Где остальные? — глянул Кольцо на Брязгу, что более обычного оттопыривал нижнюю губу, смотрел вбок, отводя глаза от атамана.
— На ногаев наскочили, — словно нехотя, наконец, ответил тот, сойдя на землю, — откуда они взялись… Не пойму…
— Ну, и… Да не тяни кота за хвост! — вспылил Кольцо. — Поубивали что ли всех?
— Да нет. Раненые есть, но ушли мы от них. Коней загнали. Вот двоих и посадили задними на коней, поотстали. Скоро будут, — махнул в сторону степи Брязга.
— Мать твою так! — выругался Кольцо. — Где же твои глаза были? Куда смотрел? Тебя зачем отправили?
— Да их полсотни из балки выскочило! — видать, Брязга пришел в себя и принялся оправдываться, как они наскочили на засаду, как едва ушли от них. Кольцо не стал слушать, пошел к стругам. Ермак, не обронивший ни слова, с жалостью смотрел на сникшую фигуру Брязги, который виновато поглядывал на казаков, не ерепенился как обычно. "Нутром ногаев чует…" — вспомнились слова Ивана Кольцо.
Когда совсем рассвело, подъехали на едва живых лошадях сидевшие парами остальные четверо казаков. Их отправили отдыхать, а весь отряд стал готовить суда к волоку. Ермак отправил новый разъезд подальше в степь, наказав, чтоб в бой не ввязывались, а упредили остальных в случае нападения ногаев.
Но день прошел спокойно. Струги разгружали, складывали запас продовольствия на лошадей, увозили, возвращались за новым. А тем временем остальные казаки, накинув на плечи лямки, пристегнув к стругам по паре коней, вытаскивали суда из воды на берег и неторопливо тянули волоком к Волге, делая короткие остановки для отдыха. Хоть стругов было и немного, но за день не управились. Уже к полудню выдохлись и казаки, и кони. Закончили перетаскивать струги лишь к вечеру следующего дня.
Чуть в стороне от волока Ермак заметил кучи земли, следы кострищ и кивнул в ту сторону, указал находившемуся с ним в одной пристежке Якову Михайлову:
— Вот здесь я свое прозвание и получил… Яков поднял голову вверх, отер пот со лба и переспросил:
— Какое прозвание?
— А ты не знаешь? Турки тут канал рыли, "ермак" по-ихнему. Я в то время в полоне был, вот и помахал лопатой, погорбатился на них. Казаки Миши Черкашенина нас и отбили.
— А… вон оно что… Слыхал про Мишу, слыхал. Кто его на Дону не знает. Как в полон-то попал, атаман?
— Долго рассказывать, — отмахнулся Ермак.
— Я все тебя спросить хочу, — не успокоился Яков, — ты сам, из каких будешь?
Ермаку явно не хотелось говорить об этом, ворошить старое, что пытался забыть, вытравить из души. Но сейчас, когда все казаки дружно впряглись в лямки и тащили по твердой, словно камень, земле струги, и единение исходило от казачьей ватаги, просто невозможно было утаивать что-то… И осторожно, подбирая слова, Ермак ответил:
— Про Сибирь слыхал? Вот из нее самой я и пришел на Дон.
— Ото, занесло тебя, однако… — удивленно глянул на него Яков. — Чего там не ложилось? Говорят, будто бы у вас соболей, что в степи сусликов — на каждой ветке сидят, хоть палкой сшибай.
Ермак засмеялся, представив, как Яков с толстой палкой гоняется за забравшимся на ель соболем.
— Суслика и того палкой не добудешь, а соболя и подавно. Он знаешь, какой хитрый… На него особая сметка нужна.
— А ты расскажи, — не унимался любознательный Яков.
— Расскажу когда-нибудь, — согласился Ермак, налегая на лямку.
Когда уже спустили все струги на воду и начали загружать их, со стороны степи показался всадник, изо всех сил нахлестывающий коня.
— Да то фомка Бородин поспешает, — узнал его кто-то из казаков, — не иначе случилось чего… Вишь, как наяривает!
Ермак и Кольцо подались вперед, дождались, когда Бородин подъедет вплотную, и сразу все поняли по его вытаращенным глазам.
— Ногаи, — прохрипел он, поводя языком по растресканным от жары губам, — пить дайте.
— Много их? Откуда взялись?
— Верно, те, что на казаков Богдана Брязги напали.
Следили за вами, а напасть не решились. Мы их пужнуть решили, думали, чуть их будет. А их более полусотни оказалось. Двое, видать, за подмогой поскакали.
— Ну, и вы чего? Драпанули? — нетерпеливо спросил Кольцо.
— Зачем ты так, атаман? — обиделся Бородин. — Биться начали. Те и откатились сразу же. Но, думаю, неспроста. Своих ждут. Меня и отправили вас упредить…
Ермак и Кольцо переглянулись и без слов поняли друг друга.
— Подниму своих, — проговорил Ермак, направляясь к коню, — надо отогнать их подале в степь. Вы пока погрузку без нас заканчивайте, будьте наготове. Чуть чего, так мы их к берегу выманим под ваши ружья.
— Годится, — согласился Кольцо, — с Богом, казачки…
Ермак построил своих конников в два ряда и дал знак трогаться, выехал чуть вперед, на ходу подсыпал порох на полку пищали, проверил огниво, фитиль. Заметил, что и другие казаки тоже готовят свои ружья. Не слышно было разговоров, смешков. Все подобрались, изготовились к схватке. Дружно пошли ходкой рысью, привстав на стременах, тянули шеи, всматривались вперед. Скакали недолго, увидев своих казаков, судя по выступающей на одежде крови, раненых в недавнем бою.
— Куда тебя, Клим? Шибко больно? Езжайте к нашим на струги, там перевяжут, — послышались голоса.
— Стрелой зацепило, — отвечал казак, у которого правое плечо было обмотано тряпицей, уже порыжевшей от сочившейся крови, — боя они не приняли, в степь ушли. А мы за ними погнались, а они стрелами и достали нас троих… — словно оправдывался тот. — Эка недокука — Кровь унять не могу…
Но казаки уже проехали мимо раненых и теперь шли по следам, горячили коней, желая быстрее настичь ногайцев, схватиться с ними. Наконец, увидели группу своих казаков, что неторопливо разъезжали вдоль большой балки. На другой стороне ее столпилось более сотни ногаев. Все они были одеты в одинаково стеганные халаты, на головах войлочные полукруглые шапки, перед собой держали натянутые луки.
Ермак сразу понял, что ногайцы не дают казакам перебраться через балку, осыпая их стрелами, неторопливо отстегнул от седла шлем, надел его, проверяя надежно ли сидит. К нему подъехал Дружина Васильев, посланный старшим над караульным отрядом.
— Держат нас, сволочи, на этой стороне, — закричал он еще издали, — не дают перебраться.
— Сам вижу, — остановил его Ермак, — правильно делают. А ты бы на их месте, что делал? Вот, вот то же самое бы и делал. — Васильев глянул на атамана и, ничего не сказав, повернул коня, поскакал к своим.
Ермак кликнул Михайлова, Ильина, Гришку Ясыря и, указав на небольшую ложбинку, что вела в глубь оврага, спросил:
— Можете подобрать десятка полтора добрых стрелков, чтоб перебрались пешими через эту балку и снизу ударили по ногаям?
— Отчего ж нельзя… Это можно… Только они нас того, стрелами не уложат? — высказали опасение.
— Крадитесь незаметно, а мы их тут отвлечем на себя.
— Понятно, — проговорили те и вернулись к своим, поснимали с седел пищали, начали собирать еще охотников.
За дальнейшее Ермак был спокоен. Подъехал к самому краю глубокой балки и, подняв вверх пику, громко крикнул:
— Эй! Батыры среди вас есть? Или все трусливые, как зайцы? Вызываю любого на поединок, — и снова потряс длинной пикой.
Ногаи, может, и не расслышали его слова, но по знакам поняли — вызов. Из толпы выехал громадный детина в блестящих доспехах и шлеме с орлиными перьями на шишаке. "Не иначе как юзбаша, — подумал Ермак, — тем лучше…" Ногаец несколько раз подбросил в воздух свое копье и выкрикнул что-то, но ветер тут же отнес слова в сторону. И без слов было ясно, что он решился принять вызов.
Ермак отдал Дружине Васильеву свою пищаль, чтоб оказаться на равных с ногайцем, шепнув тихо:
— Если что, командуй сотней. С тобой чего случится — пусть Яков Михайлов на себя атаманство берет. Понял? — Васильев согласно кивнул головой, хотел что-то сказать, но передумал и положил пищаль атамана поперек седла.
Ермак выбрал удобное место для спуска и направил коня туда. Ногаи с любопытством смотрели на него сверху, не стреляли. Также беспрепятственно он выбрался наверх и успел заметить, что группа казаков с пищалями в руках начала осторожно спускаться на дно балки. Ногаи же, чье внимание целиком было приковано к смельчаку, вызвавшемуся сразиться с их богатырем, не обращали на казаков никакого внимания. И Ермак подумал, что его план должен удасться, если… если он совладает с могучим ногайцем, горячившим коня, разгоняя его, подбрасывая вверх и ловко ловя свое копье, на конце которого развивался короткий пучок конских волос.
— Урус будет биться с нашим Муран-батыром, — галдели радостно ногайцы, — пусть урус молится о легкой смерти. Никто не может одолеть нашего батыра! — улюлюкали они.
Ермак находился от них на расстоянии не более десятка шагов, и дернув коня за повод, сделав большой полукруг, остановился, выбрав место так, чтоб солнце находилось у него за спиной и слепило ногайского богатыря. Тот, верно, понял хитрость, но лишь усмехнулся, сморщив широкое лицо. Правой рукой он поигрывал копьем, а в левой держал большой круглый щит. Ермак пожалел, что ему нечем будет защищаться, но, внимательно присмотревшись к противнику, решил, что, может быть, отсутствие щита только сыграет ему на руку. Муран-батыр был в полтора раза шире его, он прочно сидел на лошади, такой же крупной и тяжеловесной, под стать своему хозяину. На этом-то и решил сыграть Ермак, встав от ногайца не более чем в полусотне шагов. На таком расстоянии тому не успеть разогнать своего тяжеловеса, зато его конь, легкий и подвижный, вполне наберет нужную скорость.
Понял это и ногаец, заставив коня чуть отступить назад и, подняв щит, ударил по нему тупым концом копья, погнал на Ермака, направя копье прямо ему в грудь. И Ермак, дав коню шпоры, пригнулся низко к седлу, впившись взглядом в копье противника. Когда меж ними осталось не более пяти шагов, он резко пригнулся, нырнув под копье ногайца, а сам снизу ударил его, целя в открытое пространство под щитом. Но его прием удался лишь наполовину: копье ногайца просвистело над ним, пронзив пустоту, он же попал вниз щита и Муран-батыр легко отбил удар.
Ногайцы одобрительно загалдели, поняв, что их богатырю достался достойный противник. Казаки же, собравшиеся на противоположной стороне балки, настороженно молчали, не веря, что их атаману удастся справиться с таким детиной.
Противники вновь разъехались. Неожиданно Ермак перекинул копье в левую руку, поскакал, забирая вправо, выходя на ногайца левым боком. Тот от неожиданности растерялся и, пока менял руку, замешкался, не успел прикрыться щитом, и Ермак на полном скаку промчался мимо него, точно ударив в открытую грудь. Ногаец тяжело свалился на землю, выронив щит, сломав при падении копье. Пока Ермак разворачивал коня, он успел подняться и, прихрамывая, побежал к своим. Ермак настиг его, зажав правой рукой топор, и с маху рубанул по блестящему шлему чуть наискось. Шлем соскочил с головы, покатился по земле. Мурам-батыр упал на колени, вытянув вперед руки, словно хотел дотянуться до шлема, кровь брызнула на кольчугу. В это время ударил залп из ружей. Казаки во главе с Яковом Михайловым, дождавшись окончания боя и затаившиеся на склоне балки, смели передние ряды ногаев. Среди тех началась паника, все смешались, кинулись врассыпную, не успев даже подобрать своего юзбашу Муран-батыра.
Остальные казаки торопливо перебирались в устье балки на другую сторону и, выхватив сабли, погнали противника дальше в степь, не давая опомниться.
— Все… Больше не сунутся, — проговорил Дружина Васильев, подъезжая к Ермаку, следившему за боем, который и боем-то назвать было нельзя, а скорее поспешным бегством ногайцев.
— Да, они пятеро на одного любят, — выпячивая по привычке нижнюю губу, проворчал Богдан Брязга, подъезжая к ним с окровавленной саблей в руках, — а когда поровну, то бегут, словно угорелые.
— Давно ли сам убегал, — усмехнулся Ермак.
— Да… побежишь тут, когда их вон сколь было, а нас… — попытался оправдаться Богдан, но атаман уже не слушал его, а смотрел, нет ли убитых или раненых среди казаков. Вроде все были целы и он скомандовал возвращаться обратно к стругам.
— Силен ты, однако, на копьях биться, — уважительно проговорил Яков Михайлов, нагнавший его уже возле берега, — не хотел бы я с тобой в чистом поле встретиться.
— А кто заставляет? — засмеялся тот добродушно, потряхивая курчавой черной бородой, в которой появились первые блестки седины. — Поди из одного котла кашу хлебаем…
Иван Кольцо нетерпеливо расхаживал вдоль кромки воды, оставляя четкую цепочку следов на желтом песке. Остальные казаки сидели у бортов, выставив дула пищалей, у каждого в руке тлел фитиль, и общее напряжение висело в воздухе. Когда же возбужденные конники рассказали второпях, как они навалились на ногайцев, как те бежали, как атаман завалил здоровяка-ногайца, все заулыбались, спрыгнули на песок, обступили Ермака. Кольцо, узнав о победе, удовлетворенно хмыкнул и велел отчаливать.
— Нам еще ходу, да ходу, — ворчливо косился на шумевших казаков, — а вы тут, как вороны на дубу, разгалделись. Отправляемся!
Ермак с конной сотней поскакал дальше вдоль берега, поднимаясь по высокому косогору, откуда хорошо были видны плывущие внизу, словно большие серые рыбины, суда и взблескивали при каждом взмахе тяжелые весла, дружно поднимающиеся и спускающиеся в воду, и фигурки казаков, отклоняющихся резко назад, а затем подтягивающихся вперед, казалось, кланяющихся высокому синему небу и золотому шару солнца, застывшему над головами.
Еще день ушел у них на переправу через Волгу. Казаки пересели в струги, а лошади плыли вслед за ними, испуганно вращая глазами. Но, наконец-то, они оказались на левом берегу и выслали вновь дозор, который должен был уйти в степи на несколько дней, пока не обнаружит тот самый караван с купцами и паломниками, идущий из далекой Бухары. На сей раз Ермак пошел во главе дозорного отряда, оставив за себя есаула Якова Михайлова.
* * *
…Караван, с которым отправился Сейдяк и трое сыновей хана Амара, шел по безлюдным пескам уже более месяца. Вел его опытный караван-баша, знающий дорогу как узоры на своем халате. Ему были известны все колодцы и караван-сараи, где можно утолить жажду, наполнить бурдюки водой, остановиться на ночлег. Два раза на них нападали в песках Кара-Кума разбойничьи шайки. Но воины охраны удачно отбивались от них, гнали в пески. Купцы и паломники в это время, сбившись в кучу, с ужасом ожидали, чем закончится бой, прятали поглубже в песок драгоценности. Но когда воины возвращались и объявляли, что путь свободен, тут же драгоценности выкапывались и караван двигался дальше.
Однажды утром караван-баша, глядя на большую стаю белых птиц, объявил, что скоро они должны подъехать к реке, что зовут Волгой, а значит, вот-вот и конец пути, конец разбойным нападениям. Там они повернут вдоль побережья моря, где, как пояснил караван-баша, опасаться им нечего.
За время пути Сейдяк более всего сдружился с младшим из братьев, Сафаром, улыбчивым и приветливым юношей. Тот неплохо был образован, хорошо знал коран, и во время путешествия юноши вели долгие беседы, иногда даже спорили. Сакрай и Гумер, наблюдая за ними со стороны, подсмеивались. Сакрай считал, что мужчине совсем не нужно учиться чему бы то ни было кроме военного дела; Гумер, который во всем слушался старшего брата, соглашался с ним. Сафар, видя их кривые усмешки, горячился, доказывал, что только забитый раб не знает письменности, ведь в книгах написано очень много полезного, тем самым только еще больше дразнил старших братьев.
— Чего же ты разбойникам не разъяснил по своим книгам, как они плохо поступают? — спрашивал высокомерно Сакрай. — Они бы, глядишь, и послушались тебя.
— Я читал, что среди разбойников встречаются образованные люди, а некоторые были даже благородного происхождения, — отвечал Сафар.
— А вот я не видел среди этих оборванцев ни одной приличной рожи, — вторил старшему брату Гумер, — если бы они были образованными людьми, то пошли бы служить к нашему хану, а не рыскали по пескам.
— Что вы зря спорите? — пытался помирить их Сейдяк. — Каждый волен думать как он считает нужным.
Старшие братья побаивались Сейдяка, который был на полголовы выше их и к тому же очень силен и ловок, а потому не задирали его. Но когда оставались вдвоем, уезжая далеко вперед от каравана, то не стеснялись в выражениях, называя Сейдяка безродным подкидышем. Амар-хан не счел нужным рассказать им о происхождении сына Зайлы-Сузге, а потому Гумер и Сакрай были о нем невысокого мнения.
И сегодня они ехали, как всегда, впереди каравана, не сразу заметив, как из небольшого леска показались вооруженные всадники. Вначале они приняли их за разбойников, что охотятся за одинокими купцами, а при виде настоящего воина пускаются в бегство. Но приглядевшись, рассмотрели длинные пики с флажками на концах, шлемы на головах всадников и даже различили ружья у седел. Не раздумывая, они развернули коней. Сакрай и Гумер нахлестывали скакунов, но не могли оторваться от преследователей. Оглядываясь на скаку, они различали их лица и начали догадываться, что наскочили на один из казачьих разъездов, что, по словам опытного караван-баши, изредка появляются в этих местах.
Наконец, показался их караван. Там заметили погоню — и двадцать всадников охраны кинулись им на выручку.
Один за другим ударили несколько выстрелов. То казаки разрядили свои пищали. Захрипели смертельно раненные кони, повалились на землю воины охраны, заметались, сбившись в кучу, купцы и паломники. Сейдяк, видевший все это, кивнул другу и, вытащив из ножен саблю, кинулся на помощь остальным. Сафар скакал, чуть отстав, мигом забыв о спорах с братьями, и лишь одна мысль была сейчас у него в голове: "Только бы они остались живы…" О себе он как-то и не думал, не веря в смерть, не ожидая ее.
Казаки Ермака, неожиданно наткнувшиеся на двух воинов в цветастых бухарских халатах, не ожидали так быстро обнаружить караван, который разыскивали уже пятые сутки, разбившись на мелкие отряды. С Ермаком было два десятка человек и он прикинул, что воинов, охраняющих караван, было ровно столько же. Поэтому, не раздумывая, кинулся в атаку, не дожидаясь подхода основных сил.
Он скакал впереди своих казаков и с каждым шагом нагонял тех двоих, что бросились наутек, едва лишь увидели казаков. Но когда от каравана отделились другие воины и поскакали на них, Ермак попридержал коня, поджидая остальных.
— Готовь пищали, — крикнул им, торопливо подсыпая порох на полку и раздувая почти погасший фитиль. Тщательно прицелился в переднего бухарца, медленно подвел фитиль к затравке. Бухарец взмахнул руками, словно собирался взлететь, и выброшенный из седла упал на землю.
Раздалось еще несколько выстрелов — и трое бухарцев попадали с коней. В их рядах возникло замешательство, но тут к ним подскакал высокий худощавый юноша и что-то повелительно закричал, указывая обнаженной саблей в сторону казаков.
"Верно, догадались, что нам не успеть перезарядить свои пищали, сейчас попрут…" — подумал Ермак, кинув бесполезное ружье на землю и, полуобернувшись к своим, прокричал:
— Аида, ребята! Погуляем нынче! — и, вынув свой клинок, дал коню шпоры. По гулкому топоту слышал, что все казаки несутся следом за ним, и первым врезался в толпу бухарцев.
Среди защитников каравана почти все воины были необычайно молоды, но им нельзя было отказать в стойкости. Никто не побежал, не кинулся прочь, а, выхватив сабли, мужественно защищались. Особенно выделялся тот худощавый юноша, подскакавший последним. Он отбивался сразу от двух наседавших на него казаков, умело уворачиваясь, крутил коня на месте и уже ранил одного из нападавших. Потом, подняв коня на дыбы, рубанул второго с невероятной силой, отчего казак выронил саблю, схватился за правое плечо.
Ермак, сваливший широколицего бухарца, достал, привстав на стременах, другого, с которым никак не мог совладать Гришка Ясырь, и направил коня к худощавому юноше, что победно озирался вокруг, выбирая себе нового противника.
— Эй, — крикнул Ермак, — а со мной померяться силой не желаешь?
Юноша, сощурив глаза, поскакал навстречу, вращая саблей над головой, показывая всем своим видом, что готов биться насмерть.
"Вон ты каков, — подумал Ермак, — храбрец! Сейчас посмотрим, на что ты способен", — и он промчался рядом, так что сабля юноши не могла достать до него. Тот промахнулся и, поняв свою ошибку, тоже развернул коня, кинувшись вслед за атаманом. Но Ермак налетел на него уже с другой стороны и легким взмахом клинка перерезал уздечку у коня противника. Юноша в растерянности оглянулся, а конь, не чувствуя узды, рванул вперед, поскакал подальше от места схватки.
Ермак громко расхохотался и направил своего коня следом, разматывая на скаку аркан. Он легко нагнал юношу и, метнув волосяную петлю, сдернул его на землю, бросился сверху, подмял, заломил руки. Но тот бешено сопротивлялся и даже успел выхватить кинжал, замахнулся, норовя пырнуть Ермака в бок, и лишь получив сильнейший удар кулаком по голове, затих, потеряв сознание.
Ермак легко скрутил ему руки, перебросил через седло и направился к месту схватки.
Короткий бой уже закончился. Часть охранников была убита, а остальные сдались, побросав оружие, поняв бессмысленность сопротивления. Казаки меж тем громко переговаривались, предвкушая скорый дележ добычи из захваченного ими каравана. Но подъехавший Ермак взмахом руки прервал споры:
— Пожди грабить, пока все не соберутся, не съедутся. Кроме вас еще и другие в походе были, делить на всех станем.
— Как это на всех?! — выкрикнул, как всегда недовольный, Богдан Брязга. — Мы кровушку проливали, бились, а делить так сразу поровну. Не пойдет, ой, не пойдет, атаман!
— Чего-то крови на тебе не видать, — урезонил его Ермак, но, окинув взглядом остальных казаков, отметил, что большинство поддерживают Брязгу. — Так… — он решил, что лучшее сейчас — это выиграть время, — Гаврила Ильин, Яков Михайлов, Гришка Ясырь… Охранять караванщиков, чтоб не пограбили. А ты, Богдан, мигом на коня и до Ивана Кольцо, упредить, мол, взяли мы караван. Все понял?
— Все, — понуро ответил тот, — понял я, кто у нас атаман. Не ты, а Ванька Кольцо. Ты у него всю жизнь в подручниках ходить будешь, — забурчал Брязга, направляясь к коню.
— Но, но… — Ермак и сам не заметил, как взлетела рука с нагайкой, и он чуть было не перепоясал ворчуна поперек спины, но вовремя сдержал себя, пошел к пленным.
Те, понурив головы, стояли, сбившись в кучу, ожидая решения своей участи. Пришел в себя и плененный им юноша. Он извивался всем телом, пытаясь освободиться от пут.
— Развяжи его и отведи к остальным, — кивнул Ермак Ларьке Сысоеву.
— Когда им секир башка делать будем? — озорно блеснул казак черным глазом. — Не с собой же их тащить… Может, тут и порешим, чтоб не мучились?
— Погодь малость… и с ними разберемся. Не терпится что ли кровушку пустить? Любишь душегубствовать?
— А чего их жалеть, — беспечно отозвался Ларька, освобождая от пут пленного, — они бы нас не пожалели. Ладно, ежели бы сразу кончили, а то бы жилы подрезали, да здесь в степи без воды, без коней и бросили. Басурманы, они басурманы и есть…
— Так ты ведь христианин, поди…
Тем временем к Ермаку направился караван-баша, степенно оглаживая небольшую бородку. Один из казаков попытался было заградить ему дорогу, но тот так глянул на него, что казак невольно отступил, пропуская караванщика вперед.
— Ты атаман у них? — спросил караван-баша, подойдя к Ермаку.
— Ну, я… Чего хочешь? Говори…
— Отойдем в сторону.
— Говори при всех. Я от своих не таюсь. Пускай все и слышат.
— Ну, смотри, — караванщик обвел казаков, подошедших к ним поближе, спокойным и уверенным взглядом, продолжил. — Долог наш путь. Многие хотели отобрать наши товары, убить нас. Отбились мы от тех разбойников, хвала Аллаху. От вас отбиться не смогли. Одолели. Но мы не враги вам. Зачем нас задерживать? Так добрые люди не поступают. Мы готовы заплатить вам, но просим отпустить и людей, и товары не трогать.
— Ишь, чего захотел, — загудели казаки, — хитер бобер… Товары ему обратно отдай, чего удумал!
— Тихо! — оборвал крикунов Ермак. — Пусть говорит. Решать-то мы будем.
— Обещаю, что каждый будет доволен, — продолжал караван-баша, — каждый получит столько, что ему хватит надолго.
— А если не хватит, то опять тебя искать? Еще добавишь? — выкрикнул кто-то сзади. Опять поднялся шум и снова Ермак унял расшумевшихся казаков, давая договорить караван-баше.
— Если вы нас убьете, то что получите взамен? Товары? Но их надо еще с выгодой продать. А деньги, что мы вам предлагаем, сможете поменять на любой товар: хоть на коня, хоть оружие купи. К тому же, если вы поубиваете всех купцов, то никто в другой раз не отправится этой дорогой. Скажу больше, я готов платить каждый раз, когда мой караван будет проходить по этому месту…
— А ведь дело говорит, — задумчиво произнес кто-то, — провалиться мне на этом месте, но верно старик гуторит.
— Я даже готов нанять вас в свою охрану, — караван-баша говорил пылко, уверенно и его глаза останавливались то на одном, то на другом из казаков, и те смущенно опускали глаза. И Ермак понял, что караванщик добился главного — пленных оставят в живых. Неловко убивать человека, когда он безоружен, а втройне, когда говорил с ним, слушал его.
— Где нанимали охрану? — спросил он караванщика.
— В Бухаре, уважаемый, — с готовностью отозвался тот.
— Чего ж они сражаться совсем не умеют?
— То не они плохо сражались, а вы хорошо дрались. Воины у нас храбрые, как барсы, но молоды еще.
— А кто тот молодец? — Ермак кивнул на освобожденного от пут юношу, что встал в ряд с остальными пленными.
— Которого ты, атаман, захватил? Я его плохо знаю… Он первый раз с нами пошел. Знаю, что Сейдяк зовут…
— Как?! — изумленно переспросил Ермак и уставился на юношу.
Тот стоял далеко от него и не расслышал слов караван-баши, но догадался, что речь идет о нем, и гордо откинул назад голову, расправил плечи и с вызовом глянул на атамана.
— Кто его родители? Откуда он?
Караван-баша, удивленный, что атамана заинтересовал неожиданно один из его охранников, отвечал путано.
А Ермак чем больше вглядывался в юношу, тем больше знакомых черт находил в нем. Гулко застучало сердце в груди, увлажнились ладони, осекся голос и все вокруг стало безразлично: и караван, и воины его, и дележ добычи…
— Я согласен с твоими условиями, — обретя прежнее спокойствие и уверенность, обратился он к караван-баше, — только и у меня будет свое условие.
— Какое? Говори, атаман. Я заранее согласен.
— Не спеши отвечать, когда не знаешь, о чем пойдет речь. Поговорим позже. А пока, вели своим людям следовать за нами на встречу с остальным отрядом.
Ермак подошел к юноше и протянул его саблю, спросил:
— Я могу вернуть твое оружие, если дашь слово не употреблять его против нас? Согласен?
— За что такая честь? — вздернул тот правую бровь, чем окончательно стал похож на покойного Бек-Булата.
— Ответь мне: твою мать зовут Зайла-Сузге?
— Да… — растерянно отвечал юноша.
— А ты, Сейдяк, сын Бек-Булата, наследник Сибирского ханства?
— Да… Но откуда ты знаешь обо мне? — легкий румянец залил щеки юноши. Остальные воины, что стояли рядом и внимательно прислушивались к разговору, придвинулись еще ближе, стараясь не пропустить ни слова.
— Я хорошо знал твою мать, — Ермак чувствовал, как трудно даются ему слова, и поэтому говорил с большими паузами, медленно, почти по слогам проговаривая каждое слово, — хорошо знал твоего отца, да и тебя… знаю, — закончил он, понимая, что ему предстоит сказать еще самое главное. Но не было сил. Он и так сказал много и пошел прочь.
— А мы и не знали, что ты сын знатных родителей, — с невольным уважением проговорил Сакрай, поглядывая на Сейдяка, — только откуда этот казак узнал про тебя, если даже мы не знали этого?
— Сам удивляюсь, — ответил вконец растерявшийся Сейдяк, провожая долгим взглядом Ермака, отошедшего к своему отряду и коротко отдававшего распоряжения. И Сейдяку показалось, что он когда-то видел этого властного, с мягкой, крадущейся походкой воина. Кого-то напоминал он ему, но вот только кого…
"И откуда он так хорошо знает наш язык? Словно всю жизнь говорил на нем. Даже держит себя не так как остальные казаки. Может, он бывал в Бухаре? Как он может знать мою мать? И почему она никогда не рассказывала об этом казаке?" Множество вопросов теснилось в голове Сейдяка, и он даже на время забыл, что находится в плену и ему вернули саблю под честное слово.
— Как зовут вашего атамана? — обратился он к казаку, проходившему мимо.
— Атамана? А тебе зачем? Али родню признал? — засмеялся тот, но все же ответил, — Ермак Тимофеевич его зовут. Чего, не слыхивал ранее? Еще услышишь! Это я тебе говорю, Гришка Ясырь.
Тем временем караван, сопровождаемый казаками, едущими с обеих сторон вдоль вереницы пленников, медленно тронулся, направляясь туда, где стоял на берегу Волги казачий лагерь. Шли долго, лишь иногда останавливались для короткого отдыха. Уже поздней ночью увидели отблески костров и навстречу им кинулись казаки с ружьями наперевес.
— Стой, кто идет?
— Да свои, протри глаза! Али заспал нас ожидаючи? Мы им такой дуван доставили, а они, сучьи дети, дрыхнут, все бока пролежали.
— Мы уж думали поутру искать вас ехать. Решили, может, сбежали с добром вместе…
— Ага, ты бы точно сбежал и с нами бы не поделился, — беззлобно переругивались станичники, довольные тем, что поход закончился удачно, весь караван в их руках и завтра предстоит дележ добычи. Самый радостный момент для казака. Момент, ради которого он рискует жизнью, живет порой впроголодь, ходит в рваном зипуне, но уж зато когда-нибудь да отхватит жирный куш, отдаст долги, заведет новую одежку, погуляет вволю.
Иван Кольцо в темноте разыскал Ермака, который расставлял сторожевых возле тюков с товарами, чтоб какой-нибудь удалец, не дождавшись утра, не вспорол тюк, не сбежал с добром, обесчестив себя навек.
— Правильно мыслишь, — одобрил Кольцо, — а то потом греха не оберемся.
— Предлагали еще там добычу поделить, — усмехнулся Ермак, — мол, кровь проливали, с охраной дрались… Едва отстоял купцов. Хотели и их порешить, чтоб не возиться.
— Это они могут, — согласился Кольцо, — завтра я с ними поговорю.
— Отпустить купцов надо. Нам они ничего плохого не сделали.
— Само-собой, — согласился Кольцо, — их дело торговать, а наше — с них выкуп брать.
— Обещали деньгами откупиться… — чуть помолчав, добавил Ермак. — И я им обещал, что оставим им товары, коль деньгами выкуп хороший дадут. Как ты?
— Подумать надо. Завтра с утра круг соберем и решим всем миром. — Завтра они сговорчивее будут, — кивнул Кольцо в сторону лагеря.
Как он говорил, так и вышло. Когда казакам объявили об общей сумме выкупа, которую купцы дали за то, чтоб им оставили их товары, казаки одобрительно зашумели.
— А чего ж… Годится…
— Мы тожесь люди, а не аспиды какие…
— Пущай торгуют… Вон сколь везли, тащились через пески, через пустыни, а мы не тати какие, не воры, чтоб обирать их до нитки. Скажите им, чтоб и у себя в Бухаре рассказали о казаках донских, что воюют они по-справедливости, а кто к ним с душой, то и они по чести.
Купцы и паломники довольные кланялись направо и налево, беспрестанно повторяя: "Яхши! Яхши казак! Бик яхши!" Только охранники во главе с Сакраем и Гумером настороженно молчали. Они кидали злобные взгляды на казаков, неодобрительно поглядывали на купцов и паломников, что радовались возможности откупиться. Нет, их бы воля, то они дрались бы до последнего.
Сейдяк стоял рядом с улыбающимся доверчиво Сафаром и не спускал глаз с Ермака, только выбирая момент, чтоб поговорить с ним. Сафар же был доволен бескровным завершением встречи с казачьим отрядом. Это лишний раз подтверждало его мысли, что все люди на земле могут жить дружно и не лишать жизни один другого.
Наконец, караван-баша положил перед Иваном Кольцо кожаный мешочек с выкупом и, приложив руки к груди, низко поклонился.
— Прощай, атаман!
— Бог даст, еще свидимся, — сдержанно, с затаенной улыбкой в синеве глаз ответил тот, — гора с горой не сходятся, а человек с человеком завсегда встретиться могут.
— Может и так, — хитро сощурился караванщик, — но пусть в другой раз наша встреча не будет такой, как эта.
Когда караван уже готов был тронуться в путь, к караван-баше подошел Ермак и спросил:
— А помнишь, я вчера сказал, что есть у меня одно условие? Так вот, я хочу, чтоб тот юноша, — он указал на Сейдяка, который уже сел на коня, — остался с нами.
— Я не волен приказать ему. Если он захочет… Спроси сам. Я не буду возражать…
— И правильно сделаешь, — Ермак хлопнул караван-башу по плечу и направился к Сейдяку.
— Чего он хочет от тебя? — обеспокоенно спросил Сафар, который тоже озабоченно наблюдал за приближающимся к ним, широко ступая, атаманом.
— Сейчас узнаем, — пожал плечами Сейдяк. Ермак же взял его коня за повод и повел дальше от каравана. Отойдя в сторону шагов на двадцать, Ермак повернулся лицом и спросил Сейдяка:
— Скажи, ты хотел бы остаться со мной?
— Не знаю, — чуть подумав, ответил тот, — не уверен, что это нужно мне.
— И я тоже не знаю, но мне не хочется отпускать тебя. Ты мог бы находиться подле меня и… и я бы многому тебя научил, — заметно волнуясь, закончил он.
— Вряд ли это моя дорога. Хотя, я верю тебе.
— Ну, как знаешь. Прощай тогда и возвращайся в Сибирь как только сможешь, найдешь в себе силы и услышишь, что она зовет тебя. И поклонись своей матери, — он с силой хлестнул коня плеткой и тот с ходу перешел на галоп, поскакал вслед за уходящим караваном.
— От кого передать поклон? — крикнул Сейдяк, обернувшись, но ответ не долетел до него.
БЛАЖЕНСТВО ОБРЕЧЕННЫХ
Суматошная московская жизнь не прекращалась ни на один день. Ни каждодневные казни, ни набеги крымского хана, ни ссылка бояр, казалось, не могли смирить, заставить жить иначе, запереться в домах или совсем покинуть город его многочисленных обитателей. Мало того, ежедневно в Москву прибывали десятки, если не сотни, дворян, стрельцов, ремесленных умельцев, крестьян и просто оборванцев, которых влекло сюда что-то притягательное, сладостное, желание быть приобщенным к делам, здесь творящимся. И все они исчезали, растворялись меж слобод, усадеб, княжеских дворцов, а назавтра выходили на кривые, мощенные плахами улицы, уже ощущая себя едва ли не старожилами: так же бойко толкались, дрались, спешили по своим, лишь им известным и понятным, делам, полупрезрительно поглядывая на сидевшего на возу мужика, только что въехавшего через городскую заставу, и от удивления и необычности всего увиденного широко раскрывшего рот.
— Эй, дядя, ворона влетит, — орали ему на ходу шустрые мальчуганы.
— Гляди, шею сломаешь, — вторили сомлевшие от тяжкой ноши на плечах мужики.
— И откудова они только прутся… — брезгливо поджимала губки выглядывающая из-за занавеси возка чванливая боярыня.
А мужик, плохо соображая, куда он попал, забывши, зачем ехал, глазел, не пытаясь скрыть изумления, по сторонам, слышал и не слышал колкие выкрики и почти не правил захудалой лошаденкой, которая сама по себе включалась в уличное движение, влекомая им, как речной водоворот втягивает сухие ветви, несет древесную кору, сухие листья, направляя их все дальше и дальше от берега в огромное, бескрайнее море, где тем и суждено будет утонуть, затеряться навеки.
Так и московские улочки, покрутив, повертев приезжих и коренных жителей, возы, повозки, кареты, пеших и конных, сталкивая и соударяя их друг с дружкой лбами, боками, цепляя за одежду, оглобли, тюки с поклажей, заставляя браниться и ссориться, в конце концов выносили к стенам Кремля, а оттуда — на главную московскую площадь.
И тут… и тут мигом смолкали гомон, ругань, крики, смех и бабий визг. Руки сами тянулись к шапкам, поднимались ко лбу, и осеняли себя москвичи и прочий люд широким крестом, широко распахивались, тая ужас, глаза, застывали дыхание и кровь, горячая московская кровь стыла в распаренном от людской давки теле, и вся толпа, прекратив малейшее движение, цепенела, уставившись на широкий помост в центре площади.
А там, на помосте в чурбак дубовый воткнут огромный топор и рядом стоит в красной рубахе, чешет волосатую грудь детинушка роста саженного, зубы скалит, ждет, когда приведут к нему мученика из подвала темного, по рукам, по ногам железом скованного, железом каленым пытанного, все как есть на духу рассказавшего, друзей-товарищей, мать-отца оговорившего.
Рядом с помостом сидят на креслах узорчатых, бархатом красным обитых, сам царь Иван Васильевич с сыновьями, с любимыми боярами. Бояре те, как лист осиновый, дрожмя дрожат, молитву шепчут. А ну, как на них царь глянет, взгляд на ком остановит, да спросит тихонечко, шепотком сумрачным: "А мне про тебя, такой-сякой, говорили-сказывали в застенке пыточном злодеи, к смертушке приговоренные, будто бы ты с ними в сговоре был, мед-пиво из одного ковша пил, речи дерзкие против меня держал. А пойди-ка, мил дружок, на место лобное, попрощайся с народом московским, поклонись на все четыре стороны, да положи головушку свою на чурбак-плаху палачу под топор".
Есть ли, нет ли вины за боярином, а не смеет на царя Ивана Васильевича глаз поднять, сидит, как курица мокрая на насесте, об одном мечтает-думает, как бы скорее домой заявиться, двери, ворота на засов крепкий запереть, жену, детишек к груди прижать, еще одну ночь в мягкой постели поспать.
Вот ведут по ступеням наверх боярина, на казнь привезенного. Ноги по ступеням тащатся, два дюжих мужика волокут его, торопятся, дышат тяжело. Подтащили к батюшке, тот несчастному крест к губам приложил, грехи отпустил, молитву шепчет. Потащили любезного дальше, к чурбаку дубовому, вниз кинули, голову пригнули, а он вырывается, на народ московский в последний раз глянуть желает, с семьей попрощаться, на храмы перекреститься. Да не дают ему встать-подняться, крепко молодцы держат. Палач сбоку подошел, приладился, поднял топор, блеснул лезвием, глаз на царя скосил — приказания ждет. А царь отвернулся, в боярские лица криво глядит, выискивает, выбирает, кто из всех белей лицом сделался. Вон и оба англичанина стоят, не шелохнутся. И вся площадь, людьми полная, замерла, смолкла. Старший сын Иван тоже окрест озирается, а младший Федор голову вниз опустил и глаза для верности смежил, уши ладошками прикрыл. Еще раз Иван Васильевич оглядел бояр, каждого озрил, оглядел, словно крапивой ожег. Крепятся бояре из последних сил, боятся страх выказывать, а по лбам, по щекам пот бежит-струится, в густых бородах теряется. Усмехнулся царь, на палача взгляд перевел, дернул правой щекой, глазом моргнул.
Просвистел топор, упал на чурбак точнехонько чуть повыше плеч, пониже головы. Свистнул топор, хрустнули тонкие косточки, вскрикнул боярин казненный, последнее в своей жизни слово выкрикнул. А что крикнул? Бога ли просил душу принять раскаявшуюся или царя хулил, или с молодой женой прощался, завещал сына беречь, за смерть его отомстить. Кто знает… Кто то слово слыхал… Весь народ, на площади собравшийся, как один человек выдохнул, вздох могучий над головами пронесся, галки-воронье с колоколен, с домов поднялись, крик подняли. Воронье, оно не хуже человека смерть чует, завсегда к дому казненного летит, черным кружевом забор облепляет, утыкивает. Птица ворон зря не каркнет, прежде подумает, непременно на изменника государева укажет, криком своим к обнаружению его поспособствует.
Сказывали государю, будто бы бояре многие, как воронье к ним слетится, на заборе усядется, обоснуется, так они с пищалей по ним из оконцев палят, распугивают — боятся как бы смертушку не навели. Едет, бывалочи, государь по городу и как увидит, на чьем заборе воронья более всего сидит, велит прямиком туда и править, поворачивать. Взойдет в дом и прямо в горницу, а навстречу хозяин выбегает белехонек, как первый снег на землю павший.
"Чего-то воронье до тебя тянется… Видать, чует чего…" — вымолвит государь и воздух ноздрями широкими в себя вберет. Постоит, поглядит, скривится и обратно на двор, в санки, да и погнал далее. А боярин после слов царевых и себя не помнит, ноги не держат, шея горит, чешется, словно блохами накусанная. Едва до кровати дойдет, упадет, и бывали случаи, не встанет более, так и причастят, соборуют болезного, на погост свезут. А царю после донесут, мол скончался раб божий после того, как ты в доме его измену учуял.
С детства Иван Васильевич не любил племя блудливое боярское, что мнили себя ему равными. Рубил головы, в реке топил, вешал дюжинами, железом каленым жег, да сил на всех не хватало, не вывел до конца племя иродово, сыновьям оставил.
Особенно любил гостей иноземных на казни водить. Даже ждал специально кто прибудет, приговоренных велел кормить, холить до особого случая, когда иноземные послы в Москву пожалуют. Знал, разнесут, раструбят окрест всей Руси про казни те во устрашение государям иноземным, чтоб они помнили, как царь русский измену выводит.
Вот и сегодня, возвернувшись во дворец, велел Даниила Сильверста с лекарем Елисеем Бомелиусом к себе кликнуть.
— Часто ли сестра моя, королева английская, изменников казнит? — спросил, едва вошли.
Сильверст помялся и хоть заранее знал, что царь поведет речь о казни, не зря велел быть им на площади, но не сразу нашел нужные слова:
— В моей стране нет изменников, — глядя прямо в серые царские глаза, ответил спокойно и с достоинством.
— Совсем нет или найти не могут? — царь, казалось, насмехался над англичанином.
— Если королева лишает кого своей милости бывать при дворе, то они уезжают в свои имения и пребывают там до ее особого указа.
— Слышали мы, — Иван Васильевич хитро сощурился, покусывая ноготь на правой руке, на которой сверкал огромный красный рубин, — будто бы сестру Елизаветину, королеву шотландскую Марию, в темницу запрятали по приказу королевы. — Царь, довольный вопросом, который должен был поставить англичанина в затруднительное положение, терпеливо ждал, пока дьяк перевел, а англичанин несколько раз переспросил его о чем-то, верно, усомнившись, правильно ли он понял смысл сказанного.
— То очень сложный вопрос, — наконец заговорил Сильверст, — надо знать особенности нашей страны. Королева не одна решала судьбу несчастной Марии, королевы шотландской. Был суд, ее обвинили в заговоре… — Посол с трудом подбирал слова, часто останавливался, дожидаясь, пока дьяк закончит перевод. — Мне не дано полномочий обсуждать этот вопрос, — наконец закончил он.
— Это значит, королева сама не может решить, кого казнить, а кого миловать? Да она вроде уже баба в возрасте, могла бы и одна, без советчиков, дела свои делать… — Иван Васильевич сверлил посла глазами и сделал дьяку знак, чтоб не переводил последнюю фразу, а потом добавил, — а вот это переведи точно. Скажи, что царь московский тоже когда-то слушал советчиков… Перевел? — и видя, что посол согласно кивнул головой, продолжал, — только худом это все обернулось. Посчитали бояре, будто и без меня править могут. Перевел? Без их согласия не мог и казнить людишек своих, заступников множество было… Отделил я тогда боярские земли от своих, а себе особое войско завел. Одумались. Покаялись. Теперь я ихнего совета не спрашиваю — войну ли начинать, мир ли заключать. Сам себе господин!
Посол внимательно выслушал все сказанное, опять кивнул головой, подтверждая тем самым, что понял смысл царских слов, и начал говорить, помогая себе жестами, поводя в воздухе руками.
— Мы знаем много стран, где цари решают все сами. Это так. Но человек может ошибаться. Он человек. Ему нужны советники, умные советники. Они тоже хотят, чтоб в государстве было хорошо, торжествовала справедливость. Наша королева слушает их, верит им…
Иван Васильевич, не дослушав перевода, оборвал дьяка:
— Хватит! И без того понял, что без них, без бояр английских или как их там называют, королева Елизавета и шагу не ступит. Вот пусть и слушает их, с них и спрашивает, с ними и ошибки напополам делит. А мне ошибаться нельзя. Не пристало помазаннику Божьему совет держать с разными там… Могу королеве хоть всех своих бояр спровадить. Они ей там насоветуют, — и, злобно сверкнув глазами, тяжело ступая, Иван Васильевич вышел из залы, оставив Сильверста в полной растерянности и недоумении.
Когда посол с лекарем Елисеем направились в свои покои, навстречу им попался Борис Федорович Годунов, который, казалось, специально поджидал англичан.
— Мистер Сильверст, мистер Бомель, — обратился он к ним, продолжив затем речь на неплохом английском, — мне необходимо поговорить с вами с глазу на глаз.
Англичане переглянулись и пошли за Годуновым по темным переходам дворцовых палат, пока не добрались до небольшой двери, обитой железными полосами, перед которой стоял юноша в темно-вишневом кафтане с топориком на плече. Пропустив гостей вперед, Борис Федорович что-то шепнул юноше на ухо и плотно закрыл за собой дверь.
Комната, в которой они очутились, была завалена свитками древних рукописей, а также толстенными книгами в переплетах из свиной кожи, на большом столе лежали чистые пергаментные листы с нанесенными разноцветными значками. Сильверст, глянув на листы, понял, что это карта с обозначением русских крепостей, реками и морями. Но хозяин, заметив его взгляд, быстро убрал ее со стола и широким жестом, сопровождаемым гостеприимной улыбкой, предложил сесть на лавку, а сам устроился в небольшом кресле напротив них.
— Я пригласил вас к себе, чтоб сделать некоторые предложения, исполнение которых, вероятно, будет полезно для нас всех…
— Что вы имеете в виду? — осторожно уточнил Сильверст, — нас с вами, как лиц частных, или же наши государства?
— Вы правильно меня поняли, — мягко ответил Годунов, — именно государственные интересы я и имел в виду.
— Боярина уполномочил на этот разговор государь? — Даниил Сильверст заранее знал ответ, но хотел не только убедиться в этом, но и заполучить некоторое преимущество в разговоре с боярином, столь смело за спиной царя затеявшим разговор с послами. Впрочем, послом был лишь он, Даниил Сильверст, а Елисей Бомель попросил его об услуге быть представленным царю московскому и его ближайшему окружению. Конечно, услуга не была бесплатной. Но сейчас Сильверста начало беспокоить присутствие лекаря при тайной беседе, и он подыскивал предлог, под которым того можно было бы выпроводить вон, и остаться один на один с боярином, ведущим, верно, свою игру.
Годунов также заметил смущение английского посла и легко догадался, в чем причина, но у него были свои планы на сей счет, и он продолжал разговор как ни в чем не бывало, не обращая ни малейшего внимания на беспокойно ерзавшего на лавке англичанина.
— Государь не мог уполномочить меня на разговор с вами, потому что я не просил его об этом. Вы довольны?
— Да, — кивнул Сильверст, а в глазах лекаря зажглись огоньки живого интереса к происходящему, и он тут же начал прикидывать, какую выгоду сможет извлечь из этой встречи.
— Тогда продолжим, — Годунов выбил дробь пальцами по столешнице, — вы посланы английской королевой, чтоб упрочить положение своих купцов и вашей компании у нас в стране. И нашим купцам выгоден союз именно с Англией. Не надо объяснять, что шведы, немцы, ганзейцы и многие другие не желают выпускать русских купцов торговать в соседние страны. Вы единственная страна, которая протянула нам руку помощи. Не безвозмездно, конечно, — добавил он все с той же мягкой улыбкой, — но не о том речь. Торговля — вещь переменчивая. Сегодня она выгодна и вам, и нам, а завтра… кто знает, что случится завтра. Сэр Сильверст, согласен со мной?
— Истинно так, — поклонился англичанин, с большим интересом слушающий боярина и терпеливо дожидаясь, куда же тот повернет.
— Поскольку торговля переменчива, словно юная леди, то государства, которым желателен союз меж ними, прибегают к другим, более прочным гарантиям… — Годунов осторожно встал со своего места и, тихо ступая, подошел к двери, прислушался, затем возвратился обратно и как ни в чем не бывало продолжал, — а самый устойчивый союз между государствами — это брачный союз. Вы согласны?
— Конечно, но именно это ожидал услышать от меня государь ваш и мы…
— Можете не продолжать, — остановил его Борис Федорович, — я заранее знал, что королева не захочет оставить свое государство для того, чтоб… — тут он чуть замялся, подбирая нужные слова, — стать женой нашего государя, а тем самым утерять собственную власть в родной стране. Я прав?
— Может быть…
— Я думаю, что бесполезно терять время, обмениваясь грамотами, где, с одной стороны, будут требования, а с другой — ссылки на плохое здоровье, отдаленность, боязнь переезда и прочие уловки. — Годунов замолчал, о чем-то задумавшись, потом резко поднял голову и спросил:
— В Англии есть женщина, достойная стать женой московского царя.
— Исключая королеву Елизавету? — с улыбкой переспросил посол.
— Именно так. Исключая королеву.
— В нашей стране множество достойных женщин…
— Не надо уверток, сэр Сильверст. Вы знаете, о чем я говорю. Она должна быть королевских кровей и незамужняя. Это главное.
— Разрешите вашему достойному слуге сказать слово, — вкрадчиво начал Елисей Бомель, — мне хорошо известен двор королевы и мне кажется…
— Вы не имеете права… — вспыхнул Сильверст.
— Пусть говорит, — остановил его Годунов, — чего иногда не могут произнести сильные мира сего, то могут свободно сказать их слуги. — При слове "слуги" Бомель сверкнул глазами, но не показал и вида, что это обидело его, а чуть отодвинувшись от сэра Сильверста, закончил:
— И мне кажется, что лучшей девушки нежели Мария Гастингс нам не найти. Она юна, красива собой и незамужняя.
— В каком родстве она находится с королевой Елизаветой, — Годунов внимательно глядел на Сильверста и тот неохотно ответил.
— Она дочь лорда Гонтингдона, ее бабка приходится двоюродной сестрой королеве.
— Она не замешана ни в каких политических интригах, заговорах? — тон Годунова становился все жестче, движения более властными и непонятно, куда исчез тот мягкий и предупредительный человек, столь недавно остановивший англичан в темном переходе.
— Насколько мне известно — нет. Но что скажет на это королева…
— Королева, чтоб упрочить наши отношения, даст согласие, я бы поставил вопрос иначе: как известить об этой особе нашего государя. Это совсем непросто, как может показаться.
— Кажется, я знаю, как это можно сделать, — Елисей Бомель, перегнувшись через стол, заглядывал в глаза Борису Федоровичу. Тот поглядел на него, затем на насупленного Сильверста и попросил:
— Вы, верно, устали от долгой беседы. Вам лучше пойти отдохнуть.
Англичанин резко поднялся, кипя от гнева, и недобро посмотрел на лекаря, направился к двери, решив, что еще сумеет отплатить ему той же монетой.
Через четверть часа выйдя из комнатки, где он вел беседу с Годуновым, Елисей Бомель торопливо спрятал за пазуху увесистый кошель, приятно звякнувший, и глянул через плечо на продолжавшего стоять с топориком на плече юношу, бесстрастно смотревшего перед собой.
— Неплохое начало, — прошептал аптекарь и двинулся по темным переходам, припоминая на ходу, где же искать выход из царского дворца. Ему несколько раз попадались крутые деревянные лестницы, длинные коридоры, каморки, заставленные какими-то сундуками, груды ковров и меховых покрывал, сваленных где попало. Но выход из дворца найти он не смог. Решив было вернуться, чтоб попросить кого-нибудь проводить его, Бомель неожиданно увидел идущего навстречу старшего царского сына Ивана. Тот тоже узнал лекаря и насмешливо поклонился ему.
— Мое почтение, — сказал царевич на хорошем латинском языке.
— Рад встрече, — Бомель низко поклонился, как и положено кланяться перед членами королевской фамилии.
— Вы кого-то ищите, — поинтересовался царевич.
— Да, я ищу выход из вашего дворца… Увы, но вынужден признать, что заблудился.
— Вон в чем дело. Хорошо, я провожу сэра Бомелиуса, — царевич назвал его на русский манер, добавив "иус", как называли в Москве почти всех иностранцев. — Но по дороге зайдем ко мне. Вы не возражаете?
— Как я могу возразить такому человеку, — лекарь вновь низко поклонился так, что его широкополая шляпа едва не коснулась половиц.
Царевич уверенно повел англичанина по темным переходам, они несколько раз повернули, поднялись по узкой лесенке и оказались на верхнем этаже, вошли в просторную светлую комнату, застеленную мягкими коврами и шкурами различных зверей. Как и в светелке Годунова, здесь у стены стоял большой стол со старинными книгами и свитками. Зато на стенах висели охотничьи рогатины, копья, секиры и два фитильных ружья с ложами, отделанными рыбьим зубом и серебряными накладками. Царевич указал англичанину на лавку и сел напротив. Из-за занавески, отгораживающей светелку от другой комнаты, возможно спальни, выглянул чернобородый слуга. Иван Иванович сделал неуловимое движение, указав на стол.
— Подай нам доброго меду, — приказал, не поворачивая головы.
Вскоре на столе оказались большой серебряный ковш и две чарки, а на деревянном подносе — моченые ягоды.
Елисей Бомель с интересом разглядывал комнату и настороженно посматривал на царевича, пытаясь угадать, с какою целью тот пригласил его к себе. Царевичу было около тридцати, но выглядел он гораздо старше своих лет из-за припухлости под глазами, отечности всего лица, ранних морщинок в уголках глаз и нездорового, землистого цвета кожи. Движения его были порывисты, быстры, но иногда он вдруг неожиданно замирал, вздрагивал и правый глаз его начинал сильно косить, как у человека, подверженного приступам тяжелой внутренней болезни. В то же время во всей его осанке ощущалась гордость, скорее высокомерие и снисходительность в обращении с окружающими. Он никогда не повторял вопрос дважды, а если собеседник переспрашивал, то раздражался, будто ему нанесли кровную обиду.
Слуга меж тем налил пенистый напиток в чарки и удалился в соседнюю комнату. Иван Иванович поднял свой кубок и в несколько глотков осушил его, захватил горсть ягод, отправил их в широко открытий рот, обнажив желтые нездоровые зубы.
— О чем с Годуновым говорил? — без всякого вступления спросил англичанина.
— Простите… — промямлил тот растерянно, не найдясь с ответом. Он поднес ко рту свою чарку и сделал поспешно несколько глотков, но поперхнулся и громко закашлял.
— Бог простит, — захохотал Иван Иванович, видя растерянность Бомеля, — а ты отвечай, о чем разговор с Бориской вел. Поди, опять замыслил хитрец наш чего-то? А?
— Разговор был вполне… э-э-э пристойный. Боярин интересовался здоровьем царя. — Чего тебе известно о здоровье батюшкином, когда ты его даже не осматривал. Хитришь, мерзавец! — вспыхнул царевич и изо всей силы стукнул кулаком по столу, от чего зазвенела посуда.
— Совсем нет нужды осматривать человека, чтоб говорить о его здоровье. Я могу сказать и о том, что вас беспокоит…
— Обо мне позже поговорим. А сейчас про батюшку говори, — царевич справился со своей вспышкой и говорил вполне сдержанно. Только желваки на скулах выдавали напряжение.
— Каждый, кто мало-мальски понимает в медицине, скажет, что государь не совсем здоров… Э-э-э… — Бомель поспешно подбирал слова, стараясь не обидеть царского сына и оправдаться в его глазах, свести разговор с Годуновым к заботе о здоровье царя, — он слишком много занимается государственными делами…
— Дальше что? На то он и царь, чтоб делами государственными заниматься. Говори!
— Он все близко принимает к сердцу, мало отдыхает. И еще…
— Что еще?
— Женщины…
— Что женщины?
— Они отнимают у него много Сил. В его возрасте нужно быть более воздержанным.
— Ха-ха-ха, — смех царевича был визглив и резал уши собеседнику. Слюни, летевшие изо рта, попали и на Бомеля, но тот даже не решился утереть лицо, а как завороженный глядел на смеющегося собеседника, ожидая униженно, когда тот закончит смеяться и объяснит причину смеха, — это батюшке-то быть воздержанным? Ха-ха-ха… Ты еще ему об этом не вздумай сказать, а то он и тебя… Ха-ха-ха… того, сам понимаешь. Он уже пятерых жен поменял, не считая других баб, а ему все мало.
— Это хороший признак, — скривился в улыбке лекарь, — но вечно продолжаться не может, сила мужчины…
— Вечного ничего нет. Ладно. В общем, Бориска о здоровье царевом печется. Молодец. И что же он тебя просил? Полечить царя? Дать ему зелья какого, а в то зелье… яду подсыпать, — царевич выбросил вперед руку и схватил лекаря за широкий ворот, потянул на себя, затрещала материя, у лекаря перехватило дыхание, — ну, говори!
— Нет, нет, — прохрипел он, — о ядах и речи не было…
— А если я тебя попрошу, тогда как? — Иван Иванович, перегнувшись через стол, дышал прямо в лицо англичанину, и тот почувствовал не только винный запах, но и какое-то зловоние, шедшее от него.
— Я могу, могу, но зачем?
— Не твоего ума дело, — царевич, наконец, выпустил ворот англичанина из цепких рук и, тяжело дыша, сел на место, — когда потребуется, скажу. Что еще умеешь?
— Могу судьбу человека прочесть по руке, предсказать, по звездам…
— На, читай, — Иван Иванович протянул узкую ладонь левой руки и впился взглядом в англичанина.
Тот с готовностью принял ее, провел сверху своей, словно счищал невидимую пленку, а потом, взяв лежавшее на столе гусиное перо, начал водить им по линиям руки, что-то монотонно бубня себе под нос.
Ладонь царевича была испещрена многочисленными невыразительными черточками, которые вдоль и поперек пересекали главную линию судьбы. Елисей Бомель, побывавший при многих дворах европейских монархов, видел всяческие ладони царственных особ, но эта, что он держал сейчас, была неповторима. Тут пересекались добро и зло в равных долях, бугры Юпитера, Сатурна и Венеры говорили о необычных способностях их обладателя, но все они были лишь обозначены и не находили продолжения. Зато линия судьбы была ровной, как стрела, и не имела ни малейшего изгиба, прерывалась почти на середине ладони. Линия любви, наоборот, петляла, как заячий след, то забираясь вверх, то спускаясь вниз. Но более всего поразила англичанина линия жизни, что обрывалась едва не в самом начале.
— Я жду, — нетерпеливо подал голос Иван Иванович, — хватит щекотать перышком-то, говори как есть… — По тому как дрожал его голос лекарь понял, что царевич беспрекословно верит в силу предсказаний, возможно, ему уже не раз гадали, и он просто желал проверить умение нового, недавно появившегося при дворе предсказателя.
— У вас необыкновенная судьба, — начал робко Бомель, — вам предначертано замечательное будущее. Бог наделил вас умом и талантами, — продолжал осторожно, поминутно взглядывая на лицо Ивана Ивановича, терпеливо и внимательно вслушивающегося в его слова, — вы преуспеете во многих науках, и будь вы простой смертный, а не царский сын, и тогда бы имя вашего величества было известно многим…
— Ты не темни, а скажи-ка лучше, сколь жить мне осталось, — по напряжению в голосе царевича лекарь понял, что кто-то до него уже пытался предсказать ему недолгий век, обозначенный судьбой. Но мог ли он рисковать сейчас и сказать правду? А поэтому Елисей Бомель высказался весьма двусмысленно:
— Все в руках Господа нашего, — он опять сделал вид, что подбирает слова, а в голове отчаянно работала мысль, как бы не прослыть невеждой, если царевич уже знает о недолголетии своем со слов других, и в то же время не вызвать гнев, который может вылиться на его голову. — Никогда нельзя точно дать ответ о годах жизни человека. Единственное, что я могу добавить — будьте осторожны. У вас много врагов, кто желает вашей погибели…
— А батюшка? Батюшка мой? — всяческая гордость и напыщенность слетела в этот миг с царского сына, и он неотрывно впился глазами в свою ладонь, желая скорее получить ответ на мучивший его вопрос.
— Что батюшка? — удивился Бомель.
— Не он ли станет причиной моей смерти?
— Того знать никому не дано, — высокомерно закончил Бомель.
— Эх, думал, что хоть ты, птица заморская, не побоишься правду сказать. — Иван Иванович горестно вырвал у него ладонь, соскочил с лавки, плеснул в свою чарку напиток из серебряного ковша так, что тот перелился через край, шумно выпил, схватил горсть ягод и заходил по светелке, разговаривая сам с собой, будто англичанина и вовсе не было. — Наши бабки-колдуньи и то посмелее будут, все в голос говорят, чтоб боялся гнева царского, чтоб не перечил ему. Смертушка на роду мне написана от руки самого близкого человека. А кто еще, как не он, может меня жизни лишить? Только он. Более и некому… Он, он, он…
Бомель сидел неподвижно, боясь шевельнуться, вымолвить слово. Он был уже не рад, что начал гадание по просьбе царевича, чем привел того в неистовство. А Иван Иванович вдруг подбежал к нему, опустившись на колени, протянул руки и заговорил, почти заплакал, просительно и жалобно:
— Знаю я, что батюшка собрался за море бежать. К вам, в Англию. Королеву вашу склоняет, чтоб за него пошла. Бояре все люто боятся его и ненавидят. Измена кругом, измена… Сделай так, чтоб уехал батюшка за море, сговори его. А? Ведь можешь? По глазам вижу — можешь. Ты великий чародей и тебе подвластны души людские. Чую, сердцем чую. Направь мысли батюшкины на отъезд в Англию. Богом ты послан для моего спасения. Ничего не пожалею, все отдам, что есть. Земли хочешь?
Золота? Город какой или княжество целое? Награжу, чем попросишь. Только сделай так, чтоб поехал батюшка за море, а меня здесь оставил. Я договорюсь с боярами, кину им кусок, пущай подавятся. С соседями мир заключу, к дружбе жить станем… Ну, чего молчишь?
Бомель с ужасом смотрел на стоявшего перед ним на коленях царевича, который перемежал латинские слова с английскими, русскими, пребывая в состоянии крайнего возбуждения, более всего боялся, что слуга, находящийся за занавеской, все слышит и может донести царю. А может, кто-то другой стоит за дверью и… Он хорошо знал, что такое дворцы царей и как неосторожно сказанное слово легко достигает ушей господина.
— Встаньте, немедленно встаньте, — он и сам опустился на колени, пытаясь силой оторвать Ивана Ивановича от пола, — вдруг кто войдет сюда или услышит…
— Да ты не бойся, — махнул рукой царевич, поднимаясь с колен, — Тришка, что в прислужниках у меня, глухонемой и не бельмеса не понимает. А батюшка поехал с утра во дворец к татарину Симеону Бекбулатовичу, шуту этому. Тьфу, догадался, кого на трон вместо себя посадить. Нет чтоб мне, сыну царскому, управление государством уступить, а он… Ладно, даю тебе сроку неделю и потом погляжу, на что ты способен. Пшел вон, — царевич пришел в себя и, видимо, жалел, что проявил слабость перед посторонним.
Бомель вскочил и попятился к дверям, низко кланяясь и плохо соображая, как он будет выпутываться из своего весьма затруднительного положения. Царевич же, стоя спиной к двери, налил в свою чарку еще вина и, запрокинув голову вверх, не раздумывая выпил.
* * *
Иван Васильевич в это время находился в кремлевском дворце и сидел смиренно в тронном зале возле стены, поглядывая насупленно на Симеона Бекбулатовича, облаченного в царские одежды и бочком восседавшего на царском троне. Тут же находились десятка два бояр, приглашенных к царю Симеону по случаю прибытия польских послов с грамотой от их государя Стефана Батория.
Открылась парадная дверь в тронную залу и рынды, стоящие подле нее, расступились, давая проход трем полякам в нарядных кафтанах. Первым шел невысокий, но дородный шляхтич с длинными седыми усами и чисто выбритым подбородком. Он нес под мышкой свиток с большой красной восковой печатью, свисающей на тонком шелковом шнурке. Сзади него, придерживая сабли, шагали два других посла с небольшими бородками и завитыми кверху усами. Все трое держались независимо и, не глядя на собравшихся, направились к трону. Не доходя пяти шагов, первый шляхтич поклонился и протянул свиток. Потом он поднял глаза и в недоумении уставился на Симеона.
— Ваше царское величество, — начал он и стушевался, повернулся к своим спутникам и что-то тихо спросил, чуть пошептавшись, вновь повернул голову в сторону трона и, кашлянув несколько раз, продолжал, — ваше царское величество, мы отправлены королем нашим, избранным на трон польский, чтоб вручить грамоты с заверением о мире и дружбе с московским князем Иваном Васильевичем… — он опять прервался и скользнул взглядом по лицам бояр, сидящим на лавке вдоль стены, чуть задержался на Иване Васильевиче и опять повернулся к Симеону Бекбулатовичу.
— Давай, давай, говори все, что король приказал говорить царю московскому…
— Князю московскому, — сделал ударение посол, — но я его не вижу.
— Великой милостью мне поручено вершить дела государства нашего, — подняв кверху подбородок с жиденькой бородкой, ответил Симеон Бекбулатович.
— Бесчестье какое для послов Речи Посполитой, — задохнулся посол и стоявшие сзади него шляхтичи насупились, сдвинули брови, всем видом выражая согласие со словами товарища.
Бояре на лавках зашумели, и князь Шуйский крикнул со своего места:
— Никто вас не бесчестит, а принимает как должно.
Говорите, что нужно, а уж мы решим, чего дальше делать станем.
— Верно, верно говорит князь, — поддержали его остальные бояре, ударяя длинными посохами об пол.
Но послы, видимо, были людьми не робкого десятка и на них не подействовали угрожающие выкрики бояр. Старший шляхтич настойчиво повторил:
— Наш король велел передать эту грамоту, — он поднял над головой свиток и красная печать, качнувшись, опустилась ему на лоб, — передать князю московскому Ивану Васильевичу. Но перед нами его нет, а потому… — но он не закончил, потому что Иван Васильевич соскочил со своего места, в несколько шагов оказался прямо перед ним и, сведя брови гневно, спросил:
— Вот я… Перед вами… Чего хотел? Ну? Сказывай… Шляхтич опустил грамоту на уровень груди и с легким поклоном подал ее Ивану Васильевичу, но тот отстранился от свитка, словно это была ядовитая змея, махнул рукой дьяку Писемскому и приказал:
— Читай, чтоб все слышали.
Дьяк опрометью подбежал к полякам, принял грамоту, быстро сорвал печать и, развернув свиток, принялся читать громко, произнося титулы царя московского. Но когда он перешел к оглашению самого текста, Иван Васильевич взмахом руки прервал его и обратился к послам:
— С каких это пор тот, кого вы называете своим королем, смеет обращаться ко мне, по воле Божьей царю христианскому, как к брату? Кто ему дал такое право? Я тебя спрашиваю! — и он упер острый конец своего посоха в грудь шляхтича. — Значица, он меня царем уже не считает? А Полоцк? А Смоленск, уже не русские города? Почему Баторий ваш, коей и за столом-то со мной рядом сидеть недостоин, меня ровней своей считает? Это он меня бесчестит, а не я его. Да он ничуть не выше князей моих Бельских, Острожских, Мстиславских. А они все подо мной ходят, — при этом царь все сильнее упирал наконечник посоха в грудь посла и тем теснил его из тронной залы, заставляя пятиться шаг за шагом. Потом он протянул левую руку назад, вырвал из рук дьяка Писемского грамоту и швырнул ее в лицо поляку. Бояре вскрикнули, но тут же умолкли.
— Царь московский сам желает войны с нами, — выдохнул почти вытолкнутый вон посол.
— Нет, не я хочу войны, а вы, бесчестное племя, ее желаете, — ответил Иван Василевич, сверкая глазами, — и вы ее получите!
Выгнав польских послов, Иван Васильевич тяжелым шагом прошелся по тронной зале, вглядываясь по очереди в лица разом притихших бояр.
— Что головы попрятали?! Ляхов испугались? Или мало мы их били? Видать, мало, коль они к нам этакие грамотки посылают. Давно ли они нас приглашали править государством ихним, склоня голову смиренно, аки овцы ждут кнута пастыря своего. Что ж то за держава такая, коль из своих никого на трон достойного найти не может? Подстилку турецкую нашли себе! Обатура венгерского! Да он готов туфлю турецкого султана лизать, лишь бы тот глянул в его сторону милостиво! — царь распалился и бегал по просторной зале, пристукивая тяжелым посохом, выкрикивая все то, что он не успел высказать польским послам.
— В железа Батория этого заковать да в клетке в Москву привезти, — подал неожиданно голос Симеон Бекбулатович. Но царь так зыркнул на него, что он чуть не свалился с трона.
— А тебя кто спрашивает? — воззрился Иван Васильевич на бедного татарина, не знавшего куда деваться со страха. — Прости-извини, забыл, что ты у нас самый главный воевода, князь и государь всея Руси. Прости великодушно, — и он повалился на колени перед Симеоном. К нему тут же подскочили несколько бояр, подхватили под руки, пытаясь поднять. Но Иван Васильевич не давался, брыкаясь и расталкивая бояр. — И вы туда же, — визжал он. — Измена!
Вбежали перепуганные стрельцы и, выстави бердыши, поперли на бояр, те бросились кто куда, произошла свалка, некоторые упали, запутавшись в длиннополых шубах. Симеон Бекбулатович спрятался за трон и таращил оттуда черные глазища, то высовывая, то пряча бритую голову, потеряв в суматохе соболью шапку, украшенную драгоценными камнями.
Эта шапка и попалась на глаза Ивану Васильевичу, он поднял ее, заботливо отряхнул и направился к трону, размахнулся, больно ударил посохом касимовского царевича по бритой башке.
— Хорош, храбрец, — проговорил он вкрадчиво, — спрятался, а меня пущай бесчестят, убивают… А ну, вылазь на свет божий…
— Батюшка государь, — залепетал тот, обходя трон по кругу и уворачиваясь от ударов тяжелого посоха, — если бы тебя убили, то кто бы наказал изменников… Я со своего места все видел, все запомнил, всех бы казнил…
— Ах ты морда касимовская! Ждешь, выходит, когда законного царя жизни лишат, чтоб потом расправу-суд чинить?! Хорош! Хорош! Сымай царев наряд! Кому говорю?!
Симеон Бекбулатович растерялся окончательно и слова царские, видно, не доходили до него. Но когда Иван Васильевич в очередной раз замахнулся на него посохом, он сбросил для начала узконосые сапоги, а потом торопливо стал стаскивать с себя одежды.
— Вот так-то оно лучше, — усмехаясь, проговорил царь, видя как Симеон Бекбулатович, торопливо сняв с себя верхнее платье, остался в одном исподнем, — теперь так будешь послов принимать. Пусть думают, что царь московский совсем нищ и гол, все у него позабирали, всего лишили…
— Царь-батюшка, — неожиданно упал на колени тот, — отпусти обратно в мой Касимов-город. Жил я там тихо мирно и дальше бы так жил. Не по силе мне удел царский. Не могу державой этакой править, ни ума, ни сил не хватает…
— А чего ж соглашался, когда предложили? — царь уставил острие посоха ему в голую грудь. — Почему сразу разумных слов не молвил, а с радостью на трон царский влез? Говори! Бояре к тому времени немного оправились, видя, что царский гнев направлен на выгодную для них сторону, опять расселись на широких лавках и, не скрывая радости, скалились на раздетого и униженного Симеона.
— Так ему, пущай знает…
— Сел на царево место и думает, будто так и надо…
— Из грязи — да в князи, — высказывались они громко, толкая в бок локтями друг друга.
— Цыц, — прикрикнул на них Иван Васильевич, злобно сверкнув глазами, — а то сейчас рядом встанете. Почему с ляхами не по чину говорил? — обернулся вновь к Симеону.
— Не научил, батюшка, как говорить с ними… Думал, послы… Думал, приехали дружбы, мира просить. Мы ж у них Ливонию всю повоевали, все крепости отобрали, — залепетал униженно Симеон.
— Точно, отобрали, и остальные отберем, — к царю неожиданно вернулось доброе расположение духа, и он махнул касимовскому царевичу рукой, чтоб шел из тронной залы, — воеводы добрые еще не перевелись у нас, — он повел взглядом по лицам бояр. — Где Хворостинин? Где Шереметьев? Где Мстиславский? Отчего не вижу воевод своих?
— При войсках, — ответил один за всех боярин Григорий Васильевич Путятин, привстав с лавки.
— А вы чего отсиживаетесь? Кто за вас воевать будет? Кого к казакам на Дон, на Волгу отправили? Почему вестей до сих пор нет?
— Князей Федора Барятинского с Алексеем Репниным отправили, да верно, срок не пришел им вернуться, — с готовностью напомнил царский окольничий Осип Щербатов.
— Долго, долго чего-то ездят они, — царь тяжелым взглядом окинул в очередной раз бояр и закончил, — готовьте ополчение. С ляхами нам добром не разойтись. Сеча долгая будет, — и направился к выходу из тронной залы.
Уже только вечером пожаловал Иван Васильевич в свой новый дворец и, не скинув дорожного платья, проследовал на женскую половину, где, знал, его который день поджидает Анна Васильчикова, и он сам испытывал неловкость, редко заходя в последнее время в ее покои.
Может, потому и перебрался он в новый дворец, что слишком многое связывало его со старыми кремлевскими палатами. Там умерла его первая жена Анастасия… Единственная женщина в его жизни, которую он по-настоящему боготворил, обожал, слушал, почти во всем с ней советовался. Долго, ох, долго не заживала та рана, а все кровоточила, заставляя глядеть с подозрением на близких друзей, которые, казалось, чего-то скрывали, недоговаривали, отводили глаза, стоило ему вспомнить про Анастасию.
Может, потому и бежал к королю Сизигмунду князь Андрейка Курбский, который знал что-то о таинственной смерти ее. Знал, а может быть, был замешан… Кто знает. И сколько обозов с беглыми боярами останавливали тогда, вскоре после смерти царицы, в порубежных землях. Бояре словно с ума посходили, кинувшись бежать из Москвы. Ой, нечисто, нечисто было в том кремлевском дворце, и дух предательства витает там до сих пор, напоминая о многих изменах, о крови, о смерти…
А черкешенка Мария? Она кому помешала? Ее отчего испугались, свели в могилу зельями, наговорами? Не могла умереть молодая еще девка, один раз лишь успевшая зачать от него, но не сохранившая сына Василия, названного так в честь его батюшки. Сперва наговорили ей про царские забавы и утехи, отвели от царя, а потом и совсем в могилу свели. Все им мало. Мстят за срубленные головы изменников.
А другая, тоже Мария, красавица писаная, дочь новгородского гостя, и месяца во дворце том не прожила. Она кому могла помешать? Чем не по нраву пришлась? Не пощадили душу христианскую, загубили…
И снова он упрямо решал обзавестись семейным покоем и счастием, ввести во дворец жену, которая бы стала советчицей и помощницей, у кого он мог бы найти отдохновение от дел тяжких. Присмотрели ему знатную невесту из рода Колтовских, Анну Алексеевну. Да уперлись попы московские, митрополит не пожелал дать разрешения на брак. Выпросил, вымолил государь, обещал каяться три года подряд за нарушение канона христианского. Он же не чернец какой, чтоб плоть свою воздержанием изводить, а мужчина в самых летах и можно ли государю великой державы жить монахом-схимником? Да никак нельзя. Не тайком же по бабам бегать, на тайные заимки возить подходящих. Так какой грех больше? Тот или этот? Разрешили святые отцы. Смилостивились. Обвенчали. И надо же такому случиться, что в покои свои блудницу ввел! Порушенную девку бояре подсунули! Не девку, а бабу в любовных науках искусную. Не вытерпел такого позора, сослал в монастырь, в дальний Тихвин. Пусть там до самой смерти слезы льет, тешит себя мыслью, что хоть побыла царской женой короткий срок. А любовников ее он выследил, все на дыбе признались, как царицу ублажали, пока он в походах воинских пребывал, честь отчизны своей отстаивал, с врагами воевал. Они в то время на мягких перинах его чести лишали. С такими разговор короток — в мешок и в воду, чтоб на том свете чертей тешили, забавляли.
А потом он уже у святых отцов разрешения не спрашивал. Пусть себе ворчат, нос воротят, мирянам своим указывают как жить праведно. Приказал себе новый дворец отстроить и ввел туда нонешную жену Анну Васильчикову. Всем девка хороша, только слезлива больно. Как ни придет, а у нее глаза на мокром месте. Надоело. Последний раз все ей высказал, что на душе накипело. Не хочет жить, как он велит, так монастырей на Руси предостаточно. Там и лей слезы.
Но даже самому себе Иван Васильевич не желал признаваться, что не только женских ласк желал он от жен, входивших в его покои и с трепетом взиравших на царственный лик. Мучили его смутные подозрения, что таят они в душе измену, готовы предать, переметнуться к любому, кто поманит, позовет, пообещает большего. И теперь уже научился не пускать глубоко в сердце их ласковые слова, не обманываться покорностью и обещаниями пойти на край света с ним, бежать в дремучие леса, коль бояре замыслят чего худое. Нет, не верил он потомкам лукавой Евы, совращенной змием. С тех самых пор пошла измена и предательство, когда соблазнила женщина, Богом сотворенная из ребра адамова, мужа своего, обрекла его на вечные муки.
И уже год от года ощущал он величие свое и не видел равных себе. Потому и слал гонцов к королеве Елизавете, желая взять себе жену достойную, знатностью рода ни в чем ему, Рюриковичу, не уступающую. Верил и не верил в будущность свою, в богоизбранность.
Иван Васильевич уже поднялся по крутой лесенке на верхний покой, где располагались женские светлицы, когда неожиданно навстречу ему шагнул кто-то, плохо различимый в потемках.
— Кто тут? — вскричал он и выхватил кинжал, едва не ткнул в грудь испугавшего его человека.
— Убьешь так меня когда-нибудь за преданность мою, — раздался густой сочный голос, — и умру без покаяния.
— А-а-а… — успокоился Иван Васильевич, узнав голос своего любимца Богдана Яковлевича Вольского. Едва ли не единственного, кому он доверял, и доверялся во всем. — Чего затаился в темноте?
— Тебя, господин мой, поджидаю, — спокойно отозвался тот, — специально стою, поглядываю, кто куда идет, да зачем…
— И чего высмотрел? — царь перешел на шепот, ожидая услышать что-то особенное, и уже приготовился мысленно к неприятному известию.
— Да увидеть ничего такого не увидел… Тихо все. Только Анна твоя рыдает да молится в светелке своей…
— Утешил бы девку, — попытался пошутить Иван Васильевич, но шутка вышла двусмысленная, и он тут же поправился, — девок бы к ней привел, чтоб повеселили, песни попели.
— Не-е-е, — протянул басом Богдан Яковлевич, — то не мое занятие. Девок приведу, да не дай Бог, сам с ними останусь. А тут ты нагрянешь… Вот тогда оправдывайся, отнекивайся, что не ел малину, когда губы красные…
— Ладно, чего хотел? — Иван Васильевич чувствовал, тот чего-то недоговаривает. — Спешу я.
— Да тут такое дело, — замялся Вольский и тяжело вздохнул, — согрешил я малость. Отпустишь грех, царь-батюшка?
— Не поп я тебе, чтоб грехи отпускать. В храм иди и там кайся, лбом об пол бейся, свечку затепли.
— Да, может, то и не грех вовсе… Девицу я приглядел, когда давеча по Москве ехал… Ох, хороша девка! Так бы и съел!
— И кто помешал? Вижу, как облизываешься.
— О тебе, батюшка, думал, печалился. Сюда привез, запер в светелке, ждать велел.
— Кто такая? Может, знакома мне?
— Вряд ли… Ты бы такую сразу отличил, приветил. Зовут Василиса Мелентьева. Хороша девка. Надави — и сок брызнет.
— Догадалась, кого ждать велено?
— Поди, не совсем дура. Так зайдешь? Или обратно домой отвезть?
Иван Васильевич заколебался. Желание взглянуть на новую девушку, что дожидалась его совсем неподалеку, было велико. Не любил он менять решения. А решил именно сегодня поговорить с Анной, и если она будет и дальше столь плаксива, сожалеть о жизни в царских покоях, то… он уже не юноша, чтоб уговаривать и пояснять, добиваться каждый раз ее расположения. Она не английская королева, чтоб выдвигать свои условия. Нет, сперва он доведет до конца разговор с Анной, а эта, новая, никуда не денется.
— Скажи, чтоб ждала, — приказал он Вольскому и, тяжело ступая, направился дальше.
Анна действительно сидела зареванная, с опухшими глазами и, увидев вошедшего царя, вскочила, кинулась за печку, торопливо схватила платок утирать струившиеся по лицу слезы.
— Все блажишь, сырость разводишь, — брезгливо проговорил Иван Васильевич, проходя на середину светелки и оглядываясь по сторонам. У него уже вошло в привычку в любом помещении, куда бы он не заходил, сперва внимательно оглядеть все углы и закоулки. Даже в собственной спальне он никогда сразу не подходил к постели, а какое-то время прислушивался, не раздастся ли откуда какой шорох, а лишь потом чуть обретал спокойствие. Эта привычка выработалась у него с детства, когда его, мальчонку, бояре пугали, спрятавшись в темной комнате, или врывались к нему спящему пьяными и, громко крича, хохотали, строили рожи, махали кинжалами. Нет, об этом лучше не вспоминать.
Из-за перегородки тихо выпорхнула сенная девушка и низко поклонилась царю, ожидая приказаний.
— Пошла, пошла, — махнул рукой, и когда та беззвучно вышла, подошел к Анне, привлек к себе, поднял маленькую девичью головку, осторожно провел пальцем по губам. Она всхлипнула и попыталась улыбнуться, но улыбка получилась жалкой, растерянной.
— Жду день-деньской, жду, — проговорила жалобно, — а потом и сама не замечаю, как слезы побегут, закапают, а там и… и… — она всхлипнула, — не остановишь их.
— О ком плачешь?! Кого хоронишь?! Больше заняться нечем, кроме как реветь?
— И вышивать пробовала, — она кивнула на рукоделие, разложенное на лавке, — да на ум не идет. Боюсь я, — добавила, немного помолчав.
— Меня что ль боишься, дура? — сдерживая себя, но ощущая нахлынувшую, прилившую к голове горячую волну, спросил.
— Нет, не тебя. Тебя мне отчего бояться? Смерти боюсь…
— Молода еще умирать-то…
— А сколько до меня умерло? Кого отравили, кого иначе на тот свет свели. И меня сведут.
— Да я всю прислугу поменял. Призови к себе из своих кого, глядишь, и успокоишься.
— К матушке хочу, к батюшке… Только не примут они меня такую обратно… опозоренную… — и она опять всхлипнула.
— Скажу, так любую примут, — Иван Васильевич рванул душивший его ворот, отошел к теплой печи, протянул к ней ладони, — лучше обняла бы меня, приголубила. — Но Анна стояла, прижав тонкие руки к лицу, и не отвечала. — Ну, кому сказал, — повысил голос Иван Васильевич и с хрустом сжал пальцы, кипя злобой.
Анна сделала несколько шагов и, не отнимая рук от лица, остановилась. Тогда он сам подхватил ее, понес худенькое тело к лежанке, кинул, начал срывать платье, тычась лбом в ее грудь и мыча что-то утробное. Анна не сопротивлялась, но и не помогала ему, а, покорно раскинув руки, ждала. Тогда он неторопливо разделся, снял сапоги, подрагивая всем телом, опустился на нее сверху, ища мягкие губы своими губами, а руками гладил нежную кожу, опускаясь все ниже и ниже…
— Нет, нет, нет! — закричала вдруг она и забилась, застучала кулачками по лицу, с силой попыталась оттолкнуть. — Антихрист ты! Верно говорят, антихрист! Дьявол! Пусти!
— Молчи, — пыхтел он, и эта борьба только сильнее распаляла его, делала желанной непокорную Анну. — Всем нам в огне гореть, что мне, что тебе.
— Не хочу! Не хочу гореть, — с новой силой забилась она, но он уже овладел ею и входил в ее плоть все глубже, не слыша ни криков, не ощущая ударов маленьких рук.
Когда он встал, оделся, глянул на Анну: она лежала, закрыв глаза, и, казалось, не дышала. Заметил несколько свежих кровоподтеков на шее, на груди и мелькнула жалость, но, вспомнив ее крики, усмехнулся и прошептал:
— Все, голуба, откричалась. Теперь будешь в монастыре кричать, сколь душе угодно. А с меня хватит.
Он вышел из светелки и через несколько шагов вновь наткнулся на темную фигуру Вольского.
— Ну как? Идем на новую красавицу глядеть? — и он причмокнул губами.
— Идем, идем, — ответил Иван Васильевич, — только сперва пошли выпьем чего-нибудь. И Ивана моего кликни, его тоже с собой возьмем. Надо и ему другую бабу искать. От его тоже никакой пользы. Родить никак не может.
— А эту куда? — спросил насмешливо Вольский. — В монастырь?
— Правильно мыслишь. И ту и эту — в монастырь. Обеих. Пусть о спасении души нашей молятся, коль бабское дело у них худо выходит, — и довольный своей шуткой царь громко захохотал.
ЯРСУЛЫК[2]
Когда рядом с Кучумом просвистел кинжал и упал чуть впереди него, он даже не успел испугаться, хоть инстинктивно и отпрянул в сторону, застыл на какое-то мгновение. Резко обернувшись, успел заметить мелькнувшую тень, хотел было броситься за ней, но передумал, нагнулся и на ощупь нашел кинжал. Тот имел небольшую костяную рукоять и короткое прямое лезвие. Проведя по нему пальцем, ощутил остроту клинка. Но кроме всего прочего от кинжала исходил какой-то дурной, тлетворный запах, и поднеся пальцы к носу, он понял, что оружие в чем-то вымазано. Переборов в себе тошноту, Кучум обернул кинжал полой халата и, чуть подумав, направился к шатру, где жила его наложница Анна, которую он давно считал своей женой. Она уже родила ему пятерых детей, которые росли вместе с другими ханскими детьми и мало чем от них отличались.
В то же время Анна стала для него едва ли не самым близким человеком. Именно она могла обуздать его внезапный гнев, успокоить и настоять на своем. И он ценил это: разрешил иметь в своем шатре изображения святых на толстых сосновых досках, специально заказанных купцам, посещавшим Москву и другие русские городки. Возле этих святых постоянно горел слабый огонек в небольшом сосуде, заправляемом жиром. Часто, неожиданно войдя в ее шатер, он видел Анну стоящей на коленях и что-то шепчущей, обращаясь к своим святым.
Что она шептала, просила на непонятном ему языке? Кучум хмурил тонкие брови, не зная как поступить — запретить ли Анне обращаться с молитвой к своим богам и велеть кинуть эти раскрашенные доски в костер, или делать вид, будто ему все равно. Но однажды он не выдержал и напрямую спросил ее:
— Мне давно интересно: ты молишь своих богов, чтоб они послали мне как твоему мужу удачу в победе, здоровья или…
— Спрашивай, спрашивай, — смело подняла на него глаза Анна, — впрочем, я и так поняла, о чем ты хочешь знать… Тебе интересно, может ли Господь нанести вред тебе? Так я поняла?
— Пусть будет так, — мотнул он головой, не в силах отвести взор от спокойных и уверенных глаз Анны.
— Так я скажу тебе — ты сам себе наносишь вред…
— Это чем же? — удивился Кучум.
— Господь учит, что человек должен относиться к другим людям так, как он желает, чтоб они относились к нему.
— Значит, я должен жалеть своих врагов в надежде, что они пожалеют меня? — громко засмеялся Кучум. — Да возможно ли такое?
— А почему нет? Почему? Ведь мне ты желаешь добра? Так? Или я не права?
— Конечно, — смущенно улыбнулся он, — своей жене я должен желать добра, если она не нарушает правил, предписанных нашими законами.
— А детям? Слугам? Друзьям?
— Но и они близкие мне люди…
— Потому они и близкие тебе, что ты по-доброму относишься к ним. А если ко всем людям ты будешь относиться точно так же?
— И что? Выходит, тогда и врагов не будет?
— Ты правильно понял. Может, тогда и не будет врагов.
— Значит, именно об этом ты и молишься? — Кучум наклонился над бородатыми ликами русских богов, разглядев среди них и женщину с ребенком на руках.
— Да, я молюсь, чтоб Господь послал мир на нашу землю и… — она чуть помолчала, — молюсь и о здоровье своих родителей, братьев, сестер.
— Но ты же рассказывала, что они плохо обошлись с тобой, выгнали из дома. Разве нет в твоей душе злобы на них?
— Может, они и правы. Потому и желаю им здоровья, молюсь о спасении души.
— А где, в каком городе живут они? — поинтересовался он небрежно.
— Давай не будем говорить об этом, — уклонилась тогда Анна от ответа, — когда-нибудь я тебе расскажу о них все.
И сейчас, когда кто-то покушался на его жизнь, он шел именно к ней, к Анне, надеясь, что она ответит на вопросы, которые одолевали его.
Анна, увидев у него в руке кинжал, испуганно попятилась, прикрыв грудь руками. Но когда Кучум с кривой улыбкой положил кинжал на небольшой столик и, кивнув на него, пояснил: "Вот как твоего хана после свадьбы провожают", — она подбежала к нему и внимательно оглядела, ища рану. А потом со вздохом перевела взгляд на кинжал, потянулась к нему рукой.
— Осторожно, — перехватил он ее руку, — похоже, лезвие намазано ядом…
— Не может быть, — прошептала она, — может, кто баловался, по ошибке кинул его?
— Не может быть?! Да все только и ждут моей смерти! Соседи! Бухара! Сыновья, которые взрослеют на глазах и ждут своей доли…
— Не смей говорить так, — она прикрыла ему рот маленькой ладошкой, — дети не могут поднять руку на отца…
— Тогда ответь, кто? Ну? Молчишь? Ты и теперь будешь советовать любить врагов? Глупая женщина, а я чуть было не поверил твоим словам…
— Но ведь ты жив… Ничего не случилось. Даже если кто-то и покусился на твою жизнь, то Господь отвел его руку.
— Я отрублю эту руку по локоть. Только найду владельца кинжала. Ты случайно не видела такой у кого-нибудь?
— Нет, — покачала Анна головой, но ему показалось будто она что-то скрывает, не договаривает.
— Ладно, отложим это дело до конца свадьбы Алея. Пусть кинжал побудет у тебя. Так будет надежнее, — и он, не простившись, вышел.
Когда разъехались гости и слуги навели порядок в городке, Кучум велел позвать к себе в шатер старшего сына Алея. Тот явился счастливый и улыбчивый.
— Мне надо поговорить с тобой, — Кучум указал ему на кожаную подушку напротив себя. — Доволен свадьбой?
— Свадьбой да, но хотелось бы и на новую жену глянуть… А вдруг уродина какая, — засмеялся тот.
— Потерпи, потерпи, — Кучум из-под полуопущенных век внимательно разглядывал старшего сына. Смел. Прям в речах. Независим. Его любят друзья, и он часто пропадает со своими сверстниками на охоте.
Не сравнить с угрюмым Алтанаем или беспечным Ишимом. Да и другие сыновья тоже мало походят на Алея. Мог ли он что-то замыслить против отца? Неужели ему так же как не терпится увидеть лицо молодой жены, столь же сильно хочется занять ханский шатер? Нет, этого просто не может быть…
— Тогда, чтоб время шло чуточку быстрей, я отправлюсь на охоту, а вернусь к положенному сроку, когда можно будет увидеть мою новую жену. Ты не возражаешь, отец?
— Да нет, но мне хотелось бы чаще видеть тебя на ханском холме, тем более…
— Что тем более? Я мало занимаюсь делами нашего ханства? Но ведь ты не старик пока и сам без советчиков решаешь все дела.
— Ответь, что бы ты стал делать, если бы я умер?
— Умер? — переспросил Алей и удивленно уставился на него. — С чего это вдруг ты заговорил о смерти?
— Каждый человек рано или поздно приходит к этому. А мы живем в неспокойное время…
— Ты что-то скрываешь от меня, отец… Плохие вести? Опять кто-то идет на нас войной? Ты только скажи и я…
— Нет, нет, — Кучум опустил руку на плечо сына, — все спокойно. Но ответь… Я жду…
— Ну, я… поменяю визирей. Карачу-бека, который слишком умен и хитер, отправлю в дальний улус, укорочу длинные языки еще кое-кому из беков и… расширю владения нашего ханства.
— Я так и думал, — с теплотой глянул на него Кучум, — ты не предложишь ничего нового, о чем бы я не думал. Скажу тебе, что умного советника, даже если он и не по нраву правителю, не следует убирать или менять на другого, который еще не известно как себя покажет…
— Но я не уверен, что Карача-бек дает тебе всегда нужные советы. Я не верю ему.
— Ты и не должен верить кому-то. На то тебе и дана собственная голова. А Карача-бек умен и этого у него не отнять. Но я не за этим позвал тебя. Гляди, — и Кучум бросил на землю кинжал, подобранный им в день свадьбы.
— Кинжал… Зачем ты мне его показываешь?
— Ты не мог бы сказать, чей он?
— Подожди, отец, подожди… Где-то я его видел, только не могу припомнить.
— Алей, это очень важно. Вспомни, — Кучум даже привстал на подушках.
— Нет, не помню.
— Жаль. Этот кинжал был брошен мне в спину. Но предатель, к счастью, промахнулся. Не тронь его, он отравлен, — Кучум увидел, что Алей наклонился, чтоб взять кинжал в руки.
— А если показать его всем воинам? Может, кто-то и узнает его?
— Я так и хочу сделать. Только сперва решил посоветоваться с тобой. И еще. Ты отправлял гонцов с извещением о свадьбе к Мухамед-Кула?
— Да, отец, конечно, отправил и очень удивлен, что он не прибыл на праздник. Может, заболел?
— Все может быть, — кивнул головой Кучум. От Алея не укрылась кривая усмешка отца, столь хорошо ему знакомая, — но мне кажется, причина в ином. Он стал вести себя в последнее время чересчур вызывающе. Особенно после того, как совершил несколько удачных походов. Пора бы и тебе, сын, подумать о том, чтоб однажды самому повести сотни в набег.
— Я только и жду этого, — чуть не подскочил царевич, — только укажи, какой враг наипервейший.
— А сам не знаешь? Кто стремится занять наши земли? Кто строит свои крепости по берегам рек, что впадают в Тобол и в Иртыш? — Кучум со злостью заскрежетал зубами. — Строгановы! Через них русские мечтают выйти на мое ханство… Но об этом поговорим позже, когда найдем предателя. Эй, — крикнул Кучум, — начальника стражи ко мне. — И когда тот вбежал и застыл в поклоне, кивнул ему на кинжал. — Вели показать всем воинам. Мне нужно знать, чей он.
Начальник стражи осторожно подхватил кинжал и вышел. Через какое-то время он сообщил Кучуму:
— Хан, все показали, что видели этот кинжал у коротышки Халика.
— Где он?
— Где-то здесь шныряет. Найти?
Когда привели коротышку, то тот лишь корчил глумливые рожи и отпускал шуточки, будто ничего не случилось. Но Кучум видел, как тот подрагивает всем телом, будто после купания в холодной воде.
— Хан соскучился по мне? — развязно заговорил Халик. — Может, он и мне нашел достойную жену как своему сыну? Я готов жениться прямо сейчас.
— Брось кривляться, — топнул ногой Кучум, — это твой кинжал?
— Хан хочет, чтоб я ему подарил кинжал? Хорошо. Возьми его, — но договорить он не успел, потому что Кучум схватил плеть и с силой перепоясал коротышку поперек спины.
— Говори, кто велел тебе убить меня?! Говори, или я прикажу охотникам спустить с тебя шкуру, как они снимают ее с дикого зверя. Эй, позвать сюда Кылдаса-охотника, — крикнул он, давая понять, что шутить не намерен.
Коротышка сжался и упал на землю, пополз к ногам Кучума, но на него сыпались непрерывно удары плети.
— Хан, выслушай меня, выслушай, — пищал он, вздрагивая от каждого удара и закрывая лицо руками, — дай сказать… сказать… — умолял он. Но Кучум не слышал его криков, а с неистовством продолжал осыпать ударами, пока начальник стражи не перехватил его руку:
— Остановись, хан, забьешь насмерть. Тогда совсем ничего не узнаем.
Кучум в остервенении левой рукой ударил и того наотмашь, но остановился и, тяжело дыша, кинул плеть на землю. Халик тихо повизгивал, лежа на земле.
— Хан мне не поверит, но я потерял свой кинжал. А может, его украли у меня…
— Придумай что-нибудь получше, щенок приблудный?! Где Кылдас?
— Сейчас придет, — послышался голос из толпы, собравшейся у ханского шатра. Появился Кылдас и, торопливо расталкивая толпу, пробился к Кучуму.
— Давно медведя обдирал? — спросил тот его и, не дожидаясь ответа, кивнул на Халика, — с этого недоноска снять шкуру можешь?
— Как хан прикажет, — закивал тот согласно головой и достал из ножен кривой короткий нож. — С ног начинать или с головы?
— Тебе видней, — Кучум брезгливо отвернулся в сторону. Халик завыл, увидя, что хан не шутит, и вскочив на ноги, бросился бежать, но ему подставили копье, он упал, дрыгая в воздухе короткими ножками. А Кылдас-охотник склонился над ним и, топорща короткие усы, проговорил с видом знатока:
— Ай-вай, какая кожа тонкая… Худо сниматься будет, — и ловко поймал ногу Халика, скинул с нее сапожок и быстрым взмахом ножа сделал первый надрез. Раздался крик, толпа качнулась и в этот момент женский голос выкрикнул имя Кучума. Он повернул голову, увидел Анну, чьи широко раскрытые глаза с мольбой смотрели на него. Он сделал знак Кылдасу остановиться и позвал жену к себе.
— Зачем ты пришла? Это зрелище не для тебя.
— Разреши поговорить с тобой, — умоляюще она схватила хана за руку, потянула в сторону, — давай отойдем на берег, где нас никто не услышит. Только скажи им, чтоб они не трогали несчастного Халика…
Кучум колебался какое-то мгновение, но потом, видно, что-то решив, глянул на Кылдаса, остановил его движением руки и пошел вслед за Анной по обрыву.
— Я так люблю бывать здесь, — первой заговорила она, — почти как в городке, где я жила у своих родителей.
— Ты решила рассказать мне о своих родителях? — Кучум чуть заметно улыбнулся. Гнев его неожиданно прошел, и он уже сожалел о том моменте, когда на глазах у всей толпы хлестал коротышку. — Может, и не лучшее время ты выбрала, но я готов слушать.
— Отец жестоко обошелся со мной, — без перехода начала Анна, — когда я полюбила одного человека, он выгнал меня из дома. А там я попала к купцам, что и привезли меня к тебе. Отец жестоко наказал меня, но и он теперь мучается…
— Откуда это тебе известно? — перебил ее Кучум. — Ты что, виделась с ним, — в нем вновь заговорила подозрительность.
— Нет, но я хорошо его знаю и уверена, он переживает. Приди я сейчас обратно, он бы простил меня и принял. Но… — она тяжело вздохнула и провела рукой по плечу Кучума, — есть ты, есть дети. И я не могу бежать, бросить тебя. К тому же я вижу, что нужна…
— Да, это так. Но скажи, кто твой отец? Рано или поздно я узнаю об этом.
— Яков Строганов. Тот, на которого ходили в набег твои воины.
— Яков Строганов? — брови поползли вверх у Кучума. — Но почему… почему ты молчала? Почему именно сейчас… Когда… — и он развел руками.
— Я хочу, чтоб ты не мучил Халика. Он любит меня и даже признавался мне в любви. Он и так несчастен. Если убьешь его, то лишишь меня радости надолго.
— Иди к себе, — Кучум повернулся спиной к Анне, уставившись на темную речную воду, — я подумаю.
— Но ты обещаешь мне? — Анна сделал несколько шагов, приостановилась. Кучум молчал.
Вечером от городка отплыла небольшая лодка. В ней сидел воин, ловко управляясь одним веслом, а на дне лежал связанный Халик. Рядом с ним бросили тот самый кинжал, лук со стрелами, медный котел и огниво с кресалом. Воину было приказано увезти коротышку подальше от городка в непроходимый лес и оставить одного, чтоб Халик сам распорядился своей судьбой… Никем не замеченная Анна украдкой наблюдала с холма за удаляющейся лодкой, смахивая слезы с лица.
МЭРТЭТ[3]
Когда Сабанак после долгого пребывания в качестве аманата-заложника в Москве вернулся больным и немощным обратно в Сибирь, то удивился холодному приему при ханском дворе.
— Я не припомню, чтоб отправлял тебя к царю Ивану, — заявил Кучум, настороженно поглядывая на постаревшего Сабанака.
— Прости, хан, но я не мог спросить у тебя совета, — ответил тот с достоинством, — мне пришлось самому принимать решение.
— И что же ты привез мне от царя Московии?
— Он предлагает тебе мир и свое покровительство…
— Да кто он такой, чтоб предлагать мне покровительство, — Кучум не заметил, как чуть не переломил в жестких руках рукоять плети, с которой он не расставался в последнее время. — Пусть он владеет своей землей, а я есть и останусь хозяином земли, что завещали мне мои предки.
— Дружба двух властелинов всегда полезна. И тебе, хан, и московскому царю она принесла бы взаимную выгоду…
— О какой выгоде ты говоришь? Царь Иван требует от меня уплаты дани и даже прислал своего человека, чтоб он переписал всех улусных людей. А то я еще утаю от московского царя десяток-другой соболиных шкурок. Прогневлю царя Ивана… Моими друзьями могут быть лишь те, кто одной веры со мной. Девлет-Гирей — вот человек, кто сможет оказать помощь.
— Но он один из главных врагов Москвы, — слабо возражал Сабанак, — почти каждый год он шлет своих нукеров на русские земли.
— Любой на его месте поступал точно так же. Взяв Астрахань и Казань, царь Иван сам вынудил его к ведению войны. Если у тебя заберут силой твоего раба, разве ты останешься доволен? Не будешь копить силы, чтоб вернуть его обратно? Нет, царь Иван не может быть моим другом…
— Но и крымский хан Девлет-Гирей ходит в прислужниках у турецкого султана Селима. По его указке он нападает на московитов. Разве не так? — видно было, что Сабанак сдерживает себя, чтоб не наговорить Кучуму дерзостей, пытаясь при том открыть ему глаза на что-то известное лишь ему одному. — Живя в Москве, я мог видеть, как русские встают на защиту своих селений. На службе у них множество казанских и астраханских мурз, черемисы…
— Тьфу, предатели, — со злостью бросил Кучум.
— Но и иноземцы из других стран идут на службу к русскому царю, и он всех принимает, дает им улусы, людей…
— Я вижу, что жизнь среди московитов не пошла тебе на пользу. А может, ты вообще послан русским царем следить за мной? А?! Скажи честно! — Кучум подошел вплотную к Сабанаку и наклонился к самому липу.
— Хан желает оскорбить меня? — вскочил тот и рука его невольно легла на рукоять сабли.
— Да кем ты себя считаешь? Ты, которого я нанял за деньги для похода в Сибирь! Прах! Одним мизинцем я сотру тебя в пыль. Запомни, что только в память о дядьке твоем, Алтанае, что был храбрым воином и другом мне, оставляю тебя на свободе. Мой визирь завтра определит тебе место, где будешь жить, как можно дальше от ханской ставки. — Кучум повернулся к нему спиной, показывая, что разговор окончен, и несколько раз хлопнул себя плетью по голенищу сапога.
На другой день Карача-бек сообщил Сабанаку, что отныне он должен будет жить на окраинных землях по верхнему течению Тобола. Ему даровалось селение, насчитывающее два десятка мужчин. Каждый год он должен собирать ясак в сотню соболиных шкурок, доставляя их до начала половодья в Кашлык.
Сабанак молча выслушал ханский указ и лишь спросил Карачу-бека:
— Сколько мне разрешено оставаться в Кашлыке?
— Хан ничего не сказал об этом, — дернул плечом Карача-бек, — но мне кажется, что мурзе Сабанаку будет лучше побыстрее покинуть ханский городок. Для его же блага, — добавил он мягко.
— Хорошо, я так и поступлю.
Сабанаку хотелось узнать о судьбе Биби-Чамал, которая когда-то была его наложницей, и, возможно, кто-то сможет сказать ему, что с ней стало, где она теперь! Он разыскал несколько старых нукеров, что воевали еще под началом его дядьки Алтаная и продолжали служить Кучуму в Сибири. Те, с трудом узнавая в постаревшем, с густой сединой в волосах и бороде прежнего юношу, приглашали его к себе, угощали вином, растроганно хлопали по плечу, вспоминали старого башлыка.
— Вино пить мулла не велит… — смущались они, — да и шейхов набралось в Кашлыке столько, что шагу не ступишь, донесут.
— Не те нынче времена, ох, не те, — сетовал широкоплечий воин, на чьем лице виднелся шрам, уходящий под шапку, — но башлыка Алтаная все одно помянем добрым словом.
Чуть выпив, воины становились разговорчивее, костерили новые порядки, местных беков, что в глаза улыбались, а на самом деле ненавидели и хана, и всех, кто пришел с ним. Больше других доставалось Караче-беку. Ему так и не простили того, как он расправился с пятой сотней, казнив половину нукеров. Про Кучума помалкивали, со страхом пряча глаза.
— Оборотень он, — поясняли шепотом, — все обо всех знает. Может в сороку обернуться и возле костра сидеть незаметно, все слышать, что о нем говорим. А потом… сам понимаешь.
Про Биби-Чамал никто из них не знал. Даже имени ее не слышали.
— Знаешь, сколько нам их встречалось… Если бы имена всех стали спрашивать, запоминать, то и мозгов бы не хватило. Сам, поди, был воином, помнишь…
Сабанака резануло "был воином", и он гневно сверкнул глазами, хотел сказать что-то обидное, но передумал, поблагодарил и стал прощаться. Через два дня он уже навсегда, как он думал, покинул Кашлык, направившись в отведенный ему улус.
* * *
Место ему понравилось: на невысоком берегу были вырыты полуземлянки, вокруг которых простирался небольшой луг, заливаемый в весеннее половодье водой, а дальше виднелся хвойный лес, стеной обступивший селение.
Навстречу к нему высыпали удивленные жители вместе с древними стариками, смущенно отводящими взоры женщинами, босоногими детьми, прячущимися за матерей, и мужчинами, стоявшими отдельно с копьями в руках.
Сабанак, не слезая с коня, объявил им, что отныне он будет их мурзой, и велел построить для него жилище у самого речного обрыва чуть в стороне от самого селения. Мужчины о чем-то переговаривались меж собой и не решались заговорить с новым правителем, но было видно, что их мучил какой-то вопрос, и потому Сабанак помог им, спросив:
— Вы, верно, хотите знать, есть ли у меня жена, дети? Нет, но со временем обзаведусь женой, а даст Аллах, то и дети будут.
Тогда один из стариков, набравшись смелости, обратился к нему, сделав несколько шагов вперед, и заговорил сиплым голосом:
— Люди зовут меня рыбак Назис. Я потерял своих сыновей, что ушли на войну и не вернулись. Недавно похоронил и свою старуху. Теперь живу с внуками. Ответь мне, наш новый господин, будут ли брать на войну и моих внуков, которые уже стали юношами?
— Я вижу, ты мудрый человек, — улыбнулся Сабанак, — и понимаешь, что каждый мальчик, если он не калека, рождается воином. И ты, верно, воевал когда-то…
— Я только с рыбой воевал и иногда побеждал ее, — под общий смех отозвался Назис.
— Но все равно воевал, — Сабанаку понравился этот словоохотливый старик, и он еще шире улыбнулся, — мужчина всегда воюет: со зверем, с рыбой, как ты, с врагами. Пусть твои внуки сами решат свою судьбу. Но я лично уже повоевал и, слава Аллаху, собираюсь дальше жить мирно.
— Ты поминаешь какого-то Аллаха, — поднял руки вверх Назис, — нам про него говорили сердитые люди, что приезжали из Кашлыка по ханскому повелению. Они велели сбросить в воду наших богов и поклоняться этому самому Аллаху. Но покажи его нам. Где он?
Сабанак никак не ожидал, что в первый же день ему предстоит вступить в спор о вере со своими подданными, и, чуть улыбнувшись, заговорил терпеливо, словно с малыми детьми:
— Аллах везде: и на небе, и на земле, и в воде. Он все видит и даже знает наши мысли…
— Зачем нам такой бог, который знает наши мысли, — возразил ему из толпы высокого роста мужчина с густыми волосами, падающими на плечи.
— Подожди, Тузган*, не перебивай нашего господина, — шикнул на него Назис. — Прости его, неразумного, — поклонился старик Сабанаку, — он всегда всем возражает, что с него взять, Тузган…
— Вы говорите, что вам не нужен такой Бог? Но ведь другого просто нет, — Сабанак воздел руки вверх, — ваши деревянные боги тоже подчиняются Аллаху.
— Нет, неправда, — зашумела толпа, — наши боги помогают нам и на охоте, и на рыбалке. Мы приносим им дары и получаем их покровительство. А твой бог не принимает жертв. Как можно задобрить его? Как он будет покровительствовать нам?
— Нужно молиться Аллаху и в молитве просить его обо всем, что вы желаете…
— У меня вот лодка старая, — теперь не вытерпел Назис и, хитро поблескивая глазами, повернулся к соплеменникам, — попроси за меня, чтоб твой Аллах послал мне новую, — под одобрительный хохот закончил он.
— А почему бы и нет? Ты помолишься, попросишь сил у Аллаха и сможешь сам сделать себе новую лодку. — Сабанаку понравилось наивное убеждение этих людей, которые воспринимают Аллаха буквально, считают, будто он может послать им то, что они пожелают. — Разве ваши боги посылали вам что-то, чего вы не делали руками?
— Когда не было ваших шейхов, то у нас было все, — упрямо возразил тот, кого назвали Тузганом, — а ваш Аллах ничего нам не дает.
— Если господин не хочет, чтоб мы ссорились с ним, то пусть не требует от нас почитания своего Аллаха, — вступил в разговор приземистый широколицый охотник, на поясе у которого виднелось больше десятка медвежьих клыков — Меня зовут Сахат и я главный на охоте, когда все мужчины идут на лося или медведя. Нам не видать удачи, если забудем своих богов. К тому же мы не запрещаем господину поклоняться Аллаху, а сами будем, как и раньше, почитать своих богов.
Сабанак понял, что ему с первого раза не удастся найти общий язык с этими людьми, и примирительно махнул рукой:
— Пусть будет по-вашему — вы поклоняетесь своим истуканам, а я как молился, так и буду молиться Аллаху. А сейчас приступайте к строительству жилища для меня. Я же проедусь по своим землям.
Так он и поселился несколько лет назад в этом селении. Еще живя в Москве, он был поначалу удивлен, как много хлеба едят русские, но потом постепенно привык к этому и, уезжая, припас по нескольку мешочков семян разных растений. В первую же весну он приказал мужчинам со всего селения обработать мотыгами довольно большой участок земли в глубине леса, а женщинам размять руками все комки, оставшиеся на поле. Ранним утром Сабанак направился на поле и разбросал семена, а затем, привязав к седлу своего коня тяжелое сучковатое бревно, несколько раз прошелся по участку, чтоб вдавить семена в землю и те не стали бы легкой добычей для птиц.
Потом он регулярно ходил наблюдать за всходами и радовался как ребенок зеленым стебелькам, вставал на колени, нежно гладил их, приговаривая. "Чудные вы мои, растите, принесите хороший урожай".
Раз он заметил, как из глубины леса кто-то подглядывал за ним, но не стал выяснять, что нужно было тому любопытному. У него установились неплохие отношения с его подданными, но они все равно сторонились своего мурзу-господина, стараясь лишний раз не попадаться на глаза. Все знали, что он ходит на свою делянку в лес, оставаясь там подолгу. Девушки, собиравшие ягоды, подглядели, как он стоит на коленях и что-то шепчет возле колосящихся всходов. Об этом тут же узнали все в селении и, посовещавшись, решили меж собой, что это и есть тот самый бог, которому поклоняется их господин.
— Вот и хорошо, славно, коль у него такой безобидный бог. Если он будет нам докучать, то мы вытопчем его посевы, — пообещал Сахат.
— Да, главное, чтоб он не выдал шейхам нашего шамана, — согласился рыбак Назис, — но, похоже, что он и не догадывается, где мы его прячем.
Но Сабанак давно заметил, как жители селения довольно часто куда-то исчезали из своих жилищ, направляясь на болото, начинающееся сразу за ближайшим лесом. Когда он попробовал поинтересоваться у Сахата, зачем и старики, и дети уходят на болото, то тот, глядя себе под ноги, нехотя ответил:
— Ягоды ходим брать.
— Вроде, пора не пришла, — усмехнулся Сабанак.
— Смотрим, каков урожай будет, — все столь же спокойно ответил охотник и пошел в селение.
Сабанак хотел было выследить, куда отправлялись жители, но передумал. Живя бок о бок с ними, он находился в полной зависимости от своих подданных, а не имея отряда преданных нукеров, нечего было и думать о вражде с ними. Пусть будет как есть, решил он. Тем более посевы уродились отменные, и он с нетерпением ждал, когда можно будет приступить к сбору урожая. Он знал, что жители некоторых сибирских селений тоже сеют просо, рожь и другие растения. Но большинство сибирцев предпочитали выменивать зерно или муку на шкуры у приезжих купцов. Слишком трудно было вырастить в этом диком крае хороший урожай. Посевы могли вытоптать дикие звери, склевать птицы, наконец, обильные ливни или ранняя засуха не давали никакой уверенности, что к осени они окажутся с запасом муки. Зато рыба, мясо — это другое дело. Здоровый мужчина всегда мог прокормить семью.
Наконец Сабанак объявил женщинам, что завтра поведет их на свою делянку собирать урожай, и велел приготовить мешочки и туеса для сбора зерна. Женщины работали весь день и смогли собрать лишь половину урожая. Заполнили все принесенные с собой мешки, туеса и на другой день вновь отправились на делянку.
Сабанак разрешил каждой из работниц оставить себе по небольшому мешочку с зерном, которое они тут же перетерли на деревянных жерновах, истолкли в больших ступах. Вечером над селением поплыл приятный запах печеного хлеба. Сабанак ходил от жилища к жилищу веселый и улыбающийся, шутил с мужчинами, отведывал по кусочку приготовленного угощения, хвалил хозяек.
На другой день, выйдя на берег, он увидел, как рыбак Назис с одним из своих внуков и бормочущим что-то себе под нос Тузганом тащат по берегу тяжелое бревно. Затем, положив его на подложки, они принялись по очереди топором обтесывать его. Он подошел к ним и, пожелав здоровья, поинтересовался:
— Верно, лодку начали делать, не стали дожидаться, пока ваши боги пошлют ее вам?
— Господин прав, — согласился Назис, — наши боги не такие как твой. Ты вот попросил у своего Аллаха хорошего урожая и он дал его тебе. А наш посоветовал, чтоб мы сами сделали лодку.
— Что-то я не видел, чтоб кто-то из твоих женщин вчера собирал зерна у меня на поле? — спросил он у старого рыбака.
— Разве господин не знает, что моя старуха умерла, а внукам рано жениться? Мы живем без женщин… Что делать…
— А невестки твои? Разве не с тобой они живут?
— Они были взяты из других селений и, когда сыновья не вернулись из похода, родители забрали их обратно. А что я мог сделать?! Я уже стар, силы не те… — верно, воспоминания были болезненны для Назиса и на лбу у него вздулись вены, покраснела дряблая старческая шея.
— Почему же они не взяли своих детей? Ведь то их дети?!
— Все так, да кому сейчас лишний рот нужен. Вот внуки и остались жить со мной. Так лучше. Но невестки иногда приходят, помогают нам. У них сейчас другие мужья, — горестно всхлипнул он, принимая топор из рук вспотевшего Тузгана.
— А где твоя старая лодка?
— Сгнила… Где ж ей еще быть, — просто ответил Назис, потом взглянул на Сабанака и добавил, — а еще раньше мою лучшую лодку отобрали воины хана Кучума. Так и живем…
— Да, — невольно вздохнул Сабанак, сочувственно оглядывая старого Назиса.
В первый год собрать ясак в сто соболей ему не удалось. Охотники или скрывали от него сколько добыли, или действительно был плохой год, как они говорили, но в самый разгар лета прибыли даруги-сборщики от Кучума. Они разговаривали свысока с Сабанаком, заявив, что хан недостающие шкурки велел записать ему как долг. И на следующий год он должен кроме обязательных ста сдать и те, что задолжал. Сабанак вспылил, ответил им, чтоб они сами попробовали добыть хотя бы одного соболя, но сборщики, развернув коней, даже не стали слушать и, обдав его грязью из-под копыт, ускакали прочь. Все это слышали присутствующие здесь же жители его селения.
Следующий год был более удачный и соболей увезли в ханскую ставку столько, сколько требовалось. Но другие года опять были тяжелыми для охоты, и мужчины, пряча глаза, лишь разводили руками:
— Ушел соболь, господин, — сообщал каждый вернувшийся из леса охотник.
Тогда Сабанак надел лучшие свои одежды и сам отправился в Кашлык. Кучум был в отъезде, а принял его а своем шатре Карача-бек.
— Знаю, знаю о твоих бедах, — кивал он головой, — но надо на что-то содержать воинов, покупать оружие, отсылать подарки соседям. А если все беки и мурзы не соберут положенной дани? Что тогда?
Сабанак сидел молча, испытывая огромное унижение, и даже не смотрел на ханского визиря.
— Хорошо, я могу помочь твоему горю, — мягко заговорил тот, — приготовь для гарема ханских сыновей пять красивых девушек из своего селения. И еще. Сообщи, где твои люди прячут шамана. Мы давно ищем его.
— Я не совсем понял, о чем говорит уважаемый, — поднял наконец голову Сабанак, — о каких девушках? Какого шамана я должен найти?
— Какой непонятливый, право, — Карача-бек мягко улыбнулся, — подберешь красивых молодых девушек для гарема ханских сыновей. Чего не понять?
— Но как я скажу об этом отцам? Меня проклянут их матери…
— Это уже твое дело. Думай сам, как ты им сообщишь. Но только на таком условии можно списать с тебя долг.
— А где я должен искать шамана, которого в глаза не видел? Я правоверный мусульманин и к шаманам не обращаюсь.
— Зато люди твои не совершают намаз, не почитают Аллаха, а бегают в лес к своему шаману, где у них устроено святилище с деревянными истуканами.
— Если уважаемый так хорошо обо всем извещен, то почему он не может схватить шамана? Почему обязательно я должен выполнять грязную работу? — Сабанак гневно глянул на визиря. — Что-то я не помню, чтобы ты был во время боев с нами. Мы гибли, устилали дорогу к ханскому холму своими телами, чтоб потом здесь засели такие как ты и указывали, какую гнусность я должен выполнить. Ноги моей здесь больше не будет!
— Подожди давать необдуманную клятву, ибо сказано, что мужчина должен думать прежде, чем произнести слово, — остановил его визирь.
— Я много думал, находясь в московском плену. Очень много! Но даже предположить не мог, что стану собирать шкурки соболей для хана и поставлять девушек в гарем…
— Но сам хан выбрал тебе удел и определил размер подати. Мое дело только вести учет. Поговори с ханом, чтоб он снизил тебе размер дани. Чем я могу помочь?
— Кроме меня самого никто не поможет мне, — сверкнул глазами Сабанак и выскочил из шатра. Он не стал дожидаться возвращения в городок Кучума, а уехал из Кашлыка в тот же день. Вернувшись к себе, никому не сказал о разговоре с визирем, но, верно, жители по его хмурому лицу и так все поняли.
Какое-то время их никто не тревожил и не напоминал о долгах. Но однажды ближе к полудню показались ханские воины во, главе с Шербети-шейхом. Воинов было больше десятка, но для жителей селения, которых согнали на берег реки, этого было вполне достаточно. Никто не собирался оказывать сопротивление. Сабанак стоял в стороне, наблюдая за происходящим.
Шербети-шейх вышел вперед и громко заговорил, по очереди вглядываясь в каждого:
— Не первый раз я здесь, чтоб обратить вас на путь истинной веры, учу, как совершать намаз, молиться, соблюдать законы, предписанные шариатом. Но не вижу, чтоб слова мои нашли путь к сердцам вашим. Прошлым летом вы прогнали муллу, почтенного человека! — шейх выбросил вперед правую руку, указывая по очереди на каждого селянина. — Мало этого! Вы до сих пор поклоняетесь идолам, и сегодня мы решили положить конец этому. Кто укажет дорогу к вашему шаману? — толпа молчала. — Хорошо, — продолжил шейх почти добродушно, — тогда нам ничего другого не остается, как применить силу. Приступайте, — кивнул он воинам.
Те бросились вперед и схватили нескольких жителей, среди которых оказался внук Назиса, совсем еще молодой юноша, он покорно шел рядом с воинами, подталкиваемый копьями. Зато не выдержал старый Назис и кинулся на охранников, принялся охаживать тех суховатой палкой по спинам, приговаривая:
— Мало вам, сарты проклятые, что двое моих сыновей сгинули, так вы еще и до внука добрались! Убейте меня сперва…
Один из воинов ударил старика тыльным концом копья в бок и тот упал, к нему подбежал Тузган, оттащил в сторону. Остальные жители стояли в нерешительности, ожидая, что же будет дальше. Молчал и Сабанак, нахмурив брови и посматривая на шейха, на воинов, на жителей селения.
Пятерых схваченных воины привязали к росшим на берегу деревьям и по знаку Шербети-шейха начали собирать хворост, складывать его к ногам пленников. Жители молчали. Но когда один из воинов высек искру и раздул огонь возле ног пленников, Сабанак не выдержал и подошел к шейху.
— Чего вы хотите добиться? — поклонившись, заговорил он. — Они не покажут вам, где прячут шамана, если даже вы спалите всех их заживо.
— Пусть будет так, — пожал тот плечами, — мне уже приходилось встречаться с подобным. Мурза Сабанак, верно, знает, что согласно нашей вере нет иного Бога, кроме Аллаха.
— Конечно, — ответил тот покорно, — но сказано, что Бог ведет на путь истинный того, кого он изберет. Может, этим людям пока рано приобщаться к истинной вере?
— Мы не можем больше ждать. Помни, сказано: "Бог наложил на сердца и уши неверных печать, глаза их прикрыты покрывалом, страшная участь ожидает их". От них зараза распространяется на другие селения, они бунтуют. А заразу надо выжигать сразу и навсегда. И только так!
— Высокочтимый Шербети-шейх разрешит мне переговорить с людьми? Может быть, я смогу уговорить их…
Шербети-шейх глянул на него, словно оценивая, сколько времени им предстоит еще оставаться здесь, помолчал и подал знак воинам, чтоб пригасили костер.
— Я не стану долго ждать, — кинул он вслед Сабанаку, — мне хорошо известно, как надо обращаться с этими упрямцами. И не советую тратить время на пустые уговоры… — но Сабанак уже бежал к толпе жителей, разыскивая глазами Сахата.
Тот стоял в центре и прятал за спиной лук. Рядом стояли другие мужчины и у всех в руках были или короткие копья, или луки. Как и думал Сабанак — они постараются отбить своих сородичей, чего бы это не стоило.
— Подожди, Сахат, не делай того, что задумал, — торопливо проговорил Сабанак.
— Господин предлагает, чтоб мы смотрели, как будут мучить и убивать наших людей? А если бы там был твой брат? Или сын? Ты бы смотрел и не вступился?
— Но вам не справиться с воинами. Они убьют и пленных, и детей, и женщин. Будет много жертв! — Мужчины, набычась, молчали. — Хорошо, — неожиданно в голову Сабанаку пришла спасительная идея, — а можете ли вы известить своего шамана, отправив к нему гонца, что его подстерегает опасность?
— Шаман и так все знает, — глухо ответил кто-то.
— Но вы можете отправить к нему гонца? А потом вести шейха и воинов не обычной короткой дорогой, а более длинной. Шаман успеет скрыться за это время. — Сабанак говорил умоляющим голосом, и может, именно мольба, что звучала в каждом слове, выражение его глаз подействовали на мужчин.
— Хорошо, пусть будет так, — согласился наконец Сахат и тихо что-то шепнул стоявшему рядом юноше. Тот кивнул и начал выбираться из толпы, настороженно поглядывая в сторону шейха и воинов.
Сабанак, обменявшись взглядами с Сахатом, подошел к Шербети-шейху и тихо сообщил:
— Они согласны показать тебе свое святилище. Но боюсь, вы его там не застанете.
— Кто-то предупредил его? — шейх злобно глянул на толпу. — Тогда я сожгу их всех на этом месте. Кто укажет нам дорогу к проклятому шаману? — громко обратился он к неподвижно стоящим жителям.
— Я, — шагнул навстречу ему Сахат. Сабанак заметил, что лука в руках у него уже не было. — Я поведу, если почтенный шейх согласится.
— Веди, а эти пусть остаются здесь, — указал он в сторону пленников, — надеюсь, мурза Сабанак проследит?
— Конечно, — с покорностью ответил тот. Однако, Шербети-шейх, дойдя до кромки леса, куда повел воинов Сахат, неожиданно повернул обратно, словно что-то подсказало ему о грозящей опасности.
— Я уже стар для подобных переходов, — пояснил он удивленному Сабанаку, — лучше я проведу время в молитвах, — и уселся, подобрав под себя ноги, на небольшой коврик, сняв его с седла. Он повернулся лицом на восток, провел ладонями по лицу и стал молиться, полуприкрыв глаза. Сабанак же счел за лучшее отправиться к себе, но успел заметить, как из толпы, продолжавшей оставаться на берегу, выбирались по одному мужчины и, полупригнувшись, направлялись к лесу, постепенно убыстряя шаг.
"Что ж, — подумал он со вздохом, — хан сам сделал выбор. Остальное от меня не зависит. Будь, что будет…"
Он не помнил, сколько времени провел в своем жилище, когда на берегу раздались крики. Выскочив наружу, увидел как со стороны леса, держась рукой за грудь, выскочил один из воинов, что пришли с шейхом. Спотыкаясь, он бежал к привязанным у изгороди коням. По его груди расползлось большое кровавое пятно…
— Все… Выбор сделан, — прошептал Сабанак, — обратного пути у меня нет. Хан помог сделать мне выбор…
Шербети-шейх увидел раненого воина, вскочил на ноги и сделал несколько шагов к нему навстречу, но в это время из леса вылетела длинная стрела с белым оперением на конце и вонзилась тому в спину. Тяжело взмахнув руками, воин упал. Шербети-шейх что-то выкрикнул в бешенстве, вскочил на коня и, нахлестывая его, поскакал прочь из селения. Никто его не преследовал… До Сабанака лишь долетели слова проклятия, которыми старый шейх заклеймил всех жителей селения, а значит, и его тоже.
Обойдя труп убитого, Сабанак подошел к селянам, которые встретили его радостными криками: "Слава нашему господину! Славься его имя!" Назис торопливо освобождал от пут пленников, гладил по щеке своего внука. Сабанак тем временем нетерпеливо поглядывал в сторону леса, ожидая, когда оттуда вернутся мужчины. Наконец на опушке леса показался Сахат, а за ним следом и остальные. Все они несли доспехи, снятые с убитых воинов.
— Теперь они не сунутся, — потряс в воздухе дубиной Тузган, — мы им показали…
— Молчи, дуралей, — дернул его сзади за одежду Назис, — вот теперь-то они как раз и заявятся большим отрядом и всех нас поубивают.
— Где шейх, — коротко спросил Сахат — Удрал? Так я и думал. Надо было его привязать к дереву и сжечь… В нем все зло. Так сказал наш шаман…
Теперь они уже считали Сабанака своим и не скрывали от него существование шамана. А он смотрел на этих доверчивых и наивных людей и не знал, как ему поступить. Если он явится к Кучуму с повинной и даже если тот его и простит, даст новый улус, то все начнется сначала. В лучшем случае. Будь он на месте хана, то такого человека, непременно, посадил в яму вместе с другими ослушниками и держал там до смерти. А кто помешает хану поступить именно так? Был бы жив его дядька Алтанай, он заступился бы за племянника. Нет, в Кашлык возвращаться ему нельзя. Как нельзя оставаться здесь, ожидая, когда тебя схватят и поволокут на суд к хану Кучуму. Можно, конечно, бежать. Но куда? Обратно в Бухару? А кто его там ждет? Кто поможет? Нет, и там он никому не нужен.
— Господин, — тронул его кто-то за плечо, обернувшись, встретился взглядом с Сахатом, — ты остаешься с нами? Или… Мы тебе не неволим. Ты хороший человек и зла на тебя не держим. Решай сам.
— Я решил, — неожиданно для себя ответил Сабанак, — я остаюсь с вами. Но вы будете во всем слушаться меня. Согласны?
— Согласны!!! — дружно ответили ему.
— Тогда давайте выберем есаула, кто будет взамен меня, если со мной что-то случится. Я считаю, что им должен стать Сахат.
— Верно! Пусть Сахат будет твоим есаулом! — отозвалась толпа.
— А теперь слушайте меня внимательно и запоминайте все, что я скажу вам. Шейх скоро вернется. Может, не сегодня, не завтра, но вернется, чтоб отомстить за убийство его воинов. Неужели мы будем, словно покорная овца, ждать, когда опустится занесенный над ней нож? Нет, нам нужно уйти туда, где нас не смогут найти, в глухую тайгу, в болота. И там построим себе жилища. Дальше…
— Сабанак сделал небольшую паузу, вгляделся в лица селян, которые без страха воспринимали его слова и, казалось, готовы были выполнить любое приказание. У него потеплело на душе и он подумал, что жизнь еще не кончена, у него есть еще дни в запасе и он отомстит хану, который столь несправедливо с ним обошелся.
— Дальше… — продолжил он. — Всем мужчинам наготовить как можно больше стрел, отправим несколько человек в соседние селения, чтоб выменять оружие. Отдавайте последнее, но помните: если у нас будет оружие, мы сумеем выжить, а без него… Ничего не жалейте в обмен на оружие. И вот еще. Стариков и женщин с детьми лучше пока отправить к их родственникам в соседние селения, где бы они смогли укрыться. Не все выдержат переход.
— Я никуда не пойду, — заерепенился рыбак Назис, хотя он и был едва ли не самым старым человеком среди соплеменников, — лучше я умру от стрелы сарта или погибну в болоте, но идти в чужое жилище на старости лет не согласен, — и он гордо выпятил костлявую грудь.
— Пусть каждый решает сам. У кого хватит сил — останется. А нет, то лучше уйти к родичам. А теперь все готовьтесь выступить завтра в путь, идите собираться. Пусть останется только Сахат.
— Нас слишком мало, — проговорил охотник, как только они остались одни, — нужно объединиться с жителями других селений.
— А они согласятся? Зачем их срывать с обжитых мест? Только время напрасно потеряем на уговоры.
— Господин, верно, не знает, но раньше вокруг нас, до прихода хана Кучума, было много селений. Ясак собирали небольшой, и все жили без опаски. Но потом многие ушли в урман, осели на болотах. Пока нас не трогали, и мы жили спокойно. Но недавно взбунтовались карагайцы, даже прогнали ханских нукеров. Недовольных очень много. Пусть не все пойдут с нами, но я знаю нескольких охотников, что давно поговаривают о том, как бы уйти подальше в лес, где никто не сможет заставить их платить столь большой ясак. Даже два десятка человек, и то пригодятся. Послушай меня, господин.
— Хорошо, — подумав, согласился Сабанак, — отправим к ним гонцов. Но главное сейчас — решить, куда мы отправимся. Я плохо знаю эту землю и хочу услышать, что бы ты предложил.
— У нас очень мало лошадей, да и те заморенные. Зато в каждой семье есть лодка, а то и несколько. Направимся двумя отрядами — по суше и по воде. Уходить будем в верховья реки. Там реже показываются даруги, что собирают дань. Правда, будет трудно найти незаселенное место и, может быть, придется выкупать землю, но зато безопасней.
— Я согласен, — ответил Сабанак, — только ответь Мне, что вы собираетесь делать со своим шаманом?
— Об этом не беспокойтесь. Я схожу за ним. Он отправится с нами.
— Хорошо, до завтра, Сахат.
— До завтра, наш господин.
Утром от берега селения отчалила вереница лодок, до верха нагруженных всяческим скарбом, а по берегу двинулись селяне верхом на лохматых лошадках, гоня перед собой немногочисленную скотину. Впереди ехал Сабанак, оглядывая окрестности. Некоторые места он помнил еще с тех пор, как они шли здесь с сотнями хана Кучума, набранными в Бухаре. Мог ли он тогда представить, что через несколько лет будет ехать впереди отряда робких селян, признавших в нем своего господина? За что судьба так зло посмеялась над ним? У него до сих пор нет семьи, нет сыновей, которым он мог бы передать свое имя, и будут ли… Вспомнились слова из корана: "Каждому человеку назначили мы неизменно судьбу его…" Значит, человек не в силах противостоять судьбе? Зачем же мы сопротивляемся ей? Не лучше ли смириться?
Зоркие глаза Сабанака различили сидевшего в передней лодке старика с длинными седыми волосами. Верно, это и был шаман, которого обещал привести Сахат.
Но вот он увидел, как от противоположного берега отчалила черная долбленка и двинулась навстречу лодкам, следующим из селения. Сколько Сабанак не напрягал глаза, но не мог различить, кто же управляет ей. Она остановилась ненадолго возле их флотилии, а затем повернула в ту же сторону и пошла в общем строю. Когда в полдень сделали привал и лодки пристали к берегу, Сабанак увидел вылезавшего из долбленки уродливого человека-коротышку, который низко поклонился ему. Он узнал виденного в Кашлыке Халика, что смешил Кучума "Ну вот, — подумал он, — с шаманом и уродом-коротышкой обещает мне судьба дальнейший путь, верно, я заслужил этого".
БЛАЖЕНСТВО СТРАЖДУЩИХ
Семен Строганов, вернувшись в свой городок после свидания с братьями, долго не мог найти себе места и ходил, словно неприкаянный, по огромному двору, грозно посверкивая глазами на попадающихся дворовых.
— Чего слоняешься без дела? — напустился он на приказчика Антипа, что два раза уже как повстречался ему. — Поди, давно на варницах не был, все здесь околачиваешься?!
— Да что ты, хозяин, — поднял тот, как бы защищаясь, обе руки, — всего третий день лишь как воротился…
— Вот и отправляйся сызнова туда, — не оборачиваясь, бросил на ходу Семен Аникитич. Антип почесал в затылке, с укоризной поглядел вслед осерчавшему на что то хозяину и потащился дальше.
Семен же велел седлать коня и снарядить с собой небольшой отряд охраны, запастись припасами на пару дней и, никому не объясняя причину своего отъезда, шумно выехал из городка через небольшие скрипучие ворота, которые тут же закрыли подобострастно глядящие на хозяина охранники. Семен покосился на косолапых мужиков, вчерашних хлебопашцев, подумал, что им привычнее держать в узловатых наработанных ладонях вилы или косу, нежели копье или саблю. Народишко в городке менялся едва ли не каждый год, то притекая по десятку человек на день, то внезапно исчезая, не спросив оплаты, а потом появлялась в чусовских лесах еще одна шайка воровских людей, грабившая обозы, одиноких охотников вогулов, промышлявшая нехитрым разбойным делом. Вскоре и она исчезала с той же быстротой как народилась. Уходили, видать, то ли на Каму, то ли дальше на Волгу, а вслед за ними объявлялись новые шайки, и люди сообщали иные имена разбойных атаманов, чтоб через год забыть и о них. И так едва ли не каждое лето…
Конь вынес его по узкой лесной тропе к речному каменистому обрыву над Чусовой, видневшейся далеко внизу свинцовым отливом излучины, переходящей в большую петлю речного русла. Лишь небольшой кусочек воды можно было различить сквозь широкопалые ветви темных елей, соседствующих с величавыми соснами, уцепившимися мощными корнями, как орел когтистыми лапами, за каменистый склон.
Чусовая отсюда, сверху, казалась тихой и кроткой, словно покорная невеста у ног победителя. Но Семен знал, какой мощью встречает река неосторожного пловца, втягивая его вовнутрь, бросая на скалистые берега, играя с ним, как кошка играет с полузадушенной мышью, чтоб потом, натешившись вволю, утащить на дно и, так же играючи, продолжить величавый бег, очаровывая нежностью своей, вкрадчиво приглашая войти, окунуться, помериться силами.
Нет, Семен Аникитич знал ее норов, хитрость и своенравие. Но от этого еще больше испытывал гордость и уважение к реке, на которой родился, чью воду пил долгие годы, умывался, плескал в баньке на каменку, вдыхая бархатистый пар, снимающий тяжесть и усталость.
Чусовая… Кто дал ей такое имя? За что названа она тихим, пугливым именем, предвещающим опасность, несущим предупреждение? Русский человек издавна складывал губы трубочкой, выдыхая через них с шипением воздух, поднимая при этом указательный палец кверху. "Чу!", "Чудно!", "Чур меня!" И Чусовая одним названием своим предупреждала, остерегала, призывая к чуткости, осторожности.
Столь же чуток и опаслив был народ, проживающий на ее берегах, пришедший сюда задолго до русских. Но не столько богатства лесов влекли их, сколько руды, выступающие тут и там, хитро подмигивая людям красновато-рыжими и зеленовато-изумрудными буграми, многоглазьем россыпей, притаившихся меж перелесков. Именно они и тянули, звали людей, чтоб найти их, извлечь из земли, переплавить и выковать ножи, кинжалы, топоры, наконечники для копий. Старые штольни встречались довольно кучно, совсем рядом с Чусовой, зияя дырами провалов, обильно поросших зеленой травой, а на кучах отвальной породы кустились розовым цветом душно пахнущие розовые соцветья Иван-чая, безошибочно указывающие любому места прежних выработок.
На них-то, эти соцветья розоватых, нарочито нарядных цветов, и обратил внимание Семен Строганов много лет назад, когда еще с отцом ездил по отдаленным варницам, и в пути они частенько натыкались на старые штольни, окруженные розовым полукружьем подрагивающих от легкого ветерка цветов. Заросли Иван-чая словно приглашали заглянуть внутрь, раздвинуть, отыскать темные ямы, уходящие глубоко под землю. Семен, оставаясь один, без отцовского присмотра, выискивал наиболее глубокие, отлого идущие вниз штольни и на четвереньках забирался в темный, сумрачный лаз, с дрожью во всем теле проползал по нему, ощупывая руками осклизлую поверхность стен, подсвечивая себе смоляным факелом, подбирая обломки красноватой руды.
Отец, увидев его измазанную в земле одежду, благодушно ворчал на младшего сына-последыша, грозил толстым пальцем, чтоб прекратил шалость, но в душе понимал неуспокоенность мальчика и не чинил особых препятствий обследованию им старых штольней, надеясь, что со временем сын одумается, прекратит пустые занятия.
Но Семен после смерти отца не только не оставил поиски, но разыскал сына старого пасечника Тимофея, Федора, что тоже был увлечен рудознатством и даже выплавлял в кузнечном горне руду, впрочем, без особых успехов. Ножи получались хрупкими, как стекло, и с целого воза железоносной руды он едва мог выплавить четверть пуда железа. А потому Семен Аникитич выписал из Москвы немца Иоганна Петерса, назвавшегося неплохим рудознатцем. Долго торговались с ним об условиях найма: тот, кроме оплаты, требовал не только хороший стол, но и чтоб шелковое белье ему поставляли с хозяйского двора, и, упрямо сжимая тонкие бескровные губы, повторял: "Наин, много… Пуштяк… Ученый человек ошень дорог…"
Семен Аникитич долго спорить не стал, согласился на все условия, размышляя, мол, договор — одно, а на деле — другое, и привез немца в свой городок. Он поселил его на отдельной заимке, где возвели из кирпича специальные печи, и двадцать человек подручных мужиков заготавливали дрова, жгли уголь, возили руду и были в полном подчинении у Петерса.
Вот туда и ехал сейчас Семен Аникитич, чтоб посмотреть на первую, отлитую на его земле пушку, которую Иоганн Петерс обещал подготовить для испытаний неделю назад. Немец и впрямь оказался великим искусником, розмыслом, как звали его мужики, и повел дело так, что начали плавить и железную, и медную руду, отыскал несколько новых рудных месторождений, да так увлекся своим делом, что пока ни разу не вспомнил о шелковом белье, обещанном при договоре.
Через час Семен въезжал в широкую лощину возле одного из многочисленных притоков Чусовой, где на бережку стояло три дома, смоляным духом выдававшие малый свой возраст. Из среднего приземистого строения, больше похожего на сарай, через каменную широченную трубу валил густой дым, слышалось позвякивание металла, хлопанье мехов, выкрики мужиков. Петерс сам отбирал людей на заимку, будто читал человека, как открытую книгу, угадывая наиболее смышленых и расторопных. Он так поставил работу, что минуты простоя не было, мужики втянулись в дело и не жаловались на загруженность и, казалось, с радостью выполняли все его распоряжения.
Привязав коня к ближайшему оградному столбу, Семен Аникитич заглянул в сарай и, различив в полумраке долговязую фигуру немца, махнул ему рукой, вызывая наружу. Тот, отдав коротко указания, вышел к хозяину. Поздоровались и, обменявшись взглядами, зашагали к центральному дому, обошли его — и под навесом из жердей Строганов увидел прикрытую рогожей пушечку. Рогожный мешок не смог укрыть ее полностью, и зев жерла был уставлен прямо на них, маня хищной округлостью, сверкая бронзовым стволом. Строганов невольно приостановился, обошел пушечку сбоку, сдернул рогожу, похлопал рукой по отполированному мастерами стволу. Ее установили на обыкновенные тележные колеса, отчего она имела почти мирный вид, если бы не хищный оскал ствола.
— Испытывал уже? — спросил Семен Аникитич немца.
— Наин. Тебя ждем, — коротко ответил тот, жестко выговаривая слова. — Мошно стрелять. Все зер гут.
— Ну, коль так, то давай, стрельнем, — Строганов широко улыбнулся и увидел спешившего к ним Федора, что был первым помощником у немца-розмысла.
— Добрый день, хозяин, — поклонился тот и стянул шапку. Хотя он не раз бывал в доме у Строгановых, где его принимали как своего, но оставался все таким же подчеркнуто почтительным. Его умные серые глаза, которые он прятал при разговоре, уставив их зачастую в землю, выдавали его, посверкивая изредка холодком и отчужденностью.
"Этот себе цену знает", — думал про него Семен Аникитич, — тихоня тихоней, а дай ему волю, да деньжат чуть и… развернул бы свое дело, а тогда бы уж не кланялся, не любезничал…"
— Хороша пушечка, — щелкнул по стволу пальцем Семен Аникитич. — Тебе, Федор, и стрелять первому. Не побоишься?
— Чего бояться, коль сам лил, сам ствол сверлил. Не должно быть промашки.
Кликнули двух мужиков, и они мигом выкатили пушечку из-под навеса, направили ствол на противоположный необжитый берег речки. Семен Аникитич, прищурясь, наблюдал за действиями своих людей, представляя то время, когда у него будет десяток, а то и больше таких пушечек, вдоволь зелья, ядер — всего, что нужно для обороны. Вот тогда-то он посмотрит на удивленные лица братьев, и представил, как Григорий, все норовивший показать свое превосходство, разинет рот, увидев торчащие из бойниц Семенова городка жерла пушек. Не будут страшны ни вогульцы, ни татары с грозным ханом Кучумом. Тогда он действительно перейдет через горы и вступит на сибирские земли, крепко обоснуется там.
— Готово, — крикнул меж тем Федор, забив последний пыж, утирая о штаны замасленные руки, — тащи прут раскаленный из кузни, — приказал молодому парню, стоявшему в дверях.
Тот, не мешкая, принес металлический пруток, раскаленный и чуть красноватый с одного конца Федор, принимая запал, глянул на хозяина, ожидая команды. Строганов одобрительно махнул рукой. Раскаленный прут зажег порох — и звонко бухнул раскатистый выстрел, каменное ядро со свистом вырвалось из ствола и, перелетев через речку, начисто срезало молодую березку. Та, цепляясь ветвями за соседние деревья, с шумом повалилась на землю, оставя расщепленный обруб.
— Неужто в дерево целил? — удивился Строганов.
— Не-е-е, то случайно, — радостно засмеялся Федор.
— Так ты у нас не только кузнец, литейщик, но еще и пушкарь, — одобрительно похлопал его по плечу Строганов.
— Гут, молодец, — без улыбки поддержал хозяина Иоганн, — тольк будет.
— Еще какой толк будет, — не переставая улыбаться, поднял большой палец вверх Строганов. — Пойдемте-ка оба в дом. Поговорить надо, — кивнул мастерам и сквозь толпу работников, собравшихся без приглашения на испытание пушки, первым направился к высокой избе с бревенчатым крыльцом.
— Шнель арбайтен, — замахал руками Иоганн на мужиков, — пошель, пошель… — и не больно ткнул костлявым кулачком под ребра ближайших к нему. Те послушно, без возражений поспешили каждый на свое место.
— Сев у окна, Семен Аникитич неторопливо провел по небольшой пшеничной бородке, дожидаясь, когда усядутся мастера.
— Разговор у меня к вам серьезный, — заговорил, как и положено хозяину, первым, вглядываясь пытливо в лица то одного, то другого, — хочу знать, сколь пушечек отлить сможете, скажем, до осени…
— Осень, осень, — пошевелил пальцами в воздухе Петере, пытаясь вспомнить значение русского слова.
— Когда снег повалит, — подсказал Федор.
— Ах, да, понял, понял, - закивал тот, — мало, ошень мало время…
— Я и не говорю, что много, — ответил Строганов, а спрашиваю, — сколько? Ты, Федор, как думаешь?
— Так и впрямь осень на носу, — пожал плечами тот, — не сегодня-завтра дожди зарядят, а там и снега поджидай…
— Сколько?! — жестко повторил Семен Аникитич.
— Не больше двух, — Федор развел руками.
— Цвай? — спросил немец. — Я, я, цвай пушка. Ошень карашо…
— Мне нужно десять пушек, — хлопнул ладонью о стол Строганов, — эти ваши две пушки что есть, что нет их. Десять!
— Больше пяти никак не осилить, хозяин, — покрутил головой Федор, — сам подумай: угля мало, руда пустая, слабая…
— И слушать ничего не хочу, — Семен Аникитич не отступал от своего, — если люди нужны, то скажите — с варниц сниму, пришлю сюда. Кони рабочие нужны? Будут. Что еще?
Мастера рассеянно смотрели на него, молчали.
— Отчего спешка такая? — наконец первым заговорил Федор. — Война что ль будет?
— Будет, — кивнул головой Строганов, — еще какая война будет. Пушки ваши мне, как воздух, нужны. Зачем — не скажу, но нужны. И эту, первую, с собой завтра же заберу в городок.
— Зер гут, — наконец заговорил тихо Петерс, — арбайтен, арбайтен, арбайтен. Пошли, — кивнул Федору. И они, не прощаясь, вышли, оставив Строганова одного.
Он переночевал на заимке, а утром заспешил обратно, велел сопровождающим его охранникам привязать к одной из лошадей пушку и доставить в городок.
Вернувшись к себе, он, не сняв дорожного платья, кликнул сотника Павла Ерофеева, что уже лет пять нес службу в городке. Тот скоро явился, вопросительно глянул на хозяина.
Семен Аникитич сидел под образами, уставя локти в столешницу и положив подбородок на сжатые руки.
— Садись, садись, — пригласил, — разговор серьезный к тебе.
Ерофеев, тяжело ступая, прошел к столу, придвинул к себе лавку, со вздохом опустился, положил шапку рядом. Так он молча просидел несколько минут, и Строганов, казалось, забыл о нем, сосредоточенно думая о чем-то своем. Павел несколько раз кашлянул в кулак, как бы напоминая о себе. Раскрыл было рот, чтоб спросить, зачем звали, но хозяин, спохватившись, заговорил первым.
— Слыхал я, будто бы ты, Павел, когда-то с казаками дружбу водил…
— Было дело, — криво усмехнулся тот, подумав, что правы те, кто говорил, мол, у хозяина полно наушников, которые обо всем доносят ему, получая за то отдельную плату.
— Да ты не бойся, дружбу с ними в вину не ставлю, — успокоил его Строганов, — хочу узнать у тебя… — чуть помолчал Семен Аникитич, — много ли у них людей? Сколько всего наберется, если вместе собрать? Десять сотен? Двадцать? А может, и все полета?
— Э-э-э… Да ты, хозяин, полегче чего спроси. Про то, сколь казаков есть, поди, один Господь Бог и знает. Но много, может, и полета сотен будет. Они ведь и казаки разные встречаются… Волжские, донские, есть и такие, что на Яике обитаются. А чего это у тебя интерес такой до казаков, позволь узнать.
— Скажи, а на службу ко мне они пойдут?
— А чего они тут забыли? — вопросом на вопрос ответил Павел Ерофеев, пожимая плечами.
— Караул нести! Что ж еще.
— Вряд ли… Непривычные они, чтоб в крепости сидеть, в щелку глядеть, осадчиками прозываться. Казаки — они простор, волю любят.
— Но ты же пошел на службу ко мне.
— Со мной разговор особый. Нужда заставила сюда податься…
— Так что за нужда? — пытливо выспрашивал Строганов. — Не обезножил, сила имеется, башка, вроде как, неплохо варит. Чего не ложилось в казаках?
— Ладно, скажу тебе, хозяин, все одно узнаешь рано ли, поздно ли. Повздорил я там с атаманом одним из-за девки, да и… — Павел опустил голову и неожиданно замолк.
— Вон чего, — догадался Строганов, — поди, и жизни лишил атамана того, а чтоб тебя не прирезали дружки и подался в бега. Так?
— А почти так, — согласно кивнул головой тот.
— Ну, то дело давнее, поди, и забылось уже. Ты у меня, почитай годков пять как служишь…
— Точно, шестой год пошел тому.
— Вот и ладно. Хоть и говоришь, будто не схотят казаки в услужение ко мне наниматься, но невелик грех будет, коль ты с приглашением таким отправишься на Волгу…
— Я? — встрепенулся Павел.
— Ты, ты, — Строганов сощурил глаза, словно шилья воткнул в Ерофеева, и тот вдруг обмяк, тяжело вздохнул и слушал далее, не перебивая. — Я так понял, что казаки там разные есть. Есть такие, что ни за какие коврижки на службу наниматься не пойдут, а есть и иные. Вот и посули ты им хорошую кормежку, жалованье, оружие, какое пожелают…
— Ну уж, — не вытерпел сотник, — ты уж загнул, хозяин…
— Мое слово — закон. Знаешь сам. Сказал — выполню. В Москву, в Казань обоз снаряжу, а найду все, что обещано.
— Это не спорю. Держишь ты, хозяин, слово. Сколь же ты человек призвать хочешь? Сотню? Две?
— Да не меньше пяти.
— Пять? Да они тут все вверх тормашками подымут, поставят. Видать, не имел дела ты с казаками.
— Ничего. Мы еще поглядим, кто кого. Есть у меня слово такое, супротив которого никто не устоит. Справлюсь и с ними.
— Куда ж тебе столько воинов? С кем воевать собрался?
— Коль сам не догадлив, то нечего и спрашивать. Отправишься на лодке с десятью гребцами в конце недели. Дорогу, надеюсь, сыщете. А до снега успеешь обратно возвернуться.
— А коль не приведу казаков? Тогда как? — Павел поднялся.
— Не приведешь в этот раз, в другой сами придут. Главное, чтоб весть моя до них дошла. Я так думаю.
БЛАЖЕНСТВО ГРЯДУЩИХ
Князья Федор Барятинский и Алексей Репнин пробирались вдоль Волги в поисках казачьих разъездов, чтоб передать атаманам грамоту от царя московского о службе военной. Их сопровождал небольшой отряд в двадцать человек легко вооруженных стрельцов. Ехали уже неделю по почти безлюдным местам, где совсем недавно прокатилась крымская орда Девлет-Гирея, оставляя после себя головни обгорелых деревень, вытоптанные поля.
Федор и Алексей были уже опытными воинами, успевшими повоевать в Ливонии, оба женились, имели детей. В них трудно было узнать молодых князей, несших когда-то дозорную службу с отрядами Алексея Даниловича Басманова. Многое вспоминалось им о прошедших годах сейчас, когда они вновь ехали по тем самым местам. Нет в живых Басмановых (ни отца, ни сына), уличенных в измене царю и казненных в один день. Нет доблестного старого воеводы Воротынского, умершего под пытками. Едва уцелел род их друга Петра Колычева, многих из которых также отправили на плаху.
Но здесь, на степных просторах, вдали от царских покоев, не хотелось вспоминать о казнях. Ласковый ветерок, не предвещавший пока скорого приближения осени, обдувал лица, ворошил волосы, отдохнувшие за ночь кони бежали резво и жизнь казалась чудесной.
— Помнишь, как когда-то здесь зайцев гоняли? — крикнул громко скакавший чуть впереди Барятинский.
— А как же, — отозвался Алексей Репнин, — помню, даже дома часто вспоминаю, с чего наша служба начиналась.
— А Василия помнишь, что учил нас на ночлег устраиваться?
— Конечно… И бой тот с крымцами помню, когда мы едва уцелели, если бы не он. Лихой воин был…
— Почему был? — удивился Барятинский.
— Так, не видно его. Видать, сгинул где-то.
— А я его часто вспоминаю. Особенно, как он за меня в Бахчисарае выкуп заплатил, а сам остался… — Барятинский помолчал и добавил, — нет, не верю, будто погиб. Не тот он человек, чтоб погибнуть. Нет, не тот.
— В жизни всякое бывает, — глубокомысленно закончил разговор Алексей Репнин, и они долгое время ехали молча.
Под вечер, поднявшись на высокий степной курган, на некоторое время остановились, любуясь открывшейся перед ними рекой, которая делала здесь широкий поворот, расчленившись на два рукава, обтекая большой, заросший густым лесом остров.
— Вон, гляди, — указал Репнин, — две барки купеческие, видать, плывут.
— Точно, одну вижу, — Барятинский приставил к глазам руку козырьком, вглядываясь вдаль, пытался обнаружить, где Алексей увидел вторую.
— Неужели не видишь? Да вон она, подле самого берега плывет.
— А-а-а, — протянул Федор, — вроде, вижу. — Он скрывал от товарища, что после ранения под Смоленском зрение его начало слабеть, и он порой не различал лицо человека и с десяти шагов. Но так бывало не всегда, обычно глаза не подводили его, а сейчас он просто не разглядел плывущую под самым берегом купеческую барку.
— Видать, на Астрахань плывут, — предположил Репнин.
— Должно быть…
— Гляди, гляди! — вдруг взволнованно вскричал Репнин. — Чего это?
— О чем ты? — не понял Барятинский.
— Челны или иные лодки к ним направились. Штук с десять будет.
— Рыбаки, может? — предположил Федор, пытаясь разглядеть небольшие суда, но это удалось ему далеко не сразу. Зато его зоркий друг взволнованно пояснял обо всем происходящем:
— Стреляют с лодок тех… Рыбаки, говоришь!?
— Куда стреляют?
— Так по купцам! Куда же еще!
— Неужто разбойники? Чего делать станем? Помочь бы надо купцам.
— Поможешь тут. Они — на лодках, а мы — на конях. К ним тем временем подъехали изрядно постегавшие стрельцы, чьи лошади были не столь выносливы.
— Поди, казаки и вольничают, — высказался вслух самый старый в отряде Митрофан Сизый, — знаю я ихние повадки… Мы едем их на цареву службу приглашать, грамоту везем, а вот она ихняя служба. Чего им головы подставлять, кровь проливать, когда пожива рядом.
В это время с переднего судна глухо прозвучал звук пушечного выстрела и небольшое серое облачко поднялось над бортом купеческой барки. Одна из лодок перевернулась, верно, в нее и угодило пушечное ядро, но остальные подплывали все ближе к замедлявшему ход судну. Раздался еще один пушечный выстрел — и другая лодка словно переломилась пополам.
— Ай, молодец пушкарь! — закричали возбужденные стрельцы, с интересом наблюдавшие за развернувшимся перед ним сражением.
— Ему первому повешенным и быть, — отозвался Митрофан Сизый, — казачки за убийство дружков своих по головке не погладят.
— Смотрите, а другая барка к берегу причалила…
— Точно. Видать, прятаться побегут в кустики, — стрельцы дружно засмеялись, — у кого живот слабый.
— Надо хоть эту барку, что у берега, защитить, — зло дернул себя за ус Федор Барятинский, — а то смотрим, как разини на базаре. Вперед, готовь пищали, — и, хлестнув коня, первый поскакал вниз с кургана, а за ним Репнин и остальные стрельцы, на ходу освобождая из дорожных чехлов ружья
Когда они подскакали к берегу, то увидели брошенную тяжело груженную, низко осевшую в воде барку, к которой подплывали три казачьих челна. На самой барке никого не было, видно, купцы и впрямь сбежали, не желая рисковать жизнью ради собственного добра.
— А ну, ударь по ним с берега, — скомандовал Барятинский и, тщательно прицелившись, выбрал переднего, сидевшего на струге гребца. Он глянул через плечо и увидел, что все стрельцы, встав в ряд, выцеливают людей, подплывающих к брошенному судну. — Огонь! — крикнул он и подвел фитиль к затравке.
Первый залп был столь силен и точен, что почти все казаки, сидевшие в первом струге, были ранены или убиты. Тотчас с двух других стругов раздались ответные выстрелы, ранив несколько коней и молодого стрельца.
— Укрыться за деревьями, — скомандовал Барятинский, отбежав в сторону и встав за толстым стволом огромной раскидистой ивы, ветви которой опускались к самой воде.
— Нам не выстоять против них, если они соединят силы, — зло выкрикнул Алексей Репнин, подбегая к дереву.
— Неужто испугался, — поддразнил друга Федор, торопливо заряжая пищаль немецкой работы, подаренную ему отцом по возвращении из Крыма.
— Не бросайся словами, Федор, — сверкнул глазами Репнин, — какой смысл гибнуть от рук разбойников… Что они нам…
— Когда-то умирать все одно придется… Не все ли равно, — Барятинский выставил пищаль из-за дерева и стал наводить ее на кого-то, невидимого Репнину.
— Умереть ему не терпится, — сплюнул на землю Алексей, — места получше выбрать не мог.
— По берегу человек двадцать верховых скачут, — выкрикнул из-за соседнего дерева Митрофан Сизый.
— Ну, что я тебе говорил? — Алексей Репнин пытался отговорить друга от стычки с разбойниками, которая дорого могла им обойтись, — мы же посланы не купцов защищать, а казачьих атаманов искать. С царевой грамотой посланы! Слышишь ты меня?!
— Слышу, слышу, — ответил Барятинский и поднес в очередной раз фитиль к полке с порохом. Облако дыма на какое-то мгновение окутало их, но быстро унесенное ветерком поплыло назад, и Федор, сузив глаза на почерневшем от выстрелов лице, недобро глянул на Репнина, — только не привык я в сторонке держаться, когда добрых людей обижают. — Потом глянул на приближающихся верховых и, быстро вскочив в седло, крикнул укрывшимся за деревьями стрельцам. — Ждать меня здесь. За главного — князь Алексей остается…
— Федор! Куда ты?! — бросился к нему Репнин.
— К ним, — не объясняя своего поступка, ответил тот и, дав шпоры коню, поскакал навстречу верховым.
Те, увидев, что к ним направляется лишь один всадник, придержали коней, ожидая его на безопасном расстоянии от укрывшихся за деревьями стрелков. Барятинский тоже придержал коня, остановившись в двадцати шагах от всадников.
— Кто такие? — выкрикнул он резким, привыкшим повелевать голосом. Впрочем, он уже по одежде догадался, что перед ним казаки, которых они столько дней искали.
— Сам кто таков будешь, — небрежно крикнул седоусый казак, выехавший чуть вперед от основного отряда.
— Князь Федор Барятинский, — отчеканивая слова и не выказывая ни малейшей тревоги за свою судьбу, ответил тот.
— А чего вы пальбу устроили? — опять задал вопрос седоусый. — Не ляхи, не татарва, а по своим, русским же и стреляете. А?
— А послан я царем к вашим атаманам, чтоб передать грамоту.
— Так давай ее сюды, — седоусый явно тянул время. Федор, крутнув головой, увидел струги, что первыми напали на купеческую барку и теперь, видно, пограбив ее, подходили вплотную к берегу. На каждом из них было не меньше десяти человек, а самих стругов с полдюжины. Значит, они раз в пять-шесть по числу превышали его отряд. Может, и прав Репнин, не надо было заступаться за купцов, но уж коль ввязались в заварушку, то надо держаться до конца.
— Мне нужно вручить грамоту всему казачьему войску, а не какому-то там… — разбойнику — хотел крикнуть он, но сдержался, добавил, — первому встречному.
— Ишь, чего захотел, чтоб мы из-за тебя крут собирали! — ответил казак. — А не хочешь по-хорошему грамотку отдавать, то и силком отберем. Может, ты брешешь про грамоту. А ну, покажь!
— Пес брешет! Я царев слуга, и не бывать тому, чтоб не выполнил его приказание. Убьете меня, так что с того? Все царю станет известно.
Конники топтались на месте и не решались броситься на него, то ли опасаясь ружей стрельцов, направленных на них, то ли слова о царской грамоте подействовали, но они начали о чем-то совещаться.
— О чем царская грамота будет? — крикнул, наконец, седоусый, и по его вопросу Федор понял, что стычки, возможно, удастся избежать.
— Как приедем к вам на круг, тогда и узнаете.
— Вели своим людям не стрелять.
— А ты своих уводи. Мы следом поедем, — поставил условия Барятинский, не желая соединяться с казаками.
— Ладно, езжайте за нами, — нехотя ответил седоусый казак и поворотил коня в противоположную от реки сторону.
Барятинский подал знак стрельцам, чтоб ехали к нему и, дождавшись их, тихо проговорил:
— Оружие держать наготове. Не верю я им.
— Точно. В открытую они не полезли, а исподтишка запросто могут, — согласился Митрофан Сизый, — я уже с ихним братом дело имел.
Ехали долго и уже в темноте почуяли запах дыма, затем услышали собачий лай, потом отдаленные огоньки выдали присутствие людского жилья.
— Эй, ждите здесь, — послышался голос седоусого, — в станицу мы вас все одно впотьмах не запустим.
— Хорошо, — ответил Барятинский, тяжело спускаясь с коня на землю и разминая обеими руками затекшую спину. — Митрофан, подберись тихонько к самым воротам, может, услышишь, чего они там толкуют.
— Держите повод, — ответил тот откуда-то из темноты, — сейчас, князь, я мигом…
— Да тише ты, тише, — приглушенно шептали стрельцы. И по напряжению в их голосах Федор понял, что и они не особо доверяют казакам.
Митрофан вскоре вернулся и горячо зашептал на ухо Барятинскому:
— Сюда идут. С факелами человек пять, а может и поболе.
— Ладно, молодец. Не слышал, о чем говорили?
— Где там услышишь. Крепость у них сурьезная. С вышками, с воротами. Едва подобрался.
Барятинский сам уже видел направляющиеся в их сторону, колеблющиеся и перемещающиеся по воздуху факельные огни, а затем различил и фигуры людей, лица, чуть освещенные неровным слабым огнем.
— Кто тут царский гонец будет? — зычный, сильный голос принадлежал могучему казаку в бараньей папахе на голове и с курчавой бородой, закрывавшей пол-лица.
— Князь Федор Барятинский. Гонец от царя московского Ивана Васильевича послан с грамотой к атаманам казачьим.
— Где грамота?
— Она у меня, но я должен знать, кому ее вручаю…
— Матвей Мещеряк. Выборный атаман этой станицы.
— Хорошо, однако царская грамота не к одному атаману, а ко всем казакам. И говорить мне надо со всеми сразу… Собери круг.
— Ишь, чего захотел, князь, — крякнул атаман, отведя в сторону факел, вероятно, чтоб скрыть усмешку, — всех атаманов собрать! Я в донские станицы не поеду, а они ко мне не пожелают. Не выйдет, — и Мещеряк развернулся, собираясь уйти.
— Но ведь можно зачитать грамоту завтра на общем кругу вашей станицы, а затем мы переедем в другую.
— Хитер, — атаман остановился, вновь повернувшись лицом к Федору, — пусть будет по-твоему. Завтра к полудню круг созову. Прощевайте…
— А ночевать нам где? — растерялся князь Федор. — Не тут же под стенами…
— Вас проводят, — ответил Мещеряк. — Эй, Савва, укажи им, куда коней поставить, и где самим обустроиться, — обратился он к невысокому казаку с раскосыми глазами. — То мой есаул, Савва Волдырь. К нему и обращайтесь за всем, — и атаман, не спеша неся факел перед собой, от которого ясно высвечивался его широкий силуэт, зашагал вместе с казаками в сторону темнеющих строений станицы.
— Аида за мной, — махнул им Волдырь и повел их в темноту.
— Куда это ты нас, — догнал его Алексей Репнин, — не на погибель ведешь? Почему не в городок?
— В городке казаки живут, а вы — царевы слуги. Вам туда нельзя.
— Боитесь нас что ли? — с издевкой спросил Репнин.
— Дура… За вас боимся. Прирежут ненароком и поминай как звали. Для таких как вы у нас отдельный курень имеется.
И точно, он привел их в просторную избу с низким потолком и обмазанными глиной стенами, где на полу лежали ворохи старого сена, а вдоль стены тянулась одна большая лавка.
— Да нам всем не войти, — развел в растерянности руками князь Федор.
— По очереди ночуйте. Вам же спокойнее. Пущай дозорные снаружи поглядывают кругом. Вы, говорят, сегодня наших казаков постреляли, когда они купецкую барку шарпали, а за такие дела у нас не прощают. Коней в загон поставьте. Вон, рядом, — и не прощаясь, Болдырь ушел, унося с собой и факел.
Чертыхаясь и поминая казаков недобрым словом, стрельцы поделились надвое и бросили жребий, кому первыми нести караул подле избы. Федор Барятинский лег поближе к небольшому оконцу, положив рядом с собой заряженную пищаль, пощупал на месте ли кисет с огнивом. Другие стрельцы тоже улеглись в обнимку с ружьями.
Но ни ночью, ни до полудня следующего дня никто даже не приближался к месту их обитания. По гомону доносившихся голосов догадались, что казаки собираются на круг, а вскоре появился и есаул, передав слова атамана, чтобы шел только главный гонец с помощником. Барятинскому и Репнину ничего другого не оставалось, как выполнить их условия.
Царскую грамоту перед собравшимися казаками, которых, как он прикинул, было не меньше трех сотен, читал сам Барятинский. Когда он закончил чтение и вновь свернул ее, то весь казачий круг настороженно молчал. На небольшой помост в центре площади-майдана не спеша поднялся и встал рядом с князем Федором атаман Мещеряк.
— Я, казаче, что думаю, — начал он осторожно, цедя каждое слово, — спасибо царю-батюшке, что про нас помнит и к себе на службу зовет. Только вот про плату за службу тут ничегошеньки не говорит. Отчего так? А, князь? Бесплатно хочет царь заставить нас служить? Али как? Ответь.
— Плата обычная, — Федор пробежался взглядом по лицам сгрудившихся казаков и не нашел в них особой заинтересованности от чтения царской грамоты, — в зависимости от чина и звания. Рядовому — по гривне в месяц, а сотнику — по три.
— Чего-то больно много сотнику выходит, — выкрикнули из середины толпы, — мы у себя все поровну делим. За что ему такой причет?
— Слушайте, станичники, — не выдержал Барятинский, — я не торговаться приехал, не баранов покупать, а призвать вас на службу. Грамоту царскую я прочел. А кто служить пойдет, тот в накладе не останется.
Казаки долго шумели и все пытались выяснить, какая часть от захваченной у врага добычи им причитается, как будут кормить, кто станет поставлять корм для коней и подобные мелочи. Федор глянул на Алексея Репнина, который стоял чуть позади него и с презрением поглядывал на торгующихся казаков, и подал знак, что пора уходить. Тот утвердительно кивнул, и они направились к краю помоста.
— А вы куда? — остановил их удивленный Мещеряк.
— Круг еще не закончен. Куда приходить тем, кто согласится на службу пойти?
— Ждите здесь, — Барятинский чуть приостановился, — как объедем остальные городки-станицы ваши и обратно возвращаться станем, то всех и заберем, доставим в Москву.
…Они объехали еще десятка два станиц, где также собирали круг, казаки торговались, выказывали недовольство царским обещанным жалованием, и никто особо не горел желанием идти на войну в далекую Ливонию.
Последний городок, куда их привезли, носил странное название — Качалин.
— Может, здесь поболе охотников сыщется, — почти с сочувствием заявил им Савва Болдырь, отряженный с ними атаманом Мещеряком в качестве сопровождающего, — новоходы здесь все собраны. — И на вопрос Репнина, кто это такие, охотно пояснил, — да кто недавно в казаки подался. Тех новоходами и зовем. И Качалин он потому, что то придут, то разбегутся, черт их поймет. Качалы, они и есть качалы…
Даже по одежде обитателей качалинского городка можно было отличить их от старых казаков: крестьянские армяки и зипуны, татарские халаты, войлочные валяные шапки, небогатое оружие.
Когда Федор Барятинский объявил им о царском приглашении на службу, то не последовало обычных вопросов о жаловании, корме для коней и прочем. Но некая осторожность витала над толпой. Князь Федор догадался, что им внове слушать приглашение самого царя идти к нему на службу. Большинство среди них, судя по угрюмости лиц, изработанным заскорузлым рукам, были бежавшие на волю пахари, вотчинники, смерды, не особо еще привыкшие к вольной жизни.
Наконец, в первом ряду сухощавый жилистый казак осторожно спросил, как бы опасаясь подвоха в приглашении:
— А ежели мы откажемся? Тогда как?
— То твоя воля, — крикнул стоявший рядом с Федором Болдырь, — хошь казакуй и дальше, соси кулак слаще, а хошь воевать, так подавайся с войском царевым.
— А прозвание записывать станут? — раздался другой настороженный голос.
— Хоть горшком назовись, — пояснил словоохотливый Болдырь, — вот меня Саввой поп-батюшка назвал, а люди Волдырем прозвали. И что с того? Верно, подумали, что вас старые хозяева разыщут да обратно возвернут? Не бывать тому. Кто в казаки попал, тот обратно не воротится. Не бывало у нас еще такого. Так что сходите, повоюйте, а кто живым останется, соплей на кулак намотает, оружие себе справит, доспехи, одежонку кое-какую, коня доброго, глядишь, и обратно вернется.
Слова Волдыря подействовали на многих и к писарю подошли сперва человек десять, а затем чуть не половина собравшихся, все еще осторожно поглядывая на царских гонцов.
— Слушай, Федор, — тихо проговорил ему на ухо Репнин, — глянь вон в тот конец. Никого не узнаешь? — и он указал на стоявшую отдельно от остальных группу казаков, в центре которой стоял кряжистый, широкоплечий, из зеленого сукна кафтане казак, внимательно глядевший на них.
— Вроде, знакомый, — ответил Федор, силясь припомнить, откуда он знает этого человека.
— Неужто не узнал? То ж Василий…
— Точно он… — заулыбался Барятинский. — Чего же не подойдет тогда?
— Верно, неловко ему. Кто знает…
Барятинский же, окончательно признав в широкоплечем казаке своего спасителя, расталкивая толпу, кинулся к нему, не переставая улыбаться.
— Василий! Не признал что ли?! — и широко раскинул руки для объятий.
— Здравствуй, князь Федор, — скромно ответил тот, — как не признать. Признал. Да не ровня я тебе, чтоб обниматься.
— Ты это… не придумывай разное… Я ж тебе жизнью обязан, — и князь на глазах удивленных казаков обхватил его за крепкую шею, притянул к себе.
— А мы и не знали, Ермак, что у тебя среди царских посланцев дружки имеются. Гляди-ка… — загомонили казаки.
— Ладно тебе, Яков… Воевали вместе… Чего там, — как бы оправдываясь, отвечал на смешки товарищей Василий Ермак.
— Помнишь, как от крымцев уходили? Помнишь? В леске тогда еще спрятались… А потом самого Девлет-Гирея схватить хотели. Не забыл? — переполненный радостью встречи спрашивал Барятинский.
— Как не помнить, помню. Такое не забудешь…
— Он у нас такой, — опять засмеялись казаки, — коль сказал, то самого крымского хана заарканит и на веревочке приведет. Приведешь, Ермак, коль на спор?
— Да мы и тогда заарканили б его, коль не промашка одна, — ответил за чуть смутившегося Василия князь Федор.
— Где сейчас Колычев? Жив-здоров?
— А чего ему сделается, — ответил подошедший к ним Репнин, похлопал Ермака по крутому плечу и добавил, — а ты, я гляжу, на здоровье не жалуешься. Ишь, каков стал — богатырь!
— Ты уж скажешь, — еще больше смутился Ермак, который и впрямь был чуть ли не на четверть шире в плечах худощавого Репнина. Да и среди остальных, находившихся рядом казаков, он отличался скрытой силой, присутствующей и в повороте головы, и в движениях рук, налитых на груди мышцах.
— Оставайтесь с нами, глядишь, через годик тоже сил понаберетесь, — шутливо предложил крутившийся меж ними юркий Гришка Ясырь.
— Мы бы с радостью, да велено возвернуться вскорости. Вот, вас хотим с собой зазвать.
— А мы чего… Мы с радостью, — за всех ответил Ясырь и тут же осекся, встретившись с тяжелым взглядом Ермака, — как Василий скажет, — добавил и спрятался за спину Ильина.
— О том хорошенько подумать, покумекать надо, — свел брови Ермак, — на зиму глядя на войну переться…
— Некогда думать, — покачал головой Репнин, — ляхи прут на нас. Король у них нынче новый. Стефан Баторий. Не слыхали? Больно лют и умен. Разбил нас на границе, крепостей несколько занял.
— Как не слышали, слыхали, — поскреб голову Яков Михайлов, — были люди с ихней стороны, сказывали. Он не только нас, но и черкас поуспокоил. Такому палец в рот не клади…
— Думайте, казачки, думайте. Неволить вас никто не станет, — со вздохом закончил Федор Барятинский, — а нам поутру и обратно пора ехать, тех на Москву вести, кто согласие дал. Жалко, ежели ты, Василий, от такого дела в стороне останешься…
— Поглядим… — успокоил его Ермак, подмигнув незаметно, — дай срок до утра. Тогда и скажу свое слово.
Утром Василий Ермак, одетый по-походному, и с ним его сотоварищи верхом подъехали к собиравшимся в дорогу Барятинскому и Репнину.
— Однако, разбередил ты мне душу, князь Федор, — проговорил Ермак, пощелкивая плетью по голенищу сапога, — соскучился, видать, я по ратным делам. Не воевал еще с ляхами. Надо поглядеть, каковы они в деле.
— Так там не одни ляхи, — радостно улыбаясь, махнул рукой князь Федор, — а и литва, и немцы, свеи Всех узнаешь…
Вместе с ним из Качалинского городка вышло еще полторы сотни пеших и конных казаков, а всего со всех станиц казачьих набралось без малого шесть сотен.
Уже в последней станице к ним подошел чернобородый Мещеряк и указал на идущего следом человека:
— Еще один гонец прибыл. Только не с Москвы, а с Уральских гор. Тоже на войну зовет.
— Это куда? — спросил Ермак.
— От купцов Строгановых, — отозвался гонец. — Сам я, Павел Ерофеев, буду от них посланный…
— А что, жив еще старый Строганов?
— Аникита Федорович? Да уж сколько годков, как в земле. Теперича его сыновья заправляют всем. А ты, казак, видать, знал старого хозяина?
— Да знал немного, — нехотя ответил Ермак, — приходилось бывать в городках ваших.
— Ну, так пошли обратно. Молодой хозяин, Семен Аникитич, обещал и обрядить, и оружие, какое захотите, дать и сверх того жалование денежное положить. Соглашайтесь.
— Опоздал ты, гонец, малость. Чуть раньше, так глядишь и пошел бы, а теперь сговорились мы царю помочь, с ляхами повоевать малость.
— Жаль, а то нас хан Кучум скоро спалит, с земли сгонит.
— Хан Кучум, — Ермака словно кто в спину ударил, — он войной идет?
— А то как? С вогульцами мы и так справлялись, а у него, сибирского хана, воинов много поднабралось.
— Ладно, подождут пусть Строгановы. Будем живы, глядишь и нагрянем к вам на службу, коль царская не понравится. Точно говорю? — Ермак повернулся к казакам, внимательно прислушивающимся к разговору.
— Отчего же не спытать счастья, — отвечали те, — ляхов побьем, может, к вам на подмогу заявимся. Ждите…
— Долго ли ждать? — уже сзади прозвучал вопрос.
— А кто тебе скажет… Как царь-батюшка нас отпустит, так и вернемся обратно. Тогда присылайте сватов, авось, слюбимся. — И казачьи сотни запылили вдоль волжского берега.
Ермак ехал в одном ряду с Барятинским и Репниным, глянул на противоположный волжский берег и ему подумалось, будто он вновь едет по берегу Иртыша, а на той стороне пасутся его кони, машут призывно руками нукеры…
БЛАЖЕНСТВО ВЕРЯЩИХ
Лагерь русского войска, что должно было выступить навстречу шедшему на Ливонию Стефану Баторию, временно разбили в Коломенском. Ждали приезда царя и торжественного молебна по случаю начала похода.
Ермака и остальных казаков соединили с другими казачьими сотнями. Воеводой над ними был поставлен Андрей Хворостинин. По его приказу Ермака назначили сотником качалинских казаков. Все полки стояли наготове, чтоб выступить, как только будет объявлено.
Стоял хмурый осенний день, когда в коломенском лагере появился сам царь Иван Васильевич в сопровождении своего сына и нескольких бояр. Он велел построить полки на пригорке возле речки и верхом объехал все войско, зорко оглядывая ратников. Василий Ермак стоял чуть впереди своих казаков и ему показалось, будто царь на какое-то мгновение задержал взгляд своих серых глаз на нем. Иван Васильевич заметно сутулился, но в седле держался по-молодецки, умело сдерживая пританцовывающего под ним породистого аргамака. Затем начался молебен, который служил сам митрополит московский Антоний, совсем недавно приехавший в стольный град из Полоцка. Его тихий голос едва долетал в сыром воздухе до воинства, стоявшего поодаль, и митрополит, верно, понимал это, торопился, спешил закончить службу. Иван Васильевич, стоявший с сыном напротив него, первым подошел к кресту и, отойдя в сторону, внимательно смотрел, как другие воинские начальники целуют большой и тяжелый для старческих митрополичьих рук крест, кланяются царю, возвращаются на место.
Выждав окончания службы, к Ивану Васильевичу неслышно подкатился колобком Богдан Бельский, что-то зашептал на ухо. Тот усмехнулся, отчего правую щеку свело, словно судорогой, и обратился к митрополиту:
— Могу ли я испросить твоего благословения на честной пир для воинства своего во имя успешного похода нашего?
Антоний торопливо благословил царя с сыном, прошептав старческими губами:
— Царь сам себе владыка… Чего меня, немощного, спрашивать. Я в делах мирских не советчик…
— Посидишь с нами за столом? — приподнял вопросительно брови Иван Васильевич.
— Вели не неволить меня. Пусть обратно в келью отвезут…
— Ай! Уезжай, коль брезгуешь, неволить не стану, — и, круто повернувшись, зашагал к стоявшему неподалеку летнему дворцу.
Богдан Бельский, пока шел смотр и молебен, успел установить прямо во дворе длинные широкие столы, накрытые узорчатыми скатерками и уставленные блюдами с жареным мясом, кубками с вином. Несколько слуг катили мимо столов большие дубовые бочки с вином, предназначенным для угощения простых воинов. Воеводы и сотники были приглашены за царский стол. Ермак, в смущении подойдя к столам вслед за остальными, увидел сидевших напротив Барятинского и Репнина, машущих ему руками. Обойдя вокруг, сел меж ними, принял пододвинутый ему кубок.
Иван Васильевич пожелал всем с честью повоевать с королем польским и изгнать его с русских земель. Все дружно подняли кубки, выпили, потянулись к угощению. Потом говорил воевода Шуйский, пообещавший царю жизни не пожелать, но отвадить поляков соваться на русскую землю; вставали другие воеводы, тоже обещали сложить головы, но не пустить поляков к Москве. Ермак уже особо и не слушал их речи, а больше поглядывал на сидевших за столами воинских начальников. Большинство среди них были молоды, но встречались люди почтенного возраста, что сидели поближе к царскому краю.
Неожиданно Иван Васильевич, пьющий со всеми наравне, и каждый раз осушая до дна наполненный виночерпием кубок, сморщился и спросил громко Богдана Вольского:
— Отчего мясо такое жесткое? Кто готовил?
— Да как всегда… Повар твой, государь, Матюшка.
— Почему мясо жесткое? — с пьяной непререкаемостью повторил царь, ткнув пальцем в кусок, лежавший перед ним.
— Так то, видать, медведь больно старый, — попытался отшутиться Бельский, — долго жил на свете.
— Это какой медведь?
— Государь велел сам зарезать второго дня медведя старого, что при дворе в клетке держали.
— Моего Мишаню зарезали? — закричал царь, и было трудно понять, то ли он шутил, то ли сокрушался о своем любимце. — А кто теперь меня веселить будет вместо него?
— Кто царя веселить будет? — выкрикнул тоже изрядно захмелевший царевич Иван. — Ты, Богдашка?
— Да есть молодой медведь. Его и оставили.
— Где он? — Иван Васильевич повел головой вокруг, словно медведь мог находиться где-то рядом.
— Где ему быть… — ответил Бельский, — в сарае на цепи сидит.
— Вели привести к нам. Хочу проверить воинов своих. Кто против медведя выйдет один на один, тому панцирь знатной работы подарю.
— Добре, добре, — закивали головами гости, ожидая интересное зрелище. Лица у всех раскраснелись, глаза заблестели.
— Ведут, ведут медведя, — указал рукой царевич Иван, выскочивший из-за стола.
Двое здоровенных мужиков, натянув в разные стороны цепи, прикрепленные к ошейнику, надетому на шею медведю, вели его к столам.
Тот упирался всеми четырьмя лапами, шел, смешно переваливаясь с одного бока на другой, тянул носом воздух, чуя аромат, исходящий от столов. Собравшиеся гости при виде зверя зашумели еще громче, застучали, затопали ногами, чем окончательно привели медведя в замешательство. Он уперся в землю и натянул цепи, не давая слугам тащить его дальше.
— Ишь ты! Не хочет к нам за стол. Не хочет! — засмеялся Иван Васильевич. — Ну, молодцы, выходи, кто не боится!
В дальнем конце поднялся высокий светловолосый детина в красном стрелецком кафтане и, развязывая на ходу кушак, направился к медведю.
— О, да то Ильюха Муха! — заволновались за столами. — Этот сдюжит! Силища у него дурная.
— Давай, Ильюха, заломай его! — поддержали крепыша стрельцы. — Не выдай! Панцирь царский получишь!
Илья скинул с себя кафтан, обнажив могучую фигуру, и широко развел руки, как бы приглашая медведя помериться силами. Слуги бросили цепь и отскочили в разные стороны. Медведь некоторое время стоял неподвижно, а потом неожиданно отвернулся от людей и не спеша заковылял обратно в сторону сарая.
— Испужался мишка Ильюху нашего! — засмеялись за столами.
— Нет! Так ты панцирь от меня не получишь, — замахал руками Иван Васильевич, — без драки не дам. Догоняй мишку, побори его! Тогда и панцирь твой.
Ермак сразу определил, что медведь слишком молод и, видимо, вырос в неволе, был почти ручным. Это не тот лесной хозяин своих владений, хитрый и коварный, что может одним взмахом лапы переломить хребет лошади, свернуть голову человеку. Этот, видать, еще и крови людской не пробовал, а испугавшись шума и криков, поспешил убраться восвояси. Но и он мог быть опасен, если раздразнить. Хорошо, если Илья понимал это…
А Ильюха, подзадориваемый выкриками товарищей, бросился следом за убегающим медведем и, догнав его, ухватил за цепь, дернул на себя. Тот недовольно зарычал, повернул голову к человеку, показал клыки. Стрелец дернул еще раз и отскочил. Медведь рассердился и, быстро развернувшись, махнул лапой, пытаясь достать обидчика, но Илья ловко увернулся от звериных когтей и снова дернул цепь. Никто не успел и заметить, когда тот, поднявшись на задние лапы, пошел на человека.
На этот раз Илья не стал уклоняться, а шагнул навстречу, также разведя руки, как это делают бойцы во время борьбы на поясах.
— Зря он так… — прошептал Ермак, причмокнув губами. Он весь подобрался и напряженно наблюдал, чем закончится этот поединок. Сила человека и неопытность зверя делали их примерно равными. Но нельзя допускать, чтоб медведь обхватил его, притянул к себе.
Но так и случилось. Сжав Илью мощными лапами с боков, медведь когтями впился ему в спину, сдирая кожу. Брызнула кровь, потекла, заструилась по спине, но Илья не ослабил хватку, пытаясь повалить косолапого на землю. Тот не поддавался и, почуяв незнакомый ему прежде запах человеческой крови, вконец взъярился и так стиснул Илью поперек спины, что затрещали кости, и тот, разжав руки, без сознания упал на землю. Медведь же облизал лапы от крови, опустился на все четыре и склонился над лежавшим человеком.
— Ой, задерет его! Задерет! — закричали стрельцы. — Тащите пищали! Не дадим Ильюху замучить до смерти!
— Не сметь! — вскричал, вскакивая, Иван Васильевич. — Думали, запросто так царский панцирь получить?! Не выйдет. Сам вызвался, вот пусть кто желает безоружным на помощь выходит. А с оружием — не сметь!
Над столами повисло замешательство и Василий Ермак явственно услышал, как кто-то рядом заскрежетал от злости зубами, Репнин негромко выругался, Федор Барятинский сжал кулаки. Но никто, ни один человек, не смел подойти к разъяренному запахом крови зверю, ожидающему, когда стрелец придет в себя. Правда, пока он был жив, но Ермак по своему опыту знал, что очнувшись человек начнет сопротивляться, попытается убежать от зверя, а это добром обычно не заканчивается.
Он вновь оглядел сидящих за столами воевод, сотников и понял, что ни один из них безоружным не посмеет приблизиться к медведю. И тут его взгляд встретился с насмешливым взором царских глаз. Иван Васильевич лукаво смотрел, чуть приподнявшись с кресла, пытался угадать, решится ли кто-нибудь выйти на поединок, и уловил при этом внутренний порыв Ермака. Тому показалось даже, будто царь слегка подмигнул ему, поощряя на поединок.
— Неужто не найдется храбрец, кто товарищу поможет? Эх вы, люди ратные… — разочарованно произнес Иван Васильевич.
— Я бы с рогатиной пошел, — глянул на отца царевич Иван.
— Сиди уж… Без тебя разберутся.
Напряжение возрастало, и к тому же Илья, пришедший в себя, пошевелил рукой, провел ей по лицу, чем вызвал злобный рык медведя. Тот поднял переднюю лапу и ударил по голове стрельца, и он вновь затих.
— Нет, не могу я смотреть на это, — проговорил Василий, вставая, выбравшись из-за стола, — лучше самому мертвым рядом лежать, чем наблюдать, как другого убивают, — ни к кому не обращаясь, пробормотал он и уверенным шагом двинулся к медведю.
— Ай, да казак! Каков молодец! — выкрикнул чей-то пьяненький голос, но его больше никто не поддержал. Остальные, наученные горьким опытом Ильюхи, скованно молчали.
Василий сорвал с себя кушак, обмотал им левую руку, оставил свободным один конец и, легко взмахнув им в воздухе, начал вращать, отчего перед ним образовался круг от быстрого движения куска материи.
— Эй, бутуз, иди ко мне! — крикнул нарочито громко, чтоб медведь обратил на него внимание и оставил на время раненого Ильюху.
Медведь, привлеченный голосом, повернул толстую шею в его сторону, но не сдвинулся с места.
— Хр-хр-хр, — Василий задвигал губами, подражая хрумканью кабана. Мишка в ответ обнажил клыки и глухо заворчал.
— Ишь ты, отзывается, — крикнули за столом, предчувствуя новое представление.
— Иди, иди ко мне, мой хороший, — Василий, низко пригнувшись, подходил все ближе и ближе, не переставая вращать конец красного кушака. Медведь уже перестал обращать внимание на залитого кровью стрельца и переключился на нового противника, почуяв угрозу именно от него. Сперва он даже чуть попятился назад и Василий решил было, что молодой, неопытный пестун, напуганный людскими выкриками, поспешит сбежать, но, верно, в том заговорил разбуженный запахом крови голос лесных предков, и он неожиданно быстро вскинулся вверх, встал на задние лапы.
"Ага, — обрадовался Василий, — теперь я тебя покружу, помотаю…" — и он начал обходить медведя вокруг, заставляя его отвернуться от стрельца, чем воспользовались его товарищи, оттащив Илью в укромное место. Теперь Василий мог думать лишь о себе и о том, как успокоить разъяренного зверя.
Он окончательно убедился, что медведю не больше года и он, в отличие от сородичей, живущих в лесу, не боится человека, а скорее готов поиграть, побаловаться с ним, используя, впрочем, клыки и когти. Но играть с ним, бороться, как это только что испробовал Илья, он не собирался.
Наконец, медведь не выдержал долгого противостояния и резко взмахнул лапой, пытаясь зацепить крутящийся перед ним кушак.
— Вот, правильно, — одобрил его действия Василий и отпрыгнул в сторону, — достань его, достань… У тебя получится…
Медведь начал беспорядочно махать лапами, казалось, что он в самом деле включился в игру, предложенную человеком, пытаясь ухватить когтями цветной лоскут. Наконец ему удалось зацепить конец кушака. Раздался треск рвущейся материи и мишка с удивлением уставился на клочья, оставшиеся у него на когтях. Он даже понюхал их, лизнул языком. За это мгновение Василий низко поднырнул, ухватил свисающуюся с ошейника до самой земли кованую цепь и потянул на себя. Медведю это не понравилось и он попытался вырвать ее из рук человека. Попятившись, он с силой натянул короткую цепь, заставляя Василия приблизиться на шаг.
Взмах мощной лапы — и плечо Ермака словно одеревенело. Скосив глаза, увидел неглубокую рану и сочившуюся из нее кровь. Каким-то чудом он не выпустил цепь из рук и продолжал тянуть зверя к сараю. И тот, смешно подпрыгивая, тащился следом, глухо урча, но особо не сопротивлялся.
— Так, так, молодец, мишенька, пошли со мной, пошли… — повторял негромко Василий, выискивая, за что можно было бы прицепить медведя.
Но тот облегчил его задачу, увидев открытую дверь амбара, в несколько прыжков достиг ее, вырвав цепь из рук Ермака, и скрылся внутри. Василий, не мешкая, заложил дверь на засов и обессиленно опустился рядом.
— Ошень храбр шеловек, — услышал он голос позади себя, обернувшись, увидел остроносого с черными прямыми до плеч волосами человека, державшего в руках небольшую кожаную сумку.
— Ты кто? — спросил он, хотя и догадался, что видит перед собой иноземца.
— Доктор Бомелиус, — с достоинством отозвался тот, — царский лекарь. Позвольте смотреть ваша рана…
— Поди лучше того стрельца подлечи, — указал Василий в сторону, где продолжал лежать на земле окруженный товарищами Ильюха.
— Там есть серьезный дело. Долго. Тут — мало дел… — и лекарь раскрыл свою сумку, вынул из нее какую-то баночку, тряпицу и склонился над Василием.
Он почувствовал, как защипало предплечье, дернулся от резкой боли.
— Нищего страшного… — пояснил тот ровным голосом, — лечь на постель. Шпать… Много шпать… — повторил несколько раз Бомелиус. — Где тебя найти? Буду лечить, глядеть рану, — предложил он.
— В доме князей Барятинских, — неожиданно раздался позади голос князя Федора, — поедешь к моему отцу, Василий.
— Зачем к отцу? Ведь завтра выступать.
— Успокойся, нагонишь своих казаков. Нам долго тащиться с обозами, с пушками. Успеешь поправиться.
— Но может быть…
— Никаких может быть, — передразнил его князь Федор, — слышал, что лекарь распорядился делать? А он при самом царе состоит.
— Эй, казак, тебя царь к себе зовет, — к ним подошел Богдан Вольский и с интересом разглядывал Василия Ермака. — Успокоил медведя, миром дело решил… — то ли одобрительно, то ли разочарованно произнес он.
— А ты бы хотел, чтоб зверь и его заломал? А? Богдаша? Скажи, хотел поглядеть, как кровь человечья польется? Любишь ведь смотреть на кровь! Не так разве? Признайся! — неожиданно накинулся на боярина князь Федор.
— А чего мне ее любить или не любить, — удивленно воззрился на князя Бельский, — я не палач, какой…
— Ты не палач, нет… Ты хуже палача, — подступал к боярину со стиснутыми кулаками Барятинский. Василий впервые увидел его таким разъяренным и, подскочив, оттащил в сторону от боярина.
— Прекрати, царь смотрит…
Иван Васильевич действительно со своего места внимательно смотрел на них, щуря глаза. Василий смело направился к царскому месту, слыша одобрительный гул голосов и ощущая сотни глаз, направленных на него.
— Как кличут? — спросил негромко Иван Васильевич, пристально вглядываясь в него.
— Ермак Василий меня зовут, — также негромко ответил он.
— Из чьих будешь? Казак, по платью вижу.
— Сотник казачий. По приглашению на войну направляюсь.
— Где-то, однако, встречались мы с тобой. Не припомню только…
— Алексей Федорович Басманов на службу меня принимал и к тебе, государь, во двор приводил.
— В Александровой слободе?
— В ней, государь.
— Вспомнил. Умен был Алешка, ох, умен. Знал, кого набирать к себе. Не от Строгановых с пермской земли, случаем, прибыл тогда?
— От них, государь.
— Там и научился с медведями обращаться?
— Там, государь.
— Что сотника стрелецкого спас, за то молодец, хвалю. А что не стал с медведем бороться, то правильно. Береги силушку, а она, видать, недюжая у тебя, береги для ворогов.
— Поберегу, государь, — эхом отозвался Василий, заливаясь от царских похвал легким румянцем.
— Подлечись, лекаря своего дам, а там нагонишь войско. Успеешь навоеваться. Война долгая будет, чую… А вот Строгановы-то зря тебя отпустили, ох, зря… Писали, мол, нелегко им сейчас приходится. Пошел бы служить к ним?
— Отчего не пойти, — просто ответил Василий, — ляхов повоюем, а там, видно будет.
— Молодец, — царь отвернулся от него, быстро утратив интерес.
— А панцирь где? — напомнил царевич, который тоже с восхищением разглядывал уверенно державшегося Ермака.
— Да, чуть не забыл про панцирь, — по-бабьи всплеснул руками Иван Васильевич и Ермаку показалось, будто тот специально забыл о подарке. Может, не желал дарить доспехи именно ему, узнав, что он был взят на службу Алексеем Басмановым, а может, и по иной причине. Как знать…
Двое молодых слуг уже несли панцирь, продетый через проушины на древко короткого копья. Он поблескивал полукруглыми боками и кованые пластины чуть шевелились, как чешуя у вытащенной на берег рыбины.
— Не мал будет, — спросил Иван Васильевич, вновь повернувшись к Ермаку, и ему снова показалось, что царю не хочется расставаться с панцирем.
— Оружейники подгонят, — помог выйти из положения вернувшийся к столам Богдан Бельский, — они это умеют.
— Ладно, носи на доброе здоровье и о царе вспоминай. Помни, кому служишь, — с особым значением прибавил Иван Васильевич, — не забудешь, случаем?
— Не забуду, государь, — ответил Василий, принимая панцирь, — до самой своей смерти помнить буду.
— Добре, добре. Помни о том, — царь слегка коснулся длинными пальцами пластин, провел по ним рукой, — пущай служит тебе так же, как ты мне служить станешь, — произнес он напоследок и направился, не простившись, к летнему дворцу. За ним поднялись из-за столов и бояре, поспешили следом, да и остальные, почувствовав неловкость, начали расходиться.
Вот теперь Василий ощутил, как жгло плечо, подумав, решил, что и впрямь большого греха не будет, если отлежится несколько дней во дворце у Барятинских, а потом нагонит свою сотню.
Впрочем, была у него тайная надежда встретить там, как в прошлый раз, Евдокию. И эта мысль, прежде всего, звала и направляла в Москву. Князь Федор дал ему свой возок и двух слуг для поездки и, проводив до проселочной дороги, просил кланяться отцу, сам оставшись в лагере.
* * *
Старый князь Петр Иванович Барятинский встретил Ермака как родного, разместил в просторной горнице, направил одну из женщин прислуживать ему. На третий день из раны пошел гной и Барятинский не на шутку встревожился за своего постояльца и, о чем-то пошептавшись с женой, надолго исчез из дома. К вечеру он вернулся с Елисеем Бомелиусом, о котором Василий сообщил ему по приезду.
— Коль сам сэр Бомелиус обещал помочь, то его я и пригласил, — пропуская лекаря вперед, кланялся, заискивая, старый князь.
— Обещаль, обещаль, — кивая головой, лекарь подошел к постели, где лежал Василий, цепко холодными сильными пальцами ощупал плечо и велел приготовить горячей воды. — Правильно сделал, что звал, — кивнул князю Петру, — плехо дело, ошень плехо… Резать надо…
— Наш храбрец не испугается? — спросил Василия Барятинский. Тот отрицательно покачал головой и закрыл глаза.
Когда Елисей Бомелиус закончил обрабатывать рану, вскрыл ее и выпустил гной, он поднес в небольшом серебряном стаканчике больному какой-то ароматный настой и властно наказал:
— Спать цвай дня!
Василий выпил настой и вскоре погрузился в сон и уже ничего более не слышал. А князь Петр Иванович провел важного гостя на свою половину и, плотно закрыв дверь, указал на стоявшее на столе угощение:
— Не откажите откушать со мной.
— Битте, герр Питер, битте. Приятный пища, приятный человек, — и величаво уселся на высокое кресло.
— За здоровье государя, — поднял свой кубок Барятинский, — дай ему Господь доброго здоровья.
— Здоровье не есть Бог, здоровье есть сам человек, — пригубил чуть из своего кубка Бомелиус.
— Конечно, конечно, и человек не должен нарушать заповедей Господних и блюсти тело свое в чистоте. Но все в руках Господа нашего.
— Вы, русский человек, есть много говорить Бог, Бог… На мой родина люди больше делают, чем разговаривают, — выбирая кусок пожирнее, Бомелиус покосился на хозяина, ожидая, когда тот перейдет к главному. Они уже встречались неоднократно при дворе и Елисей отметил про себя ум и умение ладить с боярами князя Барятинского. Заметил, что и тот приглядывается к нему, и безошибочно решил, что рано или поздно князь прибегнет к его услугам. Теперь он терпеливо ждал, когда тот первым откроется.
Но Петр Иванович повел разговор о своих сыновьях, о войне, об урожае и, вроде, совсем не собирался говорить о чем-либо другом. Но Елисей видел по лицу собеседника, что он лишь ищет удобный момент, чтоб перевести разговор в нужное ему русло.
— Скажите, а как здоровье царицы? — наконец осторожно задал щекотливый вопрос старый князь.
— Которой из них? — не задумываясь, ответил вопросом на вопрос Бомелиус. — Ведь их несколько, насколько мне известно. Как это называется у вас на Руси? Гарем? Да?
— Не знаю, что вы имеет в виду, — слегка смутился Барятинский, подливая вина гостю, — но мне известна одна царская жена — Анна из рода Васильчиковых. Я хорошо знаю и отца, и братьев ее, достойные люди, верные слуги царя.
— Плехо у нее здоровье. Ошень плехо, — брезгливо морщась и не поднимая глаз, ответил Бомелиус, — она не может как это… родить ребенка. Царь ей очень недоволен.
— Неужели никак нельзя помочь? Ведь есть всякие травы, лекарства? — Барятинский казался не на шутку взволнованным.
— Царь не велел мне лечить ее. Скоро ее не быть во дворец.
— Как это? — схватил лекаря за руку Петр Иванович.
— Просто, ошень просто — монастырь.
— Какой монастырь? Куда ее увезут?
— Не могу говорить, — лекарь отвечал с набитым ртом, и князю захотелось отодвинуть от него и кубок, и блюда с закусками, но он сохранил спокойствие, ничем не выдавая своего волнения. Но Бомелиус и так все понял и, прощаясь, тихо шепнул, — присылай человек — скажу, что вы хочешь знать, — и положил в свой сундук небольшой мешочек с монетами, поданный ему князем.
Едва за лекарем закрылись ворота, как Петр Иванович велел запрягать свой возок и, ни слова не сказавши, жене, поехал на Неглинную к дому боярина Григория Андреевича Васильчикова. Там не спали и, казалось, ждали позднего гостя. Хозяин провел его к себе и тихо спросил:
— Что известно про Аннушку? Узнал, князь?
— Узнал лишь то, что царь готовится сослать в монастырь твою дочь, — со вздохом произнес Барятинский.
При его последних словах дверь раскрылась и вошел Илья Андреевич, брат хозяина.
— В монастырь Анну отправляют? — переспросил он.
— Я не ослышался? Бедная девочка…
— И нет никакой возможности оставить ее при царе или хотя бы в дом мой вернуть? — жалобно обратился к Барятинскому Васильчиков.
— Не знаю, чем и помочь… Недоволен ей царь и все тут.
— Куда хоть везут ее? Может напасть по дороге? Освободить? Ты же знаешь моих сыновей — орлы! Не томи, князь!
— Ничего не надо, — замахал руками Барятинский, — только хуже сделаешь. В опалу захотел? Или на плаху? Дело нешуточное, — он сделал по комнатке несколько шагов, о чем-то думая, потом приостановился и продолжил, — тут с осторожностью действовать надо. Есть у меня задумка и человек для этого есть. Его и пошлю, точно. А ты, Григорий Андреевич, и не вздумай соваться.
— Может, ты и прав, — со вздохом ответил Васильчиков, сжимая руку стоявшего рядом брата.
— Прощайте пока, — Барятинский направился к выходу, — меня у вас не было. А как дело сладится, то извещу непременно.
Еще через два дня рана у Ермака практически зажила, и он собрался выезжать вслед за войском, сообщил об этом хозяину.
— Правильно, правильно, — закивал тот, — только просьбочка у меня к тебе есть, Василий. Дам свой возок и поедешь следом до того места, куда завтра повезут знакомую одну девицу. Узнать мне о том месте очень надо. А потом сразу и к войску отправишься. Возок в полном твоем распоряжении оставляю. Выполнишь?
На другой день туманным мглистым утром из Москвы выехал неприметный возок, сопровождаемый пятью стрельцами, а следом за ним ехал малый возок Василия Ермака, ничем не выдавая себя.
* * *
Иван Васильевич смотрел из окна своего дворца, как медленно уплывал по раскисшей дороге возок, в котором увозили в монастырь на вечное там поселение Анну Васильчикову. Жалости не было. Одна горькая тоска щемила изнутри, заполняя все собой. Он понял, что потерял главное — радость жизни. Да и была ли она, хоть какая то радость, за последние прожитые им годы? Каждый день напоминал и походил на предыдущий, канувший в прошлое. Сон, молебен, встреча с боярами, послами… Охота… Хмельные пиры, где ловилось каждое произнесенное им слово. Что слово. Взгляд, движение бровей.
Если когда-то он мог найти спасение, уход от каждодневной суеты в молитве, то теперь потерялось и это качество. Губы сами повторяли привычные слова, а мозг жил другим, думы витали вокруг земного, не поднимаясь, как прежде, к Богу.
После всего увиденного за свои сорок с лишком прожитых лет он перестал удивляться чему-либо, потускнели радости, не так остро воспринимались утраты и горести. Потускнел даже облик Бога, которому он продолжал все также ежедневно молиться. Но это был уже не Бог его юности, когда он мог во время молитвы незаметно для себя лить жгучие слезы, искренне каяться и просить прощения. Нет, тот облик покрылся патиной времени, как драгоценный оклад на иконе теряет первоначальный блеск и величие. Он стал обыденным, каждодневным Богом.
Свою первую жену, Анастасию, он любил столь пылко и страстно, что не замечал, сколько времени проводил у нее, вызывая кривые усмешки дожидавшихся его подолгу бояр. Каков он тогда был! Ноги сами несли его к палатам, лучшие аргамаки не выдерживали бешеной скачки, хрипели под ним. Он не боялся никого в целом свете и мог один выйти против десяти тысяч и… победил бы всех в безумном порыве страсти и любви к жизни.
И самое удивительное — сейчас он начал тяготиться властью своей… Она, как железо на узнике, не давала ступить без оглядки, оставить, бросить начатое, увлечься новым делом, уйти в себя.
Неслучайно надолго уезжал он в Александрову слободу, где и дышалось легче и думалось об ином… Там, вдали от серых остроконечных, зубчатых кремлевских стен, где он ощущал себя скорее узником вместе с другими, нежели господином, разглаживались морщины, распрямлялись плечи, уходила тяжесть царственных оков.
Он был готов бежать безоглядно из собственной страны, плюнув на все, и только гордость и клятва, данная самому себе в молодости, не позволяли решиться на подобное. Он хорошо помнил, как однажды в молодые годы, войдя под величавые своды Архангельского собора и встав над могилой отца своего (лица которого совсем не помнил как, впрочем, не помнил и лица матери, а лишь смутный облик жил и теплился в нем), соизмеряя содеянное отцом, поклялся себе сравняться в делах с великим родителем. Потом, не раз вспоминая ту клятву, ругал себя, но уже не мог повернуть обратно, пойти на попятную.
Разве не видел он страха меж близких к нему людей? Разве не шел всем наперекор, ломая и сокрушая волю их? Разве не падал обессиленный от долгих споров на постель и не мог пальцем шевельнуть, отдавая всего себя на потребу того, что зовется Отчизной? А что это такое — Отчизна? Леса, луга, реки, города и небо над ними? Так ли важно, кто будет жить под этим небом, именно на тех берегах, пить эту воду и дышать этим воздухом? Немцы? Ногаи? Татары? Или она перестанет быть именно той Отчизной, что есть сейчас? Должен ли он защищать ее, как самка защищает и оберегает малыша? Он ли должен это делать? И может ли хватить сил у одного человека, даже если он именуется царем…
И главное — во имя чего он ломает свою собственную жизнь и жизни многих дальних и близких ему людей?
Последние годы сомнения столь часто стали овладевать им, что иногда, сказав слово, он останавливался, надолго задумываясь над правильностью сказанного, и так стоял перед ближними советниками какое-то время. Бояре робели, ожидая обычной вспышки гнева, втягивали в плечи толстые шеи, прятали головы. Но вскоре, так и не поняв причину царских заминок, решили, мол, стареть начал Иван Васильевич. А дело совсем не в старости, в сомнениях дело. В отыскании пути правильного. Верного. Нерушимого.
И не в насмешку им, как шушукались за спиной, посадил на место свое татарина Симеона Бекбулатовича. Хотелось глянуть на косноязычие собственное со стороны, увидеть, каков он есть царь московский и сколь нелегко приходится человеку, на трон высокий царский взобравшись. Была тут уловка его, до которой не могли бояре многомудрые додуматься, в том лишь и состоявшая, что неловкого человека ловчей с коня ли, с трона ли ссаживать, скидывать. А царь Симеон столь неуклюж и неловок, растяпистей, нежели он, и не сыщешь. И тогда окончательно укрепился он в вере и правоте своей. Именно он, по праву рождения и по всем прочим качествам, должен блюсти землю русскую. Нет вокруг иного человека, могущего справиться с ношей, с возом, поклажей дел русского государства. Бог даровал ему трон отцовский, именно он Богом венчан, и лишь Господь может низложить его, снять венец царский. Присматриваясь к сыновьям, Ивану и Федору, не верил Иван Васильевич в силы их, не было у них сил душевных, крепости природной, и случись ему завтра занемочь, захворать, умереть неожиданно и… не удержать сыновьям державу, пусть хоть сто, тысячу советчиков призовут в помощь. Вот чего боялся он более всего.
О королеве английской Елизавете часто думал Иван Васильевич, оставаясь в одиночестве. И верил, и не верил, будто бы может составить она партию ему, стать законной женой, соединить два могучих государства. Не о любви думал, о пользе. Английский ум и русская сметка, расторопность могут родить такой союз, о который обломают зубы иные государи, к чьему окрику будут прислушиваться, снимать шапки, гнуть гордые выи.
Возвратившиеся из Англии послы доносили о том, как отказывает королева многим сватам, кто руку ей свою предлагает. От того еще больше укреплялась вера его возможность крепкого союза меж ними. Для кого иначе блюдет непорочное тело свое, как ни для него?
Когда посол английский Даниил Сильверст уехал из Москвы с его грамотой, в которой он дал волю чувствам и употребил непристойные слова в адрес Елизаветы английской, велел нагнать посла. Настигли уже в Холмогорах. Потребовали грамоту обратно. Не отдал. Будто бы услал ее вперед себя с торговым судном. Царевы посыльные придушили англичанина и избу, где стоял он, подпалили. Народу сказали, мол, молния в дом ударила. И дом, и англичанина дотла сожгла.
В себе он переборол раздражение и злость, вызванные долгими заморочками английскими, затяжливостью ответных грамот, выгадыванием для торговых людей льгот и малых поборов, беспошлинности на товары. Тьфу! И из-за этаких пустяковин она, Елизавета, клялась ему в верности и дружбе вечной! Разве сравнима торговая выгода с духовной близостью, единением державным? И правильно назвал он ее пошлой девицей, о чести государственной забывшей напрочь, а лишь о прибытке пекущейся. Не обиделась Елизавета на таковые слова, проглотила насмешку, но отвечала холодно и сухо.
Иван Васильевич скрипнул зубами и, стукнув кулаком по оконному косяку, ругнул напоследок королеву грязным словом и пошел в храм к обедне.
* * *
Королева английская Елизавета была всего на три года моложе московского царя Ивана Васильевича. У нее не было практически никаких прав на корону, поскольку отец ее, Генрих VIII, успев жениться шесть раз, произвел ее от Анны Болейн, своей второй жены. Бедная мать! Сластолюбивый отец захотел вскоре освободиться и от нее. Из-за какого-то случайно оброненного платка возникли подозрения, обвинение в измене, заключение в Тауэр, быстрый и неправый суд и… казнь. В три года она осталась сиротой. Отец не выносил ее и не предполагал, что когда-нибудь она унаследует его трон, дворец, власть и станет последней из рода Тюдор, правительницей старой доброй Англии.
Винила ли она отца? В чем? Что он находился под пятой железного Томаса Кромвеля, которого тоже казнили, принеся в жертву величию английской короны? Отец затеял распрю с папой римским из-за брака с ее матерью, и теперь иезуиты ищут только удобного случая, чтоб воткнуть кинжал ей в грудь. Зато на примере отца она хорошо уяснила, что рядом с мужем и королева окажется вскоре всего лишь слабой женщиной, неспособной принимать собственные решения. И она твердо решила оставаться незамужней при любых обстоятельствах. Не только решила, но и выполнила. И не зря. На новой королевской печати ее изобразили почти как святую. Выше ее — одна пресвятая дева Мария.
Трудно было особенно первые два года ее царствования, когда лорды и пэры видели в ней обычную девку, что скоро станет женой мужчины, который и возьмет на себя бремя королевской власти. Но она смогла дать понять всем им, что обручиться может лишь с Англией, став тем самым матерью всем подданным — от лорда до нищего бродяги. И хотя первым заметил это лорд Нортон, заявивший: "Она наш земной Бог, и если существует совершенство во плоти и крови, оно, без сомнения, воплощено в ее Величестве", но раньше поняли это простые люди.
Как к Христу-младенцу первыми пришли волхвы и пастухи, так и ее, как королеву, признал простой народ: нищие и калеки, кричавшие вслед ее карете: "Накорми и исцели!" И тогда она начала исцелять несчастных и продолжает вершить чудеса во время частых поездок по стране.
Вот и сейчас, прибыв в Вестминстерский дворец, Елизавета неторопливым шагом в сопровождении своей многочисленной свиты направлялась по вымощенной камнем дорожке к входу в часовню святого Стефана. Еще издали заметила огромную толпу больных. Сердце ее учащенно забилось. Сколько раз она давала себе обещание не заниматься более врачеванием, но ту же забывала об этом, когда встречалась с молящим взглядом очередного несчастного. В большинстве своем к ней шли больные золотухой, с распухшими шеями, изможденными лицами, покрытыми гнойными коростами. Когда уже лекари не могли помочь им, то оставалась единственная надежда — на свою любимую королеву.
Елизавета прошла через боковую дверь в часовню и опустилась на колени перед образом святого Стефана, прося у него помощи в предстоящем священнодействии:
— Помоги мне в деле праведном, дай сил, укрепи веру мою, — шептали ее тубы. И молитва ее была услышана. Она увидела золотистое сияние вокруг образа святого. Голова стала чистой и ясной, исчезли посторонние мысли, правая рука налилась невиданной мощью, и сейчас она могла одним взмахом остановить толпу, выдернуть с корнем столетний дуб.
Встав с колен, Елизавета обратилась к епископу, стоявшему позади:
— Пусть войдут…
Двери часовни открыли и толпа больных ввалилась внутрь, отталкивая один другого, они устремились к ней и… замерли в двух шагах, почувствовал, уловив ту невидимую силу, исходившую от нее.
— Пусть первыми подойдут дети, — тихо произнесла королева, но ее слова были услышаны — и вот уже матери ведут изможденных хнычущих детей, склоняя книзу их головы.
Перед ней оказалась полногрудая женщина, видимо, из крестьянок, опустившая обе руки на плечи худенькой светловолосой девочки лет десяти. Лицо ребенка скрывала страшная маска шелушащихся полузасохших корост так, что не видно даже глаз.
— Спаси мою дочь, — хрипло произнесла крестьянка, — она очень страдает. Я буду Бога молить за тебя, наша королева, пока жива буду.
— Все будет хорошо, — спокойным голосом ответила Елизавета и подняла налитую божественной силой руку, приложила ее ко лбу девочки, ощутив жар, исходивший от маленькой головки.
Сеанс исцеления начался и продлится до тех пор, пока все до единого из собравшихся не будут допущены к ней, чтоб затем со слезами радости пройти в сад, где будут накормлены и получат с собой образ королевы, отчеканенный на золотом шиллинге. Разве смогут они забыть этот день и не расскажут о нем соседям и друзьям? Разве не станут они на всех дорогах прославлять ее и называть матерью всей Англии? Иначе и быть не может.
Другой, не менее важный, обряд Елизавета выполняла ежегодно в Чистый четверг перед праздником Пасхи. Со всего Лондона выбирали добропорядочных и простых женщин и приводили к ней во дворец. Она уже ждала их, чтоб, опустившись по очереди перед каждой на колени, омыть их натруженные ноги в серебряном тазике. Так поступали жены-мироносицы, воспринявшие идеи Христа, и так отныне делает она, не столько подражая им, сколько доказывая самой себе, что она лишь простая смертная рядом со священной памятью о тех святых женах. В этом году она омыла ноги сорока четырем женщинам, по числу своих лет. И надо сказать, не испытала при том ни малейшей усталости, а скорее наоборот, и блаженство, и радость разлились по ее телу.
Когда королева закончила в часовне святого Стефана обряд исцеления, была уже глубокая ночь. Но и тени усталости не было заметно на ее сосредоточенном и отрешенном от всего земного лице.
— Проводите меня до моей комнаты, — обратилась она к лорду Квинтону и подала ему левую руку.
Поднимаясь по крутым лестницам дворца, она слышала его тяжелое дыхание рядом и не преминула пошутить:
— Верно, для вас это тягостная обязанность — вести свою королеву к ее спальне.
— В Англии с легкостью провожают женщин лишь на эшафот, — нашелся он, ответив довольно двусмысленно.
— Это намек? — она полуобернулась, пытаясь в полумраке разглядеть его глаза.
— Что вы, королева, то лишь грустные воспоминания о былых временах, которые, дай Бог, никогда не вернутся.
— Времена, может быть, и не вернутся, но люди имеют дурную привычку возвращаться к прежним занятиям.
— Ваш ответ надо понимать как обещание, — голос лорда посуровел и дыхание стало более прерывистым.
— Понимайте это как заповедь и напоминание о женском непостоянстве.
— Но королеве не пристало быть непостоянной женщиной. Ведь она королева английская.
— Как знать, как знать… Вот мы и пришли. Благодарю вас.
Перед дверью ее комнаты рядом с двумя гвардейцами охраны стоял граф Честерфилд" застывший при ее приближении в глубоком поклоне.
— Что случилось, граф? Почему в столь поздний час? — спросила она все так же ровным голосом, ничем не выдавая своего беспокойства, увидев в руках у того тяжелую грамоту с круглой красной печатью. — Опять обличительное письмо из Рима, в котором мне предрекается гореть в аду?
— Нет, государыня, на сей раз от… — граф чуть помялся.
— Говори, говори, — подбодрила его она, — тут лишь верные слуги. Можешь не опасаться. Что, открыт очередной заговор?
— То письмо от московского царя, в котором он… — граф опять смутился, — предлагает королеве стать его женой.
— Ах, ты вон о чем. Хорошо, входи.
В комнате она опустилась в высокое кресло, обтянутое синим бархатом, сливающимся с ее небесной голубизны платьем, которое она особо любила носить, и подчеркивающим чистоту лица с распущенными рыжими волосами.
— Читай все, — приказала Елизавета, полуприкрыв глаза.
Московский царь в последние годы все более и более занимал ее воображение. Никто еще с такой настойчивостью не добивался ее руки, направляя по нескольку грамот в год. Если быть честной, то она даже ждала вестей из Москвы. Ей было интересно, какие аргументы в пользу их брака царь Иван выдвинет в следующий раз.
Граф Честерфилд, изучавший русскую письменность, неторопливо переводил, неоднократно произнося порой то или иное слово, прежде чем подыскивал ему нужное значение. Незнакомая речь нравилась королеве своей мягкостью и необычайной звучностью отдельных звуков.
— Москва… Русь… Царь… — повторила она шепотом, вслушиваясь в напевно звучащие слова.
Граф меж тем добрался до такого места, где царь называл ее непривычным словом, что показалось королеве несколько оскорбительным.
— Повтори еще раз как написано, — попросила она Честерфилда.
— Он называет тебя обыкновенной женщиной…
— А я и есть обыкновенная. Разве не так?
— Он вкладывает в это не совсем достойный вашего величества смысл. Нельзя так обращаться к человеку, который ничуть не ниже тебя по происхождению.
— Спасибо. Я все поняла. Что он просит на этот раз?
— Пушек, меди, пороха.
— Он все воюет? С кем теперь?
— С польским королем Стефаном Баторием.
— Он католик?
— Кто? Польский король? Безусловно. Более того, он поддерживает иезуитов, наших извечных врагов.
— Я помню это и без твоих напоминаний. Надо помочь царю Ивану. Прикажи отправить все, что он просит. Но цену повысь против обычной. Раз московский царь нуждается в этом, то купит и по более высокой цене. Что еще?
— Он просит, чтоб мы объявили войну врагам его — Швеции и Польше.
— Да, больше нам нечем заняться, — насмешливо тронула мизинцем кончик своего носа Елизавета, — напиши, что у нас принято сперва испробовать решить дела миром. Мы можем выступить посредниками между Польшей и Московией.
— Хорошо, ваше величество, — граф поклонился, но еще что-то мучало его, — а что написать насчет предложения о вашем… хм, замужестве?
— Напиши, что мы пока не решили. Отправь в Москву нашего художника написать портрет с царя Ивана. Должна ведь я видеть, что за жених у нас, — откровенно рассмеялась Елизавета, подавая графу руку для поцелуя.
БЛАЖЕНСТВО ИЗГНАННЫХ
Ермак, удобно расположившись в княжеском возке, подремывал, положа голову на небольшую подушечку, что сунул в дорогу хозяин, тихо шепнув при этом:
— Смотри, не проспи, не упусти тех, что впереди тебя поедут.
— Не переживай, князь Петр, не упущу, — успокоил его Василий, — только как сообщу тебе, где они пристанут, остановятся? Чай, далеко от Москвы будет, не докричусь.
— А зачем кричать, глотку драть. Напишешь записочку, вложишь в подушечку эту и возница мой, Трофим, ко мне ее и привезет обратно. Да, чтоб тебе не скучно в дороге было, даю в полное твое распоряжение дворового своего парня, Николкой зовут.
— Как же мы в возке с ним разместимся? — Ермак глянул на сбитую плотную фигуру парня, который был едва ли не шире его в плечах. — Мне одному возок тесноват, а вместе… Али поломаем стенки у колымаги, или один другого задавим.
— Ничего, ничего, — похлопал его небольшой ручкой князь Петр Иванович, — он у меня привычный и на облучке сзади уместится. Так говорю, Николка?
— Так, хозяин, размещусь, нам это не впервой, — пробасил густым тягучим голосом парень, косо глянув на Василия.
— Ну, тебе видней, князь. А до войска мне потом как добираться? Возок ведь обратно на Москву отправлю, а сам пешим, что ли?
— Зачем так? Твоего коня сзади в узде поведут. Где нужно будет, на него взберешься — и конный, как должно, к войску явишься. Язык доведет, добрые люди дорогу подскажут.
— Тогда с Богом, — протянул руку князю Василий, — пора ехать, а то не догоним еще возок.
— С Богом, Василий Тимофеевич, — перекрестил его Барятинский, — кони добрые: и догонят, и перегонят. Только не спеши больно. Спешка, она знаешь, где хороша, — напутствовал его князь.
Первый возок, который сопровождали пятеро стрельцов в малиновых кафтанах, они догнали довольно скоро и не спешили обгонять, поскольку извозчик Трофим, видимо, тоже получил особые указания от хозяина. Так они и тащились не спеша до самого вечера, пока не стемнело, и ехавшие впереди не остановились на краю большого села, где находился постоялый двор.
— Поезжай к следующему дому, — крикнул Николка вознице.
— Нет, сворачивай вслед за ними, — воспротивился Василий, высунув голову в окошко.
— Хозяин мне велел на глаза им не показываться, — сипло выдохнул Николка.
— А мне он ничего не говорил. Князь на дворе у себя хозяин, а будешь мне поперек дороги становиться, в кусты скину и обратно пехом отправлю.
Николка понял, что Василий не шутит, и промолчал.
Навстречу им вышел хозяин постоялого двора в рыжем полушубке, накинутым поверх холщовой серой рубахи и, увидев княжеский герб на дверке возка, начал низко кланяться, приговаривая:
— Милости прошу господ пожаловать ко мне. Размещу в лучших комнатах, коней отборным овсом накормлю. Проходите, располагайтесь…
Ермак вошел в переднюю большую комнату и успел заметить, как за перегородкой скрылась девичья фигура, и один из стрельцов тотчас закрыл за ней дверь и уставился на вошедшего.
— Кто такие? — настороженно спросил он.
— Атаман казачий Василий Тимофеев, — он решил не называть себя полным именем. Чем-то не понравился ему стоявший у двери стрелец. — А вы кто будете?
— Стрельцы царские. Али сам не видишь? — злобно ответил тот.
— Далеко ли едете?
— Ты бы, казак, поменьше спрашивал, побольше молчал.
Двое других стрельцов сидели на лавке, двое прохаживались по комнате, настороженно поглядывая на Ермака. У стены стояли в ряд их пищали. Заскрипела дверь и вошли Трофим с Николкой, а следом и хозяин.
— Сейчас баба моя щи в печь поставит, ужинать станем, — он торопливо прошел на другую половину дома, откуда слышалось погромыхивание посуды, потрескивание дров в растапливаемой печи. Люди Барятинского сели на лавку и молча разглядывали угрюмых стрельцов. Старший из них не садился, а стоял возле закрытой двери, даже позой своей выказывая недовольство появлением незваных гостей.
Василий, которого князь Петр Иванович не посвятил совершенно в свои планы, не объяснил, кого и зачем они должны выслеживать, испытывал то ли неловкость, то ли легкое раздражение, что не знает истинной причины своей поездки. Он решил каким-то образом прояснить обстановку, начал издали:
— Я вот к войскам направляюсь, к Ливонской границе еду. А вы не туда же направляетесь?
— Чего-то ты, казак, не в ту сторону ехать кинулся. Эта дорога на Суздаль ведет. Ливония совсем в другой стороне. Не заплутал ли случаем? — насмешливо ответил ему старший из стрельцов.
— Да мне еще по делам своим заехать надо в одно место, как раз под Суздалью. А потом на Ливонию поверну.
— Пока ездишь, шляешься, глядишь, и война закончится.
— Успею повоевать, — сделал беззаботный вид Василий, — на мой век войны хватит.
— Это точно, — поддержал его кто-то из молодых стрельцов, — войны на нас всех хватит и еще останется.
— Так, значит, не в Ливонию едете, — как бы подвел итог разговору Ермак, — жаль, жаль. А я думал, по пути будет, вместе оно сподручнее ехать.
Но стрельцы ничего не ответили и лишь глянули на старшего, продолжавшего стоять возле дверей. Вскоре хозяйка принесла огромный чугун со щами, все вместе сели за стол, а Василий заметил, как хозяйская дочь понесла в дверь небольшой глиняный горшочек, из которого шел пар. Значит, женщина, которую так упорно скрывали стрельцы, находится на другой половине и не выйдет к остальным.
Утром, когда Николка сосредоточенно шевеля губами, рассчитался с хозяином за постой, именно ему князь Барятинский вручил деньги на все дорожные расходы, Василий решил чуть задержаться во дворе. Ему непременно хотелось увидеть женщину, что ехала во втором возке. Но стрельцы не торопились с отъездом, сидели в доме и лишь старший несколько раз выходил на крыльцо, бросая недружелюбные взгляды в его сторону.
— Трогай, — крикнул тогда Ермак Трофиму, но как только они выехали за ограду, выскочил из возка и побежал обратно к воротам. Немного подождав, он увидел, как стрельцы вывели на крыльцо двух женщин, закутанных в черные платки до самых глаз, и, торопливо открыв дверцу возка, оглядываясь по сторонам, посадили их туда, закрыли дверцу на засов снаружи и неспешно стали выезжать со двора. Двое верховых ехали впереди, двое — сзади, а старший — подле самого возка. Василий отметил, что перед этим они насыпали на ружейную полку свежий порох, проверили висевшие у седел фитили.
Он быстро догнал поджидавших его Трофима с Николкой, который пытался что-то сказать ему, но Василий отмахнулся, а запрыгнув в возок повозки, велел погонять.
Также прошла и вторая ночь, и третья. Василию ни разу не удалось разглядеть лиц женщин, которых сопровождали бдительные стрельцы. И хоть князь Барятинский не давал ему никаких указания на этот счет, и скорее даже осудил бы его желание вызнать имена женщин, увидеть их, но он просто не мог действовать вслепую.
Тогда он решил попытать счастья ночью и попробовать пробраться к пленнице, а иначе как пленницей при столь усиленной охране она быть не могла. Хотя он понимал, что вряд ли удастся, не разбудив кого-то из стрельцов, проникнуть к женщинам и переговорить с ними. Испугавшись, они поднимут крик, перебудят охрану. Но другого выхода у него не было.
Однако, помог случай. Уже на четвертый день к вечеру они догнали возок, у которого отпало колесо, и возница стоял рядом, сокрушенно качал головой, беспомощно разводил руками, объясняя что-то старшему. Когда они подъехали ближе, то Ермак выскочил на дорогу и поинтересовался, не нужна ли помощь.
— Проезжайте, без вас справимся, — ответил старший, но, видно, передумал и спросил, — а не могли бы вы уступить нам свой возок до ближайшего селения?
— А как же мне быть? — сделал удивленные глаза Ермак.
— Ты, казак, можешь и верхом проехаться. Что-то я раньше не видел, чтоб казаков в княжеских каретах возили. Подозрителен ты мне. Не отстаешь, за нами тащишься.
— По такой дороге больно не разгонишься. А что княжеская карета, то ты правильно заметил. Мы с князем Барятинским почти что родня. Вот он и одолжил мне возок свой. Что тут такого?
— Ладно, ты мне зубы не заговаривай, а садись на коня и поезжай вперед. В первой же деревне найдем кузнеца и вернем тебе твою колымагу.
— Я бы рад уступить тебе свой возок, но после ранения не могу садиться на коня. Рана пока не зажила.
— Да ничего с тобой не случится, — вспылил стрелец, — вон, здоровый какой! Брось прикидываться, казак.
— И не думаю прикидываться. Но кого ты хочешь посадить в него? Я никого больше не вижу. Действительно, первый возок стоял посреди дороги, наклонившись на одну сторону, но путники находились внутри и наружу их даже не удосужились вывести.
— Мы сопровождаем по царскому секретному указу двух женщин, которых никто не должен видеть, — наконец хоть что-то попробовал объяснить стрелец, — и для тебя лучше, коль ты не будешь ни о чем знать. Так что, езжай вперед и не оглядывайся. А как доедете до деревни, дождитесь нас.
— Нет, но я действительно не могу ехать верхом, — Ермак решил настоять на своем, понимая, что более удобного случая разузнать, что за женщин везут по царскому указу под строгим караулом, у него просто не будет. — Потому могу предложить, пусть они забираются в возок, а я сяду сзади на облучок. Слуга же мой, — он указал на Николку, — поедет верхом. Договорились?
Стрельцу явно пришлось не по душе такое предложение, и он несколько раз взглянул на лежавшее сбоку сломанное колесо, на возницу, потом посовещался о чем-то с одним из спутников и согласился.
— Пусть будет по-твоему. Только отвернись, когда будем пересаживать женщин, и не задавай никаких вопросов. Да не вздумай разговаривать с ними по дороге.
Ермак пожал плечами, показывая полное безразличие, подмигнул Николке, который нехотя стал отвязывать повод коня от повозки. Он дождался, когда хлопнула дверца его возка, взобрался на запятки и пристроился на небольшой скамеечке, свесив ноги меж колес. Старший стрелец, бросая на него недоверчивые взгляды, ехал совсем рядом. И хотя Василий сквозь тонкую стенку слышал дыхание женщин, и как одна из них постоянно всхлипывала, может быть, даже плакала, но заговорить с ними он не мог. Поломанный возок с привязанной к оси жердиной тащился далеко позади.
Через час с небольшим они доехали до развилки, и Трофим, повернув к ним голову, сердито спросил:
— Куды дальше ехать? Прямо или направо поворачивать?
— Черт его знает, — выругался стрелец, — а ты здесь раньше не ездил? Не знаешь, куда какая дорога ведет?
— Ездил с князем, да позабыл, — почесал за ухом Трофим, — проверить бы не мешало.
— Да, видать, иначе не получится, — согласился старший стрелец и велел двум своим спутникам ехать по дороге прямо, а двум повернуть вправо и, разузнав дорогу, возвращаться обратно. Сам же он тяжело спустился с седла и, не выпуская повод, заковылял в сторону ближнего леска.
Василий дождался, когда тот скрылся в кустах, и громко зашептал:
— Кто вы такие и куда вас везут?
— А ты кто? — послышался недоверчивый тонкий девичий голос. — Разве ты не царский слуга? Я боюсь говорить…
— Меня отправили проследить за вами. Я не собираюсь причинить вам зло.
— Тогда ты должен знать, кто я такая.
— Анна, замолчи, не смей разговаривать с ним. Худа бы не было. Все они служат царю, — раздался другой голос, принадлежащий женщине более старшей, чем первая.
— Ой, Луша, — отвечала та, — мне уже больше нечего бояться, хватит. Добоялась до монастыря. Я почему-то верю этому человеку. Послушай, — продолжила она горячо, — как тебя зовут и кто ты?
— Я казачий атаман, а зовут меня Василий.
— Хорошее имя… И голос мне твой нравится. Меня зовут Анна из рода Васильчиковых. Была женой царя нашего, Ивана Васильевича, но разлюбил он меня… — Василий услышал, как она всхлипнула. — И теперь нас с моей нянькой везут в монастырь.
— Куда вас везут? В какой монастырь? Где он находится?
— Не знаю. Ничего не знаю. Помоги нам. Мой батюшка не пожалеет денег, чтобы отблагодарить тебя. И я всю жизнь за тебя молиться буду. Ты добрый человек, помоги мне, спаси…
— Тихо, ваш охранник возвращается, — прервал ее Василий.
— Он страшный человек, его зовут Михаил Курлятьев, он может убить тебя, не моргнув глазом, — торопливо прошептала Анна и замолчала, услышав, по-видимому, шаги возвращающегося на дорогу стрельца.
Тот с подозрением поглядел на Ермака, на возок и остановился рядом, положив руки на пищаль. Вскоре вернулись стрельцы, сообщив, что поблизости находится большое село Черутьево, и они продолжили путь.
В тот же вечер Ермак подозвал к себе хозяина постоялого двора, где они расположились на ночлег, и велел принести вина для себя и всех спутников. Стрельцы переглянулись, но от дармовой выпивки отказываться не стали. Михаил Курлятьев, подняв свою глиняную кружку, предложил:
— За царя нашего! Чтоб все его враги сгинули и жилось нам не так как ранее, — остальные одобрительно закивали головами и выпили до дна.
Как Ермак и предполагал: после первой налили второй раз, потом еще и еще. Через час заплетающимся языком Курлятьев проговорил:
— Степка, сегодня тебе баб караулить, а я спать пошел.
— Скараулю, — роняя на стол кудрявую голову, ответил молодой стрелец, — никуда они от меня не денутся.
Василий дождался, когда все охранники уснули, и встал со своей лавки, шагнул в сторону комнатки, где сегодня были закрыты пленницы.
— Куда ты? — раздался громкий шепот Николки. — Испортишь все дело. Не ходи.
Ермак на ощупь нашел место, где тот лежал, выхватил кинжал и приставил тому к горлу:
— Будешь мешать — останешься тут. Мне не впервой с такими разделываться. Лежи и не рыпайся.
Николка затих и не сказал больше ни слова, понимая, что Василий не шутит. А Ермак добрался до двери, открыл засов и тихонько позвал:
— Анна… Ты здесь? Выйди на улицу.
— Сейчас, — также тихо ответила она, послышался шорох ее платья.
Он, осторожно ступая, выбрался на крыльцо и невольно поднял голову кверху, подивившись обилию звезд на небе. Звездные светлячки мерцали неровным светом, напоминая о чем-то забытом, давнем, навевали легкую грусть. И ему невольно вспомнились глаза Зайлы-Сузге, когда они такой же звездной ночью лежали на берегу, прижимаясь друг к другу, казалось, вокруг них не было ни единого человека, и они принадлежали лишь друг другу. Когда это было…
Скрипнула дверь и Анна все в той же темной накидке вышла и встала перед ним, робко глядя перед собой. Она была невысокого роста, едва доставала ему до плеча, но ее большие глаза, цвет которых трудно было разобрать в темноте, притягивали к себе, манили, кричали о помощи.
— Ты поможешь мне? — напряженно прошептала она — Как? Украсть тебя? Но нас догонят и схватят. За себя я не боюсь, но тебя могут убить.
— У тебя странный голос… Не похоже, что ты служишь нашему царю.
— Я сам царь, — неожиданно для себя ответил Василий и криво усмехнулся, — и никому не служу.
— Я поняла, что ты человек благородных кровей. Это сразу видно. Но помоги мне, умоляю. Я не хочу в монастырь.
— Хорошо. Но сейчас мне нужно ехать в Ливонию. Я дал слово, что буду там, и не могу не сдержать его. Я узнаю, куда тебя везут, а потом вернусь. Вернусь за тобой. Ты веришь мне?
— Верю, конечно, верю. Как тебя зовут? Василий? Красивое имя… — она прижалась к нему и жарко дохнула. Он ощутил запах женского тела, давно забытый им, и притянул ее к себе, поцеловал, приподнял на руки и понес к стогу сена, чернеющему в глубине двора. Она не сопротивлялась, хотя вся дрожала, как человек долго пробывший в холоде. На крыльце осталась ее черная накидка с разорванными завязками.
Утром Курлятьев, поднявшийся первым, глянул на дружно храпевших стрельцов и кинулся к комнатке, где были закрыты пленницы, приоткрыл порывисто дверь и, лишь убедившись, что они на месте, облегченно вздохнул.
К середине следующего дня они въехали в город Суздаль, и Ермак поразился обилию церквей, которых было ничуть не меньше, чем в Москве. Возле ворот Покровского монастыря возок и стрельцы свернули под арку высоких ворот, а Ермак со спутниками, не останавливаясь, проехали дальше Монастырские ворота открылись — и возок скрылся внутри.
САГЫШ[4]
Прошло почти два года, но не было никаких известий от сыновей Амар-хана и ушедшего вместе с ними князя Сейдяка. Зайла-Сузге заметно постарела, многочисленные морщинки прорезали ее красивое лицо. Лишь черные глаза горели надеждой увидеть сына, дождаться его возвращения.
Амар-хан не менее ее переживал за сыновей, но не показывал вида и даже пытался улыбаться, когда заходил на половину Зайлы-Сузге. В отличие от многих бухарских визирей он не заводил себе наложниц, не брал новых жен. Если бы кто спросил Зайлу-Сузге, кем она доводится старому Амар-хану — женой, наложницей, то она не нашла бы, что ответить. Просто жила в одном доме с ним. Он любил слушать ее рассказы о Сибири и часто расспрашивал, чем там занимаются люди, какие у них жилища, что за реки, леса. Зайла-Сузге вначале стеснялась рассказывать о Едигире, но однажды, когда на душе было особенно тяжело и по-прежнему не было никаких вестей о сыне, призналась старому хану, от кого у нее родился Сейдяк. Тот долго молчал, а потом задумчиво проговорил:
— Мне почему-то кажется, что такой человек, как Едигир, не мог быть убит, а тем более умереть от болезни. У него слишком сильная натура. И мне думается, мы еще услышим о нем.
— А что скажет хан о правах моего сына на Сибирское царство?
— Одних прав мало. Нужны воины, которые бы силой оружия подкрепили те права. Хан Кучум не вечен, а Сейдяк молод. Времена могут измениться — и тогда твой сын сможет занять Кашлык, вернуть себе земли, принадлежащие его роду.
— Но у Кучума, моего брата, есть сыновья. Они не отдадут его наследие без борьбы, а мне бы так не хотелось, чтоб вновь проливалась кровь…
— Сыновья хана Кучума — не сам Кучум. Они могут перессориться из-за наследства, а такое часто случается. Вот тогда у Сейдяка будет больше шансов.
— Но есть еще Мухамед-Кул, сын несчастного Ахмед-Гирея. И у него есть права на Сибирское ханство.
— Важно, кого поддержит хан Бухары. Мне не раз приходилось слышать, что Абдулла-хан не очень жалует Кучума за редкие посылки к его двору подарков. Кучум забыл, кто дал ему деньги для похода, нанял нукеров. Но ему быстро напомнят о том, послав в Кашлык человека с острым кинжалом.
— Неужели может и до этого дойти? — всплеснула руками Зайла-Сузге. — Бедный брат!
— Не нужно печалиться раньше времени, а то еще накликаешь беду. Абдулла-хан слишком занят борьбой с соседними государями и редко вспоминает о Кучуме. Правда, если кто-то станет чаще напоминать ему о нем, то дело может принять иной оборот.
— Нет, пусть все идет как идет, — прикоснулась к его плечу Зайла-Сузге, — не надо торопить события. Я и так видела слишком много крови.
— Сейчас главное — дождаться наших детей, — вздохнул Амар-хан и глянул в узкое оконце, — ведь кто-то из них должен вернуться.
Началось третье по счету лето после отбытия их сыновей с караваном купцов и паломников, когда они, наконец, получили весточку, что караван возвращается и через несколько дней прибудет в Бухару. В доме все пришло в движение, ожило, как после долгой спячки. Стелились новые ковры, нанятые художники обновляли роспись на стенах, во дворе разложили дрова для праздничного плова, над которыми весело поблескивал начищенными медными боками огромный казан.
Наконец, уже под вечер раздался стук в ворота, Амархан едва сдержался, чтоб усидеть в своих покоях, а не броситься, подобно простому слуге, открывать ворота. Зайла-Сузге стояла рядом с ним и не могла унять подрагивающие руки.
Первым в отцовские покои ворвался младший Сафар, повзрослевший за время отсутствия, с густой черной бородкой, бывшей ему очень к лицу, со сверкающими радостью глазами. Широко раскинув руки, он бросился к Амар-хану, обнял его.
— Ах, отец, если бы ты знал, что мы испытали…
— Позже расскажешь, — отстранил его от себя Амар-хан, — я догадываюсь, дорога не бывает без камней. На то она и дорога.
Степенно ступая, вошли и поклонились отцу Сакрай и Гумер, держа привычно руки на рукоятях сабель. Амар-хан сам подошел к ним и положил обе руки на плечи сыновьям, по очереди вглядываясь в глаза каждого.
— Трудная дорога?
— Думаю, не самая трудная из тех, что нам предстоит пройти, — ответил отцу, чуть помолчав, Сакрай.
— И я не жалею, что побывал в дальних странах, увидел столько необычного. И почти каждый день вспоминал наш дом, тебя, отец, — чуть смущаясь, проговорил Гумер.
А Зайла-Сузге, словно и не слышала их, с нетерпением глядела на двери. Наконец, послышались легкие шаги и появился ее сын, ее кровиночка, ее мальчик… Но он ли это? Кто этот воин в сверкающих доспехах, с уверенным взглядом и ставший, казалось, еще выше ростом, с широченными плечами. В руках он держал небольшой ларец красного дерева.
— Сейдяк, это ты? — не поверила она своим глазам.
— Конечно, мама, это я.
Он подошел к ней и, опустившись на колено, поцеловал руку, подал ларец.
— Что в нем?
— Посмотри сама. Это мой подарок тебе. Ты, верно, горячо молилась. И вот я здесь. Живой и невредимый.
Зайла-Сузге открыла ларец и удивленно глянула на сына:
— Откуда ты взял эти сокровища?
— Я заработал их. За охрану каравана. И решил истратить все на подарок для тебя. Ведь, кроме тебя, у меня никого нет…
— Сейдяк! Это слишком дорогие вещи. Посмотрите, Амар-хан.
Тот заглянул в ларец и одобрительно кивнул, улыбнувшись Зайле-Сузге.
— Я рад, что у тебя вырос такой заботливый сын. Иначе и быть не могло. А это, — он осторожно двумя пальцами извлек два серебряных браслета, украшенные большими зелеными камнями, а следом нитку бус из белого молочного жемчуга, — это пристало носить такой достойной женщине как ты. Мать может гордиться своим сыном.
Вечером за праздничным ужином юноши долго рассказывали о приключениях, что выпали им во время похода в святую землю. Вспомнили и о нападении казаков неподалеку от Волги.
— Знаешь, мама, а там был один человек, который знает тебя, — сообщил Сейдяк.
— Кто он? — удивленно вскинула брови Зайла-Сузге.
— Остальные называли его Ермаком.
— Ермак? Я не знаю такого человека. Может, он что-то путает? Или ты не так его понял.
— Нет, я все правильно понял. Если бы не он… Он сохранил мне жизнь, освободил из плена.
— Да, это так, — подтвердили Сафар и Гумер, — все происходило у нас на глазах.
— Как он из себя выглядит, — неожиданно взволновалась Зайла-Сузге, — опиши мне его.
Когда Сейдяк, как мог, описал казачьего атамана: его манеру говорить, чуть хмуря брови, широкую поступь, прямой, открытый взгляд больших черных глаз, то Зайла-Сузге в нерешительности спросила:
— А нет ли у него шрама на левой руке? Такой шрам оставляют медвежьи когти…
— Я не знаю, от чего тот шрам, вполне возможно и от когтей медведя, но что-то похожее у него было между большим и указательным пальцами на левой руке. Значит, ты знаешь, кто это?
Зайла-Сузге тяжело дышала и не могла поднять глаз на сына.
— Это он… — тихо прошептала она и быстро глянула на Амар-хана, — тот человек, о котором я вам рассказывала недавно.
— Я почему-то тоже о нем подумал, — вздохнул Амар-хан, — жизнь так устроена, что все в этом мире связано меж собой и далеко не случайно. А человек, который встретился вам… — обратился он к сыновьям, — я думаю, мы еще услышим о нем. Возможно, он как-то повлияет на ваши судьбы. Я допускаю и это.
— Как? — вскрикнули те. — Как он может повлиять на наши судьбы, когда мы сейчас у себя дома, а он где-то на берегах далекой реки?
— Это мне неизвестно. Но встреченный вами человек уже один раз спас ваши жизни. А что произойдет дальше… трудно сказать. На все воля Аллаха, и мы песчинки в мире судеб, а я не прорицатель, не дервиш, но прожил долгую жизнь, сносил не одну пару сапог. Поэтому я, Амар-хан, говорю: всегда помните о том человеке. А придет время, и судьба сама направит вас по нужному пути. Но… повторяю еще раз: на этом пути вам предстоит встретиться с человеком по имени Ермак. Хотя, насколько я понимаю, раньше он имел иное имя.
— А как его прежнее имя? Как? — совсем по-детски вытянул шею Сейдяк. — Почему ты не хочешь рассказать, кто он? Зачем нужно что-то скрывать от нас?
— Если твоя мать захочет, то она все расскажет сама. То ее право. И не будь любопытным, словно женщина. Всему свое время…
После ужина, когда Амар-хан и Зайла-Сузге на короткое время остались одни, а сыновья отправились отдыхать, старый визирь со вздохом проговорил:
— Хвала Аллаху, что все они вернулись невредимы. Путешествие пошло им даже на пользу. Пришла пора их женить. Что ты скажешь на это?
— Что может сказать одинокая женщина, у которой нет денег заплатить калым, чтоб мой сын выбрал достойную невесту.
— Или я не друг вам? Или не приду на помощь в трудную минуту? Не думай об этом. Денег на калым найдем. Скажи лучше, есть ли у Сейдяка кто-то на примете? Встречается ли он с девушками?
— Мне он об этом не говорил…
— Так я и думал. Но дело далеко не так просто, как может показаться. Ведь Сейдяк из ханского рода, потомок славных воинов и ему не пристало брать в жены дочь купца или винодела. Он должен выбрать дерево по себе. А это, как понимаешь, уважаемая Зайла-Сузге, очень трудно.
— Я думала уже об этом, — тихо отозвалась та, — может быть, ему повременить с женитьбой? Лет пять?
— Над ним будут смеяться, как над юнцом, который не имеет собственной семьи! Ты этого хочешь, женщина?
— Нет…
— Потому ему надо выбрать невесту. Девушку знатного рода.
— Кто же отдаст свою дочь за нищего, у которого все богатство, что его сабля.
— Сабля в умелых руках — не так уж и мало. Но пришло время не только выбирать невесту твоему сыну, но и вести его в ханский дворец. Там мы сможем найти тех, кто пожелает породниться с наследником Сибирского ханства. Только там, во дворце хана Абдуллы.
— Я с болью в душе жду этого дня. Мне немного известна жизнь ханского двора и хорошо знакомо, чем все закончится.
— Воистину, Аллах дал женщине длинный волос, но короткий ум, — неожиданно вспылил Амар-хан, — если Сейдяк и дальше будет сопровождать купеческие караваны, оставаться простым сотником, то он рискует не только остаться нищим, но и вскоре лишиться головы. Лучше самому явиться во дворец, чем ждать, когда тебя приведут туда.
— Поступайте как знаете, — горько всхлипнула Зайла-Сузге, — больше мне некому доверить судьбу единственного сына. Пусть будет по-вашему. Я согласна.
— Давно бы так, — Амар-хан возвел руки вверх, — пусть Аллах поможет мне в благом начинании.
Прошло около месяца и Амар-хан через родственников и старых друзей устроил так, что трое его сыновей и Сейдяк были представлены хану Абдулле, правителю Бухарского ханства.
Великолепие дворца, огромное число слуг, вельмож в шитых золотом халатах поразило воображение юноши. А когда он увидел кресло, на котором восседал Абдулла-хан, исполненное, казалось, целиком из золота с вправленными в него драгоценными камнями, у него перехватило дыхание и потемнело в глазах.
— Подойти ближе к повелителю, — приказал ему визирь, стоявший возле хана с правой стороны, — он разрешает тебе поцеловать полу своего халата. То великая честь, помни о ханской милости.
Князь Сейдяк сделал несколько шагов к трону, нагнулся и осторожно приподнял краешек свисающего халата, вышитого золотыми и серебряными нитями. Она оказалась необычайно тяжелой и пахла какими-то благовониями. Поднеся край ханского халата к губам, он вдруг понял, что отныне его жизнь не принадлежит ему и что-то обязательно должно измениться, произойти. Так, попав раз в бурную реку, он на время перестал грести — и река тут же мощной волной накрыла его тело, швырнула к берегу, но, словно передумав, отбросила обратно, вынесла на середину. Не было ни прошлого, ни будущего. Лишь стремнина реки, несущая его. Вот и сейчас тихий и ровный шум голосов собравшихся во дворце напоминал дыхание волн, а гулкие шаги чьих-то кованых сапог — удары камней о береговые уступы. И теперь он оказался в иной, непривычной ему, стихии, нежели тот мир, где он жил ранее. Мир ханского дворца таил в себе столько подводных течений и водоворотов, опасных для жизни новичка, что становилось жутко от одного взгляда на сверкающее крутом великолепие.
— Повелитель спрашивает, из чьего ты рода, — донесся до него, словно через глухую завесу, голос ханского визиря — Ты плохо слышишь? — с удивлением глянул он на юношу.
— Ему кровь в голову ударила от величия нашего правителя, — засмеялся кто-то сзади.
— Отвечай, не молчи, — прошептал оказавшийся за спиной Амар-хан.
— Мой отец был из древнего рода Тайбуги, — Сейдяк не узнал своего голоса, сделавшегося на удивление хриплым и гнусавым.
— О, то древний род, — кивнул хан Абдулла, — но почему ты здесь, а не на родине своих предков.
— Моего отца… — Сейдяк сбился, подбирая слова. Он боялся сказать что-то невпопад, боялся заплакать, как случалось, когда в детстве прибегал к матери зареванный от оскорблений соседских мальчишек, дразнивших его. Но, наконец, справился с волнением и, скрипнув зубами, продолжал — Моего отца лишили жизни, а меня — земли моих предков.
— Кто посмел так поступить? Назови имя этого подлого человека и мы покараем его, — с гневом вскричал хан Абдулла, сверкнув черными, чуть навыкате глазами. И Сейдяку показалось, что он говорит искренне и действительно накажет его врага, поможет ему.
— Кучум имя его, мой повелитель, — почти шепотом ответил он.
— Тот самый Кучум, что давно не платит нам дани? Это он? — хан повернул голову в сторону визиря. Тот согласно кивнул головой. — Мы поможем тебе Ты восстановишь справедливость и поквитаешься со своим врагом. Мы дадим тебе воинов, но… — хан хитро сверкнул глазами и сделал взмах рукой, — прежде ты должен послужить нам и показать себя в деле. Мы назначим тебя своим юзбашой.
— Я согласен… И не знаю, как отблагодарить великого Абдуллу-хана, — Сейдяк сам не понял, какая сила пригнула его к подножию трона, и он вновь кинулся целовать полу ханского халата. Только теперь делал это с глазами полными слез, как целуют любимую женщину, жадно сжимая ее в руках.
— Будет, будет, — ласковым голосом остановил его хан Абдулла, — еще изорвешь мой халат, а он дорого стоит. Тогда до конца дней придется тебе служить в моем войске.
— Я готов, — Сейдяк, исполненный восторга и нахлынувших на него чувств, уже плохо понимал, что делает, что отвечает. Выручил Амар-хан, тихим голосом приказавший поклониться и отойти в сторону.
— Князь Сейдяк хотел бы попросить еще об одной услуге, — проговорил старый визирь.
— Говори, о какой услуге речь, — милостиво согласился хан Абдулла.
— Юноша молод и не имеет жены. Если великий хан укажет ему, на кого обратить свой взор, то… поистине окажет неоценимую услугу.
— Иными словами, ты хочешь, чтоб я оказался в роли свахи? — засмеялся Абдулла. Он явно был сегодня в хорошем расположении духа. — Хорошо, пусть будет по-твоему. Я найду ему невесту и даже заплачу достойный калым. Я умею ценить преданных мне людей. Но пусть и он всегда помнит об этом.
— Непременно, мой повелитель, — попятился, низко кланяясь, Амар-хан, — он будет помнить об этом вечно и будет хорошим воином. Очень хорошим воином…
БЛАЖЕНСТВО УХОДЯЩИХ
Иван Васильевич не мог долго оставаться в Москве, отправив армию в поход на Ливонию. За последние годы государство Ливонское мешало ему думать о чем-то другом. Постоянно в мыслях он возвращался к этому малому государству, посмевшему бросить ему, царю Московскому, Великому князю всея Руси, вызов. Уже не раз и не два прошли войска его по худосочным полям, разорили большую часть деревень, взяли приступом городки и крепости. Но нет, им этого мало! Вместо того, чтоб раз и навсегда принять сторону Москвы, признать на веки вечные власть его царскую, эти безмозглые правители ливонские бросались в ноги то свеям, то ляхам, надеясь получить у них защиту и помощь. И много ли получили? Свеям своих дел хватает, а новоиспеченный королек польский Стефашка Баторий нищ и гол и настоящей армии ему в ближайшие десять лет не собрать.
Более всего Ивана Васильевича раздражали замашки польских шляхтичей, провозгласивших себя не иначе как Державой — Речью Посполитой! Им бы подумать, чем зад голый прикрыть, смердов своих хоть раз в жизни досыта накормить, а не войны вести. У них ведь как: чем дворянчик беднее, тем выше нос дерет, достоинством своим кичится. Сидели бы в замках своих, пиво пили, детей рожали и перед холопами достоинство выказывали. Куда им до бояр русских?! Русские бояре, почитай, все род свой от Рюрика ведут, вотчинами владеют не одну сотню лет. Другим и городки во владение полное испокон веку отданы. А шляхтич, что? Мызу на три оконца поставил, людишек с деревеньки соседней на работы согнал, пива наварил, зерна полсусека супротив нашего засыпал и гоголем по двору ходит, сам себя паном называет-величает, самому себе почет и уважение выказывает. Шляхтич! Ети их матушку! Да он такому шляхтичу суку со своей псарни кормить не доверит, не то что на крыльцо или в покои пустить!
И эта самая шляхта голопузая пытается себе вольности позволять, с ним, царем всея Руси, силою меряться?! Он их, как блох, мизинцем щелкает, давит, а они обратно грибами погаными из земли лезут, удержу никакого не знают. Выходит, не испытали пока по-настоящему кулака русского, лиха не ведали, горя доподлинного не опознали.
"Ладно, — думает Иван Васильевич, посох сжимая, половицы им гвоздя, — устрою вам неделю масляну, пошлю коврижек железных, пряников булатных. Умоетесь кровушкой, слезок попьете, плеточкой закусите. Иначе с вами никак нельзя. Не понимаете слов человечьих. Змеюку-аспида сколь не гладь, молочком не пои, а она все одно шипит да под корягу ползет. Заставлю и вас, шляхтичей вшивых, по лесам-болотам сидеть и там в вольности жить, мудрствовать. Может, посговорчивее станете, поймете, в чем она правда есть, на чью сторону дорожку торит, откуда солнышко по небу бежит, кому первому светит. Соплей на кулак намотаете, и умишка, глядишь, прибавится!"
С этими мыслями Иван Васильевич и велел кликнуть к себе дьяка Щелканова, в чьем ведении было снабжение войска, ушедшего в Ливонию.
— Все ли припасы для осадных орудий отправлены? — спросил он, не обернувшись даже на звук шагов торопливо семенившего дьяка.
— Третьего дня последний обоз, как есть, отправили, государь, — с придыханием подобострастно отвечал тот, — будет, чем угостить ляхов, горячего гороху им в штаны насыпать.
— Да уж, сыпать в штаны ты мастер великий, — усмехнулся Иван Васильевич и, легко обернувшись в сторону Щелканова, недобро сверкнул глазами, — а коль не хватит пушкарям моим припасу? Тогда как?
— Должно хватить… Непременно должно, — склонился в поклоне дьяк и еще чаще задышал, так и продолжая смотреть на царя снизу вверх, часто мигая маленькими глазками.
— Ой, смотри у меня! Коль не хватит, то велю тебя под стены крепости привезть, в пушку затолкаю и сам фитиль поднесу. Бот тогда будет горох!
— Ежели пушкари с умом, с розмыслом палить станут, а не бухать, куда непопадя, то хватит зарядов и еще останется. Собственноручно все бочонки с зельем пересчитал, каждое ядрышко пометил…
— Поглядим, — резко перебил его Иван Васильевич, — сам к войску собираюсь. Не особо на воевод своих надеюсь. Вели под поездку мою обоз собрать как должно.
— Не впервой, государь, выполню. Сколь человек едет? К какому дню готовить обоз?
— Сотни две. Более брать не хочу. Сын Иван тожесь со мной пущай едет. Дней через пяток и выступим, коль Бог даст. Ступай…
…На шестой день царский поезд без особых торжеств и проводин выехал из Москвы в сторону Пскова. Слякотная дорога местами подмерзла, прихваченная первыми утренниками, но все одно — по низинам кони с трудом тащили тяжело груженные возки. Иной раз приходилось стрельцам впрягаться, чтоб вытолкнуть завязшую по самые оси телегу или колымагу. Возок, в котором ехали царь со старшим сыном, был запряжен по два в ряд шестеркой добрых коней, хорошо откормленных спелым овсом, подобранных по мастям. Правил ими давний царский кучер Харитон Пантелеев, которому не смел перечить даже сам Иван Васильевич. И если Харитон говорил иной раз, что кони пристали или нужно ехать в объезд, то с ним никто не спорил, а делали, как он скажет.
Иван Васильевич любил дальние поездки, когда далеко позади оставалась суетливая Москва, откладывались дела, которым и конца краю не видно, и можно было, откинувшись на подушки, смотреть в оконце на унылые поникшие рощицы, дубравы, проезжать без остановки через большие и малые деревеньки, где у обочины стояли с шапками в руках бородатые мужики с открытыми от удивления ртами. Может, они и догадывались по убранству поезда, по звериному оскалу храпящих коней, что едет мимо них непростой человек, и приведись Ивану Васильевичу остановиться, выйти из возка, попадали бы прямо в грязь, окунув в жижу длинные бороды. Но не в обычае у царя было останавливаться по деревням, где в каждом доме кишели клопы, пахло кислой капустой, прелой кожей, дегтем и еще чем-то непотребным. Нет, на ночлег царский поезд выбирал один из многих монастырей, что в изобилии сверкали крестами вдоль древней псковской дороги. В каждом из них испокон веку держали особые покои для знатных гостей и неукоснительно блюли чистоту. Вечером он шел вместе с монахами на службу, а потом, после трапезы, вел долгие разговоры с настоятелем или кем-то из богомудрствующих старцев о земном бытии, о святом писании, поражая собеседников недюжинной памятью и знанием ветхозаветных текстов. И ради этих бесед любил он бывать в обителях, где у него со временем появились свои любимцы, были известны слабости каждого.
На этот раз он решил не заезжать в Псков, а остановиться в Печерском монастыре, где игуменом был старец Корнилий. Они несколько раз встречались прежде, но каждый раз разговора не получалось. Старец замыкался в себе, просил отпустить его на молитву, сказывался больным, немощным, одним словом, не желал разговаривать с царем, не особо и скрывая свою неприязнь. Последний раз Иван Васильевич видел Корнилия во время своего приезда в Псков, два года назад. Он стоял среди прочих монахов, ничем из их числа не выделяясь, опустив низко голову. Иные настоятели лезли к царю с просьбами, говорили о неустройстве своих обителей, просили вспомоществления, заступничества перед близкой Литвой. Но Корнилий не высказал ни единой просьбы и тем как бы выделил себя из числа прочих. Можно подумать, в его обитель манна с небес валится и всего в достатке.
Иван Васильевич специально посылал человека незаметно узнать, посмотреть, как обстоят дела в Печерском монастыре. Очень уж пал ему в память игумен Корнилий. Человек сказывал, мол, действительно, обитель та процветает, словно божественный сад в пустыне. И храм каменный во имя Благовещения Пресвятой Богородицы выстроили своими силами. В храме том явлен образ чудотворный, проистекающий елеем и исцеляющий больных и немощных даже иного вероисповедания. Оттого будто бы и паломников в монастыре великое множество. Они и жертвуют на нужды обители, вклады великие несут.
Но более всего неприятно удивило Ивана Васильевича, что вокруг Печерской обители, по распоряжению игумена Корнилия, возвели стены. Большого греха в том нет, любой монастырь закрыт стенами от взоров люда праздного, постороннего, в миру без дела шляющегося. Плох тот хозяин, что добро свое от лихих людей сохранить не может. Но сказывали про стены печерские, будто сложены они на манер крепостных, с бойницами, с башнями. Против какого такого врага на русской земле монахи вздумали оборону держать? При живом царе, при воеводах, при войске? Хорошо, коль жена в светелке за крепкой дверью сидит, мужа дожидаючись. А коль она дверь ту накрепко закрытой держит, дабы муж ненароком не вошел, что непристойное не увидел? Тогда как?
Вот и спешил Иван Васильевич в Печерский монастырь увидеть хозяйским глазом все сотворенное рачительным игуменом Корнилием. Увидеть и самому решить нужность содеянного, правильность понимания настоятелем должности своей.
Чем ближе подъезжали к монастырю, тем более неровным становилось настроение Ивана Васильевича. Сын, сидевший напротив, первым уловил отцовское раздражение и во избежание очередной ссоры попросил:
— Проедусь-ка я верхом малость, поразомнусь. А то ноги так затекли скрючившись сидеть, ажно мурашки бегают.
— Разомнись, разомнись, — ответил Иван Васильевич, думая о чем-то своем и не вникая в истинную причину сыновьего желания.
К настоятелю заранее направили гонца упредить о прибытии царского поезда, и он, верно, вовремя успел прибыть на место, поскольку въехав на холм, все услышали торжественный звон, плывущий им навстречу. То с монастырской звонницы приветствовали царя, старательно вызванивая во все колокола по очереди, как-то случается лишь на престольные праздники.
И это не понравилось Ивану Васильевичу. Не любил он лишнего шума, ни к чему. Разве, что ворогов предупредить звоном тем, мол, государь пожаловал… Может, и сговорились с кем монахи. Кто их поймет, уразумеет.
Монастырь лежал меж двух гор и любой путник видел внутреннее убранство его, снующую по двору братию, и лишь стены, которые были в самом деле непомерно велики, мощны и казались неприступными, заслоняли частично двор обители, делали ее более кучной, собранной в кулак твердыней.
Стрельцы, обогнав царский возок, первыми подскакали к воротам, отстроенным в виде надвратной церкви, одновременно похожей на боевую башню, откуда удобно отстреливаться от врага, соскочили с коней и образовали тесный коридор, расталкивая стоявших единой толпой монахов, выбежавших навстречу царю.
Иван Васильевич дождался, когда Харитон остановил разгоряченных бегом коней, взял в руки посох, с которым не расставался никогда, но выходить не спешил. Дверцу открыл Богдан Вольский, ехавший позади и вызвавшийся сопровождать царя в Ливонский поход, и, низко кланяясь, показывал старательно, мол, все готово, просим… Только тогда показалась царская голова, затем посох, упершийся в землю и, наконец, весь он легко вынес свое сухое тело, спрыгнул, стряхнул с себя дорожную пыль, беглым взглядом скользнул по монастырской братии, стоявшей в полусотне шагов, и неожиданно обратился к Вольскому.
— Слышь, Богдаша, а сколь ден тебе потребно станет, чтоб крепостицу энту взять? — говорил он нарочито громко, отчетливо произнося каждое слово, зная, что они долетают до стоящих поблизости монахов. При этом заметил, как игумен Корнилий, сделавший несколько шагов к нему навстречу с крестом в руках, и несколько человек с хоругвями, остановились, замерли, услышав царские слова.
— Какую-такую крепостицу? — опешил Вольский. Но, увидя подмигивающего ему украдкой царя, мигом нашелся и, нарочно высоко задеря голову, разглядывая высоченные стены, надвратную церковь, ответил. — Это смотря как на приступ идти… С пушками?
— С пушками, с пушками, — подыграл ему Иван Васильевич.
— Тогда за пару ден пролом сделаем… — он почесал бороду, начал загибать пальцы. — Пару ден хворост, лестницы готовить, а там и на приступ полезем, коль Бог даст… Выходит, ден с пяток уйдет.
— А ежели по тебе со стен из пушек бить начнут?
— Тогда дольше… Рвы вырыть, валы от ядер вражеских насыпать. Опять же, смотря какие пушкари у них и какие у нас. А ежели они еще и вылазки чинить начнут, войско мое тревожить, то тут и в десять ден не управиться.
— Да ежели подмога к ним подойдет, — продолжал гнуть свое Иван Васильевич.
— Ну, государь, то надолго…
— И я так думаю. Можно за такими стенами отсидеться, пока выручка не подоспеет. Значит, не я один так мыслю. И тебе та же думка в голову пришла.
Корнилий же, видя, что дело принимает нехороший для него оборот, подал братии знак, и те громко запели, а он сам двинулся с поднятым крестом навстречу царю, бесстрашно глядя тому прямо в глаза. Их взгляды встретились. И Иван Васильевич прочел во взоре старца неукротимую решимость, веру, и что-то тайное, сокрытое от него читалось в тех неустрашимых глазах. Он ощутил, как ярость вскипает в нем: не слуга, а господин встречал Царский поезд у ворот обители. Но пересилил себя Иван Васильевич, приложился горячими губами к кресту, подошел под благословение и милостиво спросил, словно все происходящее до этого было не более, как шутка:
— Не ждал, поди?
— Владыку небесного и владыку земного да всегда жди, — смиренно, но с достоинством произнес Корнилий.
— Воистину… Выходит, готов и к часу урочному, и к часу неурочному. То хорошо… Веди, показывай крепость свою.
— Не ведаю, что ты, государь, крепостью называешь. Укрепляя дух свой яко твердыню, угодно Господу, дабы и стены крепкие супротив ворогов земли русской стояли.
Они прошли сквозь строй стрельцов и теперь их окружала монастырская братия, которых, Иван Васильевич прикинул быстро в уме, было никак не менее сотни. Столько же как и у него охраны. Только эти стояли безоружные. Однако, кто его знает, сколько сокрыто внутри стен. Стены… Стены… Звучало в голове. Глянув на лица затворников, он ощутил легкую неприязнь, плохо скрываемую и готовую прорваться в любой момент. Он поежился зябко и, когда миновали иноков, спросил игумена:
— В баньку попариться не сводишь, святой отец? Замерз я чего-то.
— Баня не топлена, — сухо отозвался тот, глядя куда-то в сторону, — но коль прикажешь…
— Ладно, чего там. Ото! — Остановился он, увидев стоявшие на стенах пушки. — Много их у тебя?
— Не больше дюжины, — игумен отвечал негромко, смотря в землю.
— Всего, говоришь?! — Иван Васильевич вновь почувствовал, как ярость переполняет его и кровь едва не закипает, ударяя в виски. Его все выводило из себя: и спокойный, с достоинством голос игумена, и богатое убранство храмов, золотом покрытые кресты, стены, большое число иноков, которые все как на подбор были рослые, плечистые — воины, а не монахи. Теперь же, увидев пушки, о которых он прежде и не знал, он окончательно утратил контроль над собой и зло, брызгая старцу в лицо слюной, выкрикнул: — Как смел без моего ведома пушки те завесть?
— Главное, что есть они, — тем же ровным голосом ответил Корнилий.
— А с изменниками тоже переписку тайно от меня ведешь?!
— Со многой братией переписку ведем…
— А Курбского, изменника и наветника, тоже братией считаешь?! Он же к тебе исповедываться наезжал! Не ты ли и присоветовал ему переметнуться, бежать от царя законного?!
— На небесах царь наш…
— Не торопись! На земле пока стоишь. И земной царь перед тобой. На колени! Кайся! Ну… — Иван Васильевич угрожающе поднял посох. Он не замечал застывшей сзади толпы монахов, не видел, как стрельцы едва сдерживают их, выставив вперед пищали, не видел стоявшего в нескольких шагах с перекошенным от ужаса лицом сына Ивана. Он пытался поймать взгляд непокорного старца, но тот смотрел куда-то мимо него, словно видел нечто более важное, глубинное. — На колени!!! — уже не сдерживая крика, затрясся в припадке Иван Васильевич, и с монастырских стен поднялась стая громко орущих галок, испугавшаяся царских воплей. "И они против меня", — мелькнуло в воспаленном царском мозгу и, не помня себя, он ударил острием посоха игумена.
Тот медленно начал опускаться на колени, нащупывая одной рукой землю, а другую с крестом прижимая к ране на груди.
— От земного царя предпослан к Небесному в вечное жилище… — тихо прошептал он и упал на землю, не разжимая руки с крестом.
И будто слабое сияние озарило его голову, источая неземной свет, показалось в испуге инокам. Но царь не видел и не слышал ничего, стремительно направившись скорым шагом обратно к воротам.
БЛАЖЕНСТВО РАТУЮЩИХ
Василий Ермак нагнал обозы русской армии, когда она уже подходила к окрестностям Ревеля, которым управляли шведы. Он сразу оценил важность этого города, запиравшего выход к морю и подчинявшего себе все побережье залива. Мощные стены, башни вызывали невольное уважение и не верилось, что хоть одно пушечное ядро может проломить их.
Последнюю неделю Ермак ехал вместе с небольшим отрядом русских дворян, так же как он, постегавших от главных воинских сил, и теперь отчаянно пытавшихся нагнать своих, чтоб не быть объявленными изменниками и предателями. Двое из них были братьями Мезецкими и неплохо знали князя Федора Барятинского, Алексея Репнина и Петра Колычева.
— С Алешкой Репниным мы под Венден ходили. Добрый рубака, не побежит с боя, — широко разулыбался старший из братьев, Василий.
— А мы с Петром Колычевым под Могилевым с ляхами рубились. Только не выгорело дело тогда. Потеснили нас ляхи. Татары, что у нас на левой руке стояли, в бега ударились. Вот и обошли нас ляхи; А так бы… — сыпал словами младший Дмитрий.
— Как они, ляхи, в бою? — спросил осторожно Ермак. — Не имел с ними дела пока.
— Еще насмотришься, пообвыкнешься. Оне особо воюют. Не то, что те же крымчаки. Стоят плотно, строем. Конница не скопом идет, как наши или татары, а опять е по сотням голова в голову. И отходят в случае чего осторожно: одни прикрывают, а другие пятятся, огрызаются. По науке воюют…
— Это как? — переспросил Ермак.
— По книжному, значит. Как в древних книгах еще со времен Александра Великого прописано. А там всякие случаи разбираются, советы даются. Читал я одну такую. Умная книга, — пояснял словоохотливый Дмитрий Мезецкий.
— Скажем, у тебя есть пять сотен конников и пять сотен стрельцов пеших. Как ты их построишь перед боем? — спросил с усмешкой старший Василий.
— Ну, как … — Ермак чуть подумал, представил себе огромную поляну и себя со своими сотнями, противника, стоящего на противоположной стороне, продолжил. — Конница пойдет вперед, врубится, а пехота следом бежит, помогает.
— Этот случай у тебя может с крымцами, с ногаями и пройдет, а вообще конницу всегда на самый конец береги, терпи сколь сможешь. Против ляхов или свеев завсегда стрельцов запускай. Пусть они из пищалей их пощиплют малость, с места сколыхнут. Про пушки опять же не забывай, поставь их по краям. В них сила великая, но одна беда — заряжают больно медленно. Против крепостей они, пушки, всем хороши. А в поле… — э-э-э, горе одно. Пока наведут, зарядят… Враг уже перед носом, а пушкарь только фитиль подносит.
— Ляхи те на пушкарей всегда конницу и пускают. Р-р-раз и порубили всех. Так что бросать одних пушкарей никак нельзя. Стрельцами опять же прикрывать нужно.
— Выходит, стрельцы сильней конницы? — С удивлением смотрел на братьев Ермак, который впервые слышал подобные рассуждения.
— Опять же, когда и супротив кого. Слыхал, поди, как против крымцев воевода-князь Михаил Иванович Воротынский гуляй-город выставил?
— Слыхал малость, — Ермак припоминал отрывочные рассказы про большое сражение на другой год после московского пожара на берегу речки Лопасни. Сам он тогда был на Волге в казачьей станице. Но и туда докатились слухи о поражении крымцев.
— Гуляй-город за одну ночь посошными мужиками рубится. И стоять ему день-два, не боле. Зато от татарских стрел, сабель лучше не придумаешь. А стрельцы из-за стен знай себе палят, валят татар.
— Да-а-а, — подвел заключение разговору Василий Мезецкий, — все от воеводы зависит. Как он распорядится, силы расставит, так и бой пойдет.
— А хуже нет, когда воевода велит то туда, то сюда бежать. Сам путем не знает как быть и тебя с толку сбивает, — младшему Дмитрию, видать, очень хотелось, чтоб последнее слово осталось за ним. Старший хмыкнул, глянул на брата, но ничего не сказал и дальше долгое время ехали молча.
Русский лагерь показался Ермаку столь необъятным, что глаз не мог отыскать конца-края шалашам, палаткам, шатрам. Он растянулся узкой полосой вдоль городских стен неподалеку от предместья, где за деревянными, плохо укрепленными стенами засела первая цепь защитников, не давая близко подтащить тяжелые осадные пушки.
Ермак ехал меж шатров и палаток, пытаясь отыскать своих казаков. Он доехал до конца лагеря нигде никем не остановленный, и лишь когда сам поинтересовался у бородатого мужика, тащившего куда-то тяжелый рогожный куль, тот махнул рукой в сторону дальней дубравы, отделенной от общего лагеря большим пойменным лугом.
— Там должны быть твои казачки. Отделились от нас. Несподручно им с нами стоять. Поболе себе урвать думают, — с ехидной улыбочкой выговаривал мужик, чуть щурясь.
Не поблагодарив, Ермак поехал через луг, рискуя засадить коня в топком месте. Еще издали признал казачий лагерь по ярким цветным зипунам, штанам, крашеным полушубкам. Навстречу ему кинулся первым Гришка Ясырь, громко крича что-то, махая руками, следом шел, улыбаясь, Яков Михайлов, тянул длинную шею Гаврюха Ильин.
— Атаман едет! Атаман! — орал Гришка. — А мы вчерась о тебе вспоминали. Мол, никак заплутал или завернул куда. Может, с царем дружбу завел? Слыхали, он тебе панцирь свой поднес…
— Поднес, поднес, — отвечал Ермак, легко спрыгивая коня, — да чуть обратно не забрал.
— Отчего так? — раскрыл удивленно рот Гришка, веривший всему на свете.
— Говорят, есть там казак Гришка Ясырь. Больно разговорчив и болтлив. Растрезвонит всем про панцирь. Не хотел давать.
— Тебе не дай, так силой заберешь, — хлопнул атамана по плечу Яков Михайлов.
— Это можно…
— А я помогу, — прижал Ермака к себе Гаврюха Ильин.
Обнялись. Вразвалочку подошли другие казаки с заспанными лицами. Рады поглазеть на нового человека.
— Слыхали, будто сам царь к нам едет, — полуутвердительно проговорил один из них, — видать, жарко баню топить станут.
— Какую баню? — как всегда не понял Ясырь.
— Ту самую, красавую, — передразнили его. — Вот, как на дело пойдешь, так сразу и поймешь.
— Надоело без дела сидеть. Мерзнем только, да солонину лопаем.
— А чего и сшибок не было? — поинтересовался Ермак.
— Куда там… — махнул рукой Ильин. — Мы сюда самые первые и пришли. Потеснили малость людишек, что в крепость сбежать не успели. А потом как ворота позакрыли, стрелки во рвах позасели… Куда нам соваться?! Тоска одна. Так две недели и сидим, кобылам хвосты чешем.
— А воеводы, чего обещают? И дальше без дела сидеть будем?
— Да кто их знает. С нами они не больно говорят, сказывают. Передали, что над всеми конниками поставлен воеводой князь Василий Юрьевич Голицын. Только мы его покамест и в глаза не видывали.
— Ладно. Сыщу нашего воеводу, напрошусь в дело. На вас поглядеть, так и выть хочется. Нельзя казаку без дела.
— Никак нельзя, — поддакнули остальные казаки.
Чуть перекусив с дороги, Ермак нашел остальных казачьих атаманов и вместе с ними направился на поиски Василия Голицына. Это удалось им далеко не сразу. Даже когда им указали на воеводский шатер, пришлось долго ждать, пока князь наконец пригласил их к себе.
Он был еще не стар. Сухощав телом, с рыжеватой бородой, вившейся кольцами и наполовину подернутой серебряной сединой. Широко посаженные небольшие глаза смотрели на казацких атаманов неодобрительно. Он молчал, давая им выговориться. Потом резко поднялся с деревянного обрубка, отчего стал казаться еще выше и уже, и ткнул пальцем в грудь Ермака, стоявшего чуть впереди остальных.
— Говори ты, чего хотите… Лаетесь как торговки базарные, — брезгливо поморщился он.
— Дела хотим, — коротко ответил тот, не мигая глядя в глаза воеводы, но видел в них лишь раздражение и усталость.
— Ладно, в дело, так в дело. Завтра выступайте с рассветом и пройдитесь по пригородам, по мызам, порыскайте, поищите — нет ли Ревелю подмоги откуда. Может, людишки ихние прибывают незамеченными. Обозы там коль встретите, то знаете как поступить?
— Знаем, князь, знаем, — загудели атаманы, подмигивая друг другу, почуяв наконец-то привычное для себя дело.
— Одним словом, разведайте, что к чему, и вечером мне доложите. А тебя главным над другими ставлю, — палец воеводы опять уперся в широкую грудь Ермака.
Тот как бы нехотя пожал плечами, глянул на остальных, пытаясь по их лицам понять, рады они или завидуют такому назначению. Но атаманы скорее были довольны, что не им предстоит идти к воеводе с отчетом. На том и расстались.
…Ермак шел со своей сотней почти у самой кромки моря, и влажный ветерок дул справа, доносил незнакомые ранее запахи. Кричали чуть в стороне ненасытные чайки, не обращая внимания на людей, громко хрустела галька под копытами коней, кто-то из казаков попытался затянуть песню. Все были донельзя рады, что наконец-то сели в седла и не нужно слоняться весь день по лагерю, выискивая себе занятие, с завистью поглядывая на посошных мужиков, которые колгатились, строя какие-то укрепления: таскали бревна, рыли землю. Может, кто из казаков и согласился бы даже бесплатно, задаром поработать вместе с ними, но гордость воина, насмешки друзей не позволяли сделать такой шаг. Зато теперь, вырвавшись на простор, они улыбались морскому ветерку, подставляя ему лица, расстегивали полушубки, перекидывались шутками. Словно не на войну, не в разведку ехали казаки, а на свадьбу в ближайшее селение.
Ермак искоса посматривал на своих конников, растягивая губы в усмешке, но не показывал вида, что и ему радостно от морского простора и ощущение свободы переполняет, пьянит, кружит голову, заставляет забыть прежние невзгоды, освежает душу, наполняет новым незнакомым чувством.
Они разделились с остальными сотнями, бросили жребий, кому по какой дороге ехать, и вот его сотне досталась ближняя к морю.
— Слышь, атаман, изба впереди, — подъехал к нему Яков Михайлов, — только не как наша из бревен, а из камней сложена.
И точно, на берегу в сотне шагов от воды стояло неказистое строение из белесого камня, обнесенное таким же каменным заборчиком высотой в половину человеческого роста. Во дворе на шестах висела длинная сеть, а у самой воды лежала перевернутая вверх днищем здоровущая лодка. К ней были прислонены и весла, а рядом — плетенная из прутьев пустая корзина.
— Рыбаки, видать… — вслух высказался кто-то из казаков.
— Точно, а кому тут еще и быть?
— Двое — вперед! — скомандовал Ермак. — Осмотрите все получше.
Два казака поскакали к домику, держа пищали наготове, один вошел внутрь и вскоре вытолкал наружу коренастого человека в засаленных, с заплатами кожаных штанах и такой же куртке. На нем была широкополая шляпа. Незнакомец не носил бороды, но густая рыжая щетина указывала, что он дня два как не брился.
— Кто такой? — спросил Ермак, подъехал к нему вплотную.
— Нихт ферштейн, — ответил тот, разводя широко руки.
— Не понимает он, — пояснил кто-то из казаков, — можно, атаман, я с ним покалякаю? Малость знаю по-ихнему.
— Хорошо. Спроси, кто он и чего тут делает, — приказал Ермак.
Казак, вызвавшийся быть толмачом, повторил вопрос, и незнакомец что-то быстро заговорил, показывая рукой в сторону моря.
— Говорит, рыбак он и живет здесь один, — пояснил толмач.
— Где же семья его? Как это мужик один живет?
— В другое селение отвел, говорит. Как русские, мы о есть, пришли, сразу и свел семью.
— А сам, чего остался? За нами приглядывать?
— Рыбачить остался…
— Почему рыбы не видно? Вы, ребята, видели в доме где рыбу?
— Нет, — отвечали казаки, что заходили в дом, — не видно.
— Вот-вот. Рыбы нет. Лодка несколько дней лежит на берегу и никто в море ее не сталкивал. По следу старому видно. И руки у него чего-то не рыбацкие. Белые руки.
Надобно подвесить рыбака этого и огонек под ступнями развести. Тогда мигом заговорит. Как, ребята, думаете?
— Правильно, атаман, — дружно поддержали его остальные казаки. — Поджарим рыбачка хренова! Пущай то же самое повторит, когда ножками по уголькам сучить зачнет!
После этих слов глаза незнакомца забегали и неожиданно он кинулся меж казаков, перескочил через ограду и, забежав в дом, захлопнул за собой дверь. Казаки, было, растерялись, не ожидая от пленника подобной прыти, но затем дружно расхохотались, показывая руками на дверь.
— Гы, гы, гы, — подрагивал всем телом Гаврила Ильин, — куды же ты, родненький, побежал? Никуда ты от нас не денешься. Все одно достанем, выкурим.
— Тащи хворост, мужики, — Ермак понял, что не ошибся, опознав в мнимом рыбаке вражеского лазутчика. Теперь его надо было во что бы то ни стало выкурить из дома и привести в лагерь. — Не захотел пятки парить, так всему придется подкоптиться.
Казаки кинулись искать по берегу сухие сучья, обломки каких-то досок, как вдруг раздался выстрел, и пуля просвистела у Ермака над головой. Он и не успел заметить, когда открылось маленькое оконце под самой крышей и оттуда высунулось длинное дуло пищали. Но тут же раздался второй выстрел — и казак, что нес охапку хвороста к дому, упал грудью на землю и уже больше не встал.
— Э-э-э, да их там несколько человек, — загомонили казаки, откатываясь от окна и поспешно вытаскивая свои ружья. — Во, напоролись.
— Чего делать будем, атаман? — крикнул из-под самой стены дома Яков Михайлов, внимательно поглядывая наверх.
— Выкуривать! — с силой шлепнул себя плетью по голенищу Ермак, досадуя, что упустил пленного. — Прячьтесь за стену и палите по очереди. Остальным подтаскивать хворост.
Казаки мигом разобрались: и человек двадцать, заряжая ружья, делали по выстрелу из-за стены, метя в окно, отходили в сторону, уступая место другим. Остальные, обойдя дом с противоположной стороны, торопливо подтаскивали собранные по побережью ветки, обломки мачт.
Пальба стояла непрерывно и с чердака уже не раздавалось ни одного выстрела. Обороняющиеся боялись и голову показать. Может, они и вовсе спустились вниз или укрылись в подвале.
— Надо бы бревно поискать да дверь высадить, пока тут огонь разведешь, с час не меньше пройдет, — подсказал Яков Михайлов.
— Точно, — согласился с ним Ермак, — ребята, ищите бревно.
Человек пять отправились по берегу, высматривая бревно, которое можно было бы использовать как таран. Они долго не могли подыскать ничего подходящего и почти скрылись из глаз казаков. Но вдруг до тех, кто остался у рыбацкого дома, долетели относимые ветром выстрелы, и все увидели бегущих обратно товарищей, а следом за ними мчались галопом десятка два всадников.
— Немцы! Или свей! — Засуетились казаки и их взгляды обратились на атамана, который, нахмурившись, смотрел в сторону бегущих. Вот упал сраженный саблей один, другой, остальные бросились в разные стороны и стали не видны от дома.
— На коней! — закричал он, не узнавая свой голос. — У кого пищали заряжены, целься лучше и стрелять наверняка. Остальные, за мной! — И первым выскочил на береговую косу утрамбованного песка, и в первый раз вспомнил о царском панцире, что сегодня надел перед выступлением.
Нападающих было в несколько раз меньше, но они держались уверенно, скакали строем попарно, и ему вспомнились рассказы братьев Мезецких, как ведут себя в бою поляки и немцы. Все они были закованы в латы, а лица скрывали опущенные вниз забрала, отчего казалось, что на тебя несутся неведомые неземные существа, явившиеся из морских глубин. Ермак, выставив вперед копье, низко пригнувшись к гриве коня, скакал первым. Казаки, чуть поотстав от атамана, старались рассыпаться привычным широким строем, чтоб охватить врага, закружить, завертеть его и достать сбоку, со спины. Но их противник был готов к подобному, потому что они вдруг рассредоточились, раздвинулись, не сбивая строя, только слышались команды на незнакомом языке.
— Немцы! Точно немцы, — крикнул кто-то из-за спины и, обернувшись, Ермак увидел того самого толмача, что совсем недавно допрашивал ускользнувшего от них пленника.
— Бери того, что слева, — крикнул он толмачу и рванул коня чуть правее, сшибся с передним всадником, не ожидавшим удара и не успевшим прикрыться длинным щитом. Копье Ермака угодило ему в грудь и переломилось у самого наконечника. Стальные доспехи он вряд ли пробил, но всадник, перевернувшись через голову, полетел на землю и тяжело шлепнулся, ударившись головой о камень. "Один готов", — отбросил Ермак бесполезное копье, выхватил саблю. Рядом проскочил другой воин с перьями на шлеме и остроносой мордой на забрале. Он пытался достать Ермака копьем в голову, но тот легко увернулся и полоснул саблей по вытянутой руке. Сталь скрежетнула по железной рукавице, копье выпало из руки противника, раненая рука обессиленно опустилась вниз.
Сшиблись остальные казаки с латниками, орудуя копьями и саблями. Но лишь одного латника удалось им вышибить из седла. Тех спасала прочная броня. Казаки же ловко уворачивались, соскальзывая под брюхо своих коней, проскакивая мимо смертоносных длинных копий. Однако, двоих казаков латники сумели достать, сбросить на землю. Прорвав казачий строй, они скакали теперь прямо к домику. Оттуда забухали выстрелы и трое из немцев тяжело откинулись назад, начали сползать с седел. Но не успели казаки перезарядить пищали, как немцы были у дома, засверкали сабли, длинные мечи. Казаки защищались, выставив пищали. Ермак и остальные казаки поспешили им на выручку и увидели, как распахнулась дверь, из дома выскочили два человека, среди которых был и недавний пленник, забрались на коней позади латников, и те поскакали в сторону Ревеля.
Когда Ермак подскакал к рыбацкому дому, то увидел двух казаков, лежавших на песке с разрубленными головами, другие в растерянности смотрели на мертвецов, держа в руках разряженные пищали.
— Откуда они только взялись? — с недоумением спросил кто-то в общей тишине. — Налетели, как с неба упали…
— Немцы… — уважительно добавил другой. — То тебе не ногаи.
— Атаман, догонять будем, пока недалеко ушли? — сдерживая разгоряченного коня, спросил Яков Михайлов.
— Нам разведывать велено, а не гоняться за разными там… Сколько убитых?
— Восьмерых положили, гады.
— А мы ихних сколько?
— Ты одного из седла вышиб, да ребята двоих подстрелили. Значит, трое всего.
— Это в первый-то день… Н-да… И сразу восемь человек потерять. А дальше, что будет? — Ермак как и все был ошеломлен той уверенностью, с которой немецкие латники впятеро меньшими силами напали на них, увели из-под самого носа своих лазутчиков и, пройдя словно раскаленный нож через масло, скрылись. Сталкиваться с чем-то подобным ему пока не приходилось. Он оглядел приунывших казаков, тихо проговорил:
— Вечная память товарищам нашим, — широко перекрестился, — здесь хоронить станем или в лагерь отвезем, чтоб батюшка отпел?
— В лагерь, в лагерь. По-христиански похоронить надо, а не как собак в землю зарыть, — зашумели казаки.
— Ладно, делайте носилки, везите в лагерь. Подбери людей себе и оставайтесь здесь, — кивнул он Гавриле Ильину. — Всем пищали зарядить и едем дальше. Да держитесь орлами, а не курицами мокрыми, — прикрикнул на казаков, заметно приунывших после первой потери.
— А не зря те двое в домике сидели, — высказал свое мнение Яков Михайлов, когда они ехали по прибрежной косе, построившись по два в ряд. — Явно высматривали чего-то. Так я думаю. А как они пальбу учинили, то те, рыцари, на подмогу им и пришли. Значит, неподалеку хоронились.
— Может быть, может быть, — вполголоса отозвался Ермак, думая о чем-то своем.
— Слышь, Тимофеевич, не нравится мне все это. Ненашенская земля. Все не так.
— Где она нашенская земля? На Дону? На Волге? Там ногаи, крымчаки под боком. В Москве? Кому ты там нужен…
— И сам не знаю. Но не по душе мне война эта.
— Не раскисай, как кисель. Повоюем и обратно подадимся.
За два дня, что они провели в разведке, латники им больше не встречались. Наверное, те двадцать человек были отправлены из Ревеля для наблюдения за русским войском и обнаруженные казаками скрылись в городе. Зато часто натыкались они на пустые домики, где не было ни единой живой души. Изредка виднелись в море паруса ад небольшими лодками, что направлялись в сторону Ревеля и близко к берегу не подходили. Лишь к вечеру навстречу им попались трое нищих слепцов, шедших положив руки на плечи один другому, ощупывая дорогу длинными посохами и чутко вслушиваясь в долетающие до них звуки.
Услышав топот казачьих коней, они сошли с дороги и, низко кланяясь, протянули руки за подаянием, что-то лопоча на своем языке.
— Чего они говорят? — спросил Ермак толмача Григория Пережогина.
— Подаяния просят. Чего же еще. Спрашивают, как к Ревелю пройти, — неохотно ответил тот. Вид убогих слепцов никак не поднимал настроение.
— Накормите их, — крикнул Ермак и, не останавливаясь, поехал дальше, вглядываясь в узкую тропу, петлявшую вдоль побережья. От встречи со слепцами стало совсем тоскливо и накатило ощущение собственной ненужности, никчемности на этой земле, куда они пришли воевать, непонятно за что, и вряд ли кому из них война пойдет на пользу.
"Если бы Евдокия не ушла от меня, ни за что не поехал бы в чертову Ливонию. Так бы и жил в казачьей станице", — вздохнул он.
Вернувшись к вечеру второго дня в лагерь, казаки узнали, что и другие сотни, разъехавшиеся по окрестностям Ревеля, сталкивались с небольшими конными отрядами закованных в броню рыцарей. Они смело шли на сшибку и легко прорубались сквозь казачьи ряды, неуязвимые в своих доспехах для сабель и копий. Правда, нескольких латников сумели взять в плен и свели в шатер воеводы Ивана Юрьевича Голицына, где им учинили допрос. Все они грозили карами небесными русскому войску, а один проговорился, мол, в помощь осажденным спешит из Швеции ихний главный воевода, который разгонит русских как мух, слетевшихся на лакомый кусок.
Ермак с интересом наблюдал, как из нескольких пушек, что были втащены мужиками на большой земляной холм, насыпанный вручную за несколько дней, начали пристреливаться по городским стенам, выбирая наиболее уязвимые места. Хруст дробящегося под ядрами камня доносился даже сюда в лагерь.
В ответ осажденные стреляли по русским пушкам, но их ядра не долетали до насыпного холма шагов на сто, взрывая каменистую землю, разлетаясь мелкими осколками. Но на всякий случай посошные мужики ставили перед пушкарями бревенчатую стену, укрепляя ее подпорками, оставляя лишь небольшие бойницы для жерл орудий. Ермак насчитал еще четыре холма, насыпаемых мужиками в разных местах поближе к городским стенам. От работников шел пар, они чего-то выкрикивали, подбадривая друг друга, и поминутно косились на городские бойницы, откуда звучали редкие оружейные выстрелы. Но уже с десяток убитых мужиков лежало у подножия холма, но на них никто и не смотрел, словно так то было и положено.
Все говорили о прибытии в лагерь самого царя вместе со старшим сыном, но государь так и не доехал до Ревеля, возможно, оттого, что заранее предполагал неудачу его взятия. Главные осадные воеводы — Иван Васильевич Шереметьев (по прозванию Меньшой) и Федор Мстиславский — ходили по лагерю понурые и со дня на день откладывали решающий день штурма.
— В Ревеле засело тысяч пятьдесят ратников, — рассуждал на очередном военном совете князь Шереметьев, — у многих из них пищали. Они перебьют половину моих воинов еще на подступах к стенам. А там их с топорами встретят немцы, шведы, чухонцы. Ко мне приводили нескольких пленных: ругают нашего царя, плюются, но на нашу сторону переходить не желают. Говорят, мол, против русских драться будем сколь сил есть, но ворота не откроем.
— По моим сведениям, они от того такие храбрые, что ждут из Швеции подмогу — войско под предводительством воеводы Делагарди. Он ранее многие битвы выиграл. Надо решать: или встречу ему готовить, укрепления рыть, конницу супротив него выставлять, или же город спешно брать. Иначе стиснут они нас, как баба чугун ухватом берет, зажмут с двух сторон.
— Болтают, будто у них свой воевода из смердов объявился, — добавил один из осадных воевод, — они его Аннибалом прозвали. Лют и жесток тот мужик, как зверь какой. Нашенских ратников, кого в полон схватят, по живому ножами режут, кости от мяса отделяют.
— Тьфу ты, — топнул ногой Шереметьев, — ты детей малых иди попугай россказнями своими. Решать надо, на какой день взятие назначать, а ты, воевода, сказки сказываешь.
Порешили начать взятие города на третий день ранним утром. Ратникам накануне выкатили дубовые бочки старого меда, воеводы велели кашеварам приготовить знатное угощение. Не умолкало буханье пушек, к которому все давно привыкли и обращали внимание не более, чем на зудение комара. Пушкарям удалось пробить ядрами брешь в стене, стыкующейся с главными воротами Верно, туда и направят утром воеводы основной удар.
Казакам тоже велено было готовиться к взятию города: их построили утром по сотням отдельно от остальных ратников. Три священника приступили к торжественному молебну, прося Господа послать воинам крепость духа и восславить русское оружие. Всех причастили, как во время большого престольного праздника, окропили святой водой — и первые сотни под гулкие удары огромных, обтянутых бычьей кожей барабанов, держа в руках длинные копья, неся на плечах лестницы, прикрываясь круглыми щитами, медленным шагом пошли к стенам.
Князь Голицын, командующий казаками, прохаживался тут же, дожидаясь, когда прибежит гонец от главного осадного воеводы, подаст сигнал к выступлению. Казаки переминались с ноги на ногу, широко позевывали и все поглядывали на городские стены и башни, куда уже подобралась, подползла людская река, откуда непрерывно хлопали оружейные выстрелы и изредка ухали пушки.
— Бежит, бежит, — закричал кто-то, увидев спешащего к ним гонца.
Но Голицын терпеливо дождался, когда тот подбежал к нему, что-то торопливо сообщил и тут же пустился бежать обратно.
— С Богом, — взмахнул он лишь после этого рукой, — пошли, ребятушки! Покажем себя, постоим за царя-батюшку! — и первым, вытянув кривую саблю, пошел в направлении города.
Издали было хорошо видно, как передние ряды нападающих докатились до пролома возле главных ворот, начали карабкаться по каменным завалам. Зеленые и красные кафтаны стрельцов смешались с серыми армяками, зипунами посошных мужиков, посланных разбирать завал, устанавливать осадные лестницы. Но вот серое начало постепенно отделяться от общей массы, заскользило вниз и, набирая скорость, устремилось в сторону лагеря.
— Побежало мужичье! — зло сплюнул Гаврюха Ильин, — теперича весь порядок порушат.
И точно. Сперва заспешили вниз стрельцы в зеленых кафтанах, затем и краснокафтанные медленно, постепенно стали откатываться от стен.
— Эх, нас не дождались! — выкрикнул Гришка Ясырь.
— Найдешь еще свою пулю, — успокоил его Яков Михайлов, — не спеши помирать, поживи малость.
Казаки преодолели уже половину пути до городских стен, когда навстречу им стали попадаться мужики, тащившие на носилках из жердей с натянутой меж ними рогожей раненых стрельцов. Те громко стонали, ругали свеев, немцев, воевод. Князь Голицын приказал сделать остановку и отправил молодого казака к главным воеводам узнать, как им быть.
— Сказано, обратно возвернуться, — закричал, не скрывая радости, тот еще издали, — сегодня более на стены не полезут.
— Ха! Война, мать твою за ногу! — смачно выругался Ильин.
— Вот в чистом поле бы с ними повстречаться, — высказался кто-то. — Тогда бы мы поглядели, кто кого. А за стенами сидеть всяк дурак смогет.
— Встречались уже. Поглядели, — зло отрезал Ермак, высматривая храбреца.
Больше казаков на взятие города не собирали. Зато князь Голицын, пригласив казачьих атаманов в свой шатер, жестко сообщил им:
— Неча задарма государев хлеб есть. Поди, за отсидку свою потом еще и плату потребуете?
— А это как водится… — заверил его седой атаман с большим, чуть с горбинкой-носом. — За сколь сговорились, за столь и купили. Мы от оплаты никак отказаться не могем.
— Зачем с куреней срывали? — поддержали его остальные. — Мы что ль виноваты, коль воеводы города взять не могут.
— Вот пошлю вас завтра всех на стены, тогда поглядим, какие вы вояки, — пригрозил Голицын. Но, судя по голосу, он и сам не верил, что казаки полезут на стены.
— Одни без стрельцов к стенам близко не подойдем, — отвечали атаманы, — мы люди конные и нам в поле сподручнее с врагом биться. На стены пущай пешие лазают.
Им-то привычней.
— Завтра же чтоб ни одного в лагере не было, — хлопнул кулаком по чурке Голицын. — Кого увижу — лишу оплаты и прикажу в железа заковать.
— Так куды ж нам деваться?! По домам что ль расходиться? Повоевали и будя! У наших ворот всегда хоровод! Есть нечего, да жить весело! — загомонили казаки. — Вот царь-батюшка, каков молодец: на службу позвал, а сам в терем сбежал.
— Цыц!!! — рявкнул Голицын, — Языками-то чесать! Мигом в сыскной приказ определю. Не погляжу, что казаки. Никто вас по домам не гонит. А велено всем вокруг города ездить дозорами, приглядывать, как бы к ним подмога не подоспела. Сказывают, что большой воевода со многими людьми сюда поспешает. Нам его упредить надобно, чтоб как коршун на цыплят не налетел. Смотрите у меня, чтоб мышь не прошмыгнула!
Он долго объяснял атаманам, кому на какой дороге встать, на каком расстоянии один от другого расставить посты, как посылать донесения. Атаманы поутихли, видя, что дело серьезное, слушали, открыв рты от усердия.
* * *
Ермаку с его сотней досталась на этот раз дорога, ведущая в глубь Ливонии, на Могилев и Краков. Оттуда могли нагрянуть неожиданно воины Стефана Батория, который давно грозился проучить русских, но пока в сражение не вступал. Ермак облегченно вздохнул. Близость царя давила на него, вызывая непонятную тревогу.
Разбив свою сотню на десятки, когда они отъехали на несколько поприщ от Ревеля, он расставил их по разным тропкам, проселочным дорогам, наказав не озорничать особо с местными девками, не зорить домов, а заходить туда лишь в случае крайней нужды. Сам же он, взяв с собой Якова Михайлова и еще трех молодых казаков, поехал по главной дороге, внимательно прислушиваясь к сторонним звукам, поглядывая вперед. Падали редкие снежинки, тут же таявшие на конских спинах, постукивали копыта по мерзлой земле, дышалось легко, и казалось, ничто не напоминало им о войне, о смерти.
— Жилье близко, — поднял он вскоре руку, натягивая повод.
— Мыза ихняя, поди. Тут одни чухонцы и живут.
— Не похоже на мызу. Большое жилье, — определил по каким-то, ему лишь понятным, признакам Ермак, — а ну, ребята, айда галопом. Разузнайте, что там впереди, а мы подождем.
Молодые казаки вскоре вернулись обратно и сообщили, что неподалеку от дороги стоит огромный дом, окруженный стенами, и с подъемным мостом, который, правда, опущен.
— Замок-то у них, — пояснил Михайлов, — видывал я такие. Двум сотням и за неделю не взять. А там человек пять могут хоть цельный год оборону держать, коль жратва есть.
— Поехали, посмотрим, — и Ермак первым поскакал, желая своими глазами увидеть чудный замок.
Тот стоял на взгорье, упершись в небо позеленелым остроконечным шпилем с крестом наверху. Удивительно, но мост был опущен, поддерживаемый толстенной цепью, уходившей в проемы ворот. Сами ворота, из толстенных дубовых плах, окованные железными полосами, оказались наглухо закрытыми. Звонко цокая подковами по доскам моста, они осторожно, ожидая выстрела со стен, подъехали вплотную. Ермак постучал в воротину прикладом пищали.
— Что нужен? — на ломаном русском языке тут же спросили изнутри.
— Казаки с Дона погостить приехали. Открывай! — весело прокричал Михайлов и подмигнул атаману.
— Что есть казаки? — спросил все тот же голос, который, судя по всему, принадлежал довольно старому человеку.
— Вольные люди. Никого не признаем, только Бога одного, — все также весело прокричал Михайлов.
— Вы не есть русский шляхтич? — осторожно спросили из-за дверей.
— Да какие к черту мы шляхтичи! Простые казаки. Открывай, старик, а то крикнем своих и они живо на стены взберутся, распушат вам морду, пожгут замок весь.
— Замок неможно жечь. Он есть владения самого гетмана Льва Сапеги. Но его нет. Я не могу открыть. Тут лишь слуги, старые люди.
— Давай, атаман, кликнем остальных. Возьмем замок, — предложил нарочно громко Михаилов.
— Подожди, — остановил тот его. — Уважаемый, — обратился он к невидимому собеседнику, — мы ищем ночлег. Неужели ты заставишь нас спать рядом с закрытыми воротами? Не заставляй нас применять силу.
Послышалось долгое сопение, покашливание, наконец, заскрипели створки ворот и, чуть приоткрыв их, сквозь образовавшийся зазор выглянуло изможденное старческое лицо с коротенькой седой бородкой.
— Князь будет недоволен, — тихо проговорил он, впрочем, пропуская казаков в ворота.
Те поспешили войти внутрь замка, пока старик не передумал, ведя на поводу лошадей и держа в руках заряженные пищали. Но все было тихо, лишь сверху из окна на них глянуло лицо молодого мужчины и тут же скрылось. Они поставили коней под навес и поднялись по каменным ступеням, прошли по темному сводчатому коридору в большую залу, где в камине горело несколько поленьев, давая слабый свет и чуть согревая саму комнату. По стенам висело самое разное оружие: от кинжалов с крестообразными рукоятями до огромных боевых топоров.
— Ого, видать, знатный воин хозяин будет, — уважительно протянул один из молодых казаков.
— Вы есть голоден? — спросил со вздохом появившийся на пороге старик. — Есть хлеб, мясо, вино…
— Давай, давай все, — обрадовался Михайлов, — мы по-людски уж сколь ден не ели.
Когда старик, поминутно вздыхая, ушел, то из соседней двери появился молодой человек в кружевных одеждах, с длинными завитыми волосами, с короткой ухоженной бородкой и, низко поклонившись, представился:
— Януш Жостка, изограф. Пишу картины, портреты, иконы. Жду хозяина, когда он вернется из Кракова. Мне заказан его портрет.
Молодой человек довольно хорошо изъяснялся по-русски, держался просто, но с достоинством, при разговоре, чуть откидывая правую тонкую белую руку, как бы удерживая в ней что-то невидимое. Казаки с интересом разглядывали его, но оценив, что угрозу для них он представлять не может, успокоились, и Михайлов добродушно спросил:
— По-нашему, значит, богомаз будешь. Так? А где языку русскому выучился? Складно калякаешь.
— Моя покойная матушка была из русских. Она и обучила меня этому прекрасному языку.
— В наших краях бывал?
— О, да! Но попал в трудное время. Едва жив остался. Больше не поеду. Война…
— Да, война. Любит наш царь повоевать, любит. Вошли двое слуг, неся на больших металлических подносах хлеб, жареное мясо и кувшин с вином. Старик, что открывал им ворота, проковылял следом и, все также тяжело вздыхая, обратился к молодому человеку:
— Пан Януш, будет обедать вместе с панами или ему унести отдельно в комнату?
— Чего там… — махнул тот рукой, — перекушу вместе с панами казаками. Кажется, так вас называют?
Ермак заметил, что тот постоянно поглядывал в его сторону, словно узнал в нем родственника или знакомого.
— Смотришь на меня, как на икону, — не выдержал он наконец. — За своего что ли признал?
— Пусть пан меня простит, но у него очень интересное обличье…
— Это в чем же? — оглядел со смущенным видом тот себя. — Одет что ли не так?
— Может, я не сумею сказать правильно, но… у нас таких людей зовут… — он пощелкал пальцами, подбирая слова, — герой, благородный рыцарь, сильный человек…
— Да уж, — засмеялся Михайлов, — силушки нашему атаману не занимать. Богатырская у него сила.
— Вот, вот… Богатырь! Атаман! Герой!
Сам же атаман от таких разговоров вспотел, начал ерзать на лавке и даже легкий румянец выступил на его смуглом обветренном лице.
— Ладно, будя, — остановил он казаков. Потом повернулся к молодому человеку и, отделяя одно слово от другого, с расстановкой проговорил. — Не девка я, чтоб глаза пялить. Уважаемый, верно, знает, что не пристало смотреть на гостей как на дикого зверя, привезенного для зверинца. Я на него не в обиде, но прекратим эти разговоры.
Все замолчали, принялись за еду, но молодой человек ишь на время опустил глаза к столу, а потом, решившись, заговорил вновь:
— Не скажут ли Панове, как долго они пробудут в замке?
— Это еще зачем? Война идет и мы можем посчитать ваш интерес за вопрос соглядая, вражеского лазутчика, — за всех ответил Михайлов.
— Нет, нет. Я поясню, чем вызван мой интерес. Если вы будете здесь дня два-три, то я предложил бы вашему атаману написать его портрет. Совершенно бесплатно, — поднял он вверх указательный палец. — А он стоит очень больших денег. Очень!
Ермак, выслушав его, отрицательно покачал головой и продолжал есть, не поднимая глаз. Зато остальные казаки, подталкивая друг друга локтями, зашушукались, заулыбались, а Яков Михайлов рассудительно спросил:
— И куда она пойдет, писанка твоя? Нам отдашь или тут оставишь?
— Хозяин замка, Лев Сапега, не только великий гетман, но и собиратель многих ценностей, древних вещей. Он с удовольствием приобретет у меня ту картину. Я знаю его вкус. Пойдемте, — вскочил он из-за стола и устремился в соседнюю комнату. Казаки переглянулись и пошли следом. Там в зале чуть поменьше того, где они обедали, на стенах висели изображения людей, большинство из которых держали в руках мечи, копья, боевые топоры. Суровость лиц, насупленность, грозный вид этих людей невольно вызывал уважение. Молодые казаки начали креститься, а один из них спросил шепотом:
— То ваши святые, что ли? Больно грозны…
— Нет, — засмеялся Януш, — то портреты, или как говорят у вас в Московии, парсуны предков хозяина замка. Вот его отец, вот дед…
— А баб не было что ли в его роду? — поинтересовался Михайлов. — Откуда же тогда дети брались?
— Как же, как же… Были и женщины, но их портреты висят в другом помещении. Здесь же лишь мужчины рода Сапеги.
— И меня сюда что ль повесят, коль соглашусь, — недоверчиво спросил Ермак, не отводя глаз от портретов. — Я же не их роду-племени.
— Пан правильно спросил. Для таких портретов, как я задумал, у хозяина отдельная комната. Но сейчас она закрыта и я не могу показать вам, что там находится. Вот когда приедет хозяин, пан Сапега…
— Лучше бы он не приезжал совсем, — глухо буркнул Михайлов. Но Януш не расслышал его слов и, прищуря один глаз, начал вновь разглядывать Ермака, отклоняясь чуть назад и шевеля губами.
— Я уже нашел позу для пана атамана. Буду писать вас по пояс с копьем или саблей в руках. Оставим и замечательный панцирь, что одет на пане…
— То царский подарок, — степенно пояснил Яков Михайлов, — не пес чихал. Сам царь нашего атамана Ермака знает. Во!
— Тем более, тем более, — всплеснул тонкими руками Януш, — панцирь будет очень к месту. А на голову я бы предложил надеть шляпу или что-то иное, достойное пана атамана. Ермак? — переспросил он.
Ермак смотрел, как молодой человек увлеченно размахивает руками, приглядывается к нему, обегает вокруг, щурит глаза, и ему вдруг стало неловко отказывать. Да и оказаться в одном ряду с почтенными хозяевами замка, насупленно глядящими на него сверху, тоже было приятно… И он осторожно спросил:
— Что требуется от меня?
— Всего лишь по часу в день посидеть в кресле и… не шевелиться. Только и всего, — радостно заулыбался Януш. — Пан атаман, согласен?! Я знал, что вы не откажете бедному изографу в его скромной просьбе. Это совсем нестрашно. Зато через много лет люди будут видеть ваш портрет и думать: "Какой достойный рыцарь изображен здесь…"
Договорились начать на следующий день к вечеру, когда казаки вернутся из дозора.
За те три дня что в дневное время Ермак с остальными казаками объезжали окрестности, останавливали одиноких путников, неся караульную службу, ничего особенного не произошло. Вечером же они уединялись с Янушем в небольшой комнатке, где тот усаживал Ермака в старинное кресло и, встав напротив у подрамника с натянутым холстом, осторожно водил по нему кистями, время от времени отходя в сторону и наклоня голову, щуря глаз, рассматривал придирчиво свою работу, произнося полушепотом незнакомые слова. Первое время у Ермака немела спина, наливались тяжестью руки, но уже на второй день он вполне приспособился и сидел без особого напряжения, разговаривая о чем-то малозначащем с Янушем. Правда, смущало, что молодой изограф нарядил его в непривычные одежды с кружевами и водрузил на голову немыслимый убор. Но тот торопливо пояснил, что Ермаку так значительно лучше, чем в собственном наряде, и, главное, должно понравиться хозяину замка гетману Сапеге. И Ермак больше не стал возражать. Единственное, о чем он сожалел, так это о том, что Януш не разрешал ему глядеть на свою работу, пока она не будет закончена.
На четвертую ночь казаки и обитатели замка были разбужены громким и настойчивым стуком в ворота. Все схватили оружие, зажгли факела. Но оказалось, что то прискакал на взмыленном коне Гришка Ясырь с двумя казаками, разыскивая атамана.
— Наши уходят из-под Ревеля, — выкрикнул он, едва его впустили внутрь.
— Куда уходят? — удивился Ермак, держа в одной руке заряженную пищаль. — Расскажи толком, что случилось.
— Воеводу Шереметьева вчерась при штурме убило. Насмерть. Прямо в лоб пуля угодила. А тут еще свей приплыли на кораблях да болтают, будто сушей идет войско. от и решили остальные воеводы драпу дать обратно в Москву, — частил Ясырь.
— Чего ж так… Город не взявши и обратно… — почесал бороду Ермак. — Ладно, собираться будем, чтоб от остальных не отстать.
— Погостили и будя, — согласно кивнул Яков Михайлов.
Из своей комнаты вышел наспех одетый Януш Жостка. Он догадался, что казахи уезжают, и зябко дотирал руки.
— Жаль, очень жаль, пан атаман, одного дня нам всего не хватило, чтоб портрет ваш дописать, но я в целом закончил работу. Не хотите ли взглянуть?
Ермак смущенно улыбнулся и пошел следом за молодым изографом. Тот зажег еще несколько свечей, поставил две из них на пол, одну держал в руке и откинул материю, которой был покрыт портрет. Ермак с удивлением глядел на незнакомого воина с черной окладистой бородой, задумчивым, устремленным вдаль взглядом, большим лбом, черными, чуть навыкате глазами. Он не мог ручаться за само сходство, но одежду, оружие Януш передал мастерски, даже чуть приукрасил.
— Нравится? — нетерпеливо спросил он. — Это одна из лучших моих работ. Думаю, что и пан гетман будет доволен.
— Может быть, может быть, — задумчиво проговорил Ермак. — Никогда не думал, что часть меня останется на этой земле…
— Но лучше часть, нежели всему остаться в землю зарытым, — тихо проговорил Яков Михайлов, незаметно подошедший сзади к атаману и тоже разглядывающий его портрет. — Хороша писанка вышла, — восхищенно причмокнул губами. — Знатная…
— Пану казаку нравится? — чуть не подпрыгнул Януш. — А почему молчит пан атаман? — Ему явно хотелось, чтоб Ермак одобрил его работу.
— Спасибо. Я рад, — он хлопнул молодого изографа по плечу и, не прощаясь, пошел к выходу. А изограф, не заметив ухода казаков, так и остался стоять напротив своей работы, жадно вглядываясь в нее и тихо улыбаясь чему-то своему, потаенному.
БЛАЖЕНСТВО ПРАВЕДНЫХ
Сотня Ермака догнала торопливо отступающее русское войско лишь через день. Стрельцы брели, уныло повесив головы, на многочисленных подводах везли раненых, отдельно тащили покрытые пороховой гарью позеленевшие от дождя пушки. Дойдя до Пскова, часть казаков, вытребовав у воеводы Голицына расчет за ревельский поход, повернула на юг, обратно в свои станицы. Другие остались при войске. Прошел слух, будто бы весной война возобновится, и на этот раз сам царь обещал быть вместе с ратниками. Ермак долго раздумывал, куда ему податься, а потом, решившись, простился со своими казаками, разузнал ближайшую дорогу на Суздаль и ходкой рысью погнал коня зимней дорогой меж темных ельников, тонких прозрачных березок, сам плохо понимая, что его влечет в тот небольшой тихий городок.
Подолгу отдыхая на постоялых дворах, пережидая сильные морозы, которым подошло самое время, он лишь на вторую неделю увидел издали кресты на суздальских церквях и вскоре подъезжал к воротам Покровского монастыря.
На стук вышла невысокая пожилая монахиня в наброшенном на плечи крашеном полушубке. Она безошибочно угадала в нем воина и поинтересовалась, не с Ливонии ли он. Ермак подтвердил и, отводя глаза в сторону, попросил вызвать к нему Анну, что была привезена в монастырь этой осенью.
— Что ты, что ты! Никак не можно, — испуганно замахала руками монахиня. — Она постриг еще не приняла, но в отдельной келье сидит и даже еду ей туда носят.
Ермак понял, что всяческие уговоры бесполезны, попросил:
— Тогда передай хоть, что спрашивал ее Василий. Так и скажи — Василий Ермак. Она поймет.
Монахиня, чуть помолчав, согласилась и тут же захлопнула перед ним глухую калитку, загремела тяжелым запором.
Ермак без труда нашел избу, куда пускали постояльцев, в основном богомольцев, приходящих в Суздаль из соседних деревень поклониться святым иконам, походить на службу в многочисленные храмы. Хозяйка, костлявая, чуть сгорбленная старуха, в первый же вечер начала расспрашивать его, кто он да откуда будет, зачем приехал в Суздаль. На богомольца он явно не походил и ему ничего другого не оставалось как признаться, будто бы приехал к сестре, ушедшей в монастырь.
— В сам монастырь тебя, милок, ни за что не пустят. И не мечтай. Тем более в Покровскую обитель. Там у них игуменья больно суровая. Но я тебе вот чего присоветую: на рынок они, почитай, каждый день ездят. Там и покарауль. Авось, да подвезет, свидишься с сестрицей.
И он стал караулить, когда из монастырских ворот выйдет кто-нибудь из монахинь, которые помогут ему свидеться с Анной. Он не мог объяснить, чем так запала она ему в душу. Может быть, тем, что была женой самого царя? Может, грустными, печальными глазами? Видеться им удалось всего два раза, а тянуло его к ней, словно двадцать лет знал.
На рынок за покупками отправлялись обычно две стареньких монахини. Одна из них довольно ловко правила каурой с белым пятном на лбу лошадкой, запряженной в розвальни, а вторая сидела сзади, пряча лицо от прохожих, часто крестилась и ни с кем не заговаривала, принимала покупки, увязывала их в мешки, складывала в розвальни. Ермак не решался подойти к ним, заранее предвидя отказ и опасаясь навлечь неприятности на Анну, если монахини донесут о его просьбе игуменье.
Так прошла неделя… Но в субботний день молчаливая монахиня или прихворала, или осталась на службу в монастыре, и вместо нее в розвальнях из ворот выехала, судя по всему, далеко не старая монахиня.
Сердце гулю застучало у него в груди, когда монахини проехали мимо стоящего на противоположной стороне улочки Ермака. Он даже испугался собственной догадки, но тут же отбросил ее и поспешил за розвальнями, надеясь перехватить монахинь в базарных рядах.
Когда он добежал до базара, то безошибочно узнал каурую кобылку, понуро стоявшую у привязи. Сани были пусты. Расталкивая людей, он стал пробираться меж торговых рядов и, наконец, издали увидел черную фигуру молодой монахини, идущей с корзиной в руке. Она прохаживалась меж рыбных рядов, по очереди спрашивала о цене у бородатых рыбаков, разложивших длиннющих налимов, щук и пузатых карасей прямо на притоптанном снегу. Ермак подошел сзади и уже протянул руку, чтоб дернуть монахиню за рукав полушубка, как услышал знакомый и до боли родной голос. Его словно кипятком обварили, и он торопливо шагнул назад, запнулся за огромную рыбину и под общий хохот растянулся, упав на спину. Монахиня тоже повернула голову в его сторону и тихо вскрикнула:
— Василий! Ты?!
— Я, Дуся, я… — отвечал он, поднимаясь, сбивая с себя прилипший снег рукавицей. И от этой неожиданной встречи, от неловкости он засмущался, не зная, что и сказать.
— Как ты здесь оказался? — спросила Евдокия, когда они отошли в сторону от все еще гогочущих рыбаков.
— С войны еду. Вот завернул…
— Как ты узнал, что я здесь, в этом монастыре?
— Нет, не знал. Я тут по другому делу…
— Я поняла, — Евдокия за то время, пока они не виделись, похудела, кожа на ее прежде румяном лице стала бледной, с желтизной, под глазами появились темные круги. Но держалась она теперь уверенно и даже с каким-то внутренним достоинством, не было уже прежней пылкости, неосознанного порыва.
— Алена тоже здесь?
— Мама уехала к себе в Устюг. А добрые люди присоветовали мне грехи отмаливать сюда пойти. Как же ты здесь оказался? — переспросила она, — только рассказывай поскорей, а то сестра Варвара скоро меня хватится, кинется искать, а увидит тебя — и запретят мне вовсе из монастыря отлучаться. Говори, — настойчиво приказала она.
И он все рассказал про Анну Васильчикову: как его попросил князь Барятинский разузнать, куда ее повезут, где она очутится. Скрыл только от Дуси о своих ночных свиданиях с Анной. Но, верно, Евдокия сама догадалась о том, поскольку, выслушав его, спросила:
— Знаешь ли ты, чьей женой она была?
— Да, знаю. Царской женой была Анна.
— А известно ли тебе, что она ребенка ждет? Только говорят, не царское то дите будет Может, ты знаешь, кто Отцом ребеночка назовется?
— Откуда мне знать, — еще больше смутился он, — мне какое до того дело. До царевой жены.
— Ой, неправду говоришь, Василий. Меня не проведешь. Врать ты так и не научился. Чего же ты хочешь? Говори скорей, а то Варвара уже сюда идет.
— Повидаться с ней хочу. Хоть ненадолго. Нужно
— Ишь ты о чем. Да ладно, приму грех на душу, ради нашей прежней… — она не договорила. — Приходи к задней монастырской калитке, найдешь, поди. Буду ждать тебя. Заполночь приходи. А сейчас встань к рыбакам, будто тоже торгуешь, — и она шагнула в сторону, наклонясь над горкой замерзших серебристых карасей, начала перебирать их. Тут же ее окликнула Варвара, внимательно осмотрев с ног до головы Ермака, но ничего не сказала и обе монахини, не оглядываясь, пошли дальше меж рядами.
Ермак и сам не знал, зачем ему нужна встреча с Анной. Просто хотелось сказать, что он здесь, рядом, помнит о ней. Вот если бы она согласилась бежать с ним… И на всякий случай он сговорился с мужиком из соседнего дома, чтоб тот в случае надобности на своей лошади отвез его и еще одного человека до ближайшего села, где бы он смог найти другого возницу. Назначил хорошую цену — и того не пришлось долго уговаривать.
Дождавшись, когда часовой колокол на ближайшем храме ударил полночь, он оделся, тихо притворя за собой дверь, вышел на улочку. До Покровского монастыря идти было недалеко, и вскоре он без труда нашел небольшую калитку с обратной стороны от главных ворот и чуть тронул кольцо, стукнув им о железную скобу.
— Василий, ты? — раздался тихий шепот из-за калитки.
— Я, Дуся, кому ж еще быть.
Евдокия плавно открыла дверцу и приложила палец к губам, дала знак следовать за ней. Они прошли через двор и остановились у небольшого каменного строения с зарешеченными оконцами. Ни одного огонька не виднелось в заледеневших оконцах.
— Иди за мной, — шепотом, едва двигая замерзшими губами, проговорила Дуся и осторожно открыла входную дверь. Они очутились в небольшом коридорчике, где пахло травами, ладаном и еще чем-то, неуловимо волнующим, чисто женским. В дальнем конце коридорчика под иконой теплилась лампадка, от которой Дуся зажгла принесенную ею свечу и указала рукой на крайнюю дверь. — Иди, я подожду тебя, — и вложила свечу в его чуть дрогнувшую руку.
Василий шагнул в маленькую монашескую келью и увидел грубо сколоченный топчан, на котором, укрывшись с головой, кто-то лежал.
— Анна, — выдохнул он негромко и сел подле нее, тянул накидку. Анна тут же открыла глаза и вскрикнула. — Тихо, тихо, прошу тебя.
— Кто ты? — Она села, закрывшись накидкой до самого подбородка, но потом, видимо, узнав его, улыбнулась и так же шепотом продолжала. — А я-то думаю, от какого Василия мне давеча привет передали, — глазки ее игриво блеснули. — Оказывается, не забыл, пришел.
— У нас мало времени. Ты согласна бежать со мной? Тогда одевайся и идем. Я обо всем договорился.
— Куда бежать, миленький, — всхлипнула она.
— К отцу… В Москву. Он тебя спрячет.
— От нашего царя нигде не спрячешься. Достанет, аспид. Да и тяжелая я стала. Ребеночка в себе ношу. Дай-ка, — она схватила его руку и положила на живот, улыбнулась. - Видишь теперь?
Даже сквозь накидку Василий ощутил тепло ее тела и едва заметную выпуклость внизу живота. Значит, не обманули его, и Анна действительно ждала ребенка.
— Чей ребеночек? — спросил пересохшими вмиг губами.
— Мой! Чей же еще, — ответила с вызовом и отбросила его руку. — Никому не отдам.
— Ты мне скажи, отец кто. Я ведь думать, мучиться буду.
— Не мучайся, милок. Ты свое дело сделал, чего царь немощный не мог. И на том спасибо. Только о том забудь и не вздумай открыться кому. Добра себе этим не наживешь, а голову потерять можешь. Я же с царем нашим поиграю в кошки-мышки. Если мальчик родится, то быть мне царицей. Помяни мое слово. Больно уж государь мальчика хотел. Вот тогда и ворочусь в Москву. Да не тайно, как ты советуешь, а под звон колоколов!
— Больно рисковое дело ты затеяла. Не вернет тебя царь в Москву. А ребеночка отберут, тебе не оставят.
— Ну, это мы еще поглядим. Я к царю подход знаю, вызнала норов его. Когда он пьяненький, то больно жалостлив становится. Тут его голыми руками брать можно, не откажет.
Василий не отводил глаз от ее моментально изменившегося лица и удивлялся, как в красивой, совсем молодой женщине могут уживаться простодушие и коварство, любовь и ненависть. И как он мог столь долго носить в себе память о нескольких встречах? Как она сумела запасть ему в сердце?
— Ладно, пойду я тогда. Извини, что потревожил. Думал, помогу чем. А ты вон решила царицей стать… Бог тебе судья… Но если чего случится, помощь нужна будет, то откройся монахине Евдокии. Может, она и сумеет весточку передать, разыщет меня.
— Ступай с Богом, — Анна перекрестила его и что-то неуловимо далекое мелькнуло в ее глазах, — все получится как я задумала. Сама тебя разыщу, как в Москву царицей обратно вернусь. — Она притянула его к себе, поцеловала в губы. Василий чуть не выронил свечу. Торопливо встал и выскочил в коридорчик.
— Все уже? — спросила вышедшая из сумрака Дуся. — Я думала, до утра ждать придется.
Только теперь по ее голосу Василий понял, как нелегко далась ей встреча с ним, и, не выдержав, прижал девушку к себе, зашептал в ухо:
— Дуся, милая, пошли со мной. Худо мне одному, ой, худо.
— Ту звал — не согласилась. Решил меня теперь соблазнить. Хорош ты, Василий, ой, хорош!
— Подслушивала что ли? Куда я ее звал? Куда?! К отцу в Москву увезти хотел. Только и всего. Кто она мне? Бывшая женка царская. Не живая она, как после молнии, когда в дерево ударит, ничего не осталось, все сожжено, обуглилось. Ты же жена мне. Потому и прошу…
— Ладно, — улыбнулась она, — расшумелся. Пошли отсюда. Не была я тебе женой, а теперь и подавно забыть надо обо всем.
Она проводила его до той же калитки и ненадолго приостановилась, чуть приоткрыв дверцу. Василий попробовал притянуть ее к себе, но Дуся увернулась, выскользнула, оттолкнула.
— Не бери греха на душу и меня не неволь. На исповеди все одно признаюсь, что встречалась с тобой. Матушка велит на меня епитимью наложить и в город больше не пустит. И как я послушалась тебя… Змий ты, искуситель.
— Так не говори ей, смолчи.
— То мое дело. Затем в монастырь и пошла, чтоб не видеть житья вашего поганого, безбожного.
— Давай к Строгановым вернемся? А? Будем в городке жить как прежде. Тихо, мирно… Обвенчаемся…
— Поздно, Васенька, — всхлипнула она, — Господь накажет меня за речи такие, за грехи мои. Прощай, миленький… Не тревожь меня более.
— Тогда и вправду прощай, — Василий снял шапку, перекрестился на главки монастырского храма, белой величавой мощью высившегося над ними, и, не говоря больше ни слова, пошел обратно.
Дуся проводила его взглядом, пока широкая фигура Василия не скрылась в ночных сумерках, и беззвучно заплакала, задрожав всем телом. Потом утерла слезы, закрыла калитку и пошла в свою келью, ничего не видя перед собой. В это время на монастырском храме ударил часовой колокол, и она привычно перекрестилась, поклонясь до земли на сиявший золотом в небе соборный крест.
БЛАЖЕНСТВО ОТКРОВЕНИЯ
Весной того же года Иван Васильевич известил всех князей и дворян, чтоб каждый явился в Москву для большого похода в Ливонию и привел бы по сотне человек с собой. Озадаченные дворяне не смели перечить и велели собрать с ближайших деревень и сел пахотных крестьян, хватать на дорогах крепких мужиков и под надежным караулом гнать их на Москву, где тех записывали в Разрядном приказе в полки, направляли в войско.
Опять послали гонцов на Дон, на Волгу в казачьи станицы с царевыми грамотами, в которых обещалось не только хорошее жалование, но и всяческие вольности. а словах же гонцам велено было обмолвиться, что коль не выставят казаки сотен пятнадцать, то быть им в немилости царской, и сам он со всем великим воинством может на них невзначай завернуть, пройтись по станицам, похватать воров, разбойников, что по дорогам купцам и прочим добрым людям расправу чинят. Старшины казацкие подумали, посовещались и решили не ссориться с Царем, выставили ополчение сколь от них требовалось. Подались в поход атаманы: Никита Пан, Савва Волдырь, Богдан Брязга, Матвей Мещеряк. Только Иван Кольцо с Богдашкой Барбошей отмолчались на общем кругу, а на другой день с малыми силами подались в ногайские степи заниматься привычным им делом: щипать пастушьи табуны да отлавливать редких купцов.
За Василия Тимофеевича Ермака, видать, замолвил словцо князь Голицын — и его поставили вторым казачьим атаманом, доверя под его начало пять сотен лихих донских и поволжских рубак.
Совместно с московским войском выступил и король Магнус, которого Иван Васильевич для пущей привязка и родства женил на своей племяннице Марии Владимировне Старицкой, дочери своего двоюродного брата, совсем недавно казненного им. Правда, королем Магнуса звал только Иван Васильевич, а на самом деле тот должен был воевать там, где укажут, и воли ему при этом никакой не полагалось.
Поначалу дело пошло весьма неплохо — и взяты были русскими ратниками города Кокенгузен, Венден, Вольтмар. Царь довольный возвернулся в Москву, устроил не бывалый пир по случаю побед, и тут дьяки шепнули ему мол, пока ты, государь, по иноземным странам разъезжал, города отвоевывал, тут князь Борька Тулупов измену учинил, иноземных людишек у себя принимал, шептался с ними о чем-то.
Велел Иван Васильевич сыск учинить, пытать Тулупова беспощадно. Тот и признался в застенке, мол, было дело, хотел переметнуться к польскому королю, а то дома обрыдло все, опостылело. Да и назвал еще десятка два бояр, князей разных, с ним на измену согласных. И между прочим обмолвился о лекаре царском Елисее Бомелиусе. Взяли и того. Он с испугу, в застенок попав, умом тронулся, чушь всякую нести начал, а как огонь под ступни подложили, то и сознался во всем: сообщал тайно и шведам, и полякам о русских приготовлениях, сборах на войну. Платить они ему не платили, но обещали на службу принять и тогда уж рассчитать за все дела, для них содеянные. Многих человек по его оговору на плаху свели, и самого лекаря в том числе. Думал Бомелиус, что государи иностранные заступятся за него, выручат, да никто и не вспомнил, пальцем не пошевелил.
Сам Иван Васильевич на казнь смотреть не пошел, а отправил сына Ивана, чтоб проследил за всем, доложил как что исполнено.
А тут польский король Стефан Баторий крылья расправил и на собственные деньги набрал войско, двинулся к Полоцку. Русские воеводы и глазом моргнуть не успели, как сжег он Полоцк. Иные города приступом взял и прямиком к Пскову направился, обложил город со всех сторон, направил защитникам грамоту, чтоб кровь зря не лили, а поднесли, не мешкая, ключи от городских ворот. Но только народ псковский упрямым оказался и показал Баторию фигу с маслом. Воеводы Василий Федорович Скопин-Шуйский, да Шуйский же Иван Петрович поклялись умереть, но ворота полякам не открыть. Кинулись те Печерский монастырь грабить, а не тут-то было. Стены, что игумен Корнилий возвел, выдержали, не подвели. Палили монахи из пушечек, сбили врага со стен, не дали на поругание святую обитель. Так и убрались поляки обратно несолоно похлебавши. Долго еще под Псковом стояли, поджидали, когда горожане с голоду повымрут, сами к ним выйдут, да не дождались.
Ермак в то время с казаками позади войска польского зорил обозы, отлавливал небольшие отряды, тревожил ляхов как мог. Вскоре дошли вести до них, будто бы Иван Васильевич заключил мир со Стефаном Баторием и война пока что закончилась. Подались казаки к Москве, чтоб плату за труды ратные испросить у воевод царских. А те им, мол, ни полушки, ни копеечки нет в закромах государевых. Что в бою захватили, то ваше, а большего не ждите. Озлились казаки, а супротив рожна не попрешь. Погуляли в кабаках царевых, пошумели, промотали последнее и подались обратно, кто на Дон, кто на Волгу. Ермак же подзадержался малость, решил разыскать купцов Строгановых, перемолвиться с ними о делах, о службе.
Дом их сразу нашел, будто вчера в нем гостевал. Сторожа впустили его, провели в горницу, где он когда-то со старым хозяином за одним столом сидел. Вышел к нему молодой Строганов, назвался Семеном Аникитичем. Спрашивает:
— Чего хотел, казак? За каким делом пришел?
— Служил я когда-то у батюшки вашего, а потом на Цареву службу подался, на Волгу ушел, до старших атаманов дослужился. А Сибирь забыть не могу Как там варницы? Как народ живет-может?
— Спасибо, — отвечает ему Семен Аникитич, — живем как все, особо не тужим. Правда, в один год почти схоронил я братьев старших и с двумя племянниками остался. А тут еще, сибирский хан Кучум грозится пожечь городки и дал сроку полгода уйти с земли, которую он своей считает. Вот приехал к царю подмогу просить.
— Царь с нами за Ливонскую войну рассчитаться не может. А чтоб стрельцов в городки ваши направить, в то и вовсе не верится.
— Не допустил царь меня до себя. Говорят, будто сына младшего женить собрался. Да еще, — замялся Семен, глянув на дверь, — говаривали люди, будто и себе молодую жену высмотрел.
— Ну, царские дела нам осуждать не по чину будет. А сам бы ты, Семен Аникитич, не терял времени даром, а коль деньгу имеешь, собрал людей ратных на Москве, призвал к себе городки защищать. То надежнее будет.
— Пробовал уже, — отвечал тот, — деньги вперед требуют, а придут, нет ли, то вилами по воде писано. Помог бы, атаман, не поскуплюсь, назначу жалование втрое, чем у царя платили.
Ермак внимательно посмотрел на Строганова и не спеша ответил:
— Дай срок месяца с два. Перетолкую с казачьими старшинами как к себе вернусь. Коль согласны будут, то, глядишь, и приведу к тебе сотен с пять.
— Посылал я уже к атаманам вашим своего человека, так ни с чем вернулся. Не нашел охотников.
— Э-э-э… К казакам особый подход нужен. Всякого они слушать не станут. Но сейчас, думаю, без дела с пустыми кошелями многие сидят, глядишь, и сыщутся охотники.
— Сам-то придешь?
— Погляжу. Тянет меня в ваши места, по ночам снятся леса, речки, приволье, тишина. Обещать твердо не стану, а там как Бог даст…
На том и порешили, выпили вина за встречу. И Ермак отправился к князю Петру Ивановичу Барятинскому. Обсказал ему все про Анну Васильчикову, что ждет она ребеночка, мечтает обратно царицей сделаться. Повздыхал князь, поохал, поблагодарил атамана и отправился к Васильчиковым самолично обо всем доложить. А Ермак в тот же день выехал из Москвы на Серпухов, чтоб уже оттуда податься на Волгу.
* * *
Хан Кучум распределил меж старшими сыновьями ближние улусы, но при себе оставил царевича Алея. Он с нетерпением ожидал вестей от северного князя Бек-Белея, что с малыми силами ушел в уральские земли разведать силы Строгановых. Кучум по весне отправил русским купцам упредительную грамоту, в которой грозился разорить все их земли, пожечь городки, коль они не уйдут с его владений. Он проведал, что поумирали старшие братья, на ком и держалось строгановское хозяйство, а их малолетние сыновья вряд ли смогут организовать защиту своих крепостей. Остался, правда, Семен Строганов, но тот, как доносили Кучуму, больше пропадал на охотах и ратных людей держал мало. Если только Бек-Белей вернется с добрыми вестями, Алею предстоит повести в набег главные силы Сибирского ханства.
Сам Кучум уже не мечтал о воинской славе и редко выезжал из Кашлыка, почти все время проводил в своем шатре. К зиме ухудшилось зрение, и он часто не мог уснуть от рези в глазах, сидел над разными отварами, втирал дорогие мази, что доставляли ему купцы из Бухары.
С ханом Абдуллой у него так и не сложились отношения. Тот вроде совсем забыл о Сибирском ханстве, хоть и посылал шейхов для обращения сибирских улусников в истинную веру, да напоминал иногда о просроченном ясаке. Может, смирился, что Кучум такой же хан в своей земле как и он, Абдулла, в Бухаре. Донесли Кучуму и о том, что князь Сейдяк подрос и был милостиво принят при ханском дворе, даже взят на службу. И это известие более всего беспокоило Кучума.
Впрочем, теперь, когда подросли сыновья, стали настоящими воинами, ему было на кого оставить ханский холм, передать свои дела в надежные руки. И вряд ли Сейдяк когда-нибудь посмеет сунуться в его владения.
…Наконец, прискакал гонец от Бек-Белея и сообщил, что тот находится в двух днях пути от Кашлыка. Кучум не удержался, выехал навстречу вместе с Алеем. Встретились неподалеку от городка Соуз-хана и завернули туда, чтоб можно было обо всем спокойно поговорить, а заодно отобедать.
Соуз-хан изрядно постарел и обрюзг. Большущий живот не позволял ему сесть в седло и для него сделали специальные носилки, в которых он и выбирался изредка за пределы городка. Но каждый год он брал к себе молодую девушку, одну из дочерей небогатых мурз, платил отцу хороший калым, отправлял ее к другим женам, одевал в новые одежды и требовал к себе. Через какое-то время молодая жена возвращалась обратно довольная и счастливая, посверкивая новым перстеньком или сережками.
— Ты их хоть бы работой какой занял, а то тоже разжиреют без дела, — добродушно смеялся Карача-бек, который изредка наезжал к Соуз-хану по старой дружбе попить кумыс и закусить его молодым барашком.
— Работников у меня и так хватает. Негоже ханским женам делами заниматься, — отвечал тот. — Пусть меня развлекают, а то совсем плохо спать стал.
— Поди, все свои доходы считаешь? Съездил бы на хоту с соколами, подрастрес живот. Глядишь, и спать лучше станешь.
— Чего тебе живот мой покоя не дает? — беззлобно огрызался Соуз-хан. — Сам тощий, как плеть, вот и завидуешь мне. И богатства до сих пор не нажил. Где твои ружья? Где сотни, что хотел снарядить? Забыл? А я помню, все помню, — брюзжал он.
В Кашлык Соуз-хан выбирался лишь по большим праздникам, да на свадьбы сыновей Кучума. Там над ним подсмеивались всякие оборванцы и, долго не задерживаясь, он уже на другой день возвращался обратно.
Когда ему доложили, что хан Кучум с каким-то неизвестным им князем въехали в ворота городка, то он торопливо надел новый халат и, тяжело дыша, отправился к незваным гостям.
Кучум, Алей и Бек-Белей мирно сидели в шатре для гостей и слушали рассказ северного князя о походе.
— Узнал я короткую дорогу до русских городков, — рассказывал тот. — Пробрались к самым стенам, схватили нескольких людишек. Попробовали городок снаружи поджечь, да не вышло. Сил у меня мало, а то бы, непременно, повоевал те городки.
Далеко ли они друг от друга стоят? — спросил Кучум.
— День пути будет.
— А воинов у них много?
— В том городке, где мы были, десятка два всего лишь.
— Чего же убоялся? Ладно, до первого снега соберу сотен пять и пусть мой сын Алей ведет их тем путем, что ты разведал. Хватит нам терпеть чужаков на своей земле. Так говорю? — обратился он к Соуз-хану.
— Именно так, — поддакнул тот.
— Сколько воинов дашь? Сотню наберешь?
— Откуда, мой хан? У меня и половины не будет…
— Отец, я сам проеду по улусам и соберу воинов. Зачем понуждать того, кто боится собственной тени.
— Хорошо. Станешь ли звать племянника моего, Mухамед-Кулу? Он, верно, совсем закис, сидя у себя.
— Нет. Я не хочу делить с кем-то славу, добытую в бою.
— Правильно говорит, — поддакнул Соуз-хан.
— Может и правильно. Время покажет… — задумчиво ответил Кучум. — Если прогонишь русских, то все их земли подарю тебе, мой сын. А там и до Казани рукой подать…
— Однако, наберу я сотню воинов, — всколыхнулся Соуз-хан.
— Тебе видней. Долго я ждал этого часа и уже ждать устал. Хватит! Пусть они изведают силу наших сабель. С нами Аллах! — И Кучум поднял руку к сумрачному сибирскому небу.
— Аллах бар! — Выхватили сабли Алей и Бек-Белей. Лишь Соуз-хан остался сидеть неподвижно.
Часть II. ЕРМАК (ПРОРВА)
" Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня".
Евангелие от Матфея. Гл. 3,11.ШОБХЭ[5]
Не было для Кучума более трудного года, чем прошедший… Неожиданно осознал он усталость от жизни, тяжесть времени, с каждым часом налипающей на плечи сжимающей горло и мысли паутиной, вдавливающей в землю своей усталостью и безысходностью. Трудно жить человеку, обремененному властью. В его руках жизнь многих людей. В ответе он за их судьбы. С него и спрос в тысячу крат больший.
Рыбак или охотник засыпает с мыслью о завтрашнем дне, о том, что он добудет и принесет к родному очагу, чем накормит домочадцев, чтоб не плакали малые дети, не хмурились женщины, не усмехались вслед неудачнику соседи. Принеся рыбу, зверя, птицу, он будет считать день удачным и заснет с мыслью, чтоб и следующий день был бы таким же, похожим на прожитый.
Об ином мечтает властелин людей тех… Он не может знать: проснется ли утром живым, не будет ли убит во сне предательским копьем или кинжалом. Он заранее извещен о планах коварных соседей, желающих прибрать к своим рукам его земли, желающих смерти соседа-властелина. И лишь боязнь удерживает их от вторжения.
Он, властелин, знает о ненависти данников своих принужденных платить ежегодный оброк и проклинающих господина и слуг его. Ох, как возрадуются они, узнав о смерти властелина.
А разве не обрадуются смерти отца дети, унаследующие земли и власть? Не перегрызутся у бездыханного тела, не переругаются, не схватятся за оружие? Разве не распадется государство, собранное по крупицам, по зернышку долгим, кропотливым трудом? Не растащат наследующие власть? Не пойдут войной один на другого?
Эти мысли более всего угнетали и тревожили Кучума, заставляли более пристально приглядываться не только к соседям и родичам, но и к родным сыновьям, которые при нем были тихи и покорны, но оставшись одни, припоминали друг другу старые обиды, выказывали зависть шептались о чем-то со своими матерями и ближними друзьями.
Если бы мог он сильной пока еще рукой смять их, как ком сырой глины, в один кусок и вылепить из него подобие себя самого — безжалостного и неукротимого к врагам, терпеливого в больших делах, осторожного в решениях, помнящего добро и зло, знающего о жизни не по рассказам стариков и бывалых воинов, а сам хлебнувший ее полной чашей.
Нет, ушло его время, когда сам он рубил головы недругов и сшибался в бою с неприятелем, летел впереди сотен своих, и не было человека, кто посмел бы остановить его, выдержать взгляд прищуренных неистовых глаз. Ушло время, как косяк журавлей курлыча уходит в теплые края, лишь слабым криком напоминая о себе, о гнездовьях и любовных играх, взращивании птенцов, о сладостном миге, когда молодняк поднимается на крыло.
Ушло время, а усталость осталась и давит, вгоняет в землю, не дает дышать полной грудью и жить легко и открыто, как подобает человеку. И был ли он когда-нибудь свободен, не обременен непрестанными заботами и думами. Потускнели глаза, набрякли мешки под ними, обострились скулы, морщины густой сетью пролегли по суровому лицу Кучума, придавая ему сходство со скалой, иссеченной ветрами и дождями. Он делает вид, что не замечает помощи нукеров, подсаживающих его на лошадь. Но что это меняет? Остался дух и неукротимость, которые не смогли источить годы. Его дух, словно броня воина, защищал Кучума и продолжал вести его вперед по долгой и нескончаемой, полной опасностей жизни.
Порой ему хотелось тайно ночью переправиться на другой берег Иртыша, позвать состарившегося как и он любимца Тайку и одному, без охраны, ускакать в пойменные луга, забыв навсегда дела, родичей, ханский холм, жен и детей. Но сколько раз, выйдя ночью из шатра, приблизившись к крутому обрыву над рекой, он замирал в нерешительности и, простояв так до рассвета, без сил возвращался обратно, кидался на подушки, яростно рвал их зубами, рыча и негодуя от собственного бессилия.
Он не понимал, что с ним происходит. Боязнь одиночества? Убийц, притаившихся в лесной тени? Каждодневная привычка жить в суете, отдавать приказы, видеть покорность нукеров и беков, их согнутые спины и опущенные вниз глаза? И это, и прежде всего опасение, что без его воли, приказов все созданное им рассыплется, разлетится в день, как только узнают об исчезновении хана. Разве не так опытный наездник умело сдерживает поводьями бег разгоряченного скакуна? А стоит ему лишь на миг ослабить хватку, как тот сбросит его наземь, ускачет прочь.
Лишь совсем недавно стал он понимать, как страшна сила власти, что пьянит и старит человека, делает зависимым от всего им содеянного. Нет большей кары, чем власть над людьми. Нет ничего страшнее, оглянувшись однажды, увидеть свое одиночество и страх в глазах людей, живущих рядом. Они боялись его, а он боялся их тайного говора, предательства. Не столько смерть страшила Кучума, как недоделанность задуманного, невыполненность замыслов и желаний. Взявшись за невыполнимое, он превратился в раба, заковавшего самого себя в цепи собственных мечтаний, которым не суждено быть исполненными, сгибался и старел под их невыносимым грузом, проклинал себя, но отказаться не мог…
И, может, единственным человеком, кто понимал и догадывался обо всем, была Анна, родившая к тому времени ему трех сыновей и четырех девочек. Она чутьем любящей женщины не столько видела, сколько догадывалась о причинах немощи Кучума и всячески желала ему помочь.
Когда она узнала, что Алей готовится в набег на земли ее отца и братьев, то замкнулась, отворачивалась от хана, приходившего к ней, почернела лицом — Ты переживаешь за своих близких — спросил Кучум, легко догадавшийся о причинах ее отчужденности.
Но она ничего не ответила, продолжая быстро работать руками, подшивая опушку из песца к шубке младшего сына. Лишь холодно глянула на него и опять отвернулась Тогда Кучум подсел поближе и попытался погладить ее по руке Она встала и молча пересела подальше, не выпуская шитья из рук и тяжело дыша.
— А ты сам как думаешь — наконец, не выдержав, задала вопрос — Если бы на твоих родственников готовился набег, хотела бы я поглядеть, как ты бы вел себя.
— Война — это мужское дело и женщине лучше не думать о ней. Во всяком случае, вряд ли что-то грозит твоему отцу и братьям.
— Почему ты так говоришь?
— Сражаются простые воины, а господа лишь наблюдают со стороны. Редко кто из них сам берет в руки оружие.
— Значит, ты плохо знаешь Строгановых, — Анна гордо вскинула голову — Если бы ты в первые дни, когда я оказалась в Кашлыке, причинил мне зло, попробовал взять меня силой, я, не задумываясь, убила бы тебя.
— Спасибо за позднее предупреждение. Я это и сам понял в первый же раз, лишь глянул тебе в глаза.
— Все Строгановы такие, — упрямо повторила Анна, — они не привыкли прятаться за чужие спины.
— Люблю повторять слова мудрого человека: храбрец умирает один раз, а трус тысячу. Все мы умрем рано или поздно.
— Тебе мало войн с соседями? Хочешь, чтоб пострадали невинные люди? За что? В чем они виноваты? Оскорбили тебя? Или ты хочешь мне причинить боль и страдания? Так и скажи…
— Они заняли земли, принадлежащие мне по праву…
— По какому праву? — перебила она. — Где они записаны, твои права? Моему деду была выдана грамота от московского царя на владение теми землями. Он никакой-то самозванец, вышедший из леса. Сам ты никогда не задумывался, по какому праву занял Кашлык и стал правителем этой земли? Ответь мне!
— Замолчи, женщина, — неожиданно легко Кучум вскочил на ноги и грубо схватил Анну за косы, с силой дернул ее, нанося удары другой рукой. — Кто ты такая, чтоб судить меня?! Помни, что из рабыни я сделал тебя ханской женой! Помни, чьих детей ты рожала!
— И ты помни, — вырываясь из рук озверевшего Кучума, крикнула она, — помни, что я мать твоим детям и навсегда ей останусь.
Рука хана ослабла, разжалась и, задыхаясь, он остановился посредине шатра, ощутив вдруг, как сердце пойманной птицей билось внутри, будто бы хотело улететь, вырваться наружу.
— Что с тобой, — вскрикнула Анна, глянув в его бескровное лицо. Подхватила под локоть, уложила на подушки, налила мятный напиток в пиалу, поднесла ко рту. — Выпей, станет лучше.
— Зачем ты испытываешь мое терпение? — с трудом ловя ртом воздух, тихо спросил он. — Женщина не может так разговаривать со своим мужем. Не может… Прости меня… Я не хотел…
— Твой старший сын не пойдет в набег? — Заглянула она ему в глаза с надеждой. — Да? Ведь так?
— Если я не нанесу удар первым, то через год или два русские придут в мои владения. Я не могу этого допустить.
* * *
…До выступления на строгановские городки оставалось еще несколько дней и царевич Алей предупредил Кучума, что желает это время провести на охоте. Взяв с собой несколько человек из личной охраны, он выехал из Кашлыка. Однако, в сторону своей охотничьей заимки не поехал, а направился по извилистой лесной дороге, вьющейся вдоль крутоярья Иртыша. Обеспокоенный начальник охраны пожилой Ниязбай, специально приставленный Кучумом к сыну, догнал его и спросил:
— Может, патша улы не заметил поворот на заимку?
— Я передумал. Охоты не будет.
— Куда же мы едем? Стоит ли рисковать лишний раз, когда кругом шатается множество бродяг и разбойников. Хан не одобрил бы…
— Хватит ныть, — грубо оборвал его царевич. — Если боишься, то можешь вернуться в Кашлык хоть сейчас. Я поеду один.
— Не надо так обижать своего преданного слугу. Просто, мне нужно знать, куда мы едем.
— Мы едем в городок к Мухамед-Кула. Впрочем, Ниязбай и сам уже начал догадываться, что именно к своему двоюродному брату направился царевич. Только не мог понять, зачем он едет туда. Но, зная раздражительность Алея, счел за лучшее промолчать и лишь зорче стал поглядывать по сторонам.
К вечеру они достигли городка Мухамед-Кула и беспрепятственно въехали в широко распахнутые ворота. Еще больше они удивились, когда не увидели даже стражи на полуобвалившихся стенах и никто не спросил их, кто они и зачем пожаловали.
— Где ваш господин? — окликнул Ниязбай невольника, тащившего на спине вязанку дров.
— Он у реки объезжает молодого жеребца, — охотно отозвался тот.
Пришлось выехать из городка и спуститься к берегу, где они сразу увидели нескольких нукеров, удерживающих на длинных сыромятных ремнях трехгодовалого жеребца, на котором сидел без седла Мухамед-Кул.
Жеребец вскидывал задние ноги, мотал головой, стремясь сбросить с себя наездника. Но Мухамед-Кул цепко держался на нем и с радостной улыбкой что-то кричал нукерам. Тут же стояло несколько женщин, прижимающих к себе малолетних детей. Они тоже улыбались, наблюдая за поединком необъезженного коня и всадника. Наконец, жеребцу удалось в немыслимом прыжке сбросить Мухамед-Кула — и тот полетел на землю, но моментально вскочил на ноги и громко засмеялся, хлопая в ладоши:
— Ай, молодец! Справился со мной! Хороший конь, ой, хороший конь будет. Завтра седло на тебя оденем. Тогда поглядим, кто кого.
Конь, успокоившись, остановился и, чуть повернув к человеку голову, разглядывал его большим выпуклым глазом, словно прислушиваясь к словам.
— Не смейте его бить, — погрозил нукерам пальцем Мухамед-Кул. — Коль узнаю, что кто-то даже замахнулся на него плетью, — руку отсеку на месте. Хороший конь не должен знать плети. До поры до времени, — добавил, чуть подумав.
Один из нукеров что-то шепнул своему хозяину и, повернувшись, Мухамед-Кул лишь сейчас увидел Алея и сопровождавших его воинов. Он сделал несколько шагов с ним и, широко раскинув руки, ждал пока Алей сам подъедет ближе. Тот, бросив поводья, соскочил на землю, и они обнялись.
— Что-то случилось? — осторожно спросил Мухамед-Кул.
— Почему ты так спрашиваешь?
— Просто раньше ты никогда не приезжал ко мне.
— Ты не рад?
— Наоборот! Я постоянно вспоминаю о тебе. Ведь мы вместе росли, играли, дрались…
— И я вспоминаю тебя. Но ты не приехал на мою свадьбу. Все решили, обиделся за что-то на меня или отца.
— Все не так просто, как ты думаешь. Во-первых, я слишком поздно узнал о твоей свадьбе. А сам знаешь, что значит опоздать на свадьбу — обидеть жениха и весь его род. И решил просто не ехать.
— Но ведь гонец был послан загодя…
— Гонца много позже выловили из реки. Кто-то не хотел, чтоб он сообщил мне о твоей свадьбе.
— А что еще? Мне показалось, у тебя были и другие причины не появляться столь долго в Кашлыке?
— Да, — нехотя согласился Мухамед-Кул. — Есть и другие причины. — Он чуть помялся, глубоко вздохнул и решительно закончил. — Мне сообщили, будто бы хан Кучум хочет взять меня под стражу.
— С чего бы это? — С удивлением воззрился на него Алей. — Первый раз слышу. Кто мог сказать подобное? Назови его имя.
— Нет, я не буду его называть. Может, когда-нибудь потом… Но согласись, хан изменился: уже не зовет меня в походы и словно забыл обо мне. Понимаю, есть ты, твои братья. Обиды не держу, но мои люди отговорили меня от поездки в Кашлык.
К ним подошли несколько молодых женщин и низко поклонились гостям. Три мальчика и одна большеглазая девочка держались сзади них, высовывая кудлатые головки и с любопытством разглядывая приезжих.
— То твои дети? — поинтересовался Алей.
— Да, — улыбнулся Мухамед-Кул и потрепал по голове старшего мальчика. — Разве не похожи?
— Когда ты успел? И молчишь. Тоже мне, а еще брат…
— А я знал, ты приедешь. Не тот ты человек, чтоб отсидеться, отмолчаться. Ладно, идите, готовьте угощение для дорогого гостя. Нечего глазеть как на диковинку, — крикнул он женщинам и продолжил, обернувшись к Алею, — пойдем ко мне в шатер, побеседуем пока.
Когда они уселись напротив друг друга, то Алей сообщил тихо:
— А я веду сотни на русские городки…
— Давно ждал, — отозвался Мухамед-Кул. — Хан и раньше часто говорил об этом и, верно, выбирал удобный момент.
— Со мной идут несколько соседних князей со своими воинами. Ты ведь знаешь, что русские стали селиться на наших землях. Пора проучить их.
— Да, — неопределенно протянул Мухамед-Кул. — Но я бы на твоем месте был осторожен. Они умеют драться и не кинутся бежать, увидев твои сотни.
— На это я и не рассчитываю. Но и мои воины — опытные бойцы. Отец долго подбирал нукеров и хорошо платит им. К тому же каждый думает взять знатную добычу. Не зря же им рисковать своими головами.
— Так, так оно, — согласился Мухамед-Кул, и было непонятно, одобряет ли он Алея или чего-то недоговаривает. — Хочу предупредить, что в Бухаре находится человек, который также мечтает совершить поход.
— На русские городки? — спросил Алей и засмеялся.
— Далек же у него будет путь.
— Нет. Он мечтает совершить набег на Кашлык.
— О ком ты говоришь?
— О князе Сейдяке. Карача-бек сообщил мне, что он служит сотником у хана Абдуллы…
— Карача-бек? Значит, он бывает у тебя. Теперь мне понятно, кто отговаривал тебя от поездки в Кашлык. Так знай, мне про тебя он говорил примерно то же самое. Будто бы ты хочешь стать ханом, и я стою у тебя поперек дороги. Но я прогнал этого шакала и запретил говорить со мной, — глаза Алея яростно блестели, а руки сжимались в кулаки.
— А тебе не кажется, что Карача-бек мог говорить правду? А если я и вправду захочу стать ханом? Как тогда?
— О чем ты? Право наследства за мной…
— Вот видишь, ты уже и поверил. Но скажу откровенно: твой отец в последнее время часто стал ошибаться…
— В чем он ошибается? — запальчиво выкрикнул Алей. — Скажи!
— Я не боюсь, что ты передашь ему мои слова. То твое дело. Но он ошибается хотя бы в том, что посылает тебя воевать с русскими. С ними надо дружить. Карача-бек прав. Не тронь медведя — и он тебя не тронет. А если русский медведь вылезет из берлоги, то нам худо придется. Соседние князьки, что идут с тобой в набег, хороши, пока не появился кто-то более сильный. Я воевал с ними и хорошо понял это…
— Да ты, оказывается, просто трус! — в бешенстве выкрикнул Алей и схватился за кинжал.
— Не забывай, что ты мой гость и я не могу тебе ответить тем же. Но давай не будем торопиться и посмотрим, чем закончится твой поход. Тогда и поговорим.
— Уже поговорили, — Алей вскочил на ноги и, шагнув к выходу, приостановился. — Я не буду передавать отцу о нашем разговоре. Но видеть тебя больше не желаю. Отец правильно поступил, удалив тебя из Кашлыка. Сиди и дальше здесь, детей нянчи! Лучше бы я не приезжал к тебе! Прощай…
— Подожди, выслушай меня. Ты не знаешь всего.
Князь Сейдяк сын нашей тетки, сестры твоего отца. Значит, он брат нам…
— И что из этого? Он мечтает занять ханский холм, но пока я жив, не бывать тому!
— Хорошо. Мне нечего больше сказать. Прощай… — Мухамед-Кул тоже поднялся и холодно посмотрел на Алея. А тот, ничего не сказав, щелкнул нагайкой и, не оборачиваясь, зашагал, широко ступая, к открытым воротам, где его поджидали нукеры.
ПОЗНАНИЕ ОТМЩЕНИЯ
Ногайский властелин Урус-хан провожал московского посланника Василия Пелепелицына, что пробыл у него в Сарайчике несколько месяцев. Посол пристрастился пить кумыс, есть полусырую баранину, выезжать на охоту с ручными беркутами и не скрывал, что это ему по вкусу. Он охотно оставался в своем шатре с молоденькими ногайскими девушками, которых Урус-хан, как гостеприимный хозяин, каждый день отправлял послу. От вольготной жизни московский посланник заметно посвежел, потерял половину солидности, подзагорел, и глаза его засветились юношеским блеском, довольная улыбка не сходила с бородатого лица. Ему совсем не хотелось покидать ногайские пределы и возвращаться обратно в Москву, выслушивать раздраженные оклики бояр, отписывать челобитные, сидеть долгими вечерами за одним столом с дородной супругой, постоянно жалующейся на плохое самочувствие, проливающей слезы по каждому пустяку.
И вот приходится возвращаться, поскольку царь Иван Васильевич, верно, и без того заждался вестей из Ногайской Орды и, не приведи Господь, подумает что-то худое о его, Пелепелицына, долгой отлучке.
Урус-хан направил с ним к царю своего посланца и триста конников охраны. Сам он тоже был в седле, чтоб проводить высокого гостя до ближайшего кургана, как того требовали приличия.
— Приезжай еще, бачка Василий, — широко улыбнулся хан послу. — Поди, девки хороши были?
— Хороши, хан, весьма хороши, — засмеялся довольный Пелепелицын.
— И кумыс хорош? И барашек хорош? — не унимался гостеприимный Урус-хан. — Пусть сам царь едет. Встретим, угостим… Скажи ему.
— Непременно скажу, достопочтенный хан. Доехав до одинокого кургана, находившегося в нескольких поприщах от Сарайчика, троекратно по русскому обычаю обнялись. Урус-хан со своей свитой остался посреди степи и долгим взглядом провожал удаляющихся в клубах пыли всадников. Хан долго глядел им вслед, а потом сказал негромко, ни к кому не обращаясь:
— Хитер русский царь, однако… Ох, хитер. Решил меня, великого хана, подарками задобрить, чтоб я на Москву не пошел. Ладно, пока повременим, а там видно будет. Москве от меня не убежать, — и, хлестнув коня нагайкой, поскакал обратно.
Через несколько дней пути Василий Пелепелицын, уже изрядно подуставший от непрерывной тряски в седле, в сопровождении ногайской охраны подъезжал к реке Самаре. Несколько человек отправились искать брод, а он улегся на пожухлую траву и, прикрыв глаза, думал, о чем же будет говорить царю. Хан Урус не зря возил его по своим кочевьям, показывая число своих нукеров. Не зря в разговоре сочувствовал им, русским, что были биты и поляками, и шведами за последний год неоднократно. Даже предлагал свою помощь. Само собой за хорошую плату. Намекал, что русские казаки грабят его, а потом укрываются вблизи своих городков, что с трудом удерживает горячие головы, требующие решительного набега на Русь, на Москву, чтоб посчитаться за все нанесенные обиды. Пелепелицын хорошо понимал, к чему сводятся подобные разговоры: Урус-хан пытался уклониться от очередной уплаты ясака, который обязался сам же посылать в Москву после разгрома казаками Сарайчика.
Обо всем этом и предстояло доложить царю, да так, чтоб он видел усердие самого Пелепелицына, плоды его побед в непростых переговорах с ногайским ханом. В зависимости от того, как он подаст результаты своей поездки, и надо ожидать царской милости или… опалы. Не дай Бог, ногайцы решатся на набег — и все. Царю не объяснишь, что он буквально ковром стелился перед Урус-ханом, обещал ему горы подарков, намекал на кары, последующие с русской стороны в случае набега. Иван Васильевич просто не будет его слушать, а лишь моргнет — и окажется он в пыточном застенке, а ежели и выйдет оттуда живым, то дорога к царскому двору заказана будет на веки вечные.
От подобных мыслей мурашки поползли по коже у посла, и он зябко пошевелился, раскрыл глаза и вздрогнул от неожиданности. Над ним стоял ногайский юзбаша и пристально смотрел в лицо.
— Думал, спишь, бачка, — ухмыляясь, заговорил тот, — переправу нашли нукеры. Аида, едем, а то скоро темно совсем будет.
— Хорошо, хорошо, едем. — Пелепелицын, покряхтывая, поднялся, но глянув на ногайца повнимательнее, заметил растерянность того. — Что еще случилось? Говори!
— Однако, на той стороне следов много…
— И что? Может, ваши же табун гнали.
— Мы своих коней не куем, а там следы с подковами.
— Ну, мало ли, кто мог быть на переправе. Купцы, может. Давно были?
— День, другой… Шибко недавно будет.
— Ладно, не здесь же нам оставаться. Едем.
Ногайцы тесно сгрудились у переправы, прикрывшись круглыми щитами, и поглядывали на посла, словно ища у него защиты.
"Ага, черти узкоглазые, — злорадно подумал он, — приутихли, испужались, как только русским духом запахло. Так вам и надо…"
Растянувшись узкой цепью, ногайцы начали переправляться вброд. Кони, настороженно фыркая, выискивали копытом твердый участок и медленно, шаг за шагом, брели к противоположному берегу неширокой реки. Когда уже половина отряда, отряхиваясь от воды, выбралась на крутой речной откос, то из прибрежных кустов неожиданно послышался пронзительный свист и враз бухнуло несколько ружейных выстрелов. Дико заржали ногайские кони, закричали всадники, понеслись в разные стороны от переправы.
Пелепелицын, разинув рот от удивления, увидел, как на ногайцев налетели около полусотни казаков с поднятыми саблями и с диким гиканьем начали крушить тех.
Юзбаша, оказавшийся рядом с Пелепелицыным, что-то громко кричал на своем языке, махал рукой, приказывая нукерам вернуться обратно к своим. Те стали разворачивать коней, не торопясь возвращаться, с ужасом наблюдая, как гибнут их соплеменники на другой стороне реки.
Но тут за их спинами раздался свист и, обернувшись назад, Пелепелицын увидел, как на них несутся невесть откуда взявшиеся еще с полсотни казаков. Он что-то закричал, не помня себя, но казаки уже врубились в передние ряды, зло матерясь и круша одного за другим растерявшихся вконец ногайцев. Только юзбаша сумел собрать вокруг себя десятка два нукеров, и они поскакали вдоль берега, уходя в спасительную степь.
К Пелепелицыну пробился казак с тонким лицом, с выбившимся из-под мохнатой шапки льняным чубом. Он занес было над ним саблю, но посол громко крикнул:
— Сдурел что ли, песий сын?! Своих не узнаешь?!
— Русский, никак? — Рука казака замерла на излете, и он громко захохотал. — Ребята, купчину заловили!
— Сам ты купчина, — брызгая слюной, Пелепелицын торопливо вытаскивал из притороченной у седла сумы грамоту Урус-хана к московскому царю. — Посол я царский. От хана ногайского еду. И ногаи, которых вы порубили, меня охраняли.
— Видать, хорошо охраняли, коль, как зайцы, в разные стороны наутек кинулись.
— Да знаете ли вы, что вам царь сделает за смертоубийство такое? Он вас всех повелит на кол посадить, головы порубит… — Пелепелицын захлебывался в бессильной злобе, думая, что теперь все его переговоры пойдут прахом, когда Урус-хан узнает о нападении.
— Царь далеко, а мы вот где… Рядышком… — К ним подъехали еще несколько казаков, с интересом разглядывая царского посла. — Ты бы, боярин, или как тебя там, попридержал язычок, а то нам и укоротить его недолго.
— А ты, кто таков? — Пелепелицын уставился на щуплого казака с хищной улыбкой, пощипывающего длинный ус.
— Богдан Барбоша. Может, слыхал о таком? А вот есаул мой, Иван Кольцо. Вижу, слыхал про нас… Как же… Нас и на Дону, и на Волге, и Урус-хан твой — все знают.
— Да понимаете ли вы, что наделали?! — Пелепелицын сгоряча сплюнул на землю. — Теперь ногаи соберутся всем миром и на вас навалятся…
— Уже навалились, — опять показал в усмешке гнилые желтые зубы Барбоша и указал на валявшихся у реки порубленных ногайцев. Остальные стояли толпой, сбившись в кучки, побросав оружие, и со страхом глядели на казаков. — Мы их всегда били и бить будем. Так и царю передай. Пущай не сомневается.
Пелепелицын бросил взгляд на противоположный берег. И там затих бой, казаки стаскивали в одно место оружие, отобранное у ногайцев, вязали им руки тонкими короткими ремешками, подталкивая в спины, собирали вместе.
— А охрану, боярин, мы тебе свою выделим, — заговорил тот, кого назвали Иваном Кольцо. — До самой Москвы и проводит. Часть пленных к царю направим, а остальных для выкупа оставим. Пригодятся…
К Москве Василий Пелепелицын подъезжал грустный и в разговоры с десятком сопровождающих его казаков не вступал, все думая, как будет докладывать царю о постигшей его неудаче. А остальные казаки под началом атаманов Богдана Барбоши и Ивана Кольцо погнали полон в свои станицы, чтоб кого из ногаев продать, кого обменять на своих, угодивших во время неудачного набега в руки Урус-хана.
ПОЗНАНИЕ ПУТИ
Василий Ермак, вернувшись в Качалинскую станицу, долго не выходил из своего куреня. Молча лежал и никого не допускал к себе. Казаки, что воевали с ним в Ливонии, несколько раз приходили, усаживались на лавку, заводили разговоры о том, о сем, но он отворачивался к стене и отмалчивался, терпеливо дожидаясь, когда они уйдут.
— Загрустил чего-то атаман, — шушукались те меж собой. — Может, по женке переживает, а может, еще чего…
— Слыхали, будто царь его обидел. Не заплатил, что обещал.
— Что на царя, что на бабу обижаться — одно и то же. Он и с нами не расплатился. Обещали воеводы сюда прислать царское жалование. А им верить, сами знаете…
Когда в станице объявились Барбоша и Иван Кольцо с ногайским полоном, остальные казаки с завистью поглядывали на них, первыми заговаривали, интересовались, не собираются ли они снова в набег, не пригласят ли кого из них. Но те отшучивались, отнекивались, мол, один казак может сотню ногайцев одолеть и чего без толку коней гонять.
Но потом, как гром среди ясного неба, пришло известие, что царь в Москве приказал казнить казаков, приведших к нему ногайцев, схваченных на переправе. Мало того. Иван Васильевич грозил всяческими карами и другим казакам, обещая отправить по Волге и Дону речную рать, пожечь станицы. Поминалось имя и Барбоши, и Ивана Кольцо, как первых разбойников.
— Надо было того посла, что отпустили, там же и утопить, — стучал кулаком по колену Богдан Барбоша. — Тогда бы и царь про нас не узнал, не грозился споймать…
— Чего ж не утопил? Дело привычное…
— Так русский же человек. Не стал греха на душу брать. А оно, вишь, как обернулось. Теперь жди, поджидай рать царскую.
— Надо на Яик подаваться, — задумчиво предложи Иван Кольцо. — Там не найдут, не дотянутся.
— Твоя правда, — согласился Барбоша, — уходить надо отсюдова.
А казачьи станицы, узнавши про царское обещание разорить казачество, бурлили, как вода в котле. По не-скольку раз на день собирали казачий круг, кидали шапки на землю, предлагали каждый свое. Одни собирались отправиться в Москву с повинной, другие — уйти к крымскому хану, третьи — к запорожцам. Были и такие, что не думали уходить никуда с насиженных, обжитых мест, а укрепив городки, встретить царских стрельцов, как и положено воину, с оружием в руках. Но таких даже не слушали, понимая, что тем лишь озлобят царя, а тогда хоть петлю на шею накидывай.
Ермак так ни разу не вышел на круг, продолжая сидеть в курене. Как-то вечером к нему ввалились Яков Михайлов, Гришка Ясырь, еще несколько казаков и следом, закрыв собой дверь, протиснулся Гаврила Ильин всех были красные лица, запахло вином и первым начал кричать Гришка Ясырь, словно все еще спорил на кругу.
— На кой ляд нам к запорожцам подаваться? Или им без нас худо живется? Ждут не дождутся, когда еще мы пожалуем…
— Погоди, Гришаня, — остановил его Михаилов, — думаю, на Яике всем места хватит. И царь не достанет, и тревожить никто не будет.
— А ты там бывал? — не сдавался Ясырь. — То-то и дно, что не бывал. Там кругом ногайские кочевья, калмыки под боком и татары подпирают. Зажарят нас, как черти на сковороде, и "Отче наш" прочитать не успеешь.
Они долго так перепирались. Наконец, молчаливый Гаврила Ильин громко цыкнул и, подойдя к лежанке, потряс Ермака за плечо.
— Слышь, атаман, какие дела творятся, а ты молчишь. Вроде, не болен, не с похмела, никто тебя не обидел, а все лежишь. Поговори с нами. Всем миром просим…
— Просим, просим, — поддержали его остальные. Ермак нехотя сел, провел рукой по всклоченным волосам, пригладил бороду и тихо спросил:
— О чем шум? Не пойму чего-то…
Перебивая, казаки кинулись объяснять ему, пытаясь каждый высказаться, дать совет. Он молча слушал, переводя взгляд с одного на другого и, наконец, спросил:
— От меня, чего хотите? На Яик я не пойду, к запорожцам тоже. А к крымскому хану дураки разве что могут податься.
— Так что же? В станице останешься? Стрельцы заявятся…
— И это не годится. Им не объяснишь, что ты другой масти и ногайских послов не грабил, не убивал Они крайнего завсегда найдут.
— И куда идти? — не унимались казаки.
— Есть у меня про запас место одно тайное, да только далече отсюда будет, — чуть помолчав, сказал он. — Поди, не все и согласятся.
— Это где же? Не в Ливонию ли обратно возвертаться? Не… туда мы точно не пойдем, нахлебались ихней каши.
— Да в Ливонию я и сам зарекся ходить, — Ермак как-то посуровел, подобрался, и казаки заметили эту перемену, примолкли. — Мало кто из вас знает, что я, прежде чем на Дон прийти, был на службе у господ Строгановых…
— He от них ли перед Ливонской войной посыльный был? — вспомнил Яков Михайлов.
— От них, от них самых… Оборона от лихих людей им крепкая нужна. Платить обещают справно, — казаки слушали, не перебивая, но по их разочарованным лицам Ермак понял, что в услужение идти мало кто желает. — Только про одно они забыли, что коль гостя в дом позвал, то обходись с ним ласково, чего тот ни просит, все исполняй, ни в чем не отказывай…
— Это точно, — хохотнул Гришка Ясырь, — а то гость и осерчать могет, шуму понаделает. Так говорю, атаман?
— Верно говоришь, — хитро сощурился тот. — Они, конечно, господа, но закон наш каков? За кем сила, тот и господин. Вот я и думал себе, кумекал потихоньку: ежели мы крепкой ватагой к Строгановым заявимся, то выкурить нас оттудова трудненько будет.
— Ай да атаман! Вот голова! — Брякнул шапку оземь Ясырь. — А я вам чего говорил? Придумает он что-нибудь! Голова!
— Значит, потрясем господ Строгановых? — насупясь, спросил Яков Михайлов. — А что, других ратных людей у них и нет?
— Есть у них охранники, из разных людишек набранные. Так они скорее на нашу сторону встанут, чем за господ заступаться начнут.
— А потом куда? — допытывался Михайлов.
— Чего ты заладил: "куды, да куды", — передразнил его Ясырь, — будет день, будет и пища. Дожить надо еще…
Ермак хмуро оглядел их, словно прикидывал что-то в уме.
— Только не знаю, сколь людей с нами пойдет. Надо бы поговорить с казаками, в другие станицы сгонять, объявить всем. Через неделю-другую, глядишь, и выйдем.
— Как пойдем? Конные? Больно далеко до Камы добираться.
— Зачем конные… На стругах пойдем. И поклажа при тебе, и о конях голова не болит.
— Точно, — закивали головами казаки, — на стругах оно сподручнее.
Тут же распределили, кто с кем перетолкует, кто в какую станицу отправится набирать охотников. Ермак брал на себя договор с атаманами насчет стругов. Если согласятся, то поменять их на казачьих коней, которых все одно придется оставлять в станице. Уже на другой день он был опять бодр и весел, словно человек, переживший тяжелую болезнь, решившийся на что-то главное в жизни. К нему подходили казаки, интересовались платой у Строгановых, на какой срок собираются туда. В самом Качалином городке насобиралось человек около сотни, желающих идти с ним в поход на Каму. Скоро начали прибывать казаки и из других станиц. В основном подходили те, кто был под его началом в Ливонии. Ставили шалаши прямо на берегу, натягивали от дождя парусину на шестах, складывали под нее оружие. Из Раздор пригнали десяток стругов, на двух из них стояли маленькие легкие пушечки. Но труднее всего было с мукой и другими припасами. Ни продавать, ни менять их не желал никто. Раньше в казачьи станицы приезжали мужики со свежим помолом, но в этом году урожай был ни ахти какой, цены поднялись, и все ждали голодной зимы. Удалось все же прикупить муки и ячневой крупы дня на два-три. Решили, что остальное найдут в дороге.
Когда через десять дней после первого разговора у него в курене Ермак велел сосчитать подсобравшихся казаков, то вышло более пяти сотен. Тут же выбрали сотников-есаулов.
…Яков Михайлов… Матвей Мещеряк… Савва Волдырь… Богдан Брязга… Никита Пан… — кричали казаки от каждой сотни.
К Ермаку подошел, поигрывая плетью, Иван Кольцо и, словно в шутку, спросил:
— А меня к себе в есаулы возьмешь? Али не люб я тебе?
— Так вы же с Барбошей на Яик собрались.
— Собрались, да разбежались. Передумал я. Хочу новые места поглядеть, себя людям показать. Так берешь, али как?
Ермак понимал, как нелегко ему придется со своенравным есаулом, но он видел Кольцо в деле и хорошо помнил, как тот лихо рубится и один стоит десятка.
— Ладно, будешь походным атаманом, правой рукой. В случае чего так и меня заменишь. На каком струга войдешь: на переднем или замыкающем?
— Лучше впригляд последним пойду. А ты уж сам давай на переднем.
* * *
Казачьи струги отвалили от берега широким изломанным строем, тесня соседей, сталкиваясь бортами под бранные выкрики рулевых кормщиков, переругивание гребцов, поднимавших здоровущими веслами кучу брызг, приноравливаясь к общему ходу. Но выбравшись на середину, суда рассредоточились, заняли заранее обусловленное место, начали медленно набирать ход, подгоняемые мощными взмахами весел, гнавших струги против течения все дальше и дальше от родных станиц.
Кормщики приказали ставить паруса, и слабый речной ветерок надул полотнища, чуть накренив струги, повеселели казаки, радуясь попутному ветру.
Впереди шел легкий, без груза, ертаульный струг, чтоб упреждать атамана о встреченном вдруг противнике, о засаде на берегу. За ним следовал большой десятивесельный струг Ермака Тимофеевича, который сидел на передней скамье, подставив лицо свежему ветерку, и, незаметно для себя улыбаясь, всматривался в пологие берега, оглядывался на следующие за ним казачьи струги и ощущал внутри небывалую, едва не выплескивающуюся наружу радость.
Что-то подсказывало ему, что уходит он из этих степей навсегда, и уже не скакать ему по бескрайним просторам, не подкрадываться к ногайским табунам, не спорить с горластыми атаманами о дележе добычи. Прожив здесь много лет, не чувствовал он себя вольным, ни за что не отвечающим казаком, которому безразлично, на чьей стороне воевать и к кому на службу наниматься. Лишь бы платили да кормили. Казачья вольница была не для его суровой и непреклонной натуры. Привыкший принимать решения единолично и доводить их до конца, чего бы это ему ни стоило, он не понимал разноголосого ора казачьего круга, расхлябанности и показной лихости разномастных станичников, наглости малых атаманчиков, мнящих себя великими воеводами, а на деле уходящими от серьезного кровавого боя. Вольница хороша для человека заурядного, привыкшего жить в общей массе, ничем не выделяясь и не проявляя себя, подчиняющегося окрику старшин и атаманов. А тот, кто желал бы выделиться, стать независимым, был обречен на одиночество и непонимание, а то и на скорую смерть в бою, будучи оставленным без поддержки и прикрытия.
Казачье атаманство еще более раздражало Ермака Тимофеевича, поскольку каждый из пробившихся наверх должен был пользоваться силой своего клана: и чем громче кричали они имя своего избранника на кругу, значит, много было выпито накануне, роздано и обещано претендентом на роль казачьего вожака. Пообещай им кто-то больше — и они отвернутся от предыдущего избранника, без смущения оставят его, вручат атаманскую булаву другому краснобаю, забыв о недавней дружбе и товариществе.
Послужив в царском войске, он еще более убедился в бездарности его устройства, кичливости и высокомерии главных воевод, страхе перед царским наказанием, опалой. Взявши вдесятеро превосходящими силами какой-нибудь городок, крепостицу, они оставляли там малюсенький гарнизон, уходили дальше или обратно к Москве, докладывали о победе, а через день городок или крепость столь же быстро сдавались противнику, и все начиналось сначала.
Может, потому и тянуло Ермака в строгановские вотчины, где он не будет зависеть ни от многоголосого казачьего круга, ни от приказа воеводы, а подчинив себе небольшое войско, обратит силу его по собственному усмотрению. А Строгановы… что могут сделать ему Строгановы… Пусть строят, торгуют, покупают и продают, владеют землями, городками. Они ему не указ. Ставить условия будет он.
В то же время он боялся даже самому себе признаться в многолетней мечте о возвращении в родные земли и встрече с тем, кто коварно изгнал его, лишил всего — и земли, и любви, и власти. Рано думать об этом, но и не думать он не мог. Запах иртышской воды, шум скользящих вниз глинистых камешков, осыпающихся с крутых, заросших полынью и шиповником береговых уступов, непрерывно, каждодневно был с ним, питал своей притягательной силой, помогал выжить и манил, звал к себе.
Разве мог он забыть протоптанную на кочковатом болоте тропу к глухариному току с поблескивающим на темно-зеленых изумрудных полянках брызгами брусничных и клюквенных россыпей? Разве не просыпался он многократно в ночи от услышанного им трубного лосиного рева? Разве не провожал горящим взором шумные птичьи стаи, стремившиеся на сибирские озера? И разве не ждут его желто-зеленые стволы осин, из чьего рода была его мать?
Нет, только там, в Сибири, в стране своих предков он мог обрести покой и умиротворение, стать самим собой. И не власть нужна ему, которой он сыт по горло и знает ее пьянящий вкус, а требовалось что-то необъяснимое словами, неподвластное человеческому уму, даваемое свыше один раз и навсегда. Он был малой частицей того дальнего мира и без него не мог быть тем, кем стал сейчас. И тот мир лесов и озер, зыбучих болот, неукротимых рек при всей своей огромности, разбросанности, потеряв его, всего лишь одного единственного человека, стал уже иным миром. Так, может быть, птица не замечает единственного, оброненного ей перышка, но что-то меняется в ее полете, а потеряй она их несколько — и уже не взлетит с земли, не взмоет над вершинами деревьев и поймет, что обречена, помечена черным знаком близкой смерти.
Он же потерял все. И лишь унес с собой в памяти запахи и шум реки, крики птиц, краски леса, вкус таявшего на губах легкого снежка. Все это звало его обратно.
* * *
Когда казачьи струги, наконец, достигли каменистых берегов Чусовой, то силы гребцов почти иссякли. Уже не раздавались песни, привычно распеваемые ими во время походов, покрылись коркой белесой соли рубахи и не помогали тряпицы, которыми обматывались покрытые кровавыми мозолями ладони. Каждый взмах давался с трудом, и гребцы, причалив к берегу, не в силах были выбраться из стругов, долго сидели на отполированных до блеска скамьях, отдыхая, а некоторые тут же засыпали, прислонившись к невысокому борту. И лишь посидев так час-другой, выползали, держась за натруженную спину, на берег и, пожевав сухарей, съев несколько ложек опостылевшей каши, тут же валились на землю и засыпали беспробудным сном до рассвета.
Атаманам приходилось самим нести охрану громко храпевших и что-то бормочущих в беспокойном сне казаков, чтоб потом, днем, отоспаться на струге. Никто в открытую не высказывал недовольства, но Ермак чувствовал плохо скрываемое раздражение, когда драка или бунт могли вспыхнуть из-за пустяка, а закончиться большой кровью. И здесь, на Чусовой, дал дневку, чтобы казаки отоспались, набрались сил, пришли в себя после изнурительного перехода.
Сам подобрал троих казаков, выглядевших менее уставшими, и отправил их в разведку на поиски какого-либо строгановского городка. Те вернулись к вечеру сияя, как начищенные медяки, сообщив об увиденном ими с горы укрепленном городке.
— Если утром затемно выйдем, то к полудню догребемся до него.
— Надо было сейчас до него вам дойти, упредить жильцов о нашем приходе, — проворчал в ответ Ермак. — А то нагрянем, как снег на голову, испужаем людей, чего ж не дошли?
— Сил никаких нет, батька. Да и ты отправлял лишь разведать, что к чему. Мы как увидели башни на стенах, дымки вьются… так и обратно бегом кинулись.
Казаки, узнав о близости городка, словно ожили, запереговаривались, принялись чистить одежду, прихорашиваться.
— А девок там не видно? — спрашивали у вернувшихся разведчиков.
— Полно девок. На башнях стоят, платочками машут, казаков ждут, — отвечали те со смехом.
— Откуда же они знают, что казаки к ним плывут?
— Сорока на хвосте принесла, откуда ж еще…
Утром вышли пораньше, и если бы не подводные камни, из-за которых несколько стругов пришлось разгружать, стаскивать с мели, то, верно, добрались до городка к полудню. Но солнышко уже садилось за острые макушки елей, когда, наконец, они увидели стоявший на высоком скалистом берегу городок, окрашенный закатом в теплые, ласковые золотистые тона. Застывшая каплями на рубленных стенах смола поблескивала, как драгоценные камни, делая все вокруг сказочным, неземным.
Ермак признал тот самый городок, из которого уходил с соляным обозом на Москву много лет назад, и сердце бешено застучало в груди, осекся голос, дымка набежала на глаза.
Заметили струги и со смотровых вышек городка, ударили в колокол. На стенах замелькали мохнатые шапки охранников, в бойницы просунулись дула пищалей, потянуло дымком распаленного костерка. Видать, их и впрямь не ждали, и Ермак велел поднять повыше хоругви с изображением Спаса Нерукотворного, Дмитрия Солунского, Михаила Архангела, что постоянно сопровождали в походах казачью рать.
Но городок настороженно молчал, никто не спешил выйти на берег.
— Табань весла, — крикнул Ермак на соседний струг и оттуда передали его команду дальше. — К берегу не подходить, держаться середины.
Гребцы атаманского струга осторожно подгребли к берегу и Ермак, оправив на голове шапку, перекрестясь, ступил на выступающий из воды плоский камень, перепрыгнул на другой и по узкой тропинке стал карабкаться вверх. Наконец он взобрался на вершину берегового уступа и, пройдя несколько шагов в сторону караульной вышки, набрав в грудь побольше воздуха, выкрикнул:
— Здравы будем! Как живется-служится? Воротники?
Он отчетливо видел, как две пищали гранеными дулами перемещались за ним, следя за каждым сделанным шагом, а еще три неподвижно застыли, отслеживая сидевших в струге казаков. И хоть на нем был надет царский панцирь, он знал и то, что не спасет он от пищальной пули, вздумай кто-то из стрельцов пальнуть сейчас по нему. Поэтому, когда сверху раздался насмешливый басовитый, чуть окающий голос, стало спокойнее и он незаметно отер вспотевшие от напряжения ладони.
— Чай, заблудились малость? Как вас к нам занесло? Сроду такого воинства не видели, — спрашивал плохо различимый под тенью кровли стрелец.
— А чего нам блудить, до вас мы. Господа Строгановы на службу звали. Вот мы и туточки…
— Неужто к нам? Все? Да куда ж мы селить вас станем? — спрашивал все тот же окающий голос.
— То сами решайте… Сперва гостей звали, приглашали, а как гость на порог, то хозяин дверь перед носом захлопывает. Негоже так, ой, негоже…
Заскрипели ворота и от туда показался бородатый воин в зеленом, перехваченном толстым кушаком кафтане с саблей на боку. Следом за ним вышли два стрельца с пищалями в руках и тлеющими фитилями. Ермак понял, что к нему направляется сам воевода городка или, как их еще называли, осадчий крепости, и сделал несколько шагов в его сторону.
— Казаки что ль пожаловали? — спросил тот, протягивая руку для приветствия. — Говорили мне, будто поджидают вас, да не думал, что так скоро пожалуете…
— Тебя не Герасимом ли звать? — вглядевшись в лицо подошедшего к нему человека, спросил Ермак.
— Точно-Герасим… — растерянно ответил он и тоже принялся разглядывать Ермака, силясь припомнить что-то ускользающее и давнее.
— Да не тужься, не отгадаешь, — засмеялся тот, — память коротка. Помнишь, как на варницы вогульцы напали? Как выбирались оттудова? Насона Рябухина помнишь? Грибана? Воеводу Третьяка Федорова? А брат твой, кажись, Богдан, да?
— Точно, — согласился Герасим. — Только он теперь в другом городке служит. А Насон и Грибан живы-здоровы, тут в городке проживают. Правда, Третьяка Федорова несколько годков как схоронили… — потом хлопнул себя ладонью по лбу и вскрикнул, — Василий! — и широко обхватил его за шею, притянул к себе.
— Признал-таки, башка твоя пустая. А я уж думал, забыл…
— Где ж тебя признаешь… Вон каков стал. Так тебя что ли Ермаком кличут?
— Меня, меня, угадал, наконец.
— А то все кругом гуторят, мол, придет Ермак с казаками своими и повоюет всех. Кто ж знал, что ты и есть Ермак.
— Крепко теснят вогульцы?
— Ой, крепко. Года два тихо было, а нынче полезли. В плен нескольких наших утянули, так грозят, мол, хан Кучум сам скоро заявится, пожгет, потопит в реке, повешает. Мы уж день и ночь караулим, ждем гостей. Старший-то Строганов помер давно, а потом и сын его старший Яков, а следом и Григорий преставились. Остались Семен Аникитич, два племянника его Максим да Никита. Они и управляются теперь.
— Где они сейчас? В городке никого нет?
— К вечеру Максима Яковлевича поджидаем, должен быть.
— Ладно, я пока своим выгружаться велю, готовь, где разместить.
* * *
Наконец, казачьи струги причалили к берегу, начали разгрузку, торопясь закончить все дотемна. Ермак, собрав атаманов-есаулов, направился в городок, ворота которого были теперь гостеприимно распахнуты, и часть жителей высыпала на берег издали наблюдая за прибывшим воинством. Проходя сквозь расступившуюся толпу, он слышал голоса женщин, перекидывающихся меж собой словами:
— Ух, орлы какие!
— При саблях… при пищалях…
— Где ж они ране были, когда нас вогульцы жгли-грабили, сильничали.
Герасим встретил Ермака у воеводской избы и тут же снарядил двух мальчишек, чтоб провели казаков по домам, определили на постой.
— Я так думаю, что пока у нас всем скопом будете, а там Максим Яковлевич с Семеном Аникитичем решат, кого куда направить. Мы уж знаем, откуда сибирцев в первую очередь ждать. Туда и надо вам вставать.
Богдан Брязга тут же заворчал себе под нос:
— Не дали и роздыху никакого, как сразу айда, воюй. Мы двужильные что ли? А, атаман?
— Передохнешь еще, не гундось. А то подумают, будто мы сюда заявились жирок нагуливать, бока пролеживать.
— Как с кормежкой? — поинтересовался Никита Пан.
— У нас припасы все закончились, чего попало жрем.
— Накормим, накормим, — успокаивал его Герасим.
— Вот Максим Яковлевич прибудет и распорядится.
В избах удалось разместить лишь полторы сотни казаков. Остальным пришлось ночевать опять на берегу, укрывшись армяками и холстинами.
Уже в темноте послышался стук копыт по бревнам мостовой на центральной улочке, и в воеводскую избу вбежал Максим Строганов, остановившись посредине горницы, принялся разглядывать казачьих атаманов, поджидавших его на лавке возле стены. Они в свою очередь внимательно вглядывались в него, кому должны будут служить, рисковать своей жизнью, кто будет выдавать им оплату и пропитание.
Максим Строганов был высок ростом, подвижен, с рыжеватыми кудрями на голове, небольшим, чуть вздернутым носом и плотно сжатыми губами. Решительность и твердость взгляда говорили о том, что он рано узнал власть, имел во всем свое мнение, привык приказывать и не терпел ослушания. Темные глаза его то вспыхивали, то равнодушно угасали, когда он рассматривал атаманов, сидевших по лавкам вдоль стены.
— А мы уж и ждать вас перестали, — сказал он наконец. — Вовремя подоспели, ох, вовремя. Со дня на день ждем гостей дорогих из леса. Те, что раньше приходили проведывать, грозились; будто бы большими силами ближе к осени навалятся.
— Атаман-то служил ранее у деда вашего, — подал голос Герасим.
— Да? — резко повернулся к Ермаку Максим. — Значит, воевал с сибирцами?
— Приходилось, — кивнул тот. — Повадки ихние знаю.
— То хорошо… Другие есть, кто воевал с ними?
— Не-е-е, — с ленцой в голосе ответил за всех Иван Кольцо. — Да все они, что крымцы, что ногаи, что татары или там черемисы, одинаково воюют. Десять на одного навалятся — и готово, одолели. Вот немцы с ляхами, со свеями, те иначе в бою держатся. А эти что… Тьфу!
— Поглядим, поглядим, — окинул взглядом его Строганов. — Отец, покойничек, у меня все говаривал: не хвались на рать едучи. Завтра дядька мой Семен подъехать должен — и расставим вас по разным городкам, чтоб никому обидно не было. А пока отдыхайте, силы копите…
— Припасов нет, боярин, — хмыкнул Никита Пан. — Хоть сапоги вари заместо каши.
— Мясо из ледника, муку, соль прикажу выдать. А сготовить, поди, и сами сможете?
— То добре, — повеселели казаки. — Надобно и об оплате сразу поговорить, чтоб потом не возвращаться.
— То завтра, — отмахнулся Максим, — не станем в одну кучу все дела валить. Поглядим еще, каковы вы в деле будете.
— Чего глядеть, — заворчал Богдан Брязга, — не девки. Лучше нас тебе воинов все одно не сыскать. Казаки наши все как один ратному делу обучены.
— Завтра, завтра, — и Максим прошел, не прощаясь, на другую половину.
На следующий день дождались Семена Аникитича, который встретился с Ермаком как со старым знакомым. Опять собрали атаманов, долго рядились о плате, о кормежке, об оружейном припасе, кто в какой городок направится. Закончили опять далеко за полночь, но зато подписали договорные бумаги, где поставили свои подписи каждый из атаманов и сами Строгановы. И уже на третий день рано утром, разбившись на отряды, погрузив на подводы оружие, выданные им припасы, казаки пешком отправились за провожатыми по разным городкам.
Ермак же остался у Максима Яковлевича, обусловившись, что каждую неделю будет наезжать в городки, интересоваться службой и содержанием. Обговорили, как в случае нападения сибирцев будут слать к нему гонцов, чтоб другие отряды могли прийти на подмогу, напасть на тех с тыла, перекрыть дороги.
Когда Герасим, проводив казаков, взобрался на дозорную вышку к Ермаку, откуда он наблюдал за уходящими в глубь леса отрядами, то тот, тяжело вздохнув, спросил:
— Как думаешь, лиха они не наделают?
— Казачки твои? Кто их знает… Коль вогульцы да татары навалятся, не до того будет. А от безделья и бык начинает землю рыть. Ничего, воеводы их займут делом, работы много…
На другой день Ермака разыскали Насон Рябухин с Грибаном Ивановым. Насон стал еще более тощ и постоянно покашливал, держась за грудь. Грибан же, наоборот, словно врос в землю, погрузнел, стал совсем седым. Оба они, не скрывая восхищения, глядели на Ермака, как на некоего сказочного богатыря, о котором распевали песни древние старцы, странствующие из села в село, из города в город.
— А мы уж понаслышаны о тебе. Кругом только и говорят: "Вот придет Ермак с казаками и разгонит татар да вогульцев, прижмет им хвосты", — степенно оглаживая сивую, вьющуюся кольцами бороду, сообщил Грибан Иванов.
— Уж он им накрутит хвоста. Знамо дело… — поддакивал Насон Рябузоан, хихикая и выставляя редкие желтые зубы.
— Кто ж такие россказни про меня сказывает? — смутился Ермак.
— Люди и сказывают. А мы и не ведали, что Ермак и есть Василий, Аленин постоялец. Так мы тебя тут частенько вспоминаем. Помнишь, как Тугарина отловил?
— А как муравьев в штаны ему напустил? Помнишь? Ермак зарделся от давних воспоминаний и, чтоб перевести разговор, поинтересовался:
— Вы-то, как? Все у господ Строгановых служите?
— А куды нам податься? Кто где нас ждет. Служим… Пушкарями нас определили. Живем на всем готовом, коровенку одну на двоих держим. Ничего…
— Часто стрелять приходится?
— Да нет… Два года басурманы нас не трогали А то пару раз по ним пальнешь — и разбегутся. Деревеньки ближние грабят, а городок взять силенок у них маловато.
— Коль сами справляетесь, то чего нас Строгановы призвали? — задал вопрос Ермак, который его интересовал более всего.
— Кучум-царь обещался спалить нас. Болтают, что большую силу собрал. Не по нутру ему, что мы на его землях сидим.
— Вогульцы, те вообще, смех, — вновь обнажил желтые зубы Насон, — говорят, что нельзя землю ковырять, соль из нее брать.
— Это почему?
— Духов земных тревожим. Разгневаться могут. Нельзя и все… Столь годков жили не тужили, а тут на тебе!
Повспоминав старое, разошлись, и Ермак долго глядел вслед им, важно вышагивающим по бревенчатой мостовой городка, раскланивающимся с редкими прохожими. Сам он выехал в другие городки посмотреть, как разместили казаков, как те несут службу. С ним ехали Гришка Ясырь и Гаврила Ильин, которых оставил при себе в городке в качестве помощников. К тому же Ясырь знал грамоту и составлял списки казаков, писал договор со Строгановыми.
Ехали по каменистой тропе неспешно. Кони, взятые ими у Строгановых, раньше использовались для перевозки соли и иных грузов. Под седлом шли плохо, крутя головами, вздрагивали от лесных шорохов.
— Да, атаман, то не наши дончаки, — со злостью хлестнул своего мерина Гришка Ясырь, — далеко на них не ускачешь. Случись стычка какая — пиши пропало.
Ермак не ответил, подумав, что кони и впрямь заморенные и, чтоб перевести их с шага на рысь, требовалось несколько раз чувствительно огреть плеткой, но и то, пробежав чуть, они опять сбивались на шаг, а то и вовсе начинали пятиться, жалобно ржать, словно пытались объяснить, насколько непосильна для них ноша.
С грехом пополам переправились через две горные речки, взобрались на гору и скоро должны уже были подъехать к первой крепости, как вдруг Ермак поднял руку, натянул поводья и указал спутникам на боковую тропинку, ведущую в заросшую молодыми деревцами лощину.
— Что там? Зверь какой? — одними губами прошептал Гришка Ясырь.
— Тихо! — Ермак спрыгнул с коня и вынул пищаль. Ильин последовал за ним, а Ясырь бестолково крутил головой, не понимая причины их беспокойства. — Слазь! — махнул ему Ермак.
Теперь они явственно слышали доносившиеся снизу голоса и стук конских копыт. Ильин несколько раз чиркнул кремнем, пытаясь выбить огонь и поджечь фитиль, но Ермак накрыл кресало широкой ладонью, показал, мол, нельзя, услышат. А голоса раздавались все ближе и вот прямо на них выехал всадник в лисьей шапке и сером драном тулупе. Узкие глаза его от неожиданности начали расширяться, рот широко раскрылся — и он уже готов был крикнуть, предупредить остальных, едущих следом. Но Ермак ловко накинул ему на шею петлю волосяного аркана и с силой рванул на себя. Тот успел ухватиться за седло, но напуганная лошадь прыгнула в сторону и, сбросив с себя всадника, ходко кинулась обратно вниз. Сам же наездник, ударившись при падении головой, лежал, не подавая признаков жизни.
— Теперь давай, высекай огонь. Сейчас они повалят, — приказал Ермак и подставил свой трут под огниво Ильина.
— А с этим, что делать? — испуганно спросил Гришка Ясырь.
— Пусть лежит, может очухается. Никуда он от нас не денется.
Верно, остальные поднимающиеся по тропе всадники почуяли недоброе, увидев несущуюся на них лошадь без хозяина. Они громко стали выкрикивать имя пропавшего соплеменника, повторяя его на разные лады.
— Кто это? Вогульцы? Татары? — спросил Ильин, раздувший уже свой фитиль и показывая Гришке, чтоб взял огня у него.
— Похоже, вогульцы. Человек с десяток будет, — ответил Ермак, выцеливая просвет меж деревцами. — Первого я беру, потом ты, Гаврила, а Гришка следующего.
Меж тем вогульцы поодиночке продолжали карабкаться наверх. Первым показался широколицый на низенькой мохнатой лошаденке всадник, с удивлением воззрившийся на упавшего. Верно, он не сразу заметил наброшенный на голову того аркан, потому что решил спуститься и занес было ногу, как прогремел выстрел Ильина из пищали. Широколицего сбросило с лошади и он, цепляя тонкие ветки, с шумом завалился меж белыми стволами березок. Ермак выстрелил по высунувшейся голове следующего всадника, не успев даже толком рассмотреть его. Снизу громко заголосили, и Гришка Ясырь наугад стрельнул в ту сторону, посмотрел на атамана.
А тот не спеша подошел к заарканенному вогульцу и, одной рукой схватив за тулуп, поставил на ноги. Узкие щелки глаз пленного открылись и тот что-то несвязно залепетал.
— Что бормочет? — спросил Ильин.
— Больно говорит, — рассмеялся Ермак. — Не ожидал, что камни такие твердые.
— Много их там? — махнул Ильин в сторону вопивших внизу вогульцев.
Ермак стал расспрашивать пленного на его родном языке и тот с готовностью отвечал, преданно глядя атаману в глаза.
— Говорит, несколько сотен с их князем Бек-Белеем идут, а следом сын Кучума, царевич Алей, войско ведет. Сколько там их, он не знает, — перевел Ермак. — Их в разведку отправили, высмотреть, где сколько народу в городках находится.
— Чего с ним делать станем?
— Чик ножиком по горлу, и все тут, — высказался Ясырь.
— Зачем? — урезонил его Ермак. — Отвезем воеводе — и пусть тот решает. Вишь, как дрожит, бедолага, не хочет умирать…
— Ты атаман, тебе видней, — Ясырь шмыгнул носом, повернулся и пошел к своему мерину, когда в воздухе тонко пропела стрела и на излете ткнулась ему в руку. — Ай, — вскрикнул, отскочив в сторону, заголил рукав. Но на руке была лишь неглубокая царапина и он лизнул ее, закрутил головой, отыскивая листок подорожника.
Но вслед за первой посыпались и другие стрелы, густо падая вокруг казаков. Пленный заголосил и попытался вырваться из рук атамана. Тот с размаху саданул его своим кулачищем в живот. Вогулец, вытаращив глаза, схватившись за живот, переломился пополам, ловя воздух раскрытым ртом.
Ермак же, не обращая внимания на сыплющиеся вокруг стрелы, связал ему руки, вскинул на плечо и легко закинул на лошадь, взял ее под уздцы.
— Уходим быстро отсюда. А то остальные подойдут, и тогда застрянем надолго.
Вогульцы не решились сразу кинуться за ними в погоню, и вскоре казаки беспрепятственно добрались до крепости, заколотили прикладами в ворота. В этой крепости стояла сотня Матвея Мещеряка, и он первым встретил у ворот атамана, подмигнул Гришке и Гавриле, оглядел пленного.
— Везет же тебе, атаман, — пошутил он. — То как у двух рыбаков: у одного клюет, а у второго шиш с маслом булькает. Ты не успел выехать, как басурманина заарканил. Мы же их еще и в глаза не видели…
— Ничего… Скоро наглядитесь, насмотритесь. Следом несколько сотен валит, а там еще и царевич Алей на подходе. Как вы тут разместились?
— Да слава Богу. Тесно, но зато под крышей. — Мещеряк опять подмигнул васильковыми глазами. — И девки на нас уже поглядывают. Еще чуть — и совсем приживемся.
— Ну, ну… Воевода-то где?
— Да нет его. Сами еще не видели. Поджидаем, глядишь, подъедет.
— Подъедет, коль вогульцы не перехватят. Ты вот что, Матвей, вели пушкарям пушечки почистить, порох в бочках поближе к стенам подтащить. Пищали пусть все проверят. Не сегодня-завтра полезут вогульцы. Готовь казаков.
— Ну, я пошел, — Мещеряк легко повернулся и, широко размахивая руками, поспешил к длинному без окон срубленному дому, где, верно, дневали казаки его сотни.
* * *
Ночь прошла спокойно. Воевода так и не появился. Ермак сам несколько раз взбирался на караульную вышку и вглядывался в ночную темень, пытаясь различить огонек костра или услышать посторонние звуки, выдающие людское присутствие. Но тайга надежно скрывала мощными стволами елей и сосен ближайшие окрестности, не выдавая укрывшихся в ее глубине вогульцев. А может, они, не желая быть раньше времени обнаруженными, жгли костры где-нибудь в ложбинке, не разводя большого огня.
Уже под утро, когда все вокруг посерело, обозначились вершины гор, полуразмытые в мягком стелющемся по низинкам тумане, Ермак не увидел, но явственно ощутил присутствие неподалеку от вышки людей. И хотя не дрогнула ни единая веточка, никакой посторонний звук не донесся до него, но он безошибочно угадал, что кто-то наблюдает за ним из гущи леса. И хотя был он в панцире и надвинутом на брови шлеме, но предательский холодок пробежал по телу, и он сделал шаг назад. Дежуривший на вышке казак Афанасий Темников сладко зевнул:
— Чего, атаман, не спится тебе? Да тихо все, иди отдохни малость.
Стрела с длинным зазубренным наконечником в тот же момент пролетела рядом с ними и впилась в помост.
— Вот тебе и тихо, — Ермак осторожно выдернул ее, осмотрел. Такие стрелы он видел когда-то у северных воинов, что приезжали в Кашлык на состязания. Попав в тело, она прочно застревала там и выдернуть ее можно было, лишь вспоров рану, или вместе с изрядным куском мяса.
— Может, в набат ударить? — испуганно захлопал глазами Афанасий.
— Подожди, успеешь еще… — Ермак встал за подпорный столб и внимательно вглядывался в чащу, пытаясь определить, откуда была пущена стрела. Но опять не смог отыскать, где же находится невидимый стрелок, и, постояв так, начал спускаться по лестнице, предупредив стражника. — Как кого увидишь, сразу звони. И пищаль наготове держи. Встань подальше от края, укройся.
— Понял, — казак спрятался за столб и взял пищаль на изготовку, дунул несколько раз на тлеющий фитиль, сбил пальцами пепел Ермак первым делом разыскал Матвея Мещеряка и велел ему срочно поднимать казаков, вставать к бойницам, готовить пушки, таскать воду к стенам.
— Про воду мы и не подумали, — почесал в затылке еще не пришедший в себя после сна есаул, — где ее и берут, не знаю. А коль с речки за крепостью… Тогда как?
— Узнай все и поднимай казаков.
Тут как раз ударил набат с вышки, где остался стоять Афанасий Темников Из изб выскакивали полусонные казаки и, не дожидаясь команды, бежали к стенам с оружием в руках. Вслед за набатом ударил выстрел все с той же вышки, Ермак кинулся туда, торопливо взобрался по жалобно поскрипывающим ступеням и увидел, что на стену лезут с разных сторон сотни две вогульцев, державшие в руках кто сабли, кто короткие копья Афанасий перезаряжал пищаль и подрагивающими руками пытался закатить в ствол пулю, которая оказалась чуть большего размера и не проходила в дуло.
— Дай сюда! Ермак выхватил пищаль, приладил пулю посередине и, ударив ручкой кинжала, загнал ее. — На, загоняй до конца.
По лестнице уже взбирались, держа впереди себя пищали, трое казаков.
— Мать моя! — выкрикнул первый, увидев карабкающихся на стены вогульцев. — Сколько их! Как тараканы лезут…
— Пищаль заряжена?! — перебил его Ермак.
Нет еще… Да я сейчас, атаман, — засуетился тот.
Несколько стрел воткнулись в низ крепежных столбов со стороны лесной опушки. По ним медленно полз неяркий пока желтый огонек и стрелы потрескивали, чуть выгибаясь под язычками пламени. Сейчас он доберется до смолистых столбов и тогда…
— Воды! — закричал Ермак, повернувшись к ближнему казаку. — Давай сюда пищаль и быстро тащи воду, а то сгорим тут к чертовой бабушке!
— Сейчас, атаман, — казак прислонил к ограждению вышки пищаль и быстро застучал сапогами по ступеням лестницы.
— Пушкари где?! Где пушкари?! — в ярости стукнул кулаком по бревнам перекрытия Ермак. — Почему не стреляют?
Он видел, как по двору с обнаженной саблей промчался Матвей Мещеряк, как побежали к стенам бабы с коромыслами на плечах, слышал непрерывно бухающие пищальные выстрелы, но пушки молчали. А вогульцы уже были на стенах, спрыгивали внутрь крепости, бились с встречавшими их казаками. Из леса вывалило еще около двух сотен, полезли вслед за первыми.
Тут он увидел, как Матвей Мещеряк, а вслед за ним и трое казаков тащили на руках небольшую пушечку, сзади бежал молодой казак с раскаленным прутом в руках. Мещеряк снял засов с ворот и они выскочили на открытое место перед крепостью. Пушку опустили на землю, Мещеряк, пригнувшись к стволу, навел ее на вогульцев, карабкающихся на стены. Те не сразу заметили их, а когда увидели, то пушечка уже подскочила чуть вверх, тявкнул выстрел — и несколько человек нападающих, кувыркаясь, полетели со стен. Еще трое казаков выкатили вторую пушку, навели и ударили чуть дальше вдоль стены. Из леса выскочило около десятка всадников и устремились к пушкарям, выставив вперед длинные копья.
— Отсекай их, — Ермак указал стрелкам на конников, а сам бросился к лестнице, чтоб спуститься вниз. Но там уже лез, таща на вытянутых руках деревянную бадью с водой, посланный им казак.
— Вот, батька, нашел воду, — отдуваясь, сообщил он.
— Лей на огонь, — указал Ермак и начал спускаться. За воротами, возле пушек, кипел бой. Вогульцы теснили казаков, которые отбивались от них саблями, увертывались от копий, ныряли под брюха лошадей. Никем не замеченный Ермак подскочил к ближнему всаднику, с силой дернул его за ногу, сорвал на землю и сам вскочил в седло, выхватил из ножен саблю.
— Атаман с нами, — возбужденно закричали казаки. Ермак же с первого взмаха полоснул по спине вогульца, гнавшегося за молодым казаком. Тот наклонился к гриве, выронил копье, испуганный конь под ним рванулся в сторону, сбросив седока на землю.
Наконец, вогульцы заметили Ермака — и сразу двое из них с обнаженными саблями направились к нему. Тогда он закрутил своего коня, который послушно заплясал на месте, и, выбрав момент, достал саблей одного из них. рассек ему предплечье и тут же, отразив удар второго, пустил коня вскачь, а через несколько шагов развернул, направил к растерявшемуся вогульцу и концом сабли достал того, словно шутя, чиркнув острием по толстой шее.
Из ворот высыпало еще с десяток казаков с пищалями в руках, и они с первых выстрелов уложили трех всадников, а остальные, нахлестывая коней, повернули в сторону леса.
Зато на стенах бой не стихал. Две башни, в том числе и караульная вышка, были объяты пламенем. Но там уже сновали с ведрами женщины, плескали на бревна воду, бежали обратно в городок.
— Пошли на стены, — крикнул Ермак выскочившим за ворота казакам.
Бой продолжался уже около часа. Казаки начали брать верх: отстреливались из пищалей, умело рубились на саблях. Тут им равных не было. Ермак видел, как молодой казак, что бежал вслед за пушкарями с раскаленным прутом, ловко бился под стенами с двумя вогульцами, держа по сабле в каждой руке. Он то подпускал их к себе, уклоняясь от ударов, то теснил их легко, описывая круги над головой, наконец, он ранил одного в руку, а второго заколол, ткнув концом клинка в живот.
Вогульцы, видя, что их дело плохо, начали спрыгивать сперва по одному, а потом и десятками сразу со стен на землю, пригибаясь, бежали к лесу.
— Я-то думал, бой будет, а тут чуть постреляли, саблями помахали и айда обратно, — сплюнул под ноги Матвей Мещеряк. — Слаб народец. Почти как ногайцы, не умеют толком драться.
— Подожди… — охладил его пыл Ермак, осматривая выщербинки на своей сабле, появившиеся после схватки, "- вот сотен пять-семь с царевичем Алеем подойдут, тогда поглядим, как заговоришь.
— Не пужай, атаман, а то заплачу, — отшутился Мещеряк.
— А что за молодец у тебя на двух саблях сражался?
— Это который? — Мещеряк указал на прислонившегося к стене молодого казака. — Этот, что ли? Так то Черкас Александров. Недавно он у нас. Из-под Киева что ли пришел. Сам не знаю, где он так драться выучился.
— Присмотри в другой раз за ним, горяч больно. Подставит башку по недогляду и пропадет ни за что.
Вогульцы больше не полезли ни в этот, ни в следующий день. Прислали лишь двух своих сотников, чтоб им разрешили забрать убитых. Предлагали обменять пленников, которых казаки захватили около двух десятков человек. Мертвых им отдали, а пленных оставили до прибытия воеводы. А тот появился лишь в конце недели поздним вечером.
КУРКЫНЫЧ[6]
Царевич Алей не пожелал идти вместе с сотнями Бек-Белея.
— Зачем мы будем мешать друг другу и ссориться из-за добычи? — объяснял он вогульскому князю. — Пусть твои нукеры первыми пройдут по землям русских…
— То не русские земли. Там прежде жили мои предки, — заметил Бек-Белей, хорошо понимая, куда клонит сибирский царевич.
— Какая разница, кто там жил раньше. Главное, что теперь они заняты русскими, и мы должны выкурить их оттуда, как лисицу выкуривают удушливым дымом из норы.
— Тут я согласен. Но будет лучше, если мы враз с твоими сотнями нападем на русские городки и покончим с ними. А так они могут помогать друг другу. У меня не хватит сил напасть на все крепости одновременно. Поэтому я и думаю…
— Сейчас не время думать, а время воевать. Думать будем после победы, — назидательно отчитывал князя царевич Алей, в голосе которого явственно слышались нотки превосходства, и слова он повторял, слышанные им когда-то от старых воинов.
Бек-Белей понял, что спорить и уговаривать царевича бесполезно, и, не простившись, уехал. Знал, что в случае неудачи Алей свалит все на него, обвинит в трусости. "Весь в отца, — со злостью думал он, — такой же гордец и выскочка. И хитер, хитер… Но меня-то ему не обхитрить. Без меня они заплутают на первом же перевале, упрутся в реку, а перейти не смогут. Ладно, поглядим, что дальше будет."
Алей не хотел объединяться с Бек-Белеем не только потому, что придется делить пополам и победы, и неудачи, но главным образом из-за сложностей по управлению общим войском, когда каждый будет тянуть одеяло на себя. Предыдущие походы показали, насколько важно единоначалие. Да и отец намекнул ему, что, соединившись с вогульцами, он рискует утерять послушание собственных сотен. И потому будет лучше, если Бек-Белей проверит крепость русской обороны, попробует взять хоть несколько городков, а в случае удачи, на что, впрочем, сам Алей слабо надеялся, он сможет пройти на Чердынь, на Соль-Вычегодскую, как их называли купцы, побывавшие там. Тогда и добыча будет не в пример той, что можно взять в строгановских землях. Будут довольны и воины, и в Кашлыке его встретят как истинного победителя.
Алей, дойдя со своими сотнями до старого городища Чимги-Тура, призвал юзбашу Ниязбая и велел ему найти живущих по Type охотников, кто бы смог провести их к реке Чусовой. Юзбаша отсутствовал два дня, а нукеры тем временем получили передышку перед долгим и трудным переходом. Наконец, Ниязбай вернулся и привел с собой двух стариков, которые, по их словам, жили в этих местах уже много лет.
— Знаете ли вы короткую дорогу на реку Чусовую? — спросил он их.
— Как не знать… Ходили раньше к русским менять звериные шкуры на железные ножи, топоры, материю для баб своих.
— А теперь, что? Не ходите?
— Стары стали, от того и не ходим.
— И на коне проехать можно?
— Отчего же нельзя… Где пеший пройдет, там и конный проедет. Болот там нет, коней не потопите.
Сговорились, что старики за два железных топора выведут их на Чусовую, и ранним утром Алей велел поднимать сотни и двигаться вверх по течению Туры.
Почти десять дней занял у них переход, прежде чем они вышли к первому русскому городку. Алей отпустил стариков, расплатившись с ними как уговорились, и выслал вперед два десятка нукеров, чтоб узнали, как охраняется городок и побывали или нет здесь воины князя Бек-Белея. Вернувшиеся вскоре разведчики доложили, что на вышках кругом стоят дозорные с пищалями, через узкие бойницы выглядывают жерла пушек, а судя по обгоревшим столбам и стенам, вогульцы побывали здесь совсем недавно. Об этом же говорили и свежие могильные курганы, на которые они случайно наткнулись.
— Что станем делать? — спросил царевич Ниязбая. — Сможем взять русскую крепость?
— Наши нукеры хороши в чистом поле в конном строю, а крепости брать они не обучены. Если выманить русских из крепости, то можно потом ворваться вовнутрь.
— Не возвращаться же нам обратно с пустыми руками…
— Лучше с целыми руками вернуться, чем без них, а того хуже без головы. Патша улы не имел пока дела с русскими, а я их неплохо знаю. Мало того, что у них половина воинов имеет ружья с огненным боем, от которого наши кони шарахаются, но они и на саблях рубятся неплохо.
— Хорошо, только не запугивай меня страшными сказками о непобедимых русских. Их не один раз били нукеры Девлет-Гирея и даже черемисы. Казанский хан не так давно прислал отцу грамоту, в которой описывал их полный разгром от польского короля Батур-хана. Лучше давай думать, как их выманить из крепости.
— Я вижу один выход: напасть малыми силами, а потом отступить. Тогда они наверняка кинутся в погоню — и тут мы их встретим…
— Давай так и поступим, — в раздумье проговорил царевич, но по всему было видно, что план сотника ему не очень нравится.
Первая сотня нукеров, под началом Карим-бека, начала осторожно подкрадываться к стенам русской крепости, держа наготове луки. На опушке леса укрылись остальные воины Алея, наблюдая за ними. Подобравшись незамеченными к сторожевым вышкам на полет стрелы, нукеры по сигналу Карим-бека натянули луки и выпустили стрелы, целясь в стоявших на посту охранников. Двое были убиты сразу. Стрелки попали им в горло. Зато другие дозорные, лишь раненые, ударили в набат и стрельнули наугад по лесным зарослям из пищалей. На что нукеры Карим-бека ответили тучей стрел.
— Вперед! На стены! — крикнул Карим-бекгя, выхватив саблю, побежал первым к городку.
Шестеро кряжистых воинов заранее выбрали здоровенное сосновое бревно и, подхватив его, устремились к воротам. Нукеры первой сотни, добежав до стен, кидали вверх волосяные арканы, цепляли их за выступы бревен и лезли наверх.
"Быстрее, быстрее, — подбадривал их мысленно царевич Алей, наблюдая за разгоравшимся боем из-за дерева, — еще немного — и мы поможем вам!"
Вооруженные бревном воины несколько раз с разбега ударили в ворота, но они даже не дрогнули, сработанные из толстенных плах, способных выдержать и больший напор. Зато на башни взобрались привлеченные набатом стрелки с пищалями и начали выстреливать оттуда карабкающихся на стены нукеров первой сотни. Из нижней бойницы рыкнула внушительно пушечка и ядром сбила трех человек.
Русские, казалось, были готовы к нападению, потому что почти мгновенно стены ощетинились шлемами защитников, замелькали топоры и сабли, обрубались веревки, короткие копья разили взобравшихся наверх нукеров.
Неожиданно распахнулись ворота городка и через них выскочили одетые в кольчуги воины с кривыми саблями в руках. Они кинулись на растерявшихся нукеров Карим-бека и начали теснить их к лесу.
— Все! Теперь они наши, — потер руки царевич Алей и подал знак Ниязбаю, чтоб пускал всех воинов.
Лес наполнился многоголосым криком и к городку устремились все сидевшие в засаде нукеры, пришедшие с Алеем из Кашлыка. Они смяли передние ряды защитников крепости и кинулись к открытым воротам, потрясая саблями в предвкушении скорой победы. Но прямо за воротами они увидели направленные на них жерла пушек и пушкарей, державших в руках раскаленные докрасна железные прутки. Позади стояли стрельцы с установленными на подпорках пищалями. Прозвучали оглушительные выстрелы, прошившие насквозь толпу нападающих, все окуталось клубами дыма. Бегущие сзади нукеры запинались за убитых и катающихся по земле в предсмертных судорогах раненых. А выстрелы следовали один за другим, редели ряды воинов царевича Алея. Никто уже не думал, как ворваться в крепость. Все в панике повернули к лесу и мчались туда, низко пригнувшись, боясь обернуться назад. Алей, наблюдавший за бегством своих нукеров из-за деревьев, в ярости грыз молодыми острыми зубами рукоять нагайки. Не разбирая дороги, уцелевшие нукеры пронеслись мимо него и начали понемногу приходить в себя, лишь добежав до крутого уступа реки, где был разбит лагерь.
— Пойдем отсюда, патша улы, — мягко проговорил Ниязбай, беря Алея за локоть.
— Оставь меня! — выкрикнул он и хлестнул юзбашу наискось по широкому лицу, пнул ногой в бок, продолжая кричать: — Это ты во всем виноват! Ты! Ты погубил столько моих людей! Я прикажу тебя повесить прямо здесь!
— Я готов подчиниться всему, что повелит сделать патша улы. Но поход еще не закончен. Я могу пригодиться. Мы получили хороший урок и надо придумать что-то другое.
— Трус! Ты попросту заговариваешь мне зубы, чтоб оттянуть время. Надо было дождаться, когда они все выйдут из крепости, а не посылать всех нукеров под пушки!
— Царевич сам приказал идти в бой.
— А ты, ты почему не пошел вместе со всеми?!
— Я охранял моего царевича. Ведь кто-то должен был быть рядом…
Алей обмяк и было видно, что он крепится из последних сил, чтоб не разрыдаться от собственного бессилия. Ниязбай осторожно обнял его за плечи и повел подальше в глубь леса, чтоб никто не увидел царевича, проливающего слезы. Тот шел, запинаясь за корневища деревьев, низко опустив голову и горько всхлипывая. Наконец, они остановились у поваленного бурей огромного кедра, и Алей тихо спросил:
— Почему у нас нет таких пушек? Я слышал, будто бы Карача-бек привозил из Казани оружейного мастера, но он то ли сбежал, то ли умер. Однако, многие нукеры Карачи-бека имели ружья. Почему у нас нет их сейчас?
— Кто его знает, но я сам слышал, как хан Кучум, твой отец, смеялся над ружьями…
— Почему он смеялся?
— Они слишком тяжелы, их долго заряжать, да и к тому же кони путаются, если стрелять из них.
— А русские кони? Они не пугаются?
— Про русских коней мне ничего не известно. Но они больше стреляют из ружей и пушек при обороне городков и крепостей. К тому же надо иметь большой запас пороха, пуль, ядер… Представь, какой обоз пришлось бы снаряжать, чтоб притащить сюда все это.
— Зато не погибло бы столько моих нукеров. Ядрами можно было бы пробить ворота и ворваться внутрь. А то мы колотимся бревном, а они по нам из пушек… — Алея начало трясти как в ознобе.
— Что прикажет, патша улы? Пойдем дальше или повторим нападение?
Но Алей так глянул на него, что Ниязбай вздрогнул и больше не задал ни одного вопроса. Ночью они подобрали мертвых, оставленных под стенами городка, захоронили их на берегу, прочли молитвы, а потом сотни двинулись дальше неприметными тропами, чтоб выискать менее защищенные городки или небольшие деревеньки.
* * *
Семен Аникитич Строганов находился на заимке, где они вместе с Федором продолжали налаживать пушечное литье, когда прискакал дворовый человек, сообщивший о повторном нападении на Керчедан воинов-сибирцев.
— На вогуличей они никак не похожи, — сбиваясь, рассказывал тот, взмахивая от волнения руками, — одеты иначе и оружие другое…
— Выходит, наш друг, Кучум-хан, или сам пожаловал, или своих башлыков прислал. Не зря слухи шли, ох, не зря.
— Как хоть они на вас, господин мой, не наткнулись. А то бы схватили и в полон уволокли, — продолжал сокрушаться дворовый. — Скачу к вам сюда, а у самого сердце так и заходится… Не дай Бог, вас и в живых вовсе нет.
— Не хорони раньше времени, успеем помереть, — Семен Аникитич посерьезнел и, оглаживая ствол недавно отлитой пушки, задумчиво спросил. — Выходит, дальше они подались… Куда же теперь пойдут?
— Не иначе как на Чердынь. Казаки хотели погнаться за ними, да осадчий воевода, ваш человек, удержал их, не велел оставлять крепость.
— И правильно сделал. Вот что, Федор, надо сниматься тебе отсюда, в крепость ехать, пока татары да вогульцы вокруг шастают.
— Так ведь хотели еще пару пушек отлить.
— Ладно, одну, может, и успеем. Только сделай-ка надпись на ней…
— Какую сделать? Что у Строгановых отлита?
— Это само собой, а спереди припиши: "Ермаку, атаману казачьему, подарок".
— Сделаю, — легко согласился Федор и скрылся в литейной избе.
— А ты, — обратился Семен Аникитич к поджидавшему его гонцу, — проберись к племянникам моим: Максиму и Никите. Скажи, что дядя велел собраться у него в городке. Да поторопи, чтоб завтра и были.
— Страшно одному-то, — вздохнул тот, но мешкать не стал и отправился выполнять поручение хозяина.
Сам же Семен, вернувшись в городок, первым делом разыскал Ермака и пригласил к себе в дом для долгого разговора.
— Как, атаман, думаешь — сунутся еще раз басурманы на городок наш?
Тот огладил правой рукой окладистую бороду, чуть кашлянул и неторопливо ответил.
— Не о том ты, видать, Семен Аникитич спросить хотел. Вижу, о чем думаешь, только сказать не решаешься.
— Это о чем же? — брови Строганова удивленно поползли вверх.
— А думаешь ты, как бы сделать, чтоб больше не совались они к тебе в земли, не зорили работных людей, в полон не уводили, посады не жгли, в дружбе с тобой жили.
— Эк, хватил! Когда же басурманы с людьми православными в дружбе жили? Где такое видано?
— Слыхал я, что прадед твой тоже не сразу христианином стал. Так?
— Так-то так, да когда это было. Поди, больше сотни годков набежало с тех самых пор.
— То не важно Важно, что можно и соседей твоих в православную веру привесть, научить в церкву ходить.
— Чего-то не пойму я тебя, атаман Ты в батюшки что ль напрашиваешься? Тогда не ко мне вопрос. В монастырь иди, успокой там душу. Мы с тобой говорим, как отучить людишек на городки русские нападать, как проучить их, чтоб не совались лет сто.
— Ну, коль этих побьем, то следом другие заявятся. Испокон веку так было. Тех повоюем, а там следующих жди-поджидай.
— Никак перебрал ты вчера, Ермак Тимофеевич, а сегодня башка худо варит. Я те про Фому, а ты мне про Ерему в который раз, — в сердцах хлопнул ладонью по столу Строганов.
— Нет, то ты, Семен Аникитич, меня понять не можешь. Я ведь о чем говорю, послушай. Ежели осы лесные повадятся в кладовку летать, мед таскать, то сколь их не отгоняй, дымокур не ставь, а они все одно вокруг виться будут, момент выбирать, чтоб мед тот уворовать.
— Унеси мед в другое место, чтоб не нашли, и все дела, — засмеялся Строганов.
— Точно. А твои вотчины в карман не спрячешь, под Москву не перевезешь…
— Не спрячешь, не спрячешь. Тут самому не знаешь, куда от сибирцев спрятаться, чтоб в лихой час не прихватили.
— А пасечники как делают? А? Идут вслед за осами и гнездо их находят. Накрывают его шкурой овчинной и в воду. Все. Нет гнезда — и ос не увидишь.
— Вон ты о чем, — уважительно глянул на него Семен Аникитич, — думаешь, как бы гнездо басурманское разорить, чтоб нам от них убытки не нести. Так кто туда сунется? Тут войско надо тысяч в несколько.
— Хватит на них и тех, что со мной пришли. Казакам скоро надоест за стенами сидеть, не тот у них норов. Станут или обратно на Дон проситься, или куда в иное место. А у Кучума, хана сибирского, воинов сейчас не больно и много…
— Откуда знаешь?
— Пленник ихний сам сказал. Мол, с царевичем Алеем, старшим сыном ханским, почти все нукеры и ушли. Никого в Кашлыке и не осталось.
— Точно?
— Ежели пленник не врет, то точно.
— А как наврал? Тогда как? Вдруг Алей этот обратно повернет?
— Подождем. Он еще даст о себе знать. Тогда и решать станем. Ты мне, Семен Аникитич, главное скажи: ружейный припас, муку, солонину дашь нам с собой в поход?
Тут только до Строганова дошло, куда подвел разговор казачий атаман, и он весь сжался, представив, как те выгребают все его запасы из амбаров, оставляя пустыми сусеки, обрекая его людей на голодную зиму.
— Нет, атаман, так не пойдет. Мы-то с чем останемся? Тут заранее припасать все надо год, а то и поболе. Да и как городки без охраны оставите? А коль басурманы снова сунутся? Где вас искать?
— Смотри сам, Семен Аникитич, — Ермак встал и, тяжело ступая по скрипящим под ним половицам, направился к двери, — я свое слово сказал. А потом может и поздно оказаться. Как это говорят? Дорого яичко ко Христову дню. Прощай, пока…
В сенях Ермак столкнулся со стремительно перескакивающим через несколько ступенек Максимом Строгановым, пробежавшим мимо него в дом.
— От чердынского воеводы гонец прибыл, — закричал он с порога, даже не поздоровавшись с дядькой, — татары на город напали. Помощи воевода просит. Прознал откуда-то про казаков, что на службу к нам пришли. Велит их прислать.
— Садись, передохни, — указал на лавку Семен Аникитич, — дождемся Никиту, что он скажет.
— Не приедет он. Гонца ко мне прислал, мол, дел много. Его татары стороной обошли. Да и казаков он к себе не заказывал. Так что нам с тобой, дядя Семен, вдвоем решать надобно.
— Видел, атаман казачий от меня только что вышел?
— Ну, в сенцах столкнулись с ним.
— Знаешь, чего он предложил, до чего додумался?
— Откуда мне знать?
— Хочет промышлять самого Кучума в его землях.
— Правильно говорит. Давно пора, — живо откликнулся Максим. — Я бы и раздумывать не стал, а снарядил их. А ты что? Не хочешь?
— Эх, молодость, молодость. Правильно отец твой говорил, что хватим мы лиха с казаками этими. Куда хотят, туда и воротят.
— А я так думаю. Пущай спытают судьбу свою. Кучума не повоюют, то хоть с нашей шеи спрыгнут. Не жалко и снарядить их.
— Может, ты и прав, Максим, — глянул задумчиво в окно Семен Аникитич.
ПОЗНАНИЕ УТРАТЫ
Государь московский Иван Васильевич все более ощущал усталость и раздражение на всех близких к нему людей. Враги и завистники жили рядом, дышали одним воздухом, пили и ели с ним за одним столом, чем несказанно отравляли ему жизнь. Скольких он казнил, заточил монастыри, отправил гибнуть на войну… И все бесполезно, все напрасно. На их место приходили не лучшие, а худшие, кто не мог понять даже сотой доли замысленного им.
Мелкие, блудливые людишки, думающие лишь о прокормлении собственном, сиюминутной выгоде, гордецы, кичливые соглядаи и доносчики! Почему он должен жить среди них, мнящих себя то героями, то святыми, возвышающими свой ничтожный голос на него, царя, помазанника Божия! Слуги господина, лизоблюды объедков с его стола, готовые проглотить царскую блевотину, лишь бы удостоиться милостивого взгляда. И на них он тратит свое время, жизнь, отпущенные Господом дни, которых осталось так мало?! Прав был Христос, укрывшийся от людей в пустыне. Как только он поспешил обратно к ним, то был тут же предан и убит. Так они поступили с Сыном Божьим. И Божий помазанник для них не указ. Они не могут простить ему унижений и обид, про которые он сам забыл давно и простил их серость, тупость, свинство.
Лишь английская королева Елизавета, женщина великой мудрости и чистоты духовной, могла бы понять его лова, поступки. И он столько лет верил и ждал ее согласия соединиться небесными и земными узами, слиться в единое целое, противостоять окружающему их варварскому миру.
Но и она обманула, не пожелав разделить бремя власти и ответственности за новый, никем не виданный доселе союз. И ее женский умишко не смог принять величайшего замысла, а тем более не хватило решимости к выполнению задуманного.
Господь ей судья… А он как-нибудь доживет свой век и исполнит возложенное на него свыше и передаст державу старшему сыну, который не сумеет не только продолжить отцовские дела, но и не удержит полученное. Смирился он и с этим, не утратив, впрочем, надежду, что Господь не даст погибнуть святой Руси, впитавшей и вобравшей в себя главные заповеди христианской веры, и Москва, ставшая Третьим Римом, благословенна и нерушима, сколь бы не пророчили враги погибель ее.
Открылось ему в долгих ночных бдениях и молитвах, что не будет согласия у трона, когда отойдет он в мир иной, и многие, ох, многие попытаются удержаться на только с виду устойчивом царском горнем месте, чтоб вскоре потерять не только сам трон, но и жизнь вместе с ним.
Нет, не случайно собрал он на свадьбе своей с Марией Нагой младшего сына Федора, бывшего посаженым отцом, а дружкой к себе взял князя Василия Ивановича Шуйского. А со стороны невесты был боярин Борис Федорович Годунов. Поняли ли они сию шутку его? Догадались ли о том намеке, данном им? Вряд ли… Ибо лишь посвященному человеку дано знать тайное. А кто из них способен предвидеть будущее? Да они и завтрашнего дня увидеть не способны. И если слепые кутята вскоре прозревают, то люди, считающие себя зрячими, всю жизнь проводят во тьме душевной, не видя света небесного, поскольку не дано им видеть предначертанного свыше по скудости души и веры. И так живут они, думая, будто и другие столь же слепы и бесчувственны. Но и он не желает собственными руками разлеплять очи их, закрытые струпьями безверия. Нет у него ни времени, ни сил для подобных пустяков.
Иван Васильевич на осень опять уехал в любимую Александрову слободу, куда взял обоих сыновей с женами и молодую свою жену, которая пока манила его свежестью тела, незамутненностью искрящихся восторгом очей, очаровывала и разжигала страсть. Нужно было наедине обдумать военные дела, которые с каждым днем все тревожили его, а польский круль Стефан Баторий становился все более дерзок и нагл. Его войска стояли од Псковом, в то время как шведы брали русские крепости на морском побережье. Не хотелось и думать, что двадцать лет немыслимых трат и нечеловеческого напряжения могли пойти прахом из-за тщедушного польского королька, чей род шел чуть ли не от крестьян.
И здесь, в Александровой слободе, Иван Васильевич не переставал раздражаться от никчемности людишек, суетившихся в дворцовых сенях и переходах. Утром он приказал выпороть двух сенных девок, что вдруг сдуру засмеялись у него за спиной. Пусть найдут другое место для веселья, а не в царских палатах разевают рты и скалят зубы. За стенкой стонала жена старшего сына Елена Шереметьева. Она была на сносях, носила первого в своей жизни ребенка и непрерывно плакала по ночам, боясь умереть при родах. Иван же вместо того, как подобает мужу, прикрикнуть на нее, лез с утешениями, загонял нянек, требуя отвары и примочки. Бабье дело — рожать и мучаться. Так зачем же они мучают не только мужей, но и всех вокруг?
Иван Васильевич уже в который раз пожалел, что взял с собой Ивана вместе с женой. Могла бы и в Москве родить, вот там бы и выла, подальше от царских ушей. Он толкнул дверь в горницу и вошел, брезгливо морщась, глянул на лежавшую на пуховой перине, развалившись и раскинув ноги, Елену, даже не повернувшую головы к нему.
— Чего стонешь, дура? — спросил он громко и хлопнул дверью, пытаясь привлечь внимание снохи, но та лишь глянула на него и опять, отвернувшись, застонала. — Тебя спрашивают? Долго стонать будешь? — Иван Васильевич даже пристукнул посохом.
— Ой, государь, боюсь, ой, боюсь, — отвечала Елена, не думая вставать перед ним.
— Бабы, случается, каждый год рожают и ничего. Не орут, как ты, цельный день, не тревожат добрых людей.
— Тяжко, государь, тяжко мне. Болит все, неможется… — всхлипнула Елена, верно, желая вызвать его сочувствие.
— Эка невидаль! Болит! Господь страдал и нам завещал. Пойди лучше в садик, посиди… Слышь, кому говорю?
— Не хочу в садик. Там еще хуже делается. Здесь буду лежать.
— Ванька-то где?
— Пошел куда-то… Не сказал…
— А ты чего разлеглась? Или не видишь, кто стоит перед тобой? — Иван Васильевич искал и не находил, на ком сорвать собственную злость и раздражение. Вид снохи с торчащим вверх животом, не одетой должным образом, а тем более не желающей встать перед ним, вызывал все большую ярость и гнев.
— Ой, ой, — заохала Елена и повернулась на бок. — Не могу встать. Тяжко мне.
— Девка бесстыжая! — взорвался Иван Васильевич. — Встать не желаешь, одета в исподнее. Совсем перестали царя бояться, — и легонько ткнул ее концом посоха в выпяченный живот.
— Ай, ай, ай, — завизжала Елена. — Зачем? Не надо!
— Ты еще перечить мне?! Девка! В монастырь пойдешь! Запорю! — и, плохо, понимая, что он делает, Иван Васильевич огрел сноху посохом по спине, метнул в нее кубок с каким-то питьем, затопал ногами.
Дверь приоткрылась, просунулась чья-то голова и тут ясе скрылась, хлопнули сенные двери и послышалось громыхание кованых сапог. В горницу вбежал царевич Иван, неся в руках глиняный горшочек. Он метнулся к жене, встал на колени и прикрыл собой, потом повернул голову к отцу и с ненавистью выкрикнул:
— Или не видишь, что на сносях она? Зачем обижаешь?
— Тьфу на вас всех! Ни от кого почтения не вижу. Дармоеды! Навязались на мою несчастную голову. Кормлю вас, одеваю, от врагов берегу, а хоть бы один руку поцеловал, поклонился за заботу мою. Верно, и не дождусь никогда. Все, все смерти моей желаете! Пропадите вы… — и, не договорив, Иван Васильевич круто повернулся и выскочил из горницы, оставив сына с громко рыдающей женой.
Ночью он услышал со стороны их покоев крики, беготню дворни, причитания каких-то баб, девок. Проснувшись, он знал, что долго не заснет, и затеплил от лампадки свечу, набросил на плечи шубу и сел в кресло. Уже начало светать, и Иван Васильевич находился в полудреме, сосредоточенно обдумывая ответное послание к Стефану Баторию, в котором хотел побольнее уколоть польского круля, высмеять его, когда без стука открылась дверь и вошел старший сын. Он был слегка пьян, а то и просто хотел казаться пьяным. Блуждающими глазами он уставился на отца и дико захохотал, указывая на него пальцем.
— Изверг! Кровосос! Душегуб! Мало тебе крови? Мало людей загубил? Решил невинного младенца моего убить, неродившегося…
— Чего плетешь?! Кого я загубил еще?
— Дитятку мою, кровиночку малую. Убил! Убил!
— Замолчи! Не желаю слушать даже…
— Скинула женка моя дите мертвое, — не хотел успокаиваться Иван, — а еще бы чуть — и родила. Знал я, точно знал, не дашь ты мне спокойно жить. Двух моих жен в монастырь упрятал, а эту избил до полусмерти, едва живой осталась.
— Вот и скажи спасибо, что жива. В другой раз будет так с государем разговаривать, без почтения, точно прибью.
— Это ты государь?! — Иван Иванович вновь уставил на отца палец и презрительно открыл рот, выкатив красный язык. — Государи с неприятелем на поле бранном бьются, а не прячутся, не бегают зайцами длинноногими от них. Какой ты царь и отец народу своему, когда сам тут сидишь при охране, а народ русский кровь за тебя проливает. Смеются над тобой не только государи иные, но и народ потешается: "Какой царь-батюшка у нас прыткий! И не догнать, не сыскать. Как с бабами драться, монахов резать — он первый, а с ворогом сразиться — кишка тонка". Сам слышал, как люди кричат на площади…
— Цыц, нечестивец! — Иван Васильевич вскочил с кресла, шуба упала на пол у ног, а посох угрожающе взмыл в поднятой руке. — С кем говоришь, щенок?! Да я тебя… — задохнулся он в крике.
— Чего? Боишься ударить? Только с бабами да монахами и можешь показать силу свою. Все. Отошла твоя…
— Иван Иванович не договорил, потому что царь кинулся на него, норовя огреть тяжелым посохом поперек спины, но запнулся за упавшую шубу и, падая, ткнул жезлом сына в голову.
Упали оба. Царевич не ожидал удара, думая, что отец лишь пугает его, но в глазах неожиданно полыхнуло яркое пламя, ноги подломились и он опустился на колени, уставя голову в пол. Иван Васильевич, запутавшись в тяжелой шубе, полетел на него, но тут же вскочил, продолжая наносить удары куда попало, считая, что сын испугался, притворяется, не хочет подняться, встретиться глазами с отцом. Царевич же тихо постанывал, лишь прикрывая голову руками.
— Что? Думал, не осмелюсь проучить тебя? — охаживал Иван Васильевич строптивого сына. — Знай теперь, как перечить отцу родному. Я тебе не только отец, но и царь, господин твой, — приговаривал он после каждого удара.
Дверь распахнулась и в царские покои ворвался Борис Годунов, полуодетый, без шапки, с горящими глазами. Он кинулся к царю, попытался вырвать посох. Но не тут-то было. У Ивана Васильевича еще достало сил не даться. Он, отскочив в угол, перехватил посох двумя руками и, словно дубиной, два раза подряд перекрестил Годунова по плечам и голове. Тот отскочил в сторону и, заслонясь руками от ударов, крикнул:
— Остановись, государь! Ведь то сын твой! И до смертоубийства недолго… Пожалей его, бей меня, недостойного…
— Ишь, заступник нашелся! Не лезь не в свое дело! Кого хочу, того и колочу. А ты сам напросился, получай, — и царь метко хватил боярина по боку, отчего тот присел, зашатался.
— Бей, бей, государь, — приговаривал он морщась. — Я пес твой и заслуживаю каждый день быть битым…
— Давно бы так, — запыхавшись, Иван Васильевич опустился в кресло, тяжело дыша, и посмотрел на ходившие ходуном руки. — Подними того лежебоку. Скажи, чтоб убирался к себе. Не трону более.
Годунов подошел к царевичу, наклонился над ним, потянул за рукав. Но тот даже не отозвался, продолжая лежать, и лишь рука чуть дернулась и упала вниз.
— Царевич, — позвал тихонько Годунов, — слышишь ли меня? — Молчание. Тогда Борис Федорович встал на колени и приложил ухо к груди лежавшего. — Вроде, дышит…
— Чего ему сделается. Притворяется, — беспечно отозвался Иван Васильевич, но голос его дрогнул и он весь подался вперед. — А ну, брызни водицей на него, очухается мигом.
Годунов из ковша полил Ивану Ивановичу на голову, но тот даже не шевельнулся. И тут Иван Васильевич разглядел тонкую струйку крови, сочившуюся по щеке сына.
— Кровь? — спросил он растерянно. — Откуда?
— Откуда ей быть, как не из него, — вздохнул Годунов. — Пойду лекаря кликну.
В царские покои никто не смел войти, хотя по едва различимому шепотку легко было догадаться, что за дверью собрался народ и ждет, когда все закончится. Дворовые люди любили Ивана Ивановича за веселый нрав, молодость, и у него среди них были свои любимцы, преданные душой и телом. Иван Васильевич знал об этом и часто менял прислугу, но и среди вновь набранных вскоре объявлялись сторонники царевича, что постоянно раздражало мнительного царя.
Иван Васильевич поднялся с кресла и осторожно приблизился к лежавшему неподвижно сыну, склонился, прислушался к его дыханию. Оно было прерывистое, со всхлипами где-то в груди, а кровь тонкой струйкой продолжала сочиться по лицу. Иван Васильевич пальцем размазал ее, провел по бороде сына, по волосам и ощутил неглубокую ранку у виска. Видимо, оттуда и сочилась кровь.
— Сынок, прости меня… Не хотел я… — всхлипнул он негромко и поцеловал его в закрытые глаза, ожидая, что тот как в детстве, когда они играли в жмурки, откроет глаза, улыбнется, обхватит отца за шею и скажет: "Поймал я тебя! Никуда не денешься! Поймал!" От подобных воспоминаний Иван Васильевич неожиданно для себя заплакал, но, устыдясь слез при виде вошедших Годунова, лекаря и сына Федора, ушел в дальний угол и стал истово креститься, прося у Господа прощения за свой невольный грех, умоляя излечить сына.
— Прости, Господи, прости неразумного раба твоего за содеянное. Ослепил меня враг рода человеческого и не помню, как все вышло…
— Его надо положить в постель и приложить лед к голове, — проговорил осмотревший царевича лекарь.
— Кладите здесь, — приказал царь, — кликните, чтоб лед скорее принесли. Что с ним?
— Трудно сказать, — покачал головой немец, который служил при дворе совсем недавно и в отличие от казненного Бомелиуса не обвыкся пока, был осторожен в высказываниях. — Может быть, все обойдется, а может и… и дурно кончиться. — Он боялся поднять глаза на царя.
— И не произноси этих слов. Не думай даже! — Иван Васильевич притопнул ногой. — Коль с ним, не приведи Господь, что случится, то тебя, немецкую собаку, велю живым в землю зарыть. Понял?
— Я, я… — перешел на родной язык перепуганный лекарь. — Зер гут ферштейн.
Царевича положили на царскую постель и принесли завернутый в белую тряпицу кусок льда, поместили ему на лоб. Младший Федор со смиренным выражением на лице подошел к брату, приподнял его безвольно опущенную руку, погладил.
— Что ж ты, Иванушка, занедужил? Всегда такой здоровенький был, не то что я, хворый и немощный, и вдруг… Почему он упал? Плохо стало? — обратился он робко к отцу.
— Хоть ты оставь меня в покое, — отмахнулся Иван Васильевич. — Ступай к себе. И без тебя управимся.
— Как же… Всюду меня гонят, никому я не нужен. С родным братом побыть не дают. Кровь, — указал он на вновь появившуюся алую струйку. Отчего кровь? — выкрикнул уже громко. — Как он поранился? Кто мне скажет, почему у брата моего кровь на лице? Кто?!
— Уведи его отсюда, — шепнул Иван Васильевич Годунову.
— Пошли, царевич, а то только мешать станем больному. Ничем мы тут не поможем. Идем, — и, обхватив того за пояс, повел к двери.
— Всегда так, — горестно произнес он. — Не нужен … Все без меня, да без меня. А вдруг он умрет? — ухватился царевич за косяк и уперся, не давая увести себя. — Тогда как? Кто государством править будет? А коль батюшка стар станет и не сможет? Меня не зовите. Я не стану… — последние слова он выкрикнул уже за дверью, через силу выведенный Годуновым.
В царские покои прошмыгнул бочком Богдан Бельский и, озираясь, подал знак царю:
— Там жена Иванова сюда зайти хочет. На ногах едва стоит, но приковыляла, — как бы оправдываясь, доложил он.
— Не пускать? Глаза бы мои ее не видели. Из-за нее все и случилось.
— Слушаюсь, государь, — и Бельский бесшумно выскользнул за дверь.
Четыре дня лежал без памяти Иван Иванович и не помогал ни лед, ни отвары, которые с ложечки вливал ему в рот немец. Перестала сочиться кровь, но левая часть лица вздулась, посинела, набрякла. Иван Васильевич почти не спал, не отходил от сына. Монахи, сменяя один другого, непрерывно читали под образами молитвы, бросая испуганные взгляды на царя. Лекарь, находившийся в той же комнате, на пятый день попросился выйти и исчез. Но Иван Васильевич и не заметил его отсутствия, поскольку сын вдруг открыл глаза и попросил пить.
— На, Ванюшка, попей, — трясущимися руками Иван Васильевич поднес отвар. — Может, поешь чего?
— Елену… — посиневшими губами прошептал тот.
— Не надо ее сейчас, ни к чему. Вот поправишься, тогда…
— Прощай, отец, — собрав силы, выдохнул царевич, и глаза вновь закрылись, по телу пробежала едва заметная судорога.
— Иван! Ванечка! — бросился на грудь сыну Иван Васильевич, продолжая что-то кричать, биться головой о стену, рвать на себе волосы, пока вбежавшие на крик Годунов и Бельский не оттащили его и долго удерживали бьющегося в припадке царя.
Комнаты наполнились людьми. Пришли монахи, слуги, непрерывно льющий слезы по умершему брату Федор с женой. Не было лишь Елены, которую все это время держали взаперти, и никто не решался ей сообщить о смерти мужа, опасаясь за ее жизнь.
Иван Васильевич к ночи затих, сжался, как-то скукожился, у него не держалась нижняя челюсть и он постоянно икал, пил воду, мутными глазами смотрел вокруг и даже забыл про свой посох, который Годунов поспешил затолкать подальше в кладовую. Царь, словно глухонемой, ходил меж людьми, никого не узнавая, и лишь повторял: "Ваня… Ванюшка… Ванюша… Сыночек…"
Хоронить Ивана Ивановича повезли в Москву без гроба, положив на мягкую солому на простой телеге, по уже замерзшей дороге, а отец шел следом, придерживая руками его подрагивающие на выбоинах ноги.
ПОЗНАНИЕ СОГЛАСИЯ
После сражения к казакам попали в плен шесть человек из числа воинов царевича Алея. Их подобрали под стенами городка, где они лежали, мучаясь от ран, и ждали наступления ночи, чтобы уползти в лес, а может, надеялись, что свои не забудут о них и подберут. Когда же казаки с бранью и пинками поволокли их в крепость, то сибирцы лишь зло таращили на них глаза и глухо выли, предвидя долгий плен, а то и скорую расправу.
Всех шестерых стащили в подвал возле воеводской избы, где обычно и держали аманатов-заложников или беглых работников. Сейчас подвал был пуст: аманаты давно не попадались, а из русских мужиков бежать никто не рисковал, зная о снующих вокруг вогульцах и татарах.
Ермак, узнав о пленных, захватил с собой Гришку Ясыря и направился к ним, недовольно хмурясь, что возможно кто-то из соплеменников может оказаться перед ним. Но едва он осветил фонарем настороженные лица пленных, как сомнения его развеялись. То были степняки. И он облегченно вздохнул, поставил на землю принесенный фонарь со свечой, а сам уселся на деревянную колоду возле дверей. Григорий пристроился сзади и с интересом рассматривал находящихся перед ним сибирцев.
— Кто привел сюда сотни? — резко спросил Ермак и ткнул пальцем в сторону невысокого воина, прижимавшего руку к халату, из-под которого сочилась кровь.
— Царевич Алей, — едва слышно выдавил тот из себя — Сколько всего сотен пришло с ним? — на этот раз Ермак указал на широкоплечего, сидевшего на земле нукера с перевязанной головой.
— Не считал, — нехотя отозвался тот и глянул на Ермака презрительно, словно и не он вовсе находился в плену.
— Хорошо, не считал, — согласился атаман, — ты, верно, не помнишь и как твою родную мать зовут и откуда сам здесь появился. Скажи ты, — указал на совсем молодого паренька с перебинтованной грязной тряпкой ногой.
— Сотен пять будет, — писклявым голоском сообщил паренек.
— Пять, говоришь… Похоже на то. Как ты, Григорий, думаешь?
— Откуда мне знать, атаман. Они когда к стенам кинулись, то думал их не меньше двадцати сотен.
— Да у тебя, верно, в глазах от страха двоилось. Да? А их всего-то пять сотен. Слушай, — атаман сел на корточки перед молодым парнем, — а тебя как зовут?
— Селим.
— А отца как звали?
— Етим-бай. Он служит у важного человека, и если ты меня не отпустишь, то тот человек может рассердиться и наказать тебя, — по всему было видно, что мальчишка перетрусил, к тому же потерял много крови и держался из последних сил. Лишь присутствие других воинов мешало ему расплакаться.
— И как же зовут того человека? Скажи, не бойся. Если он действительно уважаемый человек, то вылечим тебя и отпустим домой к отцу.
— Правда? — глаза паренька загорелись, он чуть надул губы и с расстановкой произнес: — Того человека зовут Соуз-хан. Он очень, очень важный человек. Даже сам хан Кучум приезжает к нему в гости.
— Что ты сказал? Как, как его зовут?
— Соуз-хан. Он очень богатый человек.
— Да-а-а… Тут я с тобой согласен. Соуз-хан человек богатый и уважаемый. А что, он еще жив?
— Конечно, — удивился паренек и схватил атамана за руку, — значит, вы меня и вправду отпустите? Ведь я не соврал? Да?
— Всему свое время. Давай не будем спешить, — и Ермак мягко убрал его руку. — Скажи-ка еще вот что, Селим… Коль столько воинов ушло с царевичем Алеем, то кто же остался с ханом Кучумом?
— Его охрана, — отвечал он, не замечая подвоха.
— А большая ли у него охрана?
— Две, может, три сотни. Откуда мне знать. Но там есть еще другие воины в разных улусах, — спохватился он, поняв, что сказал слишком многое.
— Понятно, понятно, — Ермак поднялся, шагнул к фонарю. — А вы случайно не знаете, куда царевич Алей собирался вести сотни? Не на Чердынь, случаем? Или на Пермь?
— Вроде туда… Я так слышал… — отвечал все тот же простодушный Селим.
— Да замолчишь ты или нет? — бросил в его сторону широкоплечий нукер. — Сам не понимаешь, чего несешь. Они же из тебя выпытали все, что хотели. Дерьмо собачье! Придушу ночью!
— Эй, — шагнул к нему Ермак, — если с парнем что случится, то своими руками вытешу кол и посажу тебя на него жирной задницей. Ты понял?
— Пошли, атаман, — потянул его за рукав Григорий Ясырь, — ничего они с ним на сделают.
Когда они поднялись из подвала во двор, Ермак, щуря глаза на солнце, спросил задумчиво:
— Ты понял, сколько людей осталось у Кучума?
— Немного, — отозвался он. — И что с того?
— То-то и оно, что немного. Когда еще такой случай подвернется. А?
— Какой случай? — переспросил Ясырь.
— Чтоб хана Kучума в собственной постели тепленьким взять.
— Ну ты и хватил, атаман. Он вона где. Да туда ходу столько же, как на Дон будет. А то и поболе.
— Перетрухал? Видать, кишка тонка у тебя, Григорий, — отмахнулся атаман и широкими шагами направился со двора, оставив Ясыря в тяжком раздумье.
Уже возле ворот Ермак заметил широкую спину чуть сутулившегося мужика, стаскивающего с телеги какие-то мешки, кули. Он остановился и внимательно пригляделся к нему. Что-то неуловимо знакомое было в неторопливо занимающемся своим делом мужике. Ермак дождался, когда тот полуобернулся, и, увидев лицо, громко закричал:
— Федор! Живой?!
Федор удивленно повернулся и вгляделся в казака, бегущего к нему, широко раскинув руки, и тут же, счастливо улыбнувшись, шагнул навстречу:
— Василий! Ты как здесь?
— Как-как. Прыг-скок и здесь. Послужить захотел у господ Строгановых.
— Значит, с атаманом Ермаком пришел? С Дона?
— Угадал, с Дона к вам приплыли.
— Вовремя подоспели. Вишь, как басурманы навалились. Не нравится им, что селимся здесь, землю шевелим, руду плавим. Коль не ваши казаки, то худо бы нам пришлось.
— Да уж, несчастненькие нашлись. Вон вас тут сколько. И без нашего брата управились бы. Ладно, скажи лучше, отец как? Крестный мой.
— Схоронили отца, — опустил голову Федор. — Годков пять, как лежит на кладбище, неподалеку тут.
— Жаль… А я думал встретимся, посидим.
— Подожди малость. Управлюсь и сходим к нему на могилку. Разгрузить надо припасы, что с заимки давеча привезли.
К телеге подошли два крепких мужика и, скинув с воза рогожину, взялись снимать небольшую пушечку, лежавшую там. Ермак увидел надпись, сделанную на стволе, и прочел: "Атаману Ермаку…"
— Ишь ты! Кто это так постарался?
— Моя работа, — хмыкнул Федор.
— Тогда спасибо тебе.
— За что спасибо, — удивился Федор, помогая мужикам сгрузить пушечку на землю. — Пусть атаман ваш спасибо скажет. Для него господа Строгановы велели отлить.
— Так я и есть атаман.
— Ты… Атаман?
— А чего? Не похож, что ли?
— Да не знаю даже. Вот уж не думал, что для тебя стану пушку лить. Помнишь, как от пчел у нас на заимке бегал.
— Знал бы, что для меня пушка, так и лить, поди, не стал бы?
— Да почему? Наоборот. Приятно даже, — смутился Федор.
Они прошли плечо к плечу мимо караульного казака у ворот и углубились в небольшой березовый подлесок, по малоприметной тропинке прошли к обрыву. Отсюда открывался простор на лежавшую внизу неширокую горную речку, на поросшие лесом ближние холмы. Вокруг стояла необычайная тишина, и они, словно стесняясь нарушить ее, молча шли, думая каждый о своем. Показалась оградка кладбища.
— Ты смотри, что супостаты эти наделали! — вскрикнул вдруг Федор, указывая Ермаку на поломанные могильные кресты, валявшиеся меж одиноких могилок, и груды конского навоза на них. — Это они со зла, что городок не взяли.
— А если бы взяли? — Ермак наклонился и стал поднимать вывернутые из земли деревянные кресты, прислонять их к молодым березкам.
— Тогда бы мы сейчас вот так лежали.
— Вот именно. Чего на них обижаться. Отомстили как могли. Где могилка отца? Покажи хоть…
— Да вот она, — Федор снял шапку, перекрестился на крайний могильный холмик, зеленеющий лесной травой. — Прости, отец, что не досмотрел, не уберег. Царство тебе небесное…
— Вечная память… — Ермак тоже снял шапку, перекрестился.
— Делать нечего, надо мужиков звать, да в порядок все приводить. Пошли обратно.
— Пойдем. А мне надобно в другие городки съездить, узнать, как там у них.
— Ты атаман. Тебе надо доглядывать за всем, — согласился, тяжело вздыхая, Федор. — Слушай, я не спрошу все, а где Евдокия с матерью? Ту ведь Аленой звали? Так?
— Алена, Алена… Она к себе обратно в Устюг подалась, а Дуся… Дуся в монастырь ушла.
— Как в монастырь? Да что на нее нашло? Она тебя так ждала, а потом в Москву поехала искать. Нашла?
— Нашла, прожили с ней более года, — теперь уже тяжелый вздох вырвался из груди атамана, и он чуть поморщился, отгоняя от себя горестные воспоминания, о которых совсем было подзабыл в последнее время.
— Детей-то не было у вас? — допытывался все Федор.
— Нет. Не было. И слава Богу. А может, потому и ушла в монастырь, что дите родить не могла. Не пытай меня о ней. Сам мучаюсь, а это хуже всего, когда ничего сделать не можешь.
— Это точно… — и больше до самого городка они не проронили ни слова.
За воротами распрощались, разойдясь в разные стороны. Федор отправился искать мужиков, чтоб идти с ними подправлять кладбище, порушенное сибирцами, а Ермак оседлал своего худенького коня, прихватил пищаль, панцирь и, не сказав никому о своем отъезде, уже вскоре миновал ворота.
После допроса пленных он явственно увидел себя взбирающимся на ханский холм и осторожно пробирающимся к шатру, стоявшему на его вершине. Из шатра доносится храп, и он, достав саблю, рубит крепежный шест, и сплеча рубит, рубит трепещущие внутри тела, не видя даже их лиц, не давая им выбраться наружу. Видение было так сильно, что он долго не мог отогнать его, и лишь задев головой за низко нависшую над тропинкой ветку, обронив шапку, пришел, наконец, в себя.
Он твердо решил поговорить по душам с Иваном Кольцо, которому незримо подчинялась половина пришедших с ним казаков. В Иване была какая-то глубинная удаль и озорство, чем не обладал сам Ермак. Во всех поступках Ивана Кольцо сквозила решительность идти напролом, редкое упрямство и уверенность в себе.
Ермак сам порой удивлялся, почему именно его казаки выбрали атаманом, доверились ему. Может, оттого, что он прошел Ливонскую войну, был награжден царским панцирем, знал Строгановых… А может, из-за чего-то другого, неведомого ему. Иван Кольцо больше подходил на атаманскую должность, был проще в обращении с рядовыми казаками и мало чем от них отличался. Он был своим для них, таким же как они. Про Ермака мало кто знал, откуда он появился в казачьих станицах, кем был ранее, где жил. Правда, редко кто рискнул бы выйти с ним на бой один на один. Но чтоб следовать за атаманом в походе, вверять ему свою жизнь, одной силы мало. Значит, было что-то иное, чего сам не мог увидеть в себе.
Но сейчас Кольцо нужен был ему как единомышленник, от того, что он скажет, зависело многое.
Ермак без труда увидел на возвышенности невысокие стены городка, подъехал, постучался в ворота и, назвавшись, попросил проводить его в дом, где стоял Иван Кольцо.
— Здоровы будем, — обратился он к казакам, сидевшим вокруг широкого стола.
— Садись с нами, атаман. Откушай, что Бог послал.
— Спасибо. С превеликим удовольствием. Когда поели, то Ермак кивнул Ивану Кольцо, указывая на дверь:
— Слышь, есаул, нам бы потолковать надобно.
— Пойдем, — согласился тот и с хитринкой сверкнул васильковыми глазами, — поди, хочешь у меня казаков попросить в другую крепость? А? Не угадал?
— Не угадал, — покрутил головой Ермак, когда они нашли несколько неошкуренных бревен и уселись на них. — С другой задумкой я приехал. Только не знаю, с чего и начать…
— Да начинай, как знаешь. Я понятливый. Пойму, о чем речь. Только говори начистоту, без выкрутас, без балясин разных.
— Вот чего я тебе скажу: скучно в крепости сидеть, маяться. Не только мне, но и по казакам вижу. Киснут, как капуста в кадушке.
— Так зачем же мы сюда плыли? Оставались бы в станицах. Там воля. Беги, куда хошь. А тут тайга кругом, не разгуляешься.
— Слышал про хана Кучума? — неожиданно спросил его Ермак
— Как не слыхать, слыхивал. От него и пришли басурмане. Только чего-то мимо нашего городка проскочили и не заметили. Может, шибко спешили?
— На Чердынь они подались. Сам же хан остался без воинства. Разумеешь?
— И что с того? Нам какое дело до Кучума? Мы здесь, он там.
— А в гости к нему не хотел бы прогуляться? Поглядеть, как там люди живут. Не бывал, поди, в тех краях.
Кольцо с интересом поглядел на атамана, огладил тонким пальцем усы и снова улыбнулся.
— Вон ты куда клонишь. Хитер, атаман. А я бы не додумался до такого поворота. Ничего не скажешь, голова.
— Ты не ответил. Готов прогуляться?
— Как пойдем? Коней у нас нет. Да и зима на носу. Обратно вернуться не успеем.
— На стругах пойдем, — как о чем-то давно решенном сказал Ермак. — А где зиму встречать, не все ли одно. Найдем местечко, где зазимовать можно. Есть у меня одно на примете. Все разместимся.
— Сам-то бывал там?
— Приходилось…
— Носила же тебя нелегкая, — уважительно протянул Кольцо, — а с припасами как быть? Ни муки, ни сухарей, ни крупы. Мясо, ладно, по дороге зверя, рыбу добудем, а без мучицы никак нельзя. Да и пороху, и свинца на десяток выстрелов у каждого. Где возьмем?
— А господа Строгановы на что? У них и попросим.
— Дадут ли? Не верится, будто отпустят они нас и еще припас впридачу выдадут.
— А вы с казаками пошумите малость, позадирайте кого из местных. С хозяевами потолкуйте по-свойски. Как ты умеешь. Помнишь, когда у Барбоши был, то как с несговорчивыми беседовал?
— То дело нехитрое. Потолкуем со Строгановыми, за нами не станется. Пойдут ли казаки? Им зиму в крепости пересидеть куда сподручней.
— Круг созовем, я свое слово скажу. Казаки, что в Ливонию со мной хаживали, за тех ручаюсь. Остальных ты на себя бери. Тебя послушают. Главное — с есаулами накоротке перетолкуй. Их слово — закон.
Кольцо слушал, не сводя с Ермака настороженных глаз, думая о чем-то своем. Хотелось возразить атаману, что тащиться Бог знает куда с уже обжитого места, да еще по осени, нет никакого смысла. И чего они там найдут? Чего добудут? А даже и добудут, то обратно еще вернуться надо, сколько сил потратить… Но что-то мешало перебить атамана, возразить, ответить отказом. Было в его словах нечто завораживающее, притягательное. Так молодой парень, забыв обо всем, идет следом за приглянувшейся девкой, не зная зачем. Идет и все. Манит ее улыбка, походка, озорные глаза. И атаман предлагал нечто такое, отчего дух захватывало. А почему бы и не рискнуть? Где он только не побывал, с кем не бился. Про Сибирь же только слышал и никогда в мыслях не держал, что сможет вдруг там оказаться. И еще не решив, не веря до конца самому себе, представил таинственную страну, где огромные широкие реки, леса до небес, диковинное зверье, иные люди.
Он пока не знал, согласятся ли казаки, понравится ли им задумка атамана, но сам уже страстно захотел в поход. Знакомое чувство разжигало кровь сильнее хмеля, грозило затянуть в водоворот непредсказуемого, но оно, это щемящее чувство, питало и давало ни с чем не сравнимую радость жизни. Оно и было — сама жизнь. Безоглядная и стремительная.
— Одного не пойму, атаман, а зачем нам нужна Сибирь эта? Ну, повоюем Кучума. Не велик воин. А потом, что? Там жить станем? Обратно возвернемся? Опять к господам Строгановым.
— А я и сам не знаю, — неожиданно широко и доверчиво улыбнулся Ермак, как никогда раньше и не улыбался. — Там видно будет. Поглядим. Может, с полдороги обратно повернем. Кто знает. Может, в полон нас возьмут. Может, вовсе поубивают. Чего загадывать…
— Нет! Уж коль двинем, то до самого конца. Наших казачков только раззадорь, расшевели — и черт им не брат. Зубами грызть будут, а в полон не дадутся.
— Значит, решено? — спросил Ермак, поднимаясь с сырых бревен.
— Считай, решено. Я погулять люблю. С есаулами переговорю. А они уж пущай с казаками обговорят, обсудят. Потом и круг созовем.
— Добре, — подал ему широкую ладонь Ермак. — Про господ Строгановых не забудь. Только шибко не пугай, а то разбегутся, ищи их потом.
— Будь спокоен. Они нам еще платочками вслед махать будут. Не сомневайся, атаман.
ПОЗНАНИЕ ПИСАНИЯ
Анна Васильчикова в начале лета родила в суздальском Покровском монастыре мальчика. Его окрестили и нарекли Димитрием во имя святого, покровителя русского воинства. Мальчика тут же забрали от матери и отправили гонца к царю с донесением, в котором спрашивалось, как же поступить с сыном бывшей царской жены, а ныне инокини Анны.
Иван Васильевич распорядился привезти новорожденного в Москву, отдать на воспитание в Донской монастырь, а по достижении должного возраста постричь в монашествующие. Он при этом ни словом не обмолвился, считает ли мальчика своим наследником или то плод греха его бывшей жены, и игуменья Покровского монастыря недоумевала, как ей относиться к находящемуся в обители рабу Божьему Димитрию: то ли как к незаконнорожденному, то ли воздавать ему почести как отпрыску великокняжеской семьи. А розовощекий черноголовый бутуз и подавно ни о чем не печалился и лишь оглашал древние своды обители надсадным оглушительным ревом, как только приближалось время его законной кормежки.
Анна, когда у нее забрали сына, билась в дверь, рвала на себе волосы, выла, грозила монахиням страшными карами, требовала отпустить ее в Москву, но игуменья была непреклонна, и постепенно неутешная мать затихла и сидела, забившись в угол, неумытая и нечесаная.
Евдокия, которой было поручено кормить и купать мальчика, привязалась к нему, как к собственному сыну, и лишь когда проходила мимо кельи, в дверь которой билась несчастная Анна, то краска стыда от сопричастности к чужому горю заливала ее лицо. Она догадывалась, что не царского сына нянчит она, легко узнавала в нем черты любимого ей человека. Но мать младенца была царской женой, и никуда от того не денешься, даже если и не был их брак освящен таинством церкви. В той же мере она считала себя матерью ребенка и не желала расставаться с ним. Как же она была напугана, когда заметила набухание грудей, а вскоре от легкого надавливания пальцами на сосках выступило молочко, и она, перемежая слезы радости горестным всхлипыванием, со страхом поднесла грудь к ротику младенца. И он ухватил сосок, блаженно зачмокал, закатывая глазки, потянул в себя молочко женщины, отныне ставшей его второй матерью.
Возможно, игуменья заметила неожиданные перемены, произошедшие с Евдокией. Да и разве трудно было догадаться одной женщине, как расцвела и преобразилась тихая и скромная затворница от прикосновения к слабому и нежному ростку новой жизни. Но старая мудрая игуменья ничем не выдала своего знания и лишь чаще и дольше стала оставаться одна в монастырском храме коленопреклонной перед иконой Божьей Матери.
Когда пришел срок везти Димитрия в Москву, она призвала Евдокию к себе и, не поднимая изможденного постами и бдениями морщинистого лица, протянула небольшой, но увесистый кошель, строго проговорив низким старческим голосом:
— Возьми на расходы дорожные. Береги дитятко. Поди, знаешь, чей он сын?
Евдокия приняла кошель, не говоря ни слова, опустилась на колени под благословение:
— Прости, матушка, — всхлипнула она.
— Бог простит, милая. Молиться за тебя стану. Ничего не говори мне и так все пойму, ни в чем тебя винить не стану. Вижу, что привязалась к младенцу и ожила. Может, и к лучшему, коль бабья доля тебя поманила, позвала. Господь заповедовал нам продолжать род людской и тебе решать, по какому пути пойти, куда голову преклонить. Пока жива, окажу помощь посильную, если потребуется. Блюди себя и не нарушай заповедей церкви нашей. — Она торопливо сняла с шеи образок Богородицы и одела на склоненную голову Евдокии, перекрестила, помогла подняться и легонько подтолкнула в спину. — Иди и помни, что отныне не властна ты над собой и многие судьбы в руках твоих.
При въезде в Москву возок, в котором ехала Евдокия с младенцем, остановился возле шумного базара, и возница, кряхтя, спустился на землю, не оглядываясь, пошел к квасному ряду, верно, желая промочить горло. Евдокия поняла, что более благоприятного момента не будет, подхватив спящего мальчика, выбралась из возка и, быстро ступая, нырнула в бурлящий круговорот горластых торговцев и покупателей, где вскоре затерялась, вышла на соседнюю улицу и опрометью бросилась вдоль стоящих ровно, как по линейке, окраинных домов, свернула в первый же попавшийся ей переулок, налетела на собачью свадьбу, ее облаяли добродушные вислоухие псы, но она, ничего не замечая и не слыша, бежала все дальше и дальше. Наконец, остановилась перевести дух и стала соображать, куда же ей идти.
На постоялом дворе останавливаться опасно. Если возница доберется до Донского монастыря, сообщит о пропаже дитя и монахини, то об этом вскоре станет известно царю, а тот распорядится искать ее и наверняка первым делом кинутся по постоялым дворам. Оставались князья Барятинские, которые некогда весьма радушно принимали ее. Но теперь, когда прошло столько лет, узнают ли они, пустят ли в дом. Но, однако, иного выхода у нее просто не было и она, прошептав молитву, медленно побрела к центру Москвы, время от времени спрашивая у прохожих как найти усадьбу князей Барятинских.
Старый слуга, вышедший к ней навстречу, с подозрением оглядел миловидную монахиню, покосился на запеленутого ребенка и ушел в дом. Его долго не было, наконец, он вернулся и кивком головы пропустил вперед себя, повел в комнаты.
Старый князь, Петр Иванович Барятинский, узнав о появлении незнакомой монахини, не на шутку встревожился. По Москве давно уже ползли слухи, будто бы бывшая царская жена Анна Васильчикова, будучи в монастырском заточении, родила сына. Одни считали, что-то прямой царский наследник, и царь повелел вернуть Анну обратно и встретить ее как законную царицу с подобающими почестями. Но не проходило и дня как кто-нибудь из соседей сообщал вдруг, что у Анны родился мальчик в звериной шкуре с рогами и копытами от антихристового семени — и теперь надо вскорости ожидать конца света. Мол, всю Москву окружили крепкими заставами, жгут смолье, курят ладан и доглядывают за приезжими гостями. Да разве от нечистой силы убережешься этаким обычаем?
А тут до княжеских и боярских дворов докатилось страшное известие о смерти царевича Ивана, которого будто бы и лишил жизни тот самый младенец, семя антихристово. И способствовали тому немцы и иные басурмане, проживающие в стольном городе. Народ всколыхнулся и начал жечь дома иноземцев, кинулся с дубьем в Немецкую слободу, да были остановлены прицельным огнем из ружей живущих дружно немцев и иных приезжих гостей.
Что ни день, как рождался новый слух, и моментально наполнившие городские улочки юродивые и кликуши громогласно блажили, перемывая косточки и боярам, и немцам, и знатным людям. Жалели лишь царя, который будто бы собрался на вечное заточение в монастырь, что специально для него будут строить в глухих урочных местах.
На счастье, никто не знал, в каком из монастырей произошло рождение загадочного младенца, иначе давно бы уже кинулись требовать выдачи его и предания огню. Сам 5де Иван Васильевич после погребения сына в Архангельском соборе надолго закрылся в своих покоях и никого не допускал к себе. Борис Годунов с Богданом Бельским, которым доложили об исчезновении привезенного в Москву сына Анны Васильчиковой, долго совещались, не зная, что предпринять. Любой их поступок мог быть обращен против них. Потом улучили момент и решительно вошли в комнату к Ивану Васильевичу, застав его стоявшим на коленях перед образами, и сбивчиво доложили о случившемся. Но Иван Васильевич не проявил никакого интереса к их сообщению и лишь спросил, когда ожидается прибытие из Рима папского легата, который должен был выступить посредником между ним и Стефаном Баторием. Точной даты бояре указать не могли. Царь махнул рукой, выпроваживая их. Никаких указаний насчет розыска пропавшего младенца дано не было. Бояре вздохнули — еще одной заботой меньше, и каждый занялся своим делом. Об исчезнувшем ребенке на время забыли…
…Князь Барятинский из-за занавески сперва пристально разглядел непонятно откуда взявшуюся в его доме монахиню, не без труда признал в ней свою бывшую стряпуху, проживавшую когда-то у него вместе с матерью, и чуть успокоился. Вышел к ней с улыбкой и с обычным добродушием.
— Не думал, не гадал, что почтенную инокиню Господь ко мне в дом пошлет. Что привело тебя?
— Князь, видать, не признал меня? — потупя глаза, тихо спросила Евдокия.
— Отчего ж не признать… Признал как есть. Дуся? Вот видишь, не совсем еще из ума старый князь выжил. Одна? Мать-то где?
— Она к себе на родину в Устюг уже несколько годков как ушла. И вестей от нее до сих пор никаких не имею.
— То бывает. Даст еще знать о себе. Ты никак постриг приняла? — Князь намеренно не спрашивал о младенце, которого Дуся крепко прижимала к себе и покачивала время от времени.
— Нет, не приняла постриг. Послушница пока.
Оба замолчали, не решаясь заговорить о главном. Наконец, первым не выдержал князь и, насупясь, пожевав губы, спросил:
— Ребеночек твой? Или подобрала где? Евдокия подняла на него свои чистые, незамутненные глаза и без утайки выдохнула:
— Царской бывшей жены сынок. Анны. Кто отец, сказать не смею, но, может статься, и не государь наш вовсе.
— Как?! — всплеснул руками Барятинский и, откинув пеленку, уставился в детское личико. Мальчик проснулся и сонно поглядел на бородатого мужика, склонившегося над ним, испугался, заплакал.
— Вышел бы, князюшка… Покормить мальца надо…
— Неловко повела плечом Евдокия, скидывая с себя верхнюю одежду, оставшись в черном, наглухо закрытом платье.
— А кормить кто станет? — Барятинский растерянно оглянулся, словно где-то здесь должна находиться и кормилица.
— Да я и покормлю, — просто ответила Евдокия, качая и сноровисто распеленывая младенца.
Ничего не понимающий Барятинский попятился к дверям, столкнулся там с женой, которая, верно, слышала весь их разговор, и она с улыбкой потянула его за собой, но он успел спросить:
— Нарекли как?
— Димитрием, — отозвалась из-за закрытых дверей Евдокия. И тут же детский крик смолк, послышалось негромкое удовлетворенное посапывание с причмокиванием и тихое бормотание Евдокии.
— Ох, бабьи дела не свели бы с ума, — произнес, разводя руками, Петр Иванович и размял жесткой пятерней напряженную шею.
— Это точно, — вновь ободряюще улыбнулась ему княгиня и, проводив мужа, осторожно зашла в комнату к кормилице.
А вечером Петр Иванович отправился к князьям Васильчиковым, чтоб сообщить потрясающую новость. Они долго беседовали с хозяином дома наедине и дали друг другу слово никому не говорить о случившемся и оставить до времени Евдокию с мальчиком у Барятинских, сообщая всем, будто бы приехала с дальнего имения родня, которая некоторое время поживет в Москве. Однако, слух о таинственном младенце странным образом проник на улицу, и вскоре все соседи стали с любопытством поглядывать на княжескую усадьбу, ожидая дальнейшего развития событий.
Меж тем в Москву прибыл из Рима посланник самого папы Григория Антоний Поссевин. После переговоров о мире с польским королем, папский легат пожелал повести беседу о вере, но непременно с глазу на глаз, с царем.
— Как же я с тобой один говорить стану, без ближних людей, которые в государстве моем наипервейшие люди? — хитро щурясь, спросил посла Иван Васильевич. — Да и опасно нам спор затевать о вере… А то каждый будет на своем стоять, и войдем в брань великую…
— Что ты, государь! Как можно браниться из-за веры. Тем более, что она у нас одна. Единая вера. Наместник Бога на земле папа римский Григорий сопрестольник апостолов христовых Петра и Павла. Он желает с тобой, царем московским, в одной вере быть. Хранимые у нас книги греческой веры мы можем привезти в Москву для сличения с теми, что у вас по церквям читаются.
Иван Васильевич недовольно поморщился и тихо обронил:
— Мы не дети малые, чтоб по вашему писанию вере учиться. Свои чтецы имеются. Не переводи, — махнул рукой толмачу.
Поссевин, не дождавшись перевода слов царя, продолжил ласковым тоном, оглаживая чисто выбритое лицо, произнося слова негромко, но твердо и убедительно.
— Папа Григорий желает, чтоб государь московский вернул себе прежние вотчины, предкам твоим принадлежавшие: Киев, Царьград, выгнал бы турков оттуда. Он собирается направить тебе корону императорскую и объявить царем всех восточных земель.
— Ишь ты! Спохватился! Без него мы не знали, какими землями владеем, чем управляем. Вразумил нас бедных! Скажи ему, — кивнул толмачу, — что земель тех иметь не желаем. Хватит нам того, что есть. И ему еще уступить можем. А вера наша истинная и не греческая вовсе. Византия просияла в христианстве, потому и зовут ту веру греческой. Спор же с ним вести не станем. Добром это не кончится…
Папский посол выслушал переведенное ему до конца, ласково улыбнулся, словно ратник перед боем, узревший перед собой слабого врага.
— Вижу, что государь опасается говорить со мной о вере, понимая, что не прав. Тогда прошу признать это и я доложу о том папе…
— Ах ты, лисица римская! — Иван Васильевич вскочил со своего места и, подбежав вплотную к Антонию, ткнул ему пальцем в бритое лицо. — А скажи-ка ты мне, любезный, согласно какой вере ты бороду бреешь и скоблишь? Или не знаешь, что запрещено в Писании сечь бороду не только попам, но и мирянам простым? Скажи, скажи!
Посол невольно отклонился от царского вытянутого перста и, смутясь, провел в очередной раз узкой ладонью по чистой от растительности щеке и, отведя глаза, ответил:
— То согласно естества моего не растет у меня борода…
— У тебя не растет, у папы вашего не растет. У всех что ли она не растет? Рассказывай сказки другому кому.
Сидевшие на лавках бояре съежились, поняв, что папскому послу удалось, не понимая, какой опасности он подвергается, вывести царя из себя. Тот забегал по тронной зале, время от времени останавливаясь перед легатом и тыча в него посохом.
— Папа наш сам волен поступать со своей бородой так, как считает нужным, — невпопад брякнул Поссевин.
— А носить себя с престолом вместе по воздуху, Он тоже сам решил или враг рода человеческого его к тому надоумил? — в ярости швырял слова, словно свинцовые пули, Иван Васильевич. — А крест на сапоге вышитый иметь как он смеет?! Это ли не поругание кресту святому?! Мы крест Христов на врагов во имя победы своей подымаем. А опускать ниже пояса, ниже срамного места, нам и в голову такое не придет! Как же папа ваш додумался до такого? Не позор ли то миру христианскому всему?
Поссевин понял, что попал впросак, и не так-то легко будет совладать ему с московским царем, но и не думал сдаваться, а решил чуть подольстить тому. Разве не он, Антоний Поссевин, ученик иезуитов, выиграл множество богословских споров в стенах различных монастырей, о чем известно самому папе Григорию. Так неужели он не сможет осадить какого-то дремучего московита, что дальше своей дикой страны никогда не выбирался?
— Мы своего святого отца по достоинству величаем. Ибо он есть учитель всех государей и судить о содеянном им мы не смеем. Не он ли сопрестольник апостола Петра, который был сопрестольником самому Христу? Вот ты, государь, тоже сопрестольник великому князю киевскому Владимиру равноапостольному. А потому, как мне тебе не поклоняться? — с этими словами папский посол не мешкая бухнулся перед царем на колени, коснувшись лбом цветастого ковра, лежавшего на полу.
Но на Ивана Васильевича подобная хитрость не произвела ни малейшего впечатления. Он скривился и повернулся спиной к простертому ниц Антонию, но все же чуть убавил свой пыл.
— Тебя послушать, так папа ваш Григорий сам почти что апостол. Только вот не живет по заповедям господним. Мы себя велим почитать по правлению нашему на земле, в государстве своем. А те, кто себя апостольскими учениками величают, то должны смирение в первую очередь выказывать, а не бахвалиться тем, что их на престоле аки на облаке носят. Папа не Христос, а слуги его не ангелы. Прежние папы, что в смирении великом жили, те достойные ученики и слуги Христовы. К ним и апостольский чин применить можно. А те, кто мнят о себе много, то волкам подобны, разоряющим стадо пастыря небесного.
Когда до Поссевина дошел смысл сказанных царем слов, то он понял, что ему не только не выиграть спор, но и тем самым он вынужден выслушивать обидные слова о папе, не зная, как защитить его.
— Если уж папа римский волк… Что мне говорить дальше, — уже без прежней улыбки ответил он и замолчал.
Иван Васильевич самодовольно еще разок прошелся по зале, глянул на оживившихся было бояр и, пристукнув посохом, спросил посла:
— А службу нашу церковную завтра послушать не желаешь? Тогда и сравнишь, какая служба благостнее, когда душа просветлеет и невольно слезы литься начнут.
Посол безразлично качнул головой и, раскланявшись, удалился. Иван Васильевич, кликнув дьяка Писемского, отправился к себе в горницу, чтоб заранее подготовить ответ папе римскому Григорию. Туда и принесли ему грамоту от чердынского воеводы, в которой он извещал царя, что воины хана Кучума пожгли многие русские селения и обложили саму Чердынь. Он просил царя направить хоть малое войско на помощь. При этом добавлял, что к господам Строгановым пришли недавно казаки в несколько сот человек, но сидят все по городкам и помощи ему никакой давать не желают.
— Это что же они, Строгановы, творят? — стукнул кулаком по столу Иван Васильевич. — Свое добро берегут, а государево пусть горит ясным пламенем?! Отпиши к ним, — повернулся к дьяку, — что, коль не пошлют казаков на выручку воеводе чердынскому, то наложу на них опалу свою на многие годы. Пусть забудут, что в любимцах ходили. И чтоб грамоту ту в ночь сегодня же с гонцом отправить.
Дьяк торопливо кивал головой, запоминая сказанное.
— А к папе римскому, когда писать будем? После?
— К папе наперед напишем. Прямо сейчас и садись. Отпиши ему, что посла его с радостью великой приняли и все выслушали. Земель у него никаких, у папы, не просим, а своих уступать не желаем. У нас их столько, что и за год не объехать. Об этом не надо, — отвернулся к окну в глубокой задумчивости Иван Васильевич.
ПОЗНАНИЕ НАЧАЛА
После разговора с Иваном Кольцо Ермак решил проехать и по другим городкам, где разместились казачьи сотни. Он уже привык к неожиданным подъемам по отлогим горным скатам, мелким, но быстрым, искрящимся речкам с каменистыми берегами, густым ельникам, пахучим, прозрачным сосновым перелескам. Если бы не горы, то в остальном эти места во многом походили на его родную Сибирь.
К полудню конь совсем притомился и часто останавливался, тянулся мордой к траве. Было бесполезно понукать его, он даже не чувствовал ударов. Ермак решил дать ему отдых и пошел пешком, ведя неторопливого конька на поводу. Неожиданно он заметил примятую траву и несколько поломанных ветвей справа от тропы. Вначале решил, что тут проехал кто-то из воинов царевича Алея, но, осмотрев землю под деревьями, не обнаружил следов копыт. Не думая, зачем он это делает, пошел по едва различимым следам, вынув на всякий случай пищаль и пригибаясь при каждом шорохе. Пробирался так он довольно долго, временами теряя след, возвращался обратно, постепенно продвигаясь вперед. Наконец, почувствовал запах дыма на противоположном берегу прозрачного, погромыхивающего камешками ручья, и перескочив через него, увидел в склоне горы небольшое темное отверстие.
Привязал коня к дереву, осторожно подобрался ко входу в пещеру, держа пищаль перед собой. На пологом склоне меж тлеющих углей стоял горшочек с булькающей похлебкой. Здесь же лежал зазубренный топор, небольшая, вязанная из конского волоса сеть и берестяной туесок. В саму пещеру вели несколько ступеней, выложенных из мшистых валунов. Поднимаясь по ним, Ермак услышал глухое бормотание, доносящееся изнутри. Вытянув шею, он разглядел в полутьме стоящего на коленях спиной к нему человека, который что-то негромко повторял, осеняя себя время от времени крестным знамением. На камне перед ним горела самодельная лампадка и стояло несколько икон.
Ермак не стал его тревожить и терпеливо дождался конца молитвы. Наконец, незнакомец встал с колен, широко в последний раз перекрестился и повернулся в его сторону, равнодушно скользнул взглядом и, не выказывая ни малейшего испуга, произнес ровным голосом:
— Мир тебе и спаси Господь душу твою многогрешную. Давно тебя поджидал. Знал, что придешь.
— Как ты мог это знать? — удивился его словам Ермак. — И кто ты? Почему живешь здесь один?
— Местные мужики называют меня отшельником. Имя мое Мефодий. А как я про тебя, атаман казачий, узнал, то что же в том необыкновенного? Кто с Господом Богом молитвенную беседу ведет, тому многое открывается.
Одет Мефодий был в черную до пят рясу, крутую лобастую голову до самых глаз прикрывала черная клиновидная шапочка с крестом. На вид ему было больше пяти десятков лет, но держался старец бодро и во взгляде чувствовался недюжий ум испытанного жизнью человека. Ермак ощутил себя рядом с ним неопытным юнцом и поначалу хотел уйти, но был словно заворожен словами и глазами отшельника и каким-то его тайным знанием жизни.
— И давно ли так живешь, от людей вдали?
— Третье лето минуло, пришел сюда из-под Пскова, неся слово Божие.
— Не трогают вогульцы?
— Я им ничего плохого не сделал. Наоборот, в прошлую зиму, в сильные холода, принесли мне шкуры для одежды, рыбы свежей. Нет, с ними я мирно живу.
— Отчего же в городок не уйдешь? Рядом с людьми спокойнее жить…
— Не скажи, мил человек. У людей своих забот предостаточно и до меня им дела нет. Да и я среди мирских забот в ту же колею попаду. А суета мирская засосет, затянет и оглянуться не успеешь, как думать об обыденном начнешь, а там и на простую молитву времени не останется. Потому и выбрал эту пещеру, где кроме меня и Бога никого рядом нет и ничто душу мою не тревожит.
— Я вот потревожил, — усмехнулся Ермак. Они спустились вниз к берегу ручья к двум лежащим там валунам, что были, верно, специально вытащены старцем к кострищу. Мефодий вынес из пещеры две шкуры и заботливо покрыл ими камни, лишь потом предложил Ермаку сесть на холодный валун, пояснив:
— Он тепло человеческое мигом в себя забирает. Оглянуться не успеешь, как лихоманка зацепит, занедужишь. Давно хочу поговорить с тобой, атаман казачий. Как узнал от людей, что пришли вы на службу к господам Строгановым, так и решил свидеться с тобой.
— Чем же я так тебе интересен? Или казаков ране не видел?
— Как не видел. Повидал и казаков, и иных воинов. Только в край этот дикий, покровительством Божьим не освещенный, не всяк человек идет, не каждый здесь селится.
— Это почему? — старец все более и более располагал к себе Ермака своим образом мыслей. Ему пока не приходилось встречаться с подобными людьми, которые могли бы объяснить многие обычные поступки, вкладывая в них иное значение и смысл.
— А как же? Каждый зверь живет там, где ему Богом завещано: медведь в лесу, рыба в реке, птица по небу летает…
— Всяко бывает. Журавль, к примеру, больше по болоту бродит, а гусь по воде плавает. Да и медведь в реку забирается рыбку словить.
— Вот-вот. Правильно мыслишь: каждый в чужие владения норовит за добычей сунуться, а после обратно к себе уходит, где жить привык. Рыба по верху речному плавится, выпрыгивает на мир глянуть и обратно на глубину ныряет. А человек не так разве? Русские люди испокон веку по городам живут, где место чистое, намеленное, храмами, монастырями окруженное, чтоб врага рода человеческого к домам близко не пускать. А здесь места необжитые, несвященные. Всяк сюда пришедший искушению подвержен, по себе чую. Иначе и быть не должно. Ты вот сам, атаман, крещен, поди?
— Здесь меня и крестили, в этих самых краях, — задумчиво ответил он, — Василием нарекли…
— Вот тебя обратно и потянуло к тому месту, где впервые таинство причастия принял, праведное слово услыхал. Но всяк человек, сюда пришедший, должен вдвое, втрое больше молиться, исповедываться. Иначе замучат грехи — и сам не заметишь, как во все тяжкое пустишься.
— И какой же грех наиглавнейший? — наклоня голову вниз, спросил старца Ермак.
— Вижу, разговор у нас долгий будет, а потому перекусим, а потом уж и побеседуем, поговорим по душам. — Он сноровисто подхватил с углей горшочек, большой ложкой разлил похлебку в деревянные миски, подал Ермаку. Тот достал из дорожной котомки захваченный из городка хлебный каравай, луковицу, пару морковин. — Ну, с таким угощением и вовсе не пропадем, — оживленно воскликнул Мефодий, выпрямился во весь рост и прочел короткую молитву, широко перекрестил все приготовленное к трапезе и, опустившись на камень, принялся за еду Ермак не торопясь выхлебал варево, съел краюху хлеба, и молча подойдя к ручью, напился, сполоснул миску Старец, казалось, не глядел на него, но Ермак чувствовал, что тот видит каждое его движение и, более того, улавливает даже мысли. Потому что стоило ему подумать об оставленном на том берегу коне, как Мефодий проговорил:
— Хорошо бы коня твоего поближе к нам привести, а то не ровен час медведь или волк набредет.
Ермак ничего не ответил, а молча перескочил через ручей и привел своего беззаботно подремывающего конька к пещере. Мефодий, прочтя послеобеденную молитву, вновь обратился к нему:
— Спросил ты давеча о грехе наипервейшем. Отвечу… Согласно заповедям Божьим наитяжелейшим грехом считаем мы гордыню людскую, поскольку, поддавшись ей, человек может возомнить себя пупом земли и в мыслях своих возноситься выше всех других. Гордыня толкает его совершать и другие грехи смертные. Потому и призывают христиан к смирению и послушанию.
— А как же воину в бою быть? Коль будет он смиренно врага ждать, то умрет, не успев сабли обнажить.
— То другое дело. Против врагов веры нашей, что разорение несут церквям и домам христианским, еще Сергий Радонежский завещал биться смертно и землю русскую в обиду не давать, — подняв палец вверх и не сводя пытливых глаз с Ермака, отвечал старец. Он, казалось, заранее знал, о чем спросит его атаман, и объяснял ему терпеливо, чуть покачиваясь всем своим сухим телом.
— На какой же мы земле сейчас находимся? На русской? Или на вогульской? И хан Кучум ее отвоевать хочет, под себя забрать.
— Когда-то ни Москвы, ни Киева, ни Новгорода Великого не было, и земля та русской не была. Но промысел Божий направил и поселил нас на ней, и обрели мы мир и спокойствие. Народы, что там жили, с нами слились, веру нашу приняли и согласно христианским законам жить стали. Что же в том плохого? Все в мире этом переменчиво и не стоит на месте. Коль будет на то Божья воля, то пойдет русский человек и дальше, в самую Сибирь, и никто ему помешать в том не сможет.
— Так как же узнать: есть ли на то воля Божья? — привстал со своего места Ермак. — Ты словно мои мысли читаешь. Несколько дней лишь о том и думаю.
— Я тебе так скажу, раб Божий Василий, коль мысли у тебя благие, то будет тебе в этом заступничество Господне и покровительство…
— Как узнать о том? — настойчиво повторил вопрос Ермак и их глаза встретились.
— Не так все просто, как ты думаешь. Никто не возьмет тебя за руку и не поведет за собой. Никто не скажет тебе: "Иди". Или остановит, запретит. Коль душа твоя чиста и решился ты на подвиг во имя благих целей, то все у тебя удачно сложится. А ежели держишь в душе корысть какую, мысли тайные, то и забудь думать, выбрось из головы все, живи как жил.
— Хорошо, признаюсь тебе, старец, что давно одолевает меня желание отправиться в сибирские земли и прогнать хана Кучума…
— А его и прогонять не надо, — поднял руку Мефодий, — он сам уйдет, когда узнает о твоем замысле.
— Сам уйдет?! Без боя?! Ни за что не поверю, — чуть не рассмеялся Ермак, хлопнув себя по колену сжатым кулаком.
— Может, и бой будет, и не один, но не в силе дело, а в правде. Правда же за тем, за кем заступничество Божие. В который раз тебе об этом говорю.
— Значит, правда на моей стороне? — вскочил с камня Ермак.
— Правда всегда там, где чистая душа и безгрешные помыслы. Коль пойдешь ты в поход не ради наживы, не разбой чинить, то и удача с тобой. Сам решай, — и старец замолчал, давая понять, что разговор окончен.
— Тогда ответь мне: согласен ли ты пойти с нами? Если дело благое, то и божьему человеку поучаствовать в нем можно.
— И этого вопроса ждал от тебя, — мягко улыбнулся ему Мефодий, — давай не станем спешить. Ты еще сам не решил, а меня с собой зовешь. Тебе сейчас на ночь глядя не стоит ехать. Оставайся у меня, заночуй, а к утру, глядишь, и дам тебе ответ.
Ермак, не раздумывая, согласился и остался ночевать в пещере вместе с отшельником, думая, что судьба не зря, видно, привела его в потаенное место и только здесь, в беседе со старцем, он наконец до конца обретет уверенность, укрепится душой и сердцем.
Утром Мефодий проводил его до дороги, благословил и сказал задумчиво, вглядываясь в молочную дымку тумана, плавающую прозрачной пеленой в отлогах меж горных хребтов:
— Долго я думал о словах твоих и одно твердо сказать могу: ты тот человек, кто сможет сыскать славу русскому оружию, коль оградишь земли наши от набегов сибирцев. Много зла они несут с собой, людей наших в полон уводят, селения жгут. Иди с Богом как сердце тебе самому подсказывает.
— А ты с нами пойдешь? — Ермак спросил, хотя уже заранее предвидел ответ старца.
— Нет. Мне воинская брань не подходит. Ни для того я укрылся от людей, чтоб в круговерть земную с головой окунуться вновь. Мой подвиг в ином. И на этих землях человек с крепкой верой должен жить, чтоб были здесь мир и согласие. Каждому свой удел дан свыше. А мой удел — эта земля.
— Спасибо на добром слове. Оно, может, и лучше, что не пообещал понапрасну, не заверил меня. Только не знаю, как быть мне теперь. В поход нам без батюшки идти никак нельзя.
— Обратись к господам Строгановым. У них в городках при каждой церкви и батюшка, и диаконы имеются. Может, вырешат тебе кого…
На этом простились, и Ермак неожиданно передумал ехать в дальние городки, а повернул коня обратно, откуда совсем недавно выехал. Он не мог объяснить своего решения, но после разговора со старцем Мефодием твердо понял, что далеко не все поддается объяснению и понятно человеческому разуму. Людские поступки зависят не только от воли человеческой…
* * *
И оказалось, не зря он ехал в городок, где стоял со своей сотней есаул Иван Кольцо. Тот успел уже оповестить остальных есаулов, которые немедленно явились на его зов. Небольшая площадь перед церковью была запружена казаками, а на каменных ступенях собрались походные атаманы, стоявшие с обнаженными головами.
Ермака заметили не сразу и он некоторое время слушал, как что-то выкрикивал в толпу низкорослый Савва Болдырь, привстав на носочки и взмахивая при каждом произносимом слове зажатой в руке шапкой. Не все слова долетали до атамана, но он понял, что Болдырь чистит господ Строгановых за дурную пищу, помянул, что выдали мало припасов для пищалей, не выполняют обещанного.
Но вот кто-то из казаков заметил Ермака и по рядам пронеслось:
— Атаман… Атаман приехал… Ермак Тимофеевич сам… Иван Кольцо, который, верно, и затеял весь этот сход, заулыбался и призывно замахал рукой, выкрикнул:
— А вот и сам атаман пожаловал. Мы уж и потеряли тебя. Выходи к казакам, скажи свое слово.
Ермак бросил поводья ближайшему казаку и стал проталкиваться к церкви, на ходу, приглаживая бороду, поправляя саблю, оглядывая пристально собравшихся, ждущих его слова. Он и не ожидал, что попадет на казачий круг, не был готов к нему и сейчас быстро прикидывал, что нужно сказать в первую очередь, а что пусть выложит Кольцо.
Когда он взобрался по ступеням, поклонился всем, то крики смолкли и все застыли в напряжении, ожидая, когда он заговорит.
— О чем разговор ведем? — спросил Ермак, чуть поворотясь к своим есаулам.
— Как о чем?! — чуть не подпрыгнул на месте все тот же Савва Болдырь. — Обманывают нас господа Строгановы…
— Тебя обманешь! Как же… — под общий смех ответил атаман. — Кого тут еще обмануть успели? — обратился ко всем казакам. — Выходи сюда, покажись всем. — Однако желающих не нашлось.
Иван Кольцо, более других удивленный таким оборотом, смотрел, широко распахнув глаза, на атамана. Болдырь немедленно спрятался за спины и что-то бурчал себе под нос, недовольно поглядывая в его сторону.
— Можно мне сказать? — спросил Матвей Мещеряк, сделав два шага вперед, и, получив согласный кивок атамана, начал издалека. — Мы вот тут собрались все люди вольные, бывалые. Всякое видали, во многие земли хаживали.
— Ты, Матюха, кота за хвост не тяни. Говори о нашенских делах, — раздался чей-то голос из толпы.
— Я и скажу, погодь, — поднял тот перед собой руку, — мы привыкли с ворогом в поле встречаться, на просторе, а тут сидим, как мыши в норе, а кот вокруг ходит, облизывается, того и гляди сцапает…
— А ты хвост не высовывай! Вот и не сцапает! — прозвучал тот же насмешливый голос.
— Да не желаю я мышом быть, в норе сидеть. Или не бились мы с крымцами, с ногайцами, с поляками?! Тоска смертная сидеть вот так да ждать, когда враг нос покажет. Ладно, кинулись они на нас, отбились, а дале что? Пусть басурмане в иные земли идут? Другие крепости берут? А почему не ударить по ним, да не дать… — вставил он крепкое слово под одобрительные выкрики.
— Правильно Мещеряк сказал, — выступил вперед Ермак, — только об одном умолчал: как нам тем басурманам приглашение передать, чтоб нас дождались, сразились. Пока мы шель-шевель, квасу попили, руки помыли, а их поминай как звали и не сыщешь. Ушли в лес, не догонишь.
— Погнались бы, так догнали, — негромко высказался из-за спины атамана Никита Пан.
Ты, Никитушка, в лесу не мастак воевать, то мне точно известно, — легко повернулся к нему Ермак, — они нас мигом пощелкают по одному и прозвания не спросят. Нет, братцы казаки, не с руки нам из крепости вылазить, под удар становиться…
В казачьей толпе послышался неодобрительный ропот и раздались выкрики:
— Не желаем за стенами сидеть!
— Надоело!
— На простор хотим!
Ермак перемигнулся с Иваном Кольцо — и тот сделал шаг вперед, подняв зажатую в руке нагайку.
— На простор хотите? — крикнул он громко.
— Да! Хотим! Простор-р-р… — прокатилось по рядам.
— Айда на простор! Айда на волю гулять! — радостно выкрикивал Кольцо, сверкая васильковыми лукавыми глазами. — Есть у атамана задумка одна, да, может, не всем она по душе придется…
— Пущай говорит! Слухать желаем!
— В поход нам надобно идти, — указал рукой на восход Ермак, — через горы, в Сибирь. Там есть, где разгуляться. И мне сиднем сидеть надоело. Тоже воли хочется.
Казаки не сразу поняли задумку атамана и стали осторожно выкрикивать, спрашивая:
— На чем пойдем? Пешими не выдюжим, а коней нет.
— Через горы не пройти…
— Припасов совсем никаких…
Он слушал их и добродушная улыбка застыла на его широком лице, словно высеченном из тех самых горных камней, через которые он задумал повести свои сотни. И казаки, невольно смущаясь этой улыбки, будто он насмехался над ними, зная что-то главное и не договаривая, постепенно смолкли, застыли в ожидании ответа.
— На стругах пойдем, на чем же еще, — широко развел руки атаман. — И сами сядем, и припасы погрузим. А что с собой брать, так об этом с господами Строгановыми обговорим. Нам-то они не откажут…
— Ха-ха-ха! Нам не откажут!
— Пусть попробуют!
— Сюда господ Строгановых!
Отвечала многоголосая толпа, и Ермак, вновь перекинувшись взглядом с Иваном Кольцо, понял, что наступил перелом в общем настроении. Может, не все еще осознали трудность предлагаемого им похода, но возможность потрясти Строгановых, распахнуть двери их вместительных амбаров, взять что-то даром — уже одна эта возможность более всего привлекала казаков.
— Да, а где Строгановы? — спросил Ермак.
— В воеводской избе сидят. Максим с дядькой своим.
— Так зовите их.
— Эй, Черкас, — крикнул Кольцо молодому казаку, — сбегай за господами хорошими. Скажи, мол казаки просят прийти.
Черкас Александров и еще несколько казаков с готовностью направились к воеводской избе и вскоре вышли оттуда вместе с угрюмыми и недовольными Строгановыми. Ни на кого не глядя, они прошли сквозь толпу насмешливо поглядывающих на них казаков и поднялись на церковное крыльцо, сняли шапки.
— Ишь ты, уважают, — мотнул сивой башкой близко к ним стоящий казак.
— Зачем звали? — насупясь, спросил Ермака Семен Аникитич.
— Тут дело такое, сразу и не скажешь, — начал атаман, потом повернулся к Кольцо, — давай-ка ты, Иван. У тебя лучше выходит, — и отступил в сторону.
— А чего тут говорить, — щелкнул тот в воздухе пальцами, — надоело нам сидеть, как сусликам в норе, да шеей крутить, ждать, когда кто к нам в гости завернет. Не наше это дело…
— Зачем же тогда служить к нам пошли? — жестко выговорил Семен Аникитич. — Обратно что ль собрались? Так и говори, а то крутите хвостом, как кобыла загулявшая.
— Но, но… — загудели тут же казаки. — Жеребец нашелся… Мы тебя не задираем, и ты не трожь…
— Хвост для себя прибереги, мужик, — скривил тонкие губы Иван Кольцо, — помни, с кем говоришь. Мы тебе ни какие-нибудь там смерды захудалые, а казаки вольные.
— Да чего нам ссориться, — миролюбиво поднял руку Максим Строганов, осуждающе глянув на Семена, — вы нам добро сделали, и мы вам тем же отплатили. Коль собрались обратно идти — держать не станем…
— Не о том речь, — подошел к нему вплотную Кольцо, — у нас задумка хана сибирского повоевать. Вот оно как…
— Хана сибирского? — вскинулись на него оба Строгановых. — Как вы до него доберетесь? Туда ж сколь ден пути…
— А ты за нас не решай. Сколь надо, столь и пойдем — выступил вперед Богдан Брязга. — Вы лучше скажите: припасов дадите?
— Богдан, куда лезешь с немытым рылом? Кто просил?! — оборвал его Кольцо, скрежетнув зубами. Но тот уже довольный, что сказал свое слово, вновь отступил назад и стоял там, хитро сощурясь.
Строгановы, услышав о походе казаков в Сибирь, растерянно глянули один на другого, и Семен Аникитич со вздохом ответил:
— Такое дело в один день не решают. Зима не за горами, а припасов у нас самих крохи, едва до лета дотянем.
— Купите! В Москве, Казани! Голодом не останетесь! — закричали возбужденно казаки.
— Чего тянуть? Решим по-доброму и по рукам, — протянул Строгановым узкую руку Иван Кольцо. — Лишку не попросим. Зачем нам лишку на горбе своем же тащить? А коль на зиму у вас останемся, то все одно то же самое и проедим. Не так разве?
— Так оно, — что-то прикидывал в уме Семен Аникитич, — но до зимы дожить надо, а вам ведь сейчас подавай. Вынь да положь.
— Чужого не просим, а от своего не отступим, — поигрывая плеткой, подступил к ним Никита Пан. — Так говорю, казаки?
— Знамо дело, так…
— Добром не дадут — силой возьмем, — послышался из середины толпы чей-то визгливый голос.
— Силой отымите? — поискал глазами кричавшего Семен Аникитич. — У царевых слуг именитых, господ Строгановых, силой взять хотите?! — повысил он голос, думая устрашить казаков.
— А нам чего? — хохотнул сзади Савва Волдырь. — Мы не только царевых слуг шарпали, но и послов царя-батюшки с коней ссаживали. Не впервой…
Строгановы затравленно смотрели вокруг себя, но ни в ком не встретили жалости или поддержки. Лишь Ермак стоял, глядя в сторону, и не сказал пока ни единого слова. К нему-то и решил обратиться Максим Яковлевич, надеясь на помощь.
— Атаман тоже так считает? — спросил негромко, но Ермак хорошо расслышал вопрос и поднял глаза, щелкнул языком.
— Н-н-да! Куда не поверни, а всюду клин… Не резон вам с казаками спорить. Лучше добром решить. Народишка у нас лихой, на слово дерзок. Посшибают замки с амбаров, нахватают чего попало, а там пиши к царю, жалуйся. Мы уж далеко будем. Добром решать надо… Так вам скажу.
Строгановы, потеряв последнюю надежду в заступничестве атамана, вновь переглянулись, и Максим Яковлевич, махнув рукой, выкрикнул:
— Дам вам из своих запасов что требуете. А дядя Семен пусть сам решает.
— О, то добро, — откликнулись казаки. Семен Аникитич недобро сверкнул глазами на племянника, кивнул:
— Да и мне, видать, придется дать чего просите. Пущай атаманы в воеводскую избу придут, договоримся.
Кто-то из казаков кинул вверх шапку, кто-то выхватил саблю из ножен. И людская масса пришла в движение, забурлила, заколобродила, радуясь предстоящему выступлению.
— Отметить бы добрый почин надо, — тронул Максима Строганова за плечо прилипчивый как банный лист Савва Волдырь.
— Успеется! — холодно глянул на него Ермак. — Не до того сейчас. Лучше сходи на берег, проверь струги, выбери, какие сгодятся. Ты, Никита, — обратился к другому есаулу, — с господами Строгановыми прогуляйся, подсчитайте, сколь чего брать с собой. Матвей, тебе все пищали учесть и пушки, что на стругах с собой привезли. Ильин — оснастку на стругах: весла, паруса, веревки, бочонки под воду, — быстро и повелительно отдавал приказания атаман. — Вот еще что, — уже на ступенях догнал он Строгановых, — нам бы с собой батюшку взять. На большое дело идем. Некому будет и отходную прочесть.
— Ну, за этим дело не встанет, — чуть приостановился Семен Аникитич, — отправлю с вами отца Зосиму, коль он сам согласится.
— Да он же старик уже, — удивился Максим. — Помрет в дороге еще.
— А где я тебе молодого сыщу? Все они батюшки почтенные. Какие есть, других не имеем.
Ермак понял, что от Семена ничего не добиться, и повернулся, пошел обратно к есаулам.
Сборы в поход заняли чуть больше недели. Проконопатили и просмолили струги, заштопали паруса, вытесали новые весла, взяв на каждый струг по два запасных гребных весла. Возбужденные казаки сновали по городку, задирая местных караульных, перемигиваясь с девками. Подходили к Ермаку и местные служивые люди, просились взять с собой. Среди них было несколько иноземцев из литовцев и поляков, что неизвестно каким путем попали в строгановские вотчины. Атаман всех отправлял к есаулам, предоставляя тем самим решать, кого набирать в свои сотни.
Отец Зосима оказался на удивление подвижным старичком с длинной прямой бородой, которую он на ходу постоянно поддерживал рукой, а то и подтыкал под ворот священнической рясы. Он сам разыскал Ермака и, благословив его, первым делом осведомился:
— Какие образа и хоругви брать в поход думаешь, атаман?
— То вам, батюшка, лучше знать. Воинских покровителей и берите. Не на блины идем. Поди, и сражений не избежать.
— И я так думаю. Тогда надобно взять непременно Архистратига Михаила, как главного покровителя воинства небесного, Спаса Нерукотворного, с которым князья русские в сражения с басурманами издавна ходили, и Димитрия Солунского, что русскому оружию заступник. Правда, всех этих образов у меня нет, но я съезжу в соседний монастырь, испрошу у настоятеля. Когда выступать станем?
— Как соберемся… — Ермак с интересом разглядывал сноровистого батюшку, вглядывался в его живые и умные глаза, думая, скольким казакам придется ему закрыть глаза после боя.
— Так не годится, — неожиданно возразил тот, — надо день наметить приметный, чтоб и воинам веры придал, и покровительство небесных заступников за нами было. — Он зашелестел тонкими губами, видно, вспоминая что-то. — К Успению не успеть собраться? Нет, верно, — тут же ответил сам себе, — да и негоже в праздник такой работой заниматься. Сретение иконы Владимирской? Тоже не поспеть? Усекновение главы Иоанна Предтечи Крестителя Господнего? Думаю, что не годится. А вот там день будет Семиона Столпника преподобного, что во имя веры множество подвигов совершил…
— Ратных подвигов? — поинтересовался Ермак.
— Нет. То подвиги другого рода были. Плоть он свою истязал. Но думаю, что день благой для начала похода. И вам ведь подвиг во имя веры совершить придется…
— Хорошо, — согласился Ермак, — к этому самому дню будем готовы.
— Тогда с Богом, — перекрестил его отец Зосима и скорым шагом отправился заниматься своими делами.
И хоть ко дню Семиона Столпника не все было готово, но Ермак настоял на отплытии в обговоренный с отцом Зосимой срок. И отслужив молебен, холодно простившись со Строгановыми, они оттолкнули струги от каменистого берега Чусовой.
Стояло погожее предосеннее утро, когда мать-земля, отдав все силы живому, исчерпав себя, готовится к длительному зимнему отдыху. Сохнут некогда могучие зеленые травы, обессиленно опадают листья, и деревья, стыдясь неожиданной наготы, вздрагивают от порывов дерзкого ветра, качают ветвями, пытаясь отогнать наглеца, а тот кружит вокруг, норовит повалить на землю и жутко завывает: "Мое-е-е…" А трудяги-паучки, стараясь помочь деревьям, торопливо ткут тонкое кружево, покрывая заголенные стволы, пеленая ветки. И наброшенные на ветки ажурные паутинки так напоминают о непорочном наряде невесты, что даже самый суровый, угрюмый мужик, ткнувшийся в нее лицом, ласково улыбнется, поглядит на причудливые кружева и лишь потом сбросит ее с себя, погладит белую с прожилками кору березки, войдет в прозрачный умолкнувший лес, да и то поспешит выбраться из него, чтоб не тревожить лишний раз засыпающие дерева.
Чем ближе подходили к отрогам гор, тем труднее становилось грести, но хуже всего пришлось, когда посланные вперед разведчики из местных служивых людей сообщили, что дальше хода нет и суда придется перетаскивать на руках. Но казакам то было не впервой, и поплевав на ладони, они дружно взялись за постромки, предварительно разгрузив струги, впрягаясь по два десятка в каждый, и пыхтя тащили их в гору с небольшими остановками, спускались вниз, найдя какой-то малый исток, возвращались обратно. В нескольких местах пришлось валить деревья, чтоб спрямить путь. Больше всего Ермак боялся, что вогульцы или кто-то из нукеров Алея могут оказаться поблизости и застать их врасплох. Потому две сотни попеременно несли охрану, растянувшись цепью. Потом несколько дней плыли, пробираясь через завалы упавших в русло речки деревьев, кое-где подымали воду, запруживая устье парусами. Но все облегченно вздохнули и повеселели, когда открылась широкая водная гладь реки, которая неторопливо несла казачьи струги по течению. И на обветренном лице атамана стала изредка появляться добродушная улыбка, зоркие глаза без устали вглядывались в лесную чащу, плотно обступившую, сжавшую реку. Он с нетерпением и тревогой ждал встречи с обитателями этих мест, желая узнать у них, сколько дней пути осталось до Кашлыка, откуда он много лет назад отправился в столь долгий путь.
Наконец, ранним утром с ертаульного струга подали сигнал. Впереди было селение. От струга к стругу понеслась команда готовить оружие к бою. Казаки с новыми силами налегли на весла, выстраиваясь полукругом, носами к берегу. На небольшой возвышенности увидели стены укрепленного городка, но ни на башнях, ни рядом не заметили людей. Казаки ертаульного струга, которым командовал Черкас Александров, уже карабкались вверх, задирая головы и поглядывая с опаской на стены. Но все было тихо. Вот они уже забрались на холм, идут вдоль стен, держа в руках сабли и пищали, ожидая шальной стрелы или копья, пущенного со стен.
— Спят они там что ли? — негромко спросил Яков Михайлов с соседнего струга.
— Не-е-е… Замыслили чего-то, — отозвался Гришка Ясырь. — Слышалось мне ночью, будто кто-то шастал вокруг нашего лагеря.
— Чего ж смолчал? — повернулся к нему Ермак.
— Думал, зверь какой ходит, вот и смолчал. На берег, обойдя крепость вокруг, выбежал Черкас Александров и, разведя руки, крикнул:
— Никого! Ушли все еще ночью.
— Видать, разведали, что мы рядом — и подались в лес, — сплюнул в воду Михайлов.
— Чего делать будем, атаман? — казаки со стругов смотрели на Ермака, ожидая его решения.
— Пристаем! Оглядеться надо. Может, не все ушли.
На росистой траве, притоптанной многими десятками ног, был виден широкий след, ведущий в сторону леса. Распахнутые ворота жалобно скрипели. Пахло недавним пребыванием человека, оставившего после себя золу кострищ, обглоданные кости, рыбью чешую, клочки шерсти и тот неуловимый дух жилья, рождаемый пребыванием человека в течение долгого срока на одном месте.
Ермак заглянул в несколько пустых полуземлянок из простого любопытства — и тут же давно загнанные вглубь воспоминания овладели им, вызвав щемящее чувство жалости к народу, среди которого он вырос, чья кровь текла в его жилах, чья речь по-прежнему жила в нем, чьи боги оберегали большую часть жизни. Но с кем теперь этот народ? С ним или с чужаком Кучумом? Признает ли он своего бывшего правителя, пожелает ли вновь видеть его на ханском холме?
— Нашли! Нашли! — послышались крики за его спиной.
Ермак повернулся и увидел, как несколько казаков, подталкивая, вели к нему древнего старика. Тот не сопротивлялся и шел, покорно опустив голову.
— Вот, атаман, — затараторил шустрый Иван Корчига из сотни Брязги, назначенный недавно подъесаулом-пятидесятником, — хотел костерок запалить. Верно, знак должен подать своим. Мы его и накрыли…
— Кто ты? — спросил Ермак старика, сделав воинам знак, чтоб они отпустили старого человека.
— Кто я, то всем известно. А вот ты кто такой? — враждебно заговорил старик, качая седой головой и зло сверкая маленькими глазками из-под набрякших без ресниц век.
— Люди зовут меня Ермаком, — спокойно заговорил с ним атаман. — Где люди из твоего городка? Почему они убежали?
— То их дело. Ушли и тебя на спросили. Говори, чего тебе надо.
— Чей это городок?
— Наш городок. Разве не ясно?
— Кто ваш князь?
— Значит, ты даже и этого не знаешь? А я-то тебя сперва принял за своего человека. Имя нашего князя Епанча-бек. Он доблестный воин и еще отомстит тебе за поругание…
— Так где же он? Почему он бежал, как заяц от первого лесного шороха? Пусть он придет к нам.
— Епанча-бек уехал в Кашлык и не знает, что вы напали на нас.
— Мы и не думали нападать. Разве мы убили или ограбили кого?
— Зачем же вы тогда пришли? Невесту выбирать?
— Может, и невесту, — хохотнул Иван Корчига, но осекся под суровым взглядом Ермака.
— Со стариками и женщинами мы не воюем, — сдержанно произнес атаман. — Ты свободен. Можешь идти.
— Конники! Конники из лесу скачут! С полсотни! — К Ермаку подбежал запыхавшийся Матвей Мещеряк.
— Подпустим их, атаман?
— Погоди стрелять. Может, миром удастся все решить.
— Как же… Миром, — отозвался из-за спины Иван Корчига. — Сейчас целоваться полезут. Жди…
Но Ермак не слышал его слов, уже бежал к воротам, выскочил наружу. Всадники находились совсем рядом, но на ружейный выстрел не приближались, а кружили перед городком, видимо, выманивая казаков на чистое место.
— Эх, коней бы нам добрых, — сжал кулаки Матвей Мещеряк. — Поговорили бы по душам с басурманами.
— Остынь, Матюха. Успеешь еще сабелькой помахать. Сейчас с ними надобно добром решать.
Мещеряк недоверчиво глянул на атамана и скривился.
— Ладно. Сходи потолкуй с ними. А мы подождем…
К ним сбегались казаки, бывшие на стругах. Узнав о появлении конников, они с пищалями наперевес поспешили на подмогу. Всадники, увидев готового к бою противника, не выпустив ни единой стрелы, повернули обратно к лесу, вскоре скрылись из вида.
— Эх, коней бы… — проговорил горестно Мещеряк.
— Где старик? — спросил Ермак Ивана Корчигу.
— Там, — неопределенно махнул тот рукой в сторону городка.
— Веди его сюда. Всем на струги. Тут нам делать больше нечего. — Ермак увидел, что казаки, разочарованные бегством сибирцев, с неприязнью смотрят в сторону леса и неохотно пошли к берегу. Корчига привел старика, подтолкнул его в спину прикладом пищали.
— Сколько нам плыть до Кашлыка? — спокойно задал вопрос Ермак.
— Как плыть будете. Значит, к самому хану Кучуму собрались? Не допустит он вас до себя. Многие пробовали, да не у всех вышло.
— У меня выйдет. За десять дней доберемся?
— Птица и за день долетит. Конному два десятка дней нужно. А как ваши лодки плавают, того не знаю.
— Есть ли еще городки близко? Много там воинов?
— Как не быть, — старик, не опуская глаз, внимательно смотрел на Ермака, словно оценивая его силы, — есть и селения наши, есть в них и воины. Только до хана Кучума все одно не дойти тебе. Шибко далеко.
— Хвост от головы тоже далеко, а достает коль нужно. Прощай, старый. Может и свидимся еще. Скажи всем, что атаман Ермак с миром пришел.
ШЭУЛА[7]
Кучуму опять снился дурной сон. Будто бы вышел из леса огромный зверь в десять раз больше медведя, с рысьей головой, с длиннющими когтями, а изо рта огонь вылетает, палит все кругом. Начал зверь тот ханский холм подрывать, нукеров его хватать и проглатывать. Закачалась земля от звериных ударов, отхлынули воды Иртыша-землероя, побежали все люди в дремучую тайгу. Лишь он, Кучум, остался один на холме с саблей в руках. Нацелился изо всех сил ударить по голове страшного зверя, но руки поднять не может. Крикнуть хочет, а голос пропал.
— Хан, проснись, — услышал наконец он сквозь тяжелую утреннюю дремоту чей-то голос.
— Что надо? — и рука сама потянулась к сабле, лежавшей всегда подле него.
— Плохие вести, — разобрал он голос начальника стражи.
— От Алея? — екнуло чуткое сердце. От старшего сына, ушедшего в дальний набег, уже несколько недель не было гонцов, и Кучум собирался было отправить кого следом, но Карача-бек отговорил, предложил подождать еще немного.
— Нет, мой хан. Прибыл сборщик ясака Кутугай…
— А-а-а… Вот что… Нечего было будить меня из-за пустяков. Мог бы и подождать.
— Он встретил многих воинов, что идут сюда.
— Каких воинов?! — сон отлетел от Кучума, словно комар, сброшенный ладонью с лица. Он вышел из шатра сосредоточенный и готовый к действию. — Где он? Веди его ко мне.
Вскоре к его шатру уже семенил небольшими шажками, непрерывно кланяясь и заискивающе улыбаясь, один из сборщиков дани, что объезжали ежегодно улусы, собирали меха, везли в Кашлык. Кучуму лишь изредка приходилось встречаться с ними, поскольку учет ясака вел Карача-бек. И сейчас, вглядываясь в маленькое невыразительное лицо Кутугая, он не мог припомнить, встречался ли с ним когда-нибудь. Но коль тот попросил о личном свидании, значит дело серьезное. И тут же отчетливо представился тот диковинный зверь из недавнего сна — и стало как-то муторно, нехорошо.
— Что ты хочешь сообщить? Говори, — обратился к Кутугаю, упавшему перед ним на колени.
— Милостивый хан! Пусть Аллах дарует тебе долгие дни жизни! Пусть он даст тебе силы в борьбе с неверными! Пусть… — Кучум слушал, не перебивая, давно привыкший, что чем ничтожнее человек, тем больше лести и притворного почтения спешит он выплеснуть, чтоб ублажить повелителя. Наконец, Кутугай закончил изливать на него свои здравицы и, приподняв от земли голову, заговорил со страхом в маленьких, глубоко посаженных глазах. — Я попал в руки к неверным, сам не желая того. Они напали на меня и моих людей…
— Кто такие? — Кучуму надоело слушать причитания, и он нетерпеливо прищелкнул пальцами.
— Русские, мой хан. На больших лодках плывут сюда. Ружья у них с огненным боем…
— Тыклэ*? — удивился Кучум. — Откуда им взяться?
Ты ничего не путаешь? На лодках, говоришь? Сколько их?
— Я не мог сосчитать, но много. Три десятка больших лодок. И на каждой по два, а то и три десятка воинов.
— Не мог сосчитать, говоришь, — невольно усмехнулся глупости сборщика дани Кучум. — Как же ты ясак считаешь? Знаешь, сколько лодок, знаешь, сколько русских в каждой. Сотен шесть получается. Так?
— Наверное, мой хан. Прости меня, глупого…
— Ты с ними говорил?
— Да, мой хан. Я говорил с самым главным из них. Имя ему Ермак. Вот что он просил передать тебе. — С этими словами Кутугай вытащил из-за пояса небольшой кинжал и передал его в руки Кучума.
Тот внимательно стал рассматривать кинжальчик и ему показалось, что где-то он уже видел его. Но где… Этого вспомнить он не мог. Конец его был обломлен, и, чуть нажав на лезвие, Кучум неожиданно увидел в руках две половины кинжала: рукоять и клинок.
— Это ты его сломал? — спросил Кутугая.
— Как хан мог подумать такое! Таким мне его и дали. Я еще спросил атамана: "Зачем хану Кучуму поломанный кинжал…"
— И что же он ответил?
— Сказал, что хан сам все поймет.
— И больше ничего?
— Еще передал, что желает встретиться с тобой.
— Зачем? Он вызвал меня на поединок?
— Нет. Просто сказал, что хотел бы встретиться с ханом.
— И это все?
— Да, мой хан.
— Значит, они плывут в Кашлык?
— Наверное, — растерянно развел руками Кутугай.
— Как давно ты видел их? И где это было?
— Неподалеку от старого городища Чимги-Тура. Пять Дней назад.
— Хорошо, можешь идти. Хоть ты и принес дурные вести, но я не стану наказывать тебя.
Униженно кланяясь, Кутугай попятился назад и быстро засеменил подальше от ханского шатра. Кучум же еще раз рассеянно покрутил в руках сломанный кинжал, и до него стал доходить смысл послания. Выходит, человек, назвавшийся Ермаком, достаточно мудр, коль сумел таким способом принизить его, хана Сибири. Кинжал с отломанным концом и распавшийся на две половинки говорит о том, что власть в его руках непрочна. И оружие может подвести, сломаться. Вот смысл его послания! Но как он посмел, безвестный русский, непочтительно обойтись с ним, потомком великих ханов?! Кто он такой?! Ермак… Кто-то из царских воевод? Простой воин? Где он смог набрать столько воинов, вооружить их?
— О чем думает хан? — услышал он голос Карачи-бека за своей спиной. — Что это? — указал визирь на поломанный кинжал.
— А ты подумай, — со злостью в голосе Кучум бросил ему в руки обе половинки. — Подумай и скажи, что это может значить.
— Я уже догадался, — спокойно ответил Карача-бек. — Кутугай все рассказал мне и показал этот сломанный кинжал. То старый обычай нашего народа — направлять противнику знак, который бы показал его слабость. Не стоит расстраиваться.
— Ладно. Может, ты и прав. Но откуда взялись эти воины? Почему я до сих пор ничего не слышал о них? Если бы царь Иван готовил свои рати в поход, то мне наверняка бы донесли. А тут шесть сотен в нескольких днях хода от Кашлыка! Почему я только сейчас узнал о них?! Почему?!
— Мои лазутчики молчат. Но я внимательно расспросил Кутугая, и кажется, в наши земли пожаловали казаки.
— Откуда им здесь взяться?
— Их городки стоят на Дону, на Волге. И ногайские властители сообщали не раз, что казаки отбивают их табуны, грабят улусы. Царь Иван — хитрый царь. Когда ему выгодно, то он приглашает этих разбойников к себе на службу, а потом отказывается от них.
— И ты думаешь, они посмеют напасть на Кашлык?
— Трудно сказать, но пускать их так далеко неразумно. Надо выслать несколько сотен и остановить их.
— Все лучшие нукеры ушли с Алеем. И тебе это известно не хуже моего.
— Наберем новых. Думаю, твой племянник Мухамед-Кул сможет выступить против казаков и разбить их.
— Мне бы не хотелось поручать Мухамед-Кулу столь важное дело, — дернул головой Кучум при напоминании о самолюбивом племяннике, — он может почувствовать себя незаменимым. А почему бы тебе, визирь, не пойти башлыком с сотнями?
— Надо готовиться к обороне, — уставясь на вершины темнеющих елей, негромко ответил тот, — может случиться всякое. А вдруг казаки окажутся здесь?
— Типун тебе на язык! Какая-то горстка разбойников, и вдруг доберется к самому подножию ханского холма?! Не бывать тому! Шли гонца к Мухамед-Кулу. Чтоб завтра же был здесь. Пусть все беки, мурзы выставят из своих улусов не меньше, чем по полсотни нукеров Через два дня они должны быть готовы выступить и разбить русских. Пусть пригонят их ко мне с петлей на шее.
Карача-бек коротко кивнул и, чуть прихрамывая, направился в глубь городка. Навстречу ему попались ханские сыновья Ишим и Алтанай с озабоченными лицами.
— Что-то случилось? — спросил визиря широколицый и плотно сбитый Ишим.
— Хан расскажет вам обо всем, — не останавливаясь, Карача-бек прошел мимо, великолепно зная, что ханские дети, впрочем, как и жены, да и остальные родственники, недолюбливают его.
Кучум, увидев спешащих к нему сыновей, чуть поморщился. Он заранее знал, как те начнут клянчить у него разрешения выступить с сотнями, чтоб сразиться с русскими. Но с их опытом… Рано, рано еще им быть башлыками в походах, не успел пока сыновей обучить опасному воинскому делу.
— Отец, — начал нетерпеливый Ишим, — мы слышали, будто русские идут по реке…
— Правильно слышал. И что из того? Хочешь сразиться с ними? И ты, Алтанай, тоже мечтаешь о воинских подвигах?
— Не ты ли, отец, рассказывал нам, как совсем молодым отправлялся в набеги? Разве мы не достигли того возраста? Почему целыми днями мы должны сидеть возле твоего шатра, тогда как другие ходят в набеги и возвращаются победителями? Объясни нам…
— Я просился с Алеем, — перебил младшего брата Ишим, — но ты запретил мне. Мы же не женщины, чтоб скрываться за стенами городка. Если ты и на это раз не отпустишь нас, то…
— И что тогда? — хмыкнул Кучум. — Одни сбежите? Да вы еще не умеете приказ сотням отдать. И кто вас станет слушать? Старые воины, что привыкли повиноваться лишь сильному и мудрому башлыку? Да никогда в жизни! Мало ли что вы напридумываете себе. Если вы ханские сыновья, то это совсем не значит, будто способны выиграть хоть одно самое малое сражение. Не пришло ваше время. Не пришло…
— Правда ли, что русские плывут сюда на больших лодках? — посмотрел на отца ясными и чистыми юношескими глазами Алтанай, которого Кучум выделял из всех за его рассудительность, сдержанность, мягкость и доброту.
— Да, именно так мне сообщил сборщик дани, которого они отпустили. Их не так много. Не больше шести сотен. Но нам трудно будет остановить их лодки.
— Надо перегородить реку! — выкрикнул, взмахнув руками, Ишим. — Посадить на берегу лучших стрелков, и они поубивают их прежде, чем те успеют скрыться. Когда они увидят нашу силу, то испугаются и повернут обратно.
— Я слышал, что у них много ружей. И бьют они дальше, чем наши стрелы летят. Их надо как-то перехитрить, словно рассуждая вслух, высказал свое мнение Алтанай, и Кучум в который раз поразился его рассудительности.
— Хорошо, — наконец согласился он, — вы пойдете в поход. Но во всем слушаться башлыка…
— А кто будет башлыком? Ты отец? — радостно заблестели глаза Ишима.
— Нет, я думаю отправить Мухамед-Кула. У него есть опыт. Его уважают воины. Мне же предстоит подготовиться к длительной обороне, если не удастся остановить русских.
— Как это не удастся?! — вскинул кулаки вверх Ишим.
— Да мы их так разделаем! Лодки изрубим, а их всех утопим в реке.
— Ну, ну, — только и ответил Кучум. — Готовьтесь к походу.
Вечером он зашел в шатер к Анне. Она словно ждала его прихода, хотя внешне и пыталась остаться спокойной и безразличной, делая вид, будто занята шитьем. Кучум сел напротив, подобрав ноги под себя, и молча наблюдал за снующими руками жены. Даже длинную иглу она держала несколько иначе, чем сибирские женщины. Те захватывали ее всеми четырьмя пальцами, а Анна лишь двумя, оттопыривая остальные. От этого ее движения были изящнее, плавнее, и сама игла непрерывно мелькала, словно и не было рук, направляющих ее.
После того как из городка исчез коротышка Халик, она заметно погрустнела, почти не улыбалась. Кучум было пробовал ревновать, но сама мысль, будто бы красивая и статная Анна могла питать какие-то чувства к уроду, которого и мужчиной нельзя назвать, претила ему. Но когда сотни во главе с Алеем ушли в набег на вотчины Строгановых, то Анна совсем перестала выходить из своего шатра, сказавшись больной. Он понимал причину ее так называемой болезни и несколько раз грубо напоминал ей, как она попала в Кашлык, но потом… потом, оставшись один, стыдился за свои вспышки. И тогда он решил, что время — лучший лекарь, и через какой-то срок Анна все поймет и простит его. Не он занял земли ее родственников, а они нарушили негласную границу.
— Долго будешь сердиться на меня? — первым прервал он молчание.
— Я не сержусь… Сердятся на того, кто может исправить свою ошибку, поступить иначе. Ты же всегда останешься таким.
— Каким? — поднял он вверх левую бровь.
— Какой есть, — четко выговорила она, не прерывая работы. — Злым и недобрым.
— Разве я не добр к тебе? Не люблю своих детей?
— Волк тоже не обижает своего детеныша. Но он зверь, а ты человек. И ты не должен убивать себе подобных.
— Опять ты об этом же! Тебе, верно, хочется, чтоб они, мои враги, убили меня? Ты этого хочешь?! — сорвался он на крик. Но Анна даже не вздрогнула, не подняла головы и лишь губы ее что-то неслышно прошептали. — Что ты там бормочешь? Говори так, чтоб я слышал.
— Молюсь, чтоб Господь вразумил тебя. Но, видно, мои молитвы не доходят до него. Слишком много крови на тебе.
— А над этим ты никогда не задумывалась, — Кучум рванул ворот халата, обнажая плечо, на котором виднелся шрам от сабли. — Не моя ли собственная кровь лилась, когда меня совсем юношу чуть не убили враги? Могу ли я забыть о том? Видела ты и другие шрамы. Так устроена жизнь, что побеждает более сильный и решительный. — Он уже не мог сидеть и, вскочив, забегал по тесному шатру, натыкаясь на сложенные ворохи шкур.
— Господь сохранил тебе жизнь — и ты должен быть благодарен ему за это. Пойми, что рано или поздно тебе придется ответить за все содеянное и тогда…
— Что тогда?
— Тебя ждет нелегкая смерть. И я переживаю не столько за моих родственников, которых не видела много лет, сколько за тебя. Ты сам своими руками губишь собственную душу. Даже если ты и прогонишь Строгановых, то придут другие. Тебе надо свыкнуться с этой мыслью. Только мир может сделать счастливее тебя и твоих детей. Иначе… ты будешь мучаться как сейчас.
— Я живу по закону моих предков, — он сделал ударение на последних словах, — иначе жить я не умею. И ты смиришься с этим, или…
— Или ты прогонишь меня, — закончила Анна. — Как сделал уже с несчастным Халиком.
— Замолчи! — затопал ногами Кучум. — Кто ты такая, чтоб возражать мне?! Женщина! — и он выскочил из шатра, обуреваемый пылающей внутри злобой, и бесцельно побрел по городку.
Мухамед-Кул прибыл с двумя десятками нукеров к вечеру следующего дня. Чуть раньше подошли воины Кутая, Шигали-хана, а вместе с ними Айдар и Дусай, что когда-то ходили с Мухамед-Кула усмирять северных князей. Другие князья прислали гонцов, что будут не позднее следующего дня, а пока заняты сборами в поход. Соуз-хан отрядил полсотни человек на добрых конях, но сам, сославшись на нездоровье, в Кашлык не приехал. Всем воинам велено было оставаться по другую сторону от перекидного моста и ждать подхода остальных сотен. Mухамед-Кул веселый и загорелый шел в окружении друзей к ханскому шатру, где его поджидал сам Кучум.
— Давно мы с тобой не виделись, — обнял он племянника. — Вон какой богатырь стал. Джигит!
— Хан тоже выглядит неплохо, — ответил Мухамед-Кул, и по первым же произнесенным словам Кучум понял, что лучшего башлыка, нежели его племянник, не сыскать. В нем были и сила, и отвага, и уверенность в себе.
— Рад, что ты быстро собрался. Верно, уже знаешь о гостях, явившихся на наши земли?
— Да, твой посланец сказал мне об этом. Но сколько их? Неужели всего пять-шесть сотен? На что они надеются? Может, другой отряд идет верхами где-то берегом?
— Вот это тебе и предстоит узнать. И во что бы то ни стало остановить их, выманить на берег. Я думаю, пять сотен всадников мы наберем. Остальные ушли с Алеем. Но и пять сотен хватит, чтоб разделаться с незваными гостями.
— Не будем загадывать, — сдержанно ответил Мухамед-Кул. — Дело покажет, каковы они в бою. Хан правильно сказал, главное — выманить их на берег.
— Не буду давать тебе никаких советов. Отдыхай пока. А как соберутся все сотни, то сразу и выступишь.
Как он и предполагал, набралось около пяти сотен конников. Весть о приходе русских словно всколыхнула окрестных князей и беков, и каждый, опасаясь за свою участь, послал сколько мог воинов. Ранним утром Кучум проводил племянника вместе с войском и долго стоял на вершине холма, вслушиваясь в гулкую поступь идущих на рысях сотен, доносящуюся до него из сомкнувшегося за ними леса. Он уже повернулся, чтоб вернуться обратно, когда услышал какой-то посторонний звук, и, всмотревшись вдаль, где только что скрылись ушедшие сотни, различил ряд телег, в которые были запряжены понурые заезженные лошадки, а сверху сидело по нескольку человек в ряд. Впереди ехали конники, державшие пики с конскими хвостами.
"Полон от Алея…" — мигом догадался он. — Наконец-то!"
И точно, то были плененные в вотчинах Строгановых русские мужики и бабы, которых царевич отправил в Кашлык вместе с десятком воинов охраны. На одной из телег лежали, поблескивая полукруглыми боками, две медные пушки, судя по всему, недавно отлитые и даже не бывавшие в деле.
— Сколько их? — спросил у старого воина Кучум, кивнув на пленных.
— Три десятка человек, — ответил тот. — Куда их девать, хан?
— Баб раздать нукерам, а мужикам выколоть глаза и посадить сбивать молоко на сыр и масло, — коротко распорядился он, вспомнив вчерашний разговор с Анной, и, не оборачиваясь, пошел по качающемуся под ним мосту.
КИЛЕШУ[8]
Карача-бек безошибочно угадал ухудшение настроения Кучума после сообщения о появлении казаков во владениях ханства. В такие моменты с ханом было лучше не разговаривать, чтоб не попасть под горячую руку, и даже совсем исчезнуть из Кашлыка. К тому же в голове у визиря зародился свой план и ему необходимо было срочно с кем-то посоветоваться, услышать чужое мнение Коротко сообщив начальнику стражи, что он будет отсутствовать несколько дней, Карача-бек выехал из ханской ставки и направился к городку Соуз-хана.
Отправив лучших своих нукеров с царевичем Мухамед-Кулом против казаков, Соуз-хан сильно перетрусил. Он больше всего боялся не столько русских, с которыми, как он думал, всегда можно договориться и откупиться от них, сколько разбойников. Те возьмут и деньги, и наложниц, и его жизнь в придачу. Поэтому он велел разрушить подъемный мост, наглухо завалить бревнами и корягами ворота и никому ни под каким предлогом не отлучаться из городка. На башнях круглые сутки дежурили вооруженные нукеры, а всем, включая жен и наложниц, раздали оружие.
Старшие сыновья Соуз-хана, давно женатые, имевшие уже по нескольку жен, шушукались меж собой, подшучивали над отцом. Но он не обращал внимания на их смешки, отвечая на все издевки:
— У медведя силы побольше, чем у иного батыра, а и он зря не лезет в драку. На зиму в берлогу заляжет, затаится — и не сыщешь. Вот и нам самое лучшее сейчас — отсидеться тихо, незаметно, а как казаки уйдут, то все пойдет по-старому.
— А коль не уйдут? — спрашивал отца старший Шарип. — Что же нам теперь всю жизнь тут сидеть, от людей закрывшись?
— Сколько надо, столько и будем сидеть!
— Сейчас самое время уток погонять, боровая дичь подошла, — мечтательно вздыхал другой его сын Набут.
— И забудь! — замахал на него руками, испуганно округляя глаза, Соуз-хан. — Выбрось из своей глупой головы! Понял?
И сыновьям ничего другого не оставалось как подчиниться. Правда, уже на второй день заточения сыновья решили ночью, в тайне от отца, сбежать в лес на охоту. Осталось дождаться темноты и выбрать удобное место, где бы можно беспрепятственно перебраться через стену.
— Всадник! — неожиданно закричал после полудня стражник с башни.
— Неужели русские уже здесь?! — всполошился Соуз-хан и дрожащими руками схватил заранее приготовленную тяжелую пищаль.
— Да он один, — крикнул взлетевший на стену Набут.
— И что из того? Сперва один, а потом сотня. Не смейте разговаривать с ним! Всем спрятаться! Слышите?! Пусть думает, что мы все уехали куда-нибудь в гости.
— Отец, это, кажется, ханский визирь, — зоркие глаза Набута угадали в скачущем всаднике человека, который не раз бывал у них.
— Карача-бек?! Этот еще более страшный разбойник. Он опять втянет меня в какую-нибудь историю. Не открывайте ему.
— Как не открыть ханскому визирю? — удивился Шарип.
— Нечего ему тут делать. Скажите, что я болен.
— Так он и поверит, — вполголоса проговорил Шарип, отходя в сторону.
Меж тем Карача-бек, подскакав к стенам городка, обнаружил, что подъемный мост разрушен, а ворота наглухо закрыты. И сразу догадался о причине подобных приготовлений. Разглядев притаившегося на вышке охранника, громко крикнул:
— Где почтенный Соуз-хан? Здоров ли он?
— Ой, господин, — запричитал тот — наш хозяин шибко болен. Так болен, что и принять никого не может.
— Пусть впустит меня и я облегчу его страдания. Скажи, что у меня с собой хорошее лекарство. Да пошевеливайся там!
Охранник кубарем скатился по лестнице и доложил укрывшемуся в шатре господину, что ханский визирь во что бы то ни стало желает видеть лично его.
— Видно, и умереть мне спокойно не дадут, — заохал тот, тяжело дыша и держась за живот. У него и впрямь начались сильнейшие боли в области пупка и внутри так крутило кишки, будто там орудовала здоровенная мышь или змея.
Держась рукой за пупок, вминая его внутрь, он тяжело вполз наверх башни и крикнул:
— Мое почтение ханскому визирю! Как драгоценное здоровье нашего хана?
— Спасибо, здоровье его в полном порядке. А ты, говорят, умирать собрался? Не рано ли?
— Ой, плохо дело, очень плохо. Ни сидеть, ни лежать не могу. Видно, и впрямь умру скоро.
— Брось, Соуз-хан, брось глупости говорить. Поживем еще с тобой. Почему ты не впускаешь меня? Или у тебя заразная болезнь?
— Да кто его знает. Может и заразная, а может нет…
— Вели открыть ворота. Я постараюсь помочь тебе и хоть как-то облегчить страдания.
— Не могу, почтеннейший. Я еще вчера приказал завалить ворота и не открывать их никому.
— Тогда спускайся ко мне. У меня серьезный разговор и я не желаю перекрикиваться как двое глухих.
— Как я могу спуститься?! — всплеснул короткими ручками Соуз-хан. — Разобьюсь!
— Пусть хотя бы для меня лестницу спустят. Скоро ночь наступит. Да и поговорить надо. Давай лестницу!
Соуз-хан понял, что ему не отвязаться от назойливого гостя, и велел стражникам принести лестницу, по которой Карача-бек ловко вскарабкался на стену.
— Скажи своим нукерам, чтоб кто-нибудь стреножил мою лошадь. А то коль она убежит, придется брать у тебя доброго коня.
Карача-бек, проведенный в хозяйский шатер, заметил и сыновей Соуз-хана, поклонившихся ему, но без приглашения отца не посмевших зайти следом.
— Что же наследников своих не зовешь? Им тоже не помешает послушать, о чем старшие говорят.
Соуз-хану не оставалось ничего другого, как кликнуть сыновей.
— Отчего в поход с царевичем не пошли? — спросил их Карача-бек, осматривая плечистых здоровяков-братьев.
— Отец не пустил, — наклонил голову Шарип.
— Мы просились, — поддакнул младший.
— Успеют еще, навоюются, — с неожиданной твердостью в голосе проговорил Соуз-хан. Похоже, что болезнь его прошла и теперь, в присутствии сыновей, он держался уверенно, как и подобает отцу и хозяину.
— Может, и так… Может быть, немало еще всем нам повоевать придется. Многое зависит от того, как поход Мухамед-Кула сложится. Если удастся ему остановить русских, на том война и закончится. А вот коль они дальше поплывут… Тогда не знаю, как все повернется…
— Неужели такая сила у русских, что до самого Кашлыка дойти могут? А ведь и мой городок рядом, рукой подать. Что же делать?
— Подожди умирать раньше времени. Вон у тебя какие сыновья! Разве не защитят отца? А? — спросил он у зардевшихся румянцем молодых людей, ловивших каждое слово их разговора.
— Мы сможем постоять за себя! — привскочил Шарип.
— Я из лука утку влет сбиваю, — подхватил Набут.
— Это хорошо, что вы такие храбрецы. Только мне хочется о другом поговорить, — охладил их пыл Карача-бек. — Знаете ли вы, что ваш отец происходит из очень древнего рода? А значит, и вы тоже. Ваши предки были в родстве с великими ханами, которые владели едва не половиной сибирских земель. Поэтому я и почитаю вашего отца и вожу с ним дружбу. И вам надо помнить об этом.
— Мы помним, помним… А как же…
— И хорошо, что помните. Но наш хан Кучум не очень-то жалует людей древнего и знатного рода. Он водит дружбу с теми, кто ничего не имеет и всем обязан лично ему. Пока он у власти, вам и думать не стоит о высоком положении при ханском дворе.
— Это так, — подал голос Соуз-хан. — Не жалует он меня.
— А вы не думали, что будет, если русские вдруг да прогонят нашего хана? Кому достанется белый ханский войлок? Кто поставит свой шатер на ханском холме?
— Так сами русские и сядут, — простодушно ответил Шарип.
— Э-э-э… Ты плохо знаешь русских. Они не смогут управлять нами, потому что не знают нашего языка, обычаев, другой веры, нежели мы.
— Значит, найдут кого-нибудь, — предположил Набут.
— Вот именно. Кого-нибудь найдут, пригласят. Вы правильно меня поняли.
Соуз-хан, до которого начал доходить смысл слов Карачи-бека, хитро сощурился и причмокнул толстыми губами.
— Надо бы тогда помочь этим русским. А? Как думает почтенный визирь?
Я думаю, что ты правильно решил: отсидеться в городке и поглядеть, как дело выгорит, куда все обернется. Сейчас рано принимать чью-то сторону. Пусть все идет как идет.
— А где те ружья, что выковал тебе мастер, привезенный нами из Казани? — спросил Соуз-хан визиря.
— Они в надежном месте и ожидают своего часа. И лучше, чтобы ты совсем забыл о них.
— Хорошо, хорошо… — поспешно заверил его Соуз-хан. — Ты же знаешь, что я умею молчать.
— Да. Длинный язык часто укорачивает жизнь хозяину. А теперь, может, вы меня угостите чем-нибудь?
* * *
Рыбак Назис неспешно плыл на новом челноке, поглядывая на лежащий в носу улов. Рыба, отъевшаяся за лето, была вялой, чуяла приближение скорой зимы и держалась на глубине. В сетку, которую он ставил в устье небольшой речушки, попались пара щук и один небольшой язь. Но и этого должно хватить, чтоб сварить уху самому, накормить внуков.
После того, как они с новым господином Сабанаком ушли подальше от ханских сборщиков дани, даругов, нашли удобное для жилья место, прошло немало времени. Их пока никто не тревожил, мужчины повеселели, стали сытнее питаться женщины и дети. И сам Назис надеялся благополучно дожить остаток дней в тишине и покое.
— Ишь, как получается, — разговаривал по привычке он сам с собой, неторопливо взмахивая веслом и направляя лодку в узкую протоку в сторону селения, — когда одному человеку хорошо, то другим плохо. Наш хан желает много добра накопить, с нас шкурки требует. Мы, значит, помирай, а шкурки принеси. Разве можно так жить? Вот если встречу когда хана, то скажу ему: "Шибко жадный ты человек. Зачем нас обижаешь? Мы тебя не трогаем и ты нас не трогай. Нужна шкурка? Бери лук, ставь ловушку, добудь соболя. Почему мой внук должен тебе шкурку отдать? Нехорошо так…"
Назис уже собирался повернуть лодку возле развесистой талины, за которой начиналась протока, как вдруг, скользнув взглядом по спокойной речной глади, заметил вдали что-то необычное. Сощуря слезящиеся глаза, он напряг зрение и ему почудилось, будто белое облачко плывет прямо по воде.
— Тьфу, шайтан! — ругнулся он. — Что бы это могло быть?
Сердце бешено застучало в груди, как бывает в преддверии опасности. А старый рыбак хорошо знал, убедившись в том за долгие годы жизни, что все новое, необычное извещает о приближении беды. Он было хотел спрятаться в протоке, но любопытство взяло верх и, уцепившись рукой за склоненную к воде ветку тальника, подтянул лодку к берегу, стал ждать.
А облачко все увеличивалось в размерах, и вскоре он различил под ним черные борта огромной лодки, поверх которых поблескивали в солнечных лучах шлемы воинов. Назис онемел от увиденного, а вслед за первой лодкой с белым, похожим издалека на облачко, парусом, различил еще несколько. Уже стали слышны тихие всплески весел, равномерно вздымающихся и опускающихся в воду. Старому рыбаку прежде не приходилось видеть ничего подобного и он смотрел, смотрел, не отрывая глаз от сказочного зрелища. Наконец, когда передняя лодка почти поравнялась с ним и даже стали видны лица гребцов, он спохватился и бросил ветку, с силой опустил весло в воду, чтоб одним рывком уйти в протоку. Но то ли от испуга, то ли не рассчитав силы, гребнул чересчур сильно и лодочка зачерпнула бортом воду. Назис перекинул весло на другую сторону, спеша выправить ее, но раздался громкий звук, словно лопнула льдина на весенней реке, он от испуга дернулся и сам не понял как очутился в воде. Под ногами была отмель. Весь мокрый Назис вскочил, поймал долбленку, глянул на огромную лодку, повернувшуюся к нему, и понял по легкому дымку над водой, что стреляли оттуда. Быстро подтащив лодку к берегу, Назис спешно рванулся к густым кустам, в изобилии покрывавшим низменный берег. Пробежав с десяток шагов, вспомнил об оставленном улове, сетке и бросился обратно. Но когда он продравшись сквозь заросли вышел на берег, то увидел бородатых воинов в кольчугах и шлемах, с саблями в руках, осматривавших его лодку и весело улыбавшихся.
— Не смейте трогать ее! — закричал, не помня себя, Назис и кинулся с поднятыми кулаками на незнакомцев. Те недоумевая шагнули назад, а один из них спросил на родном языке старика:
— Почему бежал? Выстрела испугался? Так мы в воздух бахнули, знак тебе подали.
— Знак, говоришь? — наступал на толмача старик. — Я вот сейчас тебе такой знак подам, что долго помнить будешь, — и он, наклонившись, схватил с земли обломанную ветку и с размаха перепоясал растерявшегося воина под дружный смех товарищей.
— Ты чего делаешь, старик?! — закричал тот не столько от боли, сколько от удивления. — Я что ли стрелял? Вон пушкарь в струге сидит с ним и разбирайся.
— И ему достанется, коль будет еще старых людей пужать до смерти, — погрозил в сторону струга кулаком Назис. — Чтоб меня, Назиса, которого здесь каждый карась знает, пугали?! Не спущу! — но постепенно он успокоился, подобрал улов, оставленный на берегу, и неожиданно поднес его обиженному толмачу. — Держи подарок от старого Назиса, коль зря тебя стеганул.
— Да ладно, — еще больше смутился тот. — Сами рыбу ловим. Хорошая тут у вас рыба.
— Так то сами, а то подарок. Есть разница? рыбы лучше нашей нигде не сыскать.
— Эй, что у вас там? — крикнули с большого струга, который подошел поближе к берегу. — Почему остановка?
— Да вот, атаман, рыбу нам подарили. Отблагодарить бы старого человека надо, да не знаем, чем…
— Подарите ему топор, коль запасной есть, — прокричал все тот же властный голос. — Да возьмите рыбака с собой, узнайте, какие селения впереди.
Старому Назису показалось, что он где-то уже слышал этот голос. Когда же ему предложили проплыть с ними, то наотрез отказался.
— Домой надо, — замотал он головой, — а то хватятся, искать пойдут.
— На, старик, возьми подарок от нас, как атаман велел, — протянул ему один из казаков насаженный на длинное топорище остро наточенный топор.
— Это мне? — растерялся Назис. — Вы будто бы знали, что мой совсем плохой стал. Век помнить буду. Очень хороший топор. Ну, коли так, то покажу вам малость, куда плыть. Только лодку мою к своей привяжите, чтоб было на чем вернуться.
Когда Назис подплыл к стругу атамана, перебрался в него, то он с интересом стал рассматривать сидящих на широких лавках гребцов, с улыбкой поглядывающих на него. Глянул на чернобородого крепкого атамана, что расположился на корме.
— А я тебя раньше нигде не встречал? — спросил он его.
— Не знаю, не знаю. Может, и встречал. В жизни всякое бывает.
— Куда плывете?
— К хану вашему в гости, — крикнул рыжий с конопатым лицом казак. — Говорят, жен больно много у вашего хана, а он старый, не справляется. Вот мы и подсобим малость. — Остальные казаки весело засмеялись.
— Наш хан большой человек, — почесал за ухом Назис, — ему и жен положено много иметь. А уж справляется он с ними или нет, то его дело.
— Как зовут тебя, рыбак? — спросил атаман.
— Назисом меня зовут. А тебя как?
— Меня Ермаком кличут.
— Нет, не слыхал. Так неужто вы и впрямь в Кашлык собрались?
— За сколько дней мы доплывем туда?
— Не знаю, как ваши лодки идут, но я на своем челноке за два дня с роздыхом, с ночевкой добираюсь.
— Воинов вокруг не видно?
— Откуда им тут взяться. Они подле Кашлыка все стоят. А сюда, в глушь, и не суются.
— Какое ближайшее селение будет?
— Да вот на этом берегу за поворотом Бабасаны и будут. Только людей там почти не осталось. Хан всех таким ясаком обложил, что поразбегался народ.
— А на другой стороне кто есть? — выспрашивал рыбака атаман меж тем, как гребцы с силой налегали на весла, и струг ходко шел вниз по течению.
— Там владения прежнего хана Едигира были. Любил он там охотиться на медведей. А как он сгинул, то Кучум все отдал своему человеку во владения. Карача-бек его зовут.
— И что же он? Тоже охотится? Верно, всех медведей повывел…
— Куда ему! — скривился Назис. — Хромой. Какой с него охотник. Он там кузницу тайную сделал. Сам я не бывал на ней, а люди говаривали, будто такие как у вас ружья делают. — Старик показал на пищали, прислоненные к бортам струга.
— Интересные вещи ты рассказываешь. Спасибо тебе.
— А вон и сами Бабасаны уже виднеются! Вон они, — ткнул корявым пальцем в сторону берега Назис.
— Всадников видим на холме! — крикнули с караульного струга.
— Сколько их? — встрепенулся атаман.
— Много… Не сосчитать… Сотни две, точно… Может, поболе…
— Табань! — приказал атаман. Ну Назис, спасибо тебе и перебирайся в свою долбленку. Прими от меня мешочек с солью, да крупы чуть. Кто у вас главный в селении?
— Князь Сабанак.
— Сабанак, говоришь? Передай ему, чтоб шел к нам на службу. Нам нужны люди. А сейчас прощай. Горячее дело начнется. Лучше плыть тебе восвояси. Не поминай лихом.
Когда Назис отплыл от казачьих стругов, то он увидел, как они, развернувшись, выстроились полукругом вдоль берега и медленно пошли на сближение с группой всадников на холме.
ЧЭНЧУ[9]
Сотни Мухамед-Кула ходко шли на рысях вдоль русла, несшего им навстречу мутные воды Тобола. Река словно предвидела скорое наступление холодов, спеша соединиться с бескрайними просторами великого океана и, отдав себя всю без остатка, отдохнуть там под вечным ледяным покровом незыблемого льда. Мухамед-Кул вглядывался в тревожные, бьющиеся о глинистый берег потоки, выворачивающие корневища кустов и деревьев, срывающих с них тонкую кору, листья, и ему казалось, будто река стремится быстрее убежать с земель, где вскоре начнутся бои. Тяжелые мрачные тучи опускались все ниже к земле, сжимая пространство, делая воздух мягким и липким, вяжущим движения. Время замедлялось, увядало, сковывало бег коней и ход человеческой мысли.
Глянув на медленно едущих нукеров, словно прорывающих застоявшийся сырой воздух, Мухамед-Кул подумал, что природа не желает пропускать их навстречу ждущей где-то за поворотом реки смерти. Грусть застыла на каждом листочке, на склоненной к воде веточке, и даже набухшая мягкая земля удерживала конские копыта, не пускала их. Да и сами кони пугливо вздрагивали, не слушались повода, шли вразнобой, переходя с рыси на медленный шаг. Нукеры злились, настегивая и пришпоривая их, сыпя ругательствами, их раздражение передавалось сотникам, мрачно поглядывающим на Мухамед-Кулу.
Несколько раз высылали передовой отряд, который уходил далеко вперед, возвращался. Недоуменно кривились губы разведчиков, не нашедших врага. Воины плохо представляли, как они смогут задержать плывущие по реке лодки, и это непонимание, неопределенность еще более угнетающе действовала на всех.
Мухамед-Кул приготовился, если они она следующий день не обнаружат врага, повернуть обратно в Кашлык, а там пусть хан сам решает, где искать причудившихся ему казаков. Мухамед-Кул так до конца и не поверил Кучуму, когда тот отправил его остановить русские отряды, неожиданно появившиеся на глухих сибирских реках. Откуда им тут взяться? Может, это все хитрая уловка, чтоб заманить его куда-нибудь и там расправиться? Если угроза столь велика, то почему Кучум сам не вышел им навстречу? Нет, что-то здесь не так, и чем дальше, тем чаще поминал он Кучума недобрым словом.
— Не нравится мне все это, — просипел простуженным голосом постаревший за последние годы, но столь же преданный ему Янбакты. — Хан не сказал, где мы должны встретить русских?
— Если бы сказал, то ты бы первый знал об этом, — раздраженно ответил Мухамед-Кул.
— Почему он не отправил с нами никого из своих сыновей?
— Как не отправил? Отправил…
— Но где они?
— Им приказано держаться сзади. Охранять нас неизвестно от кого, — презрительно ткнул нагайкой за спину Мухамед-Кул.
— Понятно… — отозвался старый сотник. — В случае победы они окажутся рядом, а при неудаче свалят все на нас.
— Видимо, так. А что это за селение впереди?
— Не узнал? Бабасаны. Может, тут и заночуем?
— Можно. Тихое место…
— Лодки! Лодки плывут! — вдруг донеслось до них. И точно. Из-за поворота один за другим выплывали казачьи струги, низко проседая черными просмоленными бортами с упругими прямоугольными парусами над ними. Дружно вздымались длинные весла, и в их движениях таились скрытая сила и угроза.
Видно, их заметили со стругов, потому что они замедлили ход, развернулись, медленно стали подгребать к речной отмели.
— Что будем делать? — спросил Янбакты. — Ждать, когда выйдут на берег? Или нападем сразу?
— Они могут уйти на другой берег. Подождем. К тому же темнеет. Кони устали. Подождем до утра.
Янбакты поскакал вперед, чтоб передать нукерам приказ укрыться в ближайшем леске и ждать до утра. Не выпустив ни одной стрелы, воины отошли за мелководную речку, где расседлали коней, выставили дозоры.
Ночь прошла спокойно. Мухамед-Кул более всего беспокоился, что утром не застанет казаков на месте, и они уплывут дальше, не приняв боя. Но судя по доносившемуся с реки шуму, те и не думали уходить. Там слышались негромкие разговоры, бряцание металла, плеск воды.
"Верно, они приняли нас за небольшой отряд, который тут же скрылся. Теперь они беззаботно устраивают лагерь, и утром мы застанем их врасплох", — думал, лежа на толстой попоне, Мухамед-Кул. Ему не спалось. Он с Янбакты несколько раз переправлялся через речку и тихо подбирался к казачьему лагерю, стараясь по шуму определить, чем те заняты. Там не спали, переговаривались громко, почти не таясь. Значит, они чувствуют себя в безопасности и не готовы к нападению. Шум в казачьем лагере смолк лишь перед самым рассветом, и Мухамед-Кул, решив, что они крепко заснули, дал сигнал сотням к выступлению.
Сотню Дусая он поставил справа от себя. Вдоль речушки по левому берегу должна была ударить сотня Айдара. По центру выстроил две сотни Кутугая и Шигали-хана. Пристегнув под подбородком ремешок шлема, медленно вынул из ножен саблю, тронул коня. Выехали на опушку леса и в утренних сумерках разглядели видневшиеся вдоль берега Тобола покатые днища казачьих стругов. Рядом вились дымки костров и чуть в стороне белели полотнища сохнувших на шестах парусов. Еще он заметил свежие холмики сырой земли, тянувшиеся вдоль берега. До казачьего лагеря было не больше пяти сотен шагов. Ровно столько, чтоб разогнать застоявшихся за ночь коней и перемахнуть через пойменный луг с небольшими кочками. Мухамед-Кул взмахнул саблей и пустил коня вскачь, увлекая за собой сотни. Нукеры, подбадривая один другого, дико завизжали и, нахлестывая коней, понеслись лавой с невысокого пригорка вниз к реке все ближе и ближе к чернеющим смоляными боками стругам.
…Когда Ермак увидел со струга стоявших на берегу всадников, то он чутьем безошибочно угадал, что то лишь малая часть большого отряда, направленного Кучумом для встречи с ним. Конники же, впервые столкнувшись с речной ратью, поспешно ушли с берега и, верно, укрылись в лесу дожидаться там следующего дня.
Кликнув Ивана Кольцо и Матвея Мещеряка, чтоб перебрались к нему на струг, он спросил их негромко:
— Бой принимать станем? Или двинем дальше до самого Кашлыка?
— На кой они нам тут нужны? Чего вырешим? — тряхнул чубом Кольцо. Зато Мещеряк, растирая меж пальцами прихваченный где-то сухарь и кидая крошки в рот, высказался иначе.
— На кой ни на кой, а проверить их надо. Будут справно биться, завсегда водой уйдем. А побегут — и нам первая победа запишется.
— А ты, атаман, сам как думаешь? — Кольцо, бывший и при Барбоше всегда не первым, но вторым, и тут не желал выпячиваться, настаивать на своем. У Ермака давно сложилось впечатление, что и в поход он пошел, что называется, со всем миром, вслед за друзьями. Позвали бы на Каспий, тоже согласился. Ему было все равно, где и с кем воевать, лишь бы не сидеть на месте. У Мещеряка же чувствовалось извечное мужицкое стремление к правде, к спору, желание взять верх. Он недолюбливал ловкого и верткого Кольцо, хоть и не проявлял свое отношение в открытую.
— Ладно, — хлопнул кулаком по борту Ермак, — будем грести к берегу. Надобно проверить, кого по наши души направили. Не мы им, а они нам силами помериться предложили.
— Верно говоришь, — поддержал его Мещеряк.
— Твоя воля, атаман, — пожал острыми плечами Иван Кольцо.
Татарские конники убрались в глубь леса, едва казаки причалили к берегу. Начало смеркаться, и, верно, они решили дождаться утра. Ермак тут же велел есаулам в полутораста шагах от воды вырыть глубокие рвы, как это делалось на ливонской войне, когда пешие воины ждали нападения конницы. А потом, чуть подумав, велел вытаскивать струги и, повернув их бортами, укрепить впереди рвов, чтоб удобнее было укрыться от стрел и копий. Чуть в стороне натянули паруса, укрыли под ними бочонки с порохом, припасы, а в случае чего могли разместить там и раненых. По краям укрепленного лагеря расставили пушечки, снятые со стругов, подсыпав под них побольше земли, получилось некое подобие холма, с которого хорошо было выцеливать противника.
Приготовления закончили лишь к утру. Ермак несколько раз направлял в сторону леса Гришку Ясыря, чтоб разведал на месте ли конники, не ушли ли под покровом ночи.
— Дрыхнут, — сообщал тот, возвращаясь. — Эх, вдарить бы по ним сейчас, атаман, — мечтательно предлагал он, чуть подмигивая Ермаку, сидевшему у небольшого костерка.
— Успеешь еще, вдаришь. Утра только дождись, а то в лесу и без глаз остаться можешь. Как думаешь, сколько их там?
— Сотни три, а то и поболе. Как разобрать…
— Ладно, завтра увидим.
Казаки только задремали, прислонившись прямо к кучам земли, забравшись в поваленные, наклоненные на бок струги, как ударил походный барабан и чей-то испуганный голос закричал:
— Скачут! Скачут! Конники на нас скачут! Пока казаки вскакивали, продирали глаза, хватали пищали, высекали огонь, татарская конница прошла половину луга. Земля чуть подрагивала от дружного топота, будто где-то рядом собралась гроза и раскаты грома катились по воздуху, предупреждая зазевавшихся в поле людей о близости ливня. Но вслед за этим все нарастал режущий ухо визг летящих с поднятыми саблями всадников.
— Готовьсь! Целься ниже! Стреляй в коней! — закричал что было силы Ермак, перекрывая многоголосый визг и конское ржание. Он стоял возле одной из пушек, ближе к устью речки, откуда можно было ожидать прорыва основной массы всадников, когда их завернут от центра.
Раздались первые выстрелы, потом еще и еще — и пошло щелкать, хлопать, потрескивать, похрустывать… И визг скачущих тут же сменился воем раненых, криками ужаса, когда упавший на землю человек попадает под копыта скачущих сзади лошадей и гибнет медленной, мучительной смертью.
Едва дым слегка развеялся, то казаки увидели, что первый ряд нападающих был смят, на земле билось с полсотни коней и столько же воинов ползли, корчились, стонали, тянули руки к своим. Остальные, круто развернувшись, ушли резко в сторону, пытаясь найти слабину в казачьей обороне, но всюду встречали вспышки выстрелов, взлетающие вверх клубы пищальных дымков.
В ту сторону, где стоял во весь рост Ермак, неслось десятка три всадников, выставя вперед длинные копья, упрятав головы в гривы коней.
— Пали! — крикнул он пушкарю Ивашке Лукьянову, что прибился к ним от строгановских городков. Пушечка подпрыгнула и так бухнула, что заложило уши. Ермак спрыгнул с вала, держа саблю наготове. Но когда дым рассеялся, то увидел, что всадники, не доскакав до них, повернули обратно, напуганные громовым пушечным раскатом. Он взобрался вновь на земляной холм, оглядел подступы к лагерю. Пока еще ни один из нападавших не сумел даже близко подобраться к перевернутым стругам. Прикинув, как бы он поступил на их месте, Ермак подумал, что они или отойдут назад и дадут казакам спокойно уйти, или начнут издали осыпать их стрелами, а потом попытаются все же наскочить, выявив наиболее уязвимые места в обороне.
— Приготовить щиты! — прокричал он, и казаки выставили перед собой связанные ночью из гибких таловых прутьев большие щиты. Настал самый решительный момент боя.
Мухамед-Кул вернулся обратно на пригорок и едва смог разжать стиснутые на сабельной рукояти пальцы. Его трясло от бешенства и стыда, что так неудачно начал бой, понадеявшись на беспечность казаков.
— Нечестивые псы! — скрипел он зубами. — Укрылись за своими лодками и не пожелали встретиться в честной схватке! Но ничего, я выкурю вас, хитрых лисиц!
К нему подскакал слегка задетый пулей в щеку Айдар, сверкая налитыми злобой глазами. Его сотня не смогла из-за топи подле реки подойти близко к казачьим укреплениям и почти не понесла жертв. Но это только распалило нетерпеливого Айдара и сейчас он, крутя в руке длинную плеть, кричал прямо в лицо Мухамед-Куле:
— Почему ты не пустил вперед лучников?! Почему?! Они бы не дали им и носа высунуть, а так скольких нукеров мы уже потеряли!
— Не горячись. Бой не окончен. Сейчас пойдут стрелки. А ты готовься кинуться вслед за ними. Может быть, всем не удастся прорваться, то хотя бы половина прорвалась через их проклятые лодки, достала их саблями…
— Были бы у нас лодки, — вздохнул сзади Янбакты, — мы бы им показали…
— Где я возьму тебе лодки? — огрызнулся Мухамед-Кул. — Нет у меня лодок! Так будем биться.
— А если вплавь попробовать? — предложил подъехавший к ним Дусай.
— Не смеши! Перебьют как уток, — отмахнулся Айдар.
— Выдвигайте вперед лучших стрелков, — приказал Мухамед-Кул. — Пусть скачут не прямо в лоб, а вдоль их лагеря. Так в них будет труднее попасть и они смогут ближе подобраться к русским.
— Кони боятся их выстрелов, — словно оправдываясь, высказался Дусай. — Уши им что ли позатыкать?
— А ведь правильно говоришь, — впервые за утро улыбнулся Мухамед-Кул. — Я и сам подумал, что если бы кони не пугались, то мы добрались бы до их укреплений, — кивнул он на русский лагерь.
— Ладно, попробуем, — согласились Айдар и Дусай и поехали к своим сотням.
— А тебе нечего соваться в пекло, — удержал Мухамед-Кула преданный Янбакты. — Коль убьют, то кто боем управлять станет…
— Сам знаю, — дернулся тот, но коня придержал и стал наблюдать с пригорка, как разворачиваются события.
Айдар долго что-то втолковывал своим нукерам. Вот они стали вырывать клочья подкладки из своих халатов, затыкать уши лошадям. То же самое делали воины Дусая. Затем Айдар отделил полсотни стрелков и пустил их вдоль казачьих укреплений. Те словно вихрь пронеслись вдоль берега, выпустив по нескольку стрел. Прогремели запоздалые выстрелы, но лишь одна лошадь споткнулась на полном скаку и упала, перевернувшись через голову. Остальные благополучно достигли кромки леса. Тут же другая полусотня повторила их маневр, осыпав казаков стрелами, и так же без потерь взлетела на пригорок.
— Ну как? — спросил радостный Айдар. — Сейчас мы им покажем!
— Хорошо, — согласился Мухамед-Кул, — но надо! навалиться на них всеми силами, пока они перезаряжают свои ружья.
— Так и поступим, — согласился Айдар, уже спускаясь с пригорка.
Раз за разом скакали стрелки вдоль казачьих перевернутых стругов, слали стрелы, уходили в сторону и возвращались опять. А потом, когда на какое-то время стихли ружейные выстрелы и казаки, укрываясь от стрел, присели, спрятавшись за стругами или спрыгнув в ров, то вся татарская конница единым потоком хлынула на них. Кони уже не так пугались выстрелов и первый ряд легко перемахнул через невысокие борта стругов, оказался позади казаков. Началась рукопашная сеча.
Прямо перед Ермаком проскочили несколько всадников, чуть не смяв его. Но он отскочил в сторону и дернул за собой пушкаря Ивашку Лукьянова, не успевшего перезарядить пушку. Тот схватил лежавший на земле топор на длинной рукояти и рубанул по морде ближайшего коня: Тот завалился на колени, а всадник, падая, успел зацепить саблей Ивашку по плечу, но тут же был проткнув копьем набежавшего сзади казака. Ермак в это время успел вышибить из седла тяжелой секирой двух молодых нукеров, что не успели развернуть застрявших в береговой жиже коней. Оба лежали с раскроенными черепами на узкой песчаной полосе, не выпуская сабель из рук.
Рядом с атаманом оказался Черкас Александров, который как и раньше бился с двумя саблями в руках.
— Лихо ты их, — крикнул он и рубанул по боку перескочившего через ров круглолицего татарина, подставив саблю в левой руке под его клинок.
— Да и у тебя, вроде, не худо получается, — отозвался Ермак, приглядываясь, как идет дело у остальных.
Снова ударили пищали и развернули мчащихся на них всадников. С теми же, кто успел прорваться, легко расправлялись копьями, сбрасывали с коней, рубили саблями топорами и добивали ружейными прикладами. Татары, словно поняв бесполезность своих попыток, откатились обратно к лесу, сбились в кучу, что-то обсуждая.
— Больше не сунутся! — самодовольно поднял обе сабли Черкас Александров. — Показали мы им!
— Помолчал бы… — махнул рукой на него Ермак. — Лучше сходи посчитай, сколько раненых, есть ли убитые.
Того не смутил окрик атамана и он пошел вдоль лагеря, похлопывая с радостной улыбкой казаков по плечам, справляясь, не ранен ли кто. Таких оказалось полдюжины. Убитых двое. Одного зарубили в рукопашном бою, а второму стрела угодила точнехонько в горло. Зато татар убитых и раненых насчитали три десятка.
Когда Мухамед-Кул отдал сотникам приказ оставить попытки взятия казачьего лагеря, поняв, что это ни к чему не приведет, ему доложили о подходе ханских сыновей со своими нукерами. Ишим и Алтанай, словно они были башлыками над сотнями, потребовали повторить нападение на другой день. Они даже не желали слушать возражений Мухамед-Кулы, а лишь повторяли: "Мы загоним их в реку! Мы не желаем возвращаться обратно с позором!" Но и на другой день вышло то же самое. Казаки укрывались от стрел за стругами, расстреливали в упор подскакавших близко к ним всадников, смело принимали рукопашный бой. Под Алтанаем убили коня, и он разбился при падении, а Ишима ранили в ногу. Лишь тогда они перестали настаивать на своем, и Мухамед-Кул приказал нести их на носилках обратно в Кашлык. Царевичи были горды хотя бы тем, что участвовали в бою и не выказали себя трусами.
На другой день Мухамед-Кул послал своего сотника для переговоров с казаками, чтоб им разрешили подобрать убитых нукеров. Те согласились — и вскоре тела погибших опустили в большую могилу на опушке леса. Почти одновременно ушли обратно в Кашлык сотни Мухамед-Кулы и вслед за ними отплыли казачьи струги, направляясь туда же.
ПОЗНАНИЕ ПЕЧАЛИ
Кучум выслушал сообщение о неудаче своего племянника внешне довольно спокойно, но Мухамед-Кул заметил, как дрогнули губы хана, сжались до белизны пальцы рук Бывшие тут же царевичи Ишим и Алтанай тихо добавили:
— Никак их не взять.
— Силы у нас мало. Надо большое войско собирать… Кучум, ничего не ответив, лишь насмешливо глянул на них и ушел к себе в шатер, велел разыскать Карачу-бека. Когда тот пришел, то резко спросил:
— Сколько тебе понадобится времени, чтоб собрать большое войско?
Визирь, которому даже не предложили сесть, дернул по привычке плечом, задумчиво ответил:
— Это зависит от того, какое войско нужно собрать.
— Большое войско! Я должен раздавить этих русских и всех до единого утопить в реке.
— Какой срок дает мне хан?
— Спроси лучше у них. Все зависит от того, как быстро они окажутся здесь, под Кашлыком.
— Думаю, не раньше, чем через десять дней.
— Они тебе об этом сами сказали?
— Я вижу, хан желает обидеть меня. Чем я заслужил подобное обращение? Не я ли думаю о сборе ясака? Не я ли даю добрые советы хану? И какую благодарность имею за все? — Карача-бек надул тонкие губы и было не понятно, обиделся ли он на самом деле, или же лишь показывает, насколько неприятны ему ханские слова. Но Кучум счел за лучшее переменить тему разговора.
— Попробуй отправить гонцов к царевичу Алею. Надо ему сообщить, что враг пришел сюда, под самые стены Кашлыка.
— Сделаю, мой хан. Только не верю, что гонцы сумеют быстро отыскать его. Судя по всему, он далеко ушел и будет не раньше весны.
— Все равно, отправь гонцов… Дорог каждый день. С ним наши лучшие нукеры.
— Хорошо. А что скажет хан, если попробовать подкупить казаков? Мне кажется, они согласятся.
— И что ты хочешь предложить им? Весь ясак, собранный за прошлую зиму, давно потрачен. С нукерами, ушедшими с Алеем, надо было чем-то расплатиться, вооружить их. Об этом тебе известно не хуже моего.
— Но совсем не обязательно давать казакам выкуп сразу. Начнем переговоры, поторгуемся… На это потребуется время. А вчера уже пролетал первый снежок. На реке забереги. Через десять дней, может случиться, их лодки вмерзнут в лед — и мы возьмем их голыми руками.
— Тебя послушать, так все ровно и гладко выходит. Пробуй. Может, получится. Но главное, собери князей. Пусть каждый ведет с собой всех своих нукеров, включая охрану.
— Кто будет башлыком?
— Мой племянник. Он уже знает повадки русских. Пусть встретит их и сам выберет место поудачнее.
— Здесь? Возле Кашлыка? — Карача-бек напрягся. — Тогда нужно увести из городка женщин и детей…
— Успеем еще. А где твои старшие сыновья?
— В моем улусе, — визирь тяжело вздохнул и, чуть помолчав, добавил. — Русские могут быть там уже сегодня.
— Что ж… На все воля Аллаха. Нам всем нужно быть готовыми к испытаниям и потерям. Сердце подсказывает мне, что нынешняя зима будет тяжелой.
Карача-бек повернулся, чтоб уйти, но был остановлен неожиданным вопросом:
— А где те ружья, что изготовил кузнец, привезенный тобой?
— В моем городке…
— Плохо, — Кучум вздохнул и махнул рукой, отпуская визиря, — нукеров не успеть научить обращаться с ними.
Сабанак, узнав от старого Назиса о плывущих по реке казачьих судах, долго не мог принять какое-то решение. С одной стороны, он понимал, что не на праздник приплыли они сюда. Но выступить против них совместно с Кучумом он не мог. Вспомнились те несколько лет, которые он в качестве заложника-аманата прожил в Москве. Его там не били, не пытали, исправно кормили и многие русские девушки поглядывали в его сторону с надеждой, и пожелай он принять их веру, то и замуж бы какая пошла. Однако, пленный и думает, и видит все иначе, нежели вольный человек. Ему тогда хотелось одного — свободы… И вот теперь он свободен, никому не подвластен. Но ради чего живет в глухом лесу, в окружении нескольких десятков убогих рыбаков и охотников, которым самим есть нечего. Ради этого он пришел в далекую Сибирь, лил кровь, тонул, мерз у зимних костров?
Но и пойти с русскими против своих он не мог. Оставалось сидеть и ждать, чем закончится сражение между русскими и ханскими воинами…
Утром следующего дня он и все жители селения настороженно вслушивались в далекие ружейные залпы, долетавшие до них через реку. Старый Назис, подставив ладонь к уху, загибал пальцы другой руки, пытаясь сосчитать число выстрелов. Но вскоре у него были загнуты все пальцы, он безнадежно махнул рукой:
— Шибко палят! Видать, крепко бьются… Как думаешь, князь, чья возьмет?
— А тебе не все ли равно? — спросил старика Тузган, стоявший неподалеку. — Нам от этого ни лучше, ни хуже не станет.
— Да нет… — вступился за растерявшегося рыбака Сахат. — Есть разница. Русские как пришли, так и обратно уйдут. Жить здесь не будут. Зато, если наш хан победит, то он нам спуску не даст. Ясаком таким обложит, что хоть дочерей своих продай, а все одно не расплатишься.
— Ты об этом откуда знаешь? — усомнился лохмач Тузган.
— А вот и знаю. Старые люди рассказывали. И раньше такое бывало, когда князья или ханы меж собой дрались. Тот, кто побеждал, всегда ясак большой заставлял платить.
— Верно говоришь, — согласился Сабанак, стоявший в общей толпе селян и мало чем выделявшийся среди них. — Расходы на войну большие, их покрывать чем-то надо. Только сомневаюсь я, будто бы русские уйдут отсюда. Ни сегодня-завтра река встанет и примерзнут к берегу их лодки. Нет им обратной дороги.
— Ну, зимой-то на них навалится хан Кучум. Голодом заморит, — покачал головой старый Назис. — Я вот чего понять не могу. Башлык ихний, которого Ермаком зовут, больно знаком мне. Глаза уже худо видят, не могу лица разобрать, а по голосу слышу — знакомый…
— Верно, вместе одного осетра делили: тебе хвост, а ему голова, — захохотал Тузган, встряхивая прядями длинных волос.
— Может, ты и правду говоришь, — не обиделся старик, — я, когда молодым был, то много кого повидал. Хана Едигира от смерти спас…
— Про кого ты говоришь? — переспросил Сабанак.
— Да про хана нашего ранешного, про Едигира. Когда он ранен был, и лишь одна женщина за ним приглядывала. Так вот голос русского башлыка в точности как у покойного хана…
— А откуда тебе известно, что он умер?
— Люди говорят. Убитый он. Разве нынешний хан не лишил бы его жизни, коль узнал о том.
— Похож, говоришь… А не переправишь ли ты меня старый рыбак, на своей лодке к Бабасанам?
— Так ведь там бой идет?! — удивился Назис.
— Ничего… Не в первый раз. Готовь лодку, — оживился вдруг Сабанак и отправился к себе в землянку за оружием.
* * *
Казаки издали заметили одинокую долбленку, направляющуюся к ним.
— Кого там несет нелегкая? — заворчал Богдан Брязга.
— Сейчас узнаем, — успокоил его Яков Михайлов. Лодчонка подплыла вплотную к лагерю и из нее приветливо замахал шапкой старый Назис.
— Кончили воевать? — спросил он беззаботно.
— А тебе что за дело? — повел пищалью в его сторону Брязга. — Кто это с тобой? — указал он на сидящего Сабанака.
— Наш князь будет. Захотел с вашим атаманом повидаться.
— Не до него сейчас атаману.
— Проведите меня к нему, а я уж сам поговорю, — на довольно правильном русском языке заявил Сабанак, держа руку на рукояти сабли.
— Ишь, чего захотел, — Брязга наставил ствол пищали ему в грудь. — А вдруг ты тать какой? Смерти хочешь нашему атаману…
— Скажи атаману, что он мне нужен. Быстро скажи, — твердо и с расстановками произнес Сабанак.
— Ну надо же… Атаман ему понадобился… Откудова ты такой выискался только?
— Ладно, я схожу к атаману, — заступился за Сабанака Яков Михайлов, невольно испытывая уважение к его мужественной фигуре.
— Валяй, — согласился Брязга, — а я пока присмотрю за ними.
Бой уже закончился и сейчас большинство казаков бродили по полю перед укреплениями, снимали с убитых лошадей седла и остальную упряжь. Мертвых татар атаман и есаулы не велели трогать. И казаки были недовольны, что нельзя поживиться, забрать себе одежду, оружие.
— Чего это атаман любезничает с ними? — удивлялся Гришка Ясырь, которому досталась лишь уздечка с убитого коня, а седло уже успел кто-то подобрать. — Зачем мертвякам одежда?
— Атаман лучше знает, что делает, — оборвал его Гаврила Ильин.
— Да я разве спорю? На то он и атаман, чтоб за всех решать, — пытался оправдаться Ясырь.
— Вот и помолчал бы, — Гаврила заметил притоптанную копытами коней чью-то оброненную саблю. Наклонился, быстро поднял ее.
— Вместе нашли! Пополам делим, — подскочил тут же Гришка.
— Как вторую половину найдешь, твоя будет.
— Какую такую половину?
— Ножны от сабли найдешь, можешь их себе оставить, — отмахнулся от его Гаврила.
— Вот всегда так, — обиженно поджал губы Ясырь. — Все лучшее кому-то другому достается, а мне лишь ошметки рваные.
— Да забери ты эту саблю! Привязался как смола, — бросил к ногам Ясыря саблю Ильин. — Все одно сталь плохая, в зазубринах вся.
Но Гришка, не обращая внимания на его слова, схватил саблю, взмахнул ей несколько раз в воздухе.
— Мне и такая сгодится. Буду на двух теперь рубиться. Спасибо…
Ермак стоял подле отца Зосимы, который отпевал убитых казаков. Алешка Галкин, что лучше других соображал в плотницком деле, свалил здоровенную сосну и ловко вытесал из нее гробы-домовины, куда и положили погибших, предварительно обмыв и одев в новые одежды. Все казаки по одному подходили проститься, снимая с головы шапки. Тут же неподалеку от лагеря выкопали могилу. Отец Зосима закончил службу, глянул на Ермака. Тот кивнул казакам и гробы один за другим стали опускать. Атаман первым бросил горсть земли, отошел в сторону. Тут его и окликнул Яков Михайлов, сообщил, что какой-то татарский князь просит о встрече.
— Веди его сюда, — приказал Ермак.
Когда Сабанак в сопровождении не спускающего с него глаз Богдана Брязги подошел к толпе казаков, то он тут же безошибочно выделил из всех фигуру Ермака и поклонился ему.
— С чем пришел? — спросил тот.
— Ты не узнаешь меня? — Сабанак подошел чуть ближе.
— Может и узнаю. Что с того? У меня нет времени для воспоминаний. Нам надо идти дальше.
— Хорошо. Если ты тот человек, о котором я думаю, то мне хотелось бы пойти с вами.
— Хорошо подумал? Мне кажется, ты был другом хана Кучума.
— То было давно.
— Что-то изменилось?
— Многое. Ты позволишь быть с вами?
— Простым воином? Сможешь?
— А почему нет. Я согласен.
— Тогда становись в его сотню, — кивнул Ермак на стоявшего сзади Сабанака Богдана Брязгу.
— В мою? — удивился тот.
— Да. В твою. И учти, мы скоро выступаем.
— Спасибо тебе, атаман.
— Позже поговорим, — и Ермак тяжело зашагал к своему стругу.
Еще через день плавания по правому берегу они увидели хорошо укрепленный городок Карачи-бека. Он находился на острове, опоясанном с одной стороны небольшой протокой, впадающей в реку. Ермак приказал сотне Матвея Мещеряка обойти городок сзади и попытаться проломить ворота. Остальные казаки по сигналу ударили из пищалей по стоявшим на стенах защитникам. Те попрятались от первых же выстрелов. А вскоре с противоположной стороны послышались крики и звон стали. Подсаживая друг друга, казаки прямо со стругов полезли на стены, и осажденные, не выдержав их бешеного напора, побросали оружие, сдались.
К Ермаку привели двух молодых воинов, злобно сверкавших глазами и с ненавистью глядевших на атамана.
— Кто такие? — спросил он, хмуро разглядывая безусых юнцов.
— Сыновья Карачи-бека, ханского визиря, — отвечал один из защитников, преданно кланяясь. — Они заставили нас сражаться с вами. Мы хотели открыть ворота, но они пригрозили, что убьют нас.
Как вас зовут?
Но юноши молчали, лишь скривясь в презрительной ухмылке.
— Мамыш и Яныш, — услужливо подсказал все тот же пленный. — Они близнецы и никогда не расстаются.
Действительно, юноши походили один на другого каждой черточкой лица, были одинакового роста. — Где ваш отец? — спокойно спросил их Ермак. — Почему его нет с вами? Мне очень хотелось бы потолковать с ханским визирем…
— Успеешь еще, — зло выкрикнул один из них. — Скоро отец будет тут с лучшими нукерами и тогда ты будешь мечтать о легкой смерти…
— Он придумает тебе лютую казнь! — добавил второй.
— Рано еще говорить об этом. Многие грозили мне смертью, только жив вот пока, как видите.
— Что с ними сделать? — спросил Матвей Мещеряк.
— Один из них метнул в меня копье, если бы не кольчуга, — указал он рукой на правый бок, из которого сочилась кровь.
— А как ты сам думаешь? Как с ними поступить?
— Повесить на воротах, — не задумываясь, ответил есаул. — Чтоб другие знали, на кого руку поднимают.
— Успеется, — ответил Ермак. — Возьми аманатами на свой струг. Глядишь, пригодятся еще. Да свяжи покрепче, а то шустры больно.
— Как скажешь, атаман, — подтолкнул юношей прикладом есаул.
К Ермаку бежал Яков Михайлов и по напряженному лицу было видно, случилось что-то непредвиденное.
— Что еще там? — нетерпеливо спросил Ермак. — Убили кого? Ранили?
— Да нет пока. Без потерь городок взяли. Нашли несколько бочек вина старого. Казаки, как мухи на мед, кинулись… Что делать?
— А что теперь делать? Сам знаешь, не остановить их, коль дорвались. Поставь надежных людей в караул и сам не пей.
— Как можно, атаман! — ударил себя в грудь Яков. — Все в точности исполню. А может, отбить у них вино? Вылить на землю?
— Попробуй, — хмыкнул Ермак. — Только я за твою башку не ручаюсь.
Казаки пировали всю ночь, отводя истомившуюся за время похода душу. Есаулы, пригубив по чуть-чуть, затворили ворота и сами несли караул до утра. Ермак тоже не спал и тяжело расхаживал по берегу реки, слушая пьяные выкрики казаков, доносившиеся из городка. Он понимал, что им нужно погулять, требуется хоть короткий отдых, а завтра они встанут с помятыми лицами, сядут за весла — и все пойдет как обычно. И их молчание будет той благодарностью, которую не выскажут в открытую, вслух. Может, для кого-то этот ковш вина станет последним в жизни, и имеет ли он право лишать их такой малости…
Но какой-то посторонний шум, доносившийся со стороны стругов, от реки, привлек внимание атамана. Он направился в ту сторону и увидел извивающихся на песке сыновей ханского визиря. Одному удалось освободиться от пут на руках и он спешил развязать брата. Увидев Ермака, вскочил, но не бросился бежать, а кинулся на него, пытаясь схватить за горло. Ударом кулака Ермак отбросил парня от себя и схватил за шиворот, встряхнул, поставил на ноги.
— Я все равно убегу! Убью! Убью! — выкрикивал бессвязно юноша, молотя тонкими руками по воздуху.
— Цыц! Щенок! — пригнул его к земле атаман. — Мал еще, чтоб такие слова говорить.
Парень упал на песок и, захлебываясь слезами, зарыдал, продолжая выкрикивать угрозы и проклятия:
— Ты унизил, оскорбил меня и брата. Никто никогда не бил нас. Мы отомстим тебе во что бы то ни стало. Ты пожалеешь об этом…
Ермак спокойно переступил через него и подошел к другому юноше, вытащил из ножен короткий кинжал. Пленный замер и даже в темноте его большие черные глаза неистово блестели, выражая испуг.
— Не убивай меня, — прошептал он.
Его брат поднял голову и, увидев кинжал, тихо завыл как это делают раненные смертельно звери.
— Помолчи, — тихо сказал Ермак и разрезал ремни? стягивающие руки второго пленника. — Можете идти куда захотите. И скажите всем, что Ермак с детьми не воюет. Даже если они и хватаются за оружие.
Юноши вскочили, попятились к реке, не сводя глаз с кинжала, который атаман все еще держал в руке. Усмехнувшись, он сунул оружие обратно в ножны и чуть отступил назад. Тогда те, не произнеся ни слова, вошли в реку и, все еще не веря в свое освобождение, кинулись в воду, поплыли торопливо, выбрасывая руки над поверхностью, и вскоре лишь черные точки их голов виднелись с берега.
Сзади послышались чьи-то шаги, Ермак повернулся. К нему спешили с пищалями в руках Матвей Мещеряк и Яков Михайлов.
— Случилось что, атаман?
— Пленные сбежали, — просто ответил он.
— Как? Куда?
— Уплыли. Видать, плохо связали их.
— Помог кто-то гадам, — поднял с песка перерезанный ремень Мещеряк и поднес его поближе к атаману.
— Мальцы еще… Пусть поживут, — махнул рукой Ермак, давая понять, что разговор закончен.
— Время придет, свидимся с ними, — упрямо выдохнул Мещеряк, скрежетнув зубами.
* * *
Когда Соуз-хану сообщили, что казаки взяли городок Карачи-бека и в плен попали двое сыновей ханского визиря, то он окончательно приуныл.
— Они могут через день оказаться и здесь! — сокрушался он, сотрясая воздух руками. — И не посчитаются, что я потомок древнего рода. Ограбят, разденут, зарежут! Что же делать? Что делать?!
Оба старших сына, Шарип и Набут, стояли перед ним, ожидая, какое решение примет отец.
— Мы можем скрыться в лесу, — предложил Шарип. — Пересидим там пока они не уберутся обратно.
— А если они пришли надолго? Тогда как? Нам не взять с собой скот, имущество, рабов. Куда это все спрячешь? Да и стар я уже скакать, словно заяц по лесам.
— Тогда будем защищаться до конца, — храбро предложил Набут.
— Замолчи! Кто разрешил тебе открыть рот?! Хочешь смерти? Тогда пойди и утопись. Река рядом. Батыр нашелся…
— Не горячись, отец, — рассудительно остановил его старший сын. — Мы понимаем, как трудно тебе, но ты сам всегда говорил, что от любой беды можно откупиться. У нас есть деньги, товары. Отдадим русским часть, и они не тронут нас.
— Я уже думал об этом, — пробурчал, чуть успокоившись, Соуз-хан. — Только не вышло бы хуже. Коль узнают про наши богатства, то обчистят до нитки.
— Но надо на что-то решаться, — не сдержался опять Набут. — Пока мы тут сидим, думаем, и русские заявятся.
— Замолчи! Я тебе сказал! — подскочил Соуз-хан к младшему сыну. — Твое дело слушать и исполнять что старшие скажут.
— Успокойся, отец. Так мы и в самом деле ничего не решим.
Соуз-хан прошелся по шатру, с сожалением оглядел его богатое убранство и, неожиданно повернувшись к наблюдающим за ним сыновьям, решительно заявил:
— Собирайтесь. Едем.
— Куда? — одновременно вскрикнули они.
— На встречу с русскими. Чем ждать пока они к нам пожалуют, лучше явиться к ним с подарками. Если потребуется, то и служить им станете. Зверя лучше приласкать, а не злить. Сила на их стороне…
— Но что скажут наши соседи? Как мы в глаза людям смотреть станем? — воспротивился Набут. — Я не поеду.
— Поедешь! Еще как поедешь! — ткнул его в грудь пухлым кулаком отец. — Иначе выгоню?! Ты меня знаешь.
Опустив глаза, сыновья пошли выполнять приказание. Соуз-хан сам выбрал лучшее оружие, одежду, чуть подумав, достал из сундука несколько серебряных чаш и тоже кинул их в кожаный мешок. Для себя он велел запрячь специальную повозку, обитую цветной материей, поскольку давно уже из-за своей тучности не мог держаться на лошади верхом. Захватив с собой небольшую охрану, они выехали по направлению к реке, где, по предположению Соуз-хана, обязательно должны были проплыть русские суда.
Казачьи струги уже миновали небольшую возвышенность, когда идущий по договоренности с атаманом замыкающим Иван Кольцо увидел небольшую группу людей, вышедших к реке и призывно размахивавших руками.
— Чего им надо? Как думаешь? — спросил есаул Ларьку Сысоева, сидящего рядом с ним.
— А кто их знает… Здоровкаются поди…
— Пристать что ли?
— От своих отстанем.
— Нехай, нагоним. Греби к берегу, — крикнул Кольцо. — Проверим того пузатенького. Может, он нам подарки от хана Кучума привез.
Казаки с радостью направили струг к берегу, ожидая развлечения, на которые Иван Кольцо был большой мастак.
Увидя, что струг повернул к берегу, Соуз-хан вылез из повозки, спустился к самой воде, держа в руках тяжелый мешок с подарками. Наконец струг достиг мелководья и Иван Кольцо с Ларькой Сысоевым, спрыгнув в реку, побрели к берегу, зачерпывая воду голенищами.
— Заставил нас ноги мочить, — ругался Иван Кольцо, уже сожалея, что остановил струг. — Коль он просто с нами поздоровкаться решил, заставлю жирного борова в одеже как есть искупаться.
— Сейчас узнаем, — успокоил его Сысоев. — Не жги себя раньше времени. — Ларька немного понимал местную речь, и есаул постоянно держал его при себе, если потребуется разговаривать с кем-то из местных жителей. И сейчас он оказался как нельзя кстати.
Когда казаки выбрались на сушу, Соуз-хан низко поклонился и заговорил, протягивая перед собой мешок:
— Я очень достойный человек этой земли. У меня много воинов, но я не желаю воевать с вами…
— Чего он там лопочет? — не дождавшись конца длинной речи, спросил Кольцо своего толмача.
— Говорит, будто сильный очень, — развел тот руками.
— Силами что ли померяться предлагает? Это можно… — Кольцо сжал руку в кулак и, размахнувшись, засветил Соуз-хану в ухо. Тот лишь крякнул и замотал головой, плохо понимая, отчего этот русский ударил его. Зато схватились за сабли его сыновья, бросились на помощь к отцу.
— Но, но… — поднял руку Кольцо и указал на струг позади себя, из которого уже выбирались остальные казаки. — Вы не очень-то, а то отправим в реку раков кормить.
— Зачем дерешься? — плаксиво запричитал Соуз-хан. — Подарки тебе принес. Дружить хочу, а ты дерешься…
— Подарки принес говорит, — разобрал его слова Ларька Сысоев.
— Подарки, давай сюда, — Кольцо выхватил мешок из его рук и высыпал содержимое на землю. — Матушки святы… — Раскрыл он рот от удивления. — Надо же какое богатство…
Остальные казаки сгрудились вокруг него, разглядывая подарки и потряхивая чубатыми головами.
— Ишь ты… Оружие… Братины серебряные… — загомонили казаки.
Соуз-хан, довольный вниманием к нему со стороны русских, мгновенно забыл о причиненной ему обиде и широко заулыбался, подмигнул сыновьям.
— Спроси его, много ли еще таких подарков дома хранит, — велел Кольцо Ларьке Сысоеву.
Соуз-хан, услышав вопрос, испугался и затряс головой.
— Нет, ничего нет. Последнее отдаю, клянусь бородой пророка. Вот я вам своих сыновей привез. Возьмите их к себе на службу, — и он подтолкнул вперед Шарипа и Набута.
— А чего они делать умеют? — спросил Кольцо, выслушав перевод.
— Чего скажешь, то и делать будут. Даже из ружья один раз давал им стрелять, — с гордостью добавил Соуз-хан.
— Сгодятся, — согласился Кольцо. — Беру их к себе нас струг.
— Спасибо, большое спасибо, — опять начал кланяться Соуз-хан, и повернувшись к сыновьям, дал им знак идти с казаками.
Как только струг отчалил, и одиноко стоявшая на возвышенности расплывшаяся фигура Соуз-хана скрылась из вида, Кольцо спросил гребцов:
— Эй, кто устал горбатиться на веслах?
— Я! Я устал! Мочи моей нет, — послышались голоса.
— Так… — повел бровью есаул. — Остатка, Фомка, бросай весла. А вы молодцы, — ткнул пальцем в сторону Шарипа и Набута, — айда на их место.
Те поначалу не поняли, а когда им доступно объяснили, всучив в руки по здоровенному веслу, что от них требуется, то начали артачиться:
— Я ханский сын, — гордо крикнул Шарип.
— Рабом не буду, — повторил вслед за братом Набут и шагнул к борту, собираясь броситься в воду. Но его перехватили, кинули на лавку. Иван Гроза, широченный в плечах мужик и на голову выше остальных товарищей, поднес к ним по очереди свой кулак, спросив:
— Чуете, чем пахнет? Не будете слушаться — изувечу.
— Он может, — подмигнул Кольцо. — Вы бы, молодцы, лучше не рыпались. У нас рабов нет. Все гребут. Служба такая.
Ларька Сысоев перевел им смысл сказанного — и братья понемногу успокоились, ухватились за тяжелые весла и под одобрительные понукивания казаков сделали по нескольку гребков. Было трудно попасть в общий ход с остальными гребцами и с непривычки они вскоре взмокли, натерли кровавые мозоли, Кольцо, глядя на их потуги, сам сел на место Набута, отодвинув его в сторону.
— Смотри как надо, — и широко откинулся назад, с силой гребнул, упираясь обеими ногами в переднюю скамью. — И-и-и р-р-раз! И-и-и раз! А ну, Ларька, затяни нашу, донскую…
Тот набрал побольше воздуха в грудь и затянул что-то разудалое, подмигнул братьям, отирающим пот со лба, стертыми в кровь ладонями. Запели и другие казаки, широко улыбаясь, не переставая работать веслами. Струг пошел ходко, быстро нагоняя ушедших вперед.
Шарип не удержался и тоже разулыбался, ткнул брата в бок, показал на проплывающие мимо берега:
— Однако, хорошо так плыть. Весело…
— Поглядим, как дальше все обернется, — ответил не разделявший его радости Набут.
Они уже подплывали к устью Тобола, где он сливался с водами неугомонного Иртыша-землероя.
ПОЗНАНИЕ ПОБЕДЫ
Мухамед-Кул, которому было поручено организовать оборону ханских земель, вместе с Кучумом и Карачой-беком выехали из Кашлыка. Они ехали по правому берегу Иртыша, выбирая место, где можно было бы встретить русских и разбить их. Мухамед-Кул ехал в один ряд с ханом, а следом, чуть приотстав, Карача-бек, который сидел на коне чуть нахохлившись, словно ворон после дождя на ветке дерева. Вместе с охраной следовали и молодые царевичи Ишим и Алтанай и совсем юные Абдур-Хаир, Асманак, Канай. Они были особо возбуждены и время от времени пускали лошадей вскачь, пытались вырваться вперед. Женам и наложницам вместе с малолетними детьми хан велел готовиться к переезду в другое место. Он и сейчас хорошо помнил, как много лет назад захватил врасплох Кашлык, благодаря предательству начальника стражи, убившего одного из сибирских ханов.
"Лучше лишний раз поостеречься, чем потом до конца дней кусать собственный локоть", — думал он. После сообщения о том, что русские взяли городок Карачи-бека, захватили в плен его сыновей, Кучум не спал последнюю ночь. Болели сильнее прежнего глаза, он перестал различать предметы и людей, находившихся от него дальше чем за десять шагов. Но об этом знала лишь одна Анна, и он строго-настрого запретил ей сообщать об этом кому-либо.
— Прогоним прочь русских — и зрение вернется, — обронил он неосторожную фразу и тут же пожалел об этом.
— Меня тоже прогонишь? — не поднимая головы, спросила Анна. — Я ведь тоже русская…
— Прости. Не тебя имел в виду. Ты это хорошо знаешь.
— Зачем ты приказал ослепить пленных мужиков, что привели с последним полоном?
— Не твое дело, — вспылил он. — Ты желаешь, чтоб они сбежали и привели сюда войска царя Ивана? Ты этого хочешь?
— Они уже пришли… А ты не думал, что Господь наказал тебя за их слепоту? Болезнь твоих глаз. Это ли не наказание Господне?
— Замолчи, женщина! Не пророчествуй! Не твое это дело!
Она ушла. И теперь Кучум мучился, подозревая Анну в измене, в потворстве своим соплеменникам. Хотя, она давно могла бы тайно покинуть Кашлык, сбежать обратно в земли своих родителей. Но она любила его. Любила таким как он есть… Но при этом не принимала многих его решений. Как-то поведет она себя сейчас, когда русские пришли уже под стены его столицы…
— Самое удобное место — напротив устья Тобола, — вывел его из задумчивости голос племянника.
— Что ты говоришь? — переспросил Кучум. Они находились на вершине горы, изрезанной многочисленна ми провалами оврагов, тянувшихся вниз к реке.
— Если мы поставим свои сотни здесь, то сможем засыпать их стрелами сверху, — продолжал Мухамед-Кул. — К тому же они не смогут обойти нас. Мы все будем видеть с вершины холма.
Карача-бек подъехал ближе и внимательно слушал слова Мухамед-Кула, но мысли его были о сыновьях, которые оказались в плену у русских. Он готов был кинуться навстречу русским лодкам, чтобы выкупить своих близнецов. Оказавшись в заложниках, сыновья связали ему руки, и думать сейчас о чем-то другом он просто не мог.
— А ты как думаешь? — обратился к нему Кучум. — Удачное место выбрал мой племянник?
— Насколько я помню, когда-то здесь уже было одно сражение. Хан Едигир тогда находился вон на том холме, — указал рукой визирь. — Но удача отвернулась от него. Я не люблю совпадений…
— То было давно, — отмахнулся Кучум. — К тому же Едигира нет в живых. Так что нам нечего опасаться.
— А где мы пустим конников? — спросил царевич Ишим.
— Тут им делать нечего, — отрезал Мухамед-Кул, бросив на него косой взгляд. Тяготило, что ханские сыновья будут стремиться все сделать по-своему, наперекор его воле.
— Но наши воины плохо дерутся пешими, — не сдавался царевич.
— Ты уже видел под Бабасанами что вышло, когда они были верхом. Хочешь еще раз попробовать?
Кучум с интересом прислушивался к их перепалке и думал о том, какое же принять решение. Место действительно было удобно тем, что просматривалось все вокруг и невозможно подойти сзади незамеченным. Вряд ли русские воины рискнут лезть на такую кручу. Их легко будет поразить стрелами, копьями. Но их ружья бьют значительно дальше. Самое главное, что не давало хану покоя, — выйдут ли русские на берег именно в этом месте. А вдруг они поплывут дальше? Прямо к Кашлыку? А он будет поджидать их здесь.
— А как их выманить на берег? — спросил он. — Вдруг они проплывут дальше? Не примут бой…
— И я думаю об этом же, — поддакнул Карача-бек. — Вполне может такое случиться.
— Куда им деваться? Где бы они не остановились, мы всегда настигнем их. Мы у себя дома и каждая тропинка нам известна. — Горячо защищался Мухамед-Кул. — К тому же по реке уже второй день плывет шуга — и вот-вот река встанет. Тогда им конец.
— Пришли ли северные князья со своими воинами? — спросил Кучум.
— Еще вчера. Все как один на лодках приплыли, — с готовностью ответил Карача-бек.
— Это хорошо. Вот пусть они первыми и нападут на русских, заставят их повернуть к берегу. А здесь, внизу, надо натаскать побольше бревен, коряг, чтоб наши воины могли укрыться. Тогда им будут не страшны пули русских.
— Я тоже об этом подумал, — согласился Мухамед-Кул. — Две сотни оставим под холмом, а остальные будут стоять тут наверху.
— Я не стану возвращаться обратно в Кашлык, — негромко произнес Кучум. — Пусть прямо здесь мне разобьют шатер. Хочу побыть один, все обдумать.
— Будет исполнено, — откликнулся с готовностью Карача-бек.
— Русские плывут! Русские! Я вижу их! — первым закричал Алтанай, чьи молодые глаза различили показавшиеся вдали белые гребни парусов, еще плохо заметные издали. Все замолчали, вглядываясь в ту сторону, и лишь кони вскидывали головы, бряцая уздечками. Со стороны реки дунул холодный, пронизывающий ветер и первые снежинки опустились на холм, на всадников, на крупы коней. Снег пошел гуще и закрыл мелкой пеленой казачьи суда, словно чей-то небесный полог пытался разделить противников, развести их, не дать пролиться человеческой крови.
— Мы останемся с тобой, отец, — один за всех предложил Ишим и остальные братья согласно кивнули головами.
— Пусть будет так, — отозвался Кучум, чьи больные глаза так и не смогли увидеть подплывающие струги, но зато сердцем он угадал подступающие вплотную опасность и беду, которую он ждал, не признаваясь самому себе, долгих два десятка лет.
* * *
…Наконец Ермак увидел очертания знакомых холмов, на которых он когда-то стоял со своими сотнями, откуда был увезен едва живой и где с тех пор ни разу не был.
— Вот я и вернулся, — тихо прошептал он, еще не веря в это до конца, и снял шлем с головы.
— Что говоришь, атаман? — спросил Гришка Ясырь, сидевший напротив.
— Приплыли, говорю…
— Где высаживаться станем? Прямо тут?
— Поворачивай правее, — кивнул атаман рулевому. — По Иртышу пойдем и чуть дальше встанем.
— Тебе, атаман, словно знакомы эти места, — удивился Гаврила Ильин. — Все наперед знаешь. Бывал здесь?
— И что с того, коль бывал?
— Рассказал бы хоть, когда.
— Время не пришло, — отрезал Ермак.
Они проплыли мимо желтого суглинистого холма, где увидели плохо различимые в начавшемся снегопаде фигурки всадников. Но все настолько устали после трудного перехода, что гоняться за дозорными, которые были наверняка посланы докладывать о их передвижении, никому и в голову не пришло. Хотелось скорее бросить весла, выйти на берег, похлебать горячей ушицы. Когда высокий обрывистый холм остался позади, то Ермак указал на широкую протоку, велел свернуть в нее. Вскоре перед ними открылся большой луг, а чуть дальше зачернел хмурый ельник. Подле него и причалили к берегу, застигнутые уже надвигающимися сумерками. Пока разжигали костры, вытаскивали струги на берег, Ермак велел кликнуть всех есаулов и сотников.
— Чего унылые такие? — спросил он их.
— А чему радоваться? — отозвался Иван Кольцо. — Зима на носу, а у нас ни одежи теплой, ни крыши над головой.
— Может, обратно податься, пока лед не встал, — предложил Никита Пан. — Успеем еще. А там струги бросим и дальше пешими через горы.
— Ишь ты каков! — сплюнул Мещеряк и смерил Никиту презрительным взглядом. — Не набегался еще? Попрыгать хочешь?
— Не тут же подыхать, — огрызнулся тот. — Дома все одно веселее.
— И там худо и тут нехорошо, — тяжко вздохнул Богдан Брязга.
— Значит, плохо все, — свел руки на груди атаман. — Умирать собрались. Не ожидал, не ожидал такого от вас…
— Ты, атаман, не тяни, говори, зачем собрал, — зябко ежась от сырости, вновь подал голос Иван Кольцо.
Ермак никак не мог уловить настроение есаулов, ждал пока все выскажутся, но тем хотелось сперва услышать его мнение и лишь потом согласиться или отвергнуть предложение. Мещеряк и Михайлов были явно на его стороне, а Никита Пан держался Ивана Кольцо. К ним же склонялся и Брязга. Не ясно было только с Волдырем, который мог и вовсе промолчать, принять мнение большинства. Значит надо было начинать именно с Ивана Кольцо. Так же как и в строгановском городке, если он выскажется за то, чтобы зимовать в Сибири, то не будут возражать и остальные казаки. Нет — пойдут обратно за есаулами. Кто-то останется с ним. Но это уже далеко не та сила, которую они имеют сейчас. Поэтому во что бы ни стало он должен убедить их, удержать. Любой ценой…
— Хорошо, скажу. Не дело это в гости за столь верст переться, а потом перед дверью постоять, помяться и, повернув обратно, топать голодному.
— Ну да, эти накормят, — кивнул Никита Пан в сторону холма на той стороне реки. — Их там столько соберется, что только башкой крути, верти, жди, откуда прилетит.
— То тебе, Никита, не коней ночью красть у ногаев, — поддел его Яков Михайлов, — тут храбрость особая нужна.
— Ты бы хоть помолчал, деревенщина! Давно ли лапти скинул? Казаком поди себя зовешь, а обычаев наших не знаешь…
— Зато ты хорошо их знаешь. Привык за чужие спины прятаться.
— Это я прячусь?! — Вскочил на ноги Никита Пан и схватился за саблю. Но Иван Кольцо ловко подшиб его ногой — и тот грохнулся на мокрую траву, затравленно глянул на всех, закричал. — Что? Сговорились? Извести нас всех по одному желаете?! Сейчас кликну своих…
— Замолкни, — ткнул его в спину кулаком Кольцо. — Только и осталось, что меж собой собачиться. То-то татары обрадуются… — И Никита неожиданно сник, замолк и сидел, не открывая рта.
— Вот что скажу вам, — продолжил Ермак, словно и не было короткой стычки меж есаулами, — негоже нам обратно топать, как побитая собака хвост поджавши. Рядом ханская ставка. Там и зазимуем…
— На постой значится к сибирскому хану попросимся, — язвительно заметил Богдан Брязга. — Дожили…
— Да ты послушай, чего говорят, а потом уж зубы кажи, — одернул его Матвей Мещеряк.
— Думаю, у хана там и припасы имеются и одежонкой кой-какой разживемся. Стены высокие, перезимуем как-нибудь, а по весне и решать будем, как дальше жить.
— Поди у хана и золотишко припрятано, — мечтательно почесал бороду Иван Кольцо. — Нынче к нам подвалил один из ихних… Оружие припер, двух сыновей в услужение отдал. Мы их быстро к делу пристроили, — хохотнул он.
— Найдется и золотишко, — Ермак наконец уловил слабую струнку противившихся ему есаулов, — мехов добрых подсобираем, приоденемся как бояре…
— К царю-батюшке дань пошлем. Мол, прими, государь, прости грехи наши малые, помолись за нас грешных, — заерничал Богдан Брязга.
— А отец Зосима где? — вдруг спохватился Ермак.
— Больных пользует, — отозвался молчавший до сих пор Савва Волдырь.
— Кликни его. Пусть и он слово скажет. Батюшка пришел без промедления. Садиться не стал, а спросил, оглядев есаулов и атамана:
— Коль по делу, то говорите сразу, а то у меня трое больных еще дожидаются.
— Ранены что ли? — поинтересовался Ермак.
— Да нет. Тех поглядел уже. Остались один простуженный, двое с чирьями, от простуды вылазят…
— В моей сотне так через человека чирьи замучили. Спасу никакого нет от них, — сокрушенно мотнул головой Мещеряк.
— По делу мы тебя, отец Зосима, звали… — начал осторожно Ермак. — А дело серьезное и решать его непременно сегодня надобно, чтоб завтра знать, как поступать дальше. Думаем, как дальше быть: то ли обратно на Русь подаваться, то ли тут зимовать…
— Коль зимовать, то бой принимать надо? — спросил отец Зосима.
— А как же? Или мы хана Кучума одолеем или он нас.
— Даже если обратно подадимся, то он все одно нагонит, с миром не отпустит.
— Само собой…
— Чего же тут думать? Лучше с честью живот положить за веру, чем с позором помереть или замерзнуть где. Укрепим себя молитвой и с Божьей помощью одолеем басурманов.
Ермак видел, как просветлели лица Михайлова, Мещеряка, посуровел Кольцо, тяжело вздохнул Брязга. Лишь таким же беспристрастным остался Савва Болдырь, а Никита Пан сморщился и смотрел куда-то в сторону.
— Благослови нас тогда, батюшка, — поднялся Ермак и первым подошел под благословение. Следом за ним встали и другие есаулы.
Когда отец Зосима ушел, то Иван Кольцо, Чуть помявшись, спросил:
— Выходит, завтра и начнем?
— Рано, — не согласился Савва Болдырь, — пристали казаки. Да и оглядеться не мешало бы…
— Ну, коль все за одно дело взялись, то и я с вами, — широко улыбнулся Никита Пан, будто и не было стычки меж ними. — Об одном прошу: пустите меня с моими казачками в дозор. Переплывем на ту сторону и все высмотрим, выглядим. Без разведки никак нельзя.
— А не сбежишь? — полушутя поинтересовался Мещеряк.
— Сам не сбеги. Не таковский я, чтоб пятки салом мазать, когда другие драться станут. Никогда еще Никита Пан из драки не бегал, друзей не бросал…
— Поутру и плыви, — согласился Ермак. — Только тихо, чтоб не переловили вас там по одному.
— И не сумлевайся, атаман. То мне хорошо знакомо. К утру снег стих и начал таять. Солнце пробилось сквозь толщу туч лишь к полудню, но вскоре опять небо плотно затянулось снеговым тяжелым пологом. Тогда и показались узкие лодки-долбленки, приблизившиеся к берегу, где отдыхали казаки. Но в протоку входить они не решились, а сновали вдалеке, словно дразня казаков.
По тяжелым теплым одеждам Ермак признал в них остяков, верно, пришедших на подмогу к Кучуму. "Плохо, значит, дело у хана, коль даже их призвал", — усмехнулся про себя. Ему хорошо было известно, какие воины из остяков. Они смелы лишь в глухой тайге, а выйдя на чистое место, пугливы и осторожны.
— Атаман, дозволь проверить их, — кивнул в сторону ближних лодок Черкас Александров.
— Отдыхал бы… Все тебе неймется…
— Ночь длинная, отдохнем, — показал тот белые крепкие зубы. — Мы мигом. Пужнем их и обратно.
— Только на тот берег не суйтесь, — погрозил пальцем Ермак.
Казачий струг сперва осторожно двигался вдоль берега, а потом круто повернул на середину реки, и гребцы дружно налегли на весла. Александров выбрал самых молодых и дюжих, и струг летел, оставляя за собой широкую расходящуюся от кормы полосу. Долбленки какое-то время стояли неподвижно, а потом дружно рванулись к противоположному берегу, сгрудились. Тогда казаки бросили весла, подняли пищали, и грянул залп. Ветерок отнес серое облако порохового дыма, и все увидели две перевернутые долбленки. Несколько лодок успели пристать к берегу, а в остальных остяки легли на дно, напуганные выстрелами. Казачий струг опять набрал ход и перевернул носом еще две лодочки. С берега в них полетели стрелы. Со струга ответили выстрелами. Но вскоре они развернулись и медленно поплыли обратно, демонстрируя свою силу и уверенность.
— Чего ж языка не взяли? — спросил Черкаса Матвей Мещеряк.
— Да зачем он нужен? Не захотели мокрошубного из воды тащить. Веслом по башке тюкнули и… готов. Может, еще сплавать? Тогда на берегу сухенького возьмем, — задорно предложил он.
— Хватит, — остановил его атаман. — Порезвились и будя. Силы копи для боя.
Ночью приплыл Никита Пан с двумя десятками казаков, что ходили с ним на ту сторону. Он рассказал, что войско Кучум собрал большое. Сотен десять, никак не меньше, и подходят еще. Видели они, что внизу у самой воды стаскивают в одно место тяжелые бревна, готовят засеку.
— А еще, — добавил Никита, — есть у них и две пушечки наподобие наших. Откуда они их взяли, и ума не приложу.
— Пушки? — удивился Ермак. — Быть не может!
— Точно говорю. Сам видел и другие казаки тоже.
— Худо это. А кони у них где?
— Да там же, неподалеку. Где им быть…
— Подобраться к ним трудно?
— Коль во время боя, то не очень, — понял Никита мысль Ермака. — Я уж там присмотрел ложок, где укрыться можно.
— Завтра и поплывешь туда с полусотней. Еще день стояли казаки, копя силы, готовили оружие, отсыпались. Ночью Никита Пан с полусотней казаков на двух стругах тихо, без единого всплеска ушли снова на ту сторону. А утром Ермак сам проплыл по середине реки, осматривая холм, где во множестве чернели фигурки людей, виднелись шатры, шел дым от костров. Разглядел он и засеку из наваленных бревен. Верно, основные силы Кучум оставит здесь, у берега. Тогда он и решил, что ударить лучше всего будет в двух направлениях: по засеке, отвлекая внимание, а другой половине казаков взобраться сбоку по крутому обрывистому берегу наверх холма. Но было велико искушение ночью добраться до Кашлыка и занять его. Правда, тогда Кучум обложит городок, перекроет все выходы…
"Нет, — решил он твердо, — будем драться в открытую. Сила на силу. Иначе нельзя…"
Ранним утром казаки встали на молитву. Отец Зосима, закончив службу, окропил сотни святой водой и все один за другим стали подходить под причастие, целовать крест, получая по малому кусочку просфоры, захваченной батюшкой еще из строгановского городка. В прошлый вечер к отцу Зосиме тянулась длинная очередь желающих исповедоваться накануне боя, и батюшке почти не пришлось спать. Но он непременно хотел плыть со всеми вместе, не желая оставаться с кашеварами на этом берегу. Лишь когда Ермак объяснил ему, что сюда будут переправлять раненых, то согласился.
Наскоро перекусив, сели в струги и пошли на выход из протоки. В воздухе порхали редкие снежинки, холодный ветер дул в спины, но парусов не ставили. С противоположного берега доносились гортанные выкрики, рев труб и редкие удары в тяжелый барабан.
— Ждут не дождутся, — крякнул посиневшими от холода губами Гришка Ясырь. — Винца бы сейчас для сугреву…
— Чего ж не оставил про запас, — усмехнулся в ответ Ермак.
— У Кучума попрошу, — отозвался тот. Еще издали Ермак увидел темную массу лодок-долбленок, выплывающих из-за холма. На середину реки они не шли, держась ближе к берегу. Он подал сигнал Черкасу Александрову:
— Отгони-ка их, чтоб не путались тут. Тебе это дело уже знакомо.
Два струга пошли навстречу долбленкам остяков, обходя их со стороны реки, отрезая путь назад. Остальные струги растянулись в боевую линию, держась плотно один другого. На холме началось оживленное движение, некоторые стали спускаться вниз, спеша на помощь воинам, укрывшимся за засекой. Ермак махнул рукой, чтоб подплыли поближе, на ружейный выстрел.
— Целься в головы! — крикнул казакам. Громыхнули выстрелы с первых стругов. Эхо покатилось над рекой и, ударившись о подножие желтого холма, отразилось, пролетело над стругами, понеслось дальше. С берега посыпались стрелы, но, не долетая до казаков, падали в воду и, булькнув, уходили на дно. Ермак прикинул, сколько воинов может скрываться за засекой. Выходило, что не меньше двух, а то и трех сотен. Выкурить их оттуда будет нелегко. Нужна какая-то хитрость…
Струги медленно приближались к берегу, грохотали залпы и запах пороховой гари был у каждого на губах. Казаки повеселели, сноровисто заряжали пищали, поглядывали на атамана, на берег. Но похоже было, что большого урона укрывшимся за стволами деревьев защитникам они не нанесли.
— К берегу! Аида в рукопашную! — Атаманский струг первым подошел к песчаной отмели и казаки выскочили прямо в воду, держа сабли наготове, стали подбираться ближе к засеке.
Ермак нашел глазами струг Ивана Кольцо, подозвал к себе, и когда тот приблизился, то показал на узкую полоску оврага, спускающегося к реке.
— Бери свою сотню и вверх, пока мы с этими разберемся.
Есаул лишь кивнул головой и, чуть пригибаясь, побежал впереди своей сотни к оврагу. Проводив его взглядом, Ермак крикнул остальным казакам, продолжающим выскакивать на берег из стругов:
— Ребята, выманивай их сюда из засеки! Как полезут, то бегом обратно, будто бы испужались шибко…
— Поняли, атаман… Так и сделаем… Выманим… Некоторые смельчаки из татар повылазили перед засекой, видя, что казаки прекратили стрелять из ружей. Все они были в шлемах и боевых доспехах, с саблями и щитами в руках. Ермак выделил из общей массы рослого воина в богатом, с конским хвостом на шишаке шлеме. Тот отдавал приказания нукерам, и судя по всему, был, видно, башлыком или юзбашой.
— Эй, Иван, — поманил к себе плечистого казака, прозванного Грозой за свою извечную хмурость, — видишь того с конским хвостом на башке?
— Вижу, атаман, — кивнул тот.
— Достань мне его живым, коль сможешь.
— Отчего ж не смочь… Сделаем, — взял поудобнее свой боевой топор здоровяк и взмахнул им несколько раз перед собой.
Казаки, встав плечо к плечу, стали подходить к обороняющимся, подбадривая себя громкими выкриками, делая ложные выпады. К ним кинулись татарские воины с копьями, сбившись в одну кучу, стремясь сбросить казаков одним ударом в реку. Лучники перестали стрелять, боясь ранить своих. Ермак оглянулся, ища глазами сотню Кольцо, и в этот момент копье ударило в панцирь, но он, успев резко повернуться, ушел от удара и саблей перерубил древко. Подоспевший Гаврила Ильин рубанул наискось бросившего копье татарина, попытался заслонить атамана плечом.
— Уйди, не баба, — выдохнул тот и врубился в толпу, выбирая ближнего к нему широколицего воина.
Схватка у кромки воды разгоралась, и Кучум более по шуму, чем плохо видящими, слезящимися на ветру глазами, разобрал, что битва идет пока на равных.
— Куда делись северные князья? — спросил он Асманака, которого не отпустил от себя, приказав командовать своей личной охраной.
— Сбежали, — с горечью ответил он. — Русские на двух больших лодках отогнали их.
— Я так и думал… Где Мухамед-Кул? Не разберу что-то, — хан пытался и от сына скрыть свою болезнь.
— Бьется впереди всех, — с готовностью сообщил царевич. — Отпусти меня к нему…
— Нет, — жестко ответил Кучум. — Ты мне понадобишься здесь.
— Побежали, побежали русские! — радостно закричал Асманак и по-мальчишески захлопал в ладоши.
— Не может быть, — поразился хан, но по крикам своих нукеров догадался, что это действительно так. — Вели еще двум сотням ударить по ним, чтоб быстрее покончить, — с явным облегчением вздохнул он.
Асманак побежал выполнять приказание, и тут Кучум понял, что там внизу что-то изменилось. Смолкли радостные крики его воинов, послышались вопли, стоны.
— Что? Что там? — Он изо всех сил напряг зрение, но не мог ничего различить, кроме мутной пелены и размытых очертаний человеческих фигур. — Асманак! Где ты?
— Здесь, отец, — подбежал молодой царевич.
— Как идет бой? — ткнул рукой по направлению к реке Кучум. — Дым застилает мои глаза…
— Русские теснят наших нукеров, — печально ответил Асманак.
Сзади них послышались крики и подбежал запыхавшийся Ишим.
— Русские взобрались на верх холма!
— Так сбросьте их обратно! Мои нукеры сражаются как звери, но уже много убитых…
— А почему ты не с ними?!
— Я прошу помощи, — растерянно произнес Ишим.
— У меня нет лишних воинов… Ты должен остановить их! Должен! Слышишь? — Но вдруг хан повернулся в противоположную от реки сторону и прислушался. — Слышите? — спросил он сыновей.
— Нет, — отозвались они.
— Конский топот… Что это может быть?
— Мухамед-Кул ранен, — донеслось снизу, но Кучум словно не слышал этого крика, а напряженно смотрел невидящими глазами в противоположную от реки сторону. И тут все явственно различили глухой топот, который может производить лишь мчащийся галопом табун коней.
— Как я не подумал об этом, — сжал кулаки Кучум. — Они гонят на нас наших же коней! Надо уходить. Мы проиграли.
Асманак кинулся к ханской охране, что держала под уздцы запасных коней, и подвел к отцу его любимого скакуна. Кучум легко как и прежде вскочил в седло и, не дожидаясь сыновей, поехал вдоль обрыва, гордо подняв голову, не разбирая дороги, целиком доверясь коню Сыновья последовали его примеру, проскочив совсем рядом с сотнями Ивана Кольцо, бегущими к ним наперерез, и скрылись в лесу в сопровождении небольшого отряда охраны.
— Видал? Ушли! — выругался Кольцо, разгоряченный боем, с окровавленной саблей в руках, указывая Ларьке Сысоеву на группу всадников, въехавших в лес.
— Не догнать, — махнул рукой тот, — еще встретимся.
А с холма разбегались татарские воины, отбиваясь от наседавших на них со всех сторон казаков, и меж них носились обезумевшие кони без седел, понукаемые выскочившей из засады полусотней Никиты Пана.
ПОЗНАНИЕ ВЕЛИЧИЯ
В Бухару к Абдулле-хану прибыли гонцы от хана Кучума Они долго дожидались, когда достопочтенному хану доложат о них. Потом ждали, когда будет назначен день приема, а тем временем по Бухаре поползли слухи, будто бы хан Кучум потерял Сибирское ханство Купцы, что отправились в Кашлык и не доехали до него, повернув обратно, сообщали такие подробности, что вокруг них собирались огромные толпы слушателей.
— Приплыли русские бородатые мужики на огромных лодках, — рассказывал пожилой Рахман-Кули, непрестанно вздыхая и делая скорбные глаза, — а лодки у них такие, что реку перегородить могут. Напали они на главный город Кашлык ночью и хану едва удалось спастись, верные люди помогли.
— А казна как? А жены ханские? А дети? — торопили купца любопытные слушатели.
— Слава Аллаху, все успел хан с собой захватить. Но только недалеко он ушел, опять нагнали его русские скороходы, окружили со всех сторон и началась сеча великая…
— Победил хан Кучум? Скажи, не томи…
— И на этот раз удалось ему вырваться и уйти в степь. Там он окружил себя верными людьми и храбрыми воинами и послал гонцов к нашему великому хану Абдулле, прося у него помощи.
— Видели мы тех гонцов, — кричали собравшиеся. — Тощие и оборванные ходят по городу. Совсем нищие…
— Вот скоро снарядит наш хан великое воинство и отправит его против русских, изгонит их из Сибирского улуса.
— А как же нам торговать с Сибирью? — советовались меж собой почтенные бухарские купцы. — Я там оставил своих товаров прошлым летом два десятка тюков в надежде, что нынче вернусь и выгодно обменяю их на меха. Пропали мои товары!
— И у меня остались должники в Сибири, — вторил ему другой купец. — Где я их теперь найду?! А если их убили? Я разорен!
Слухи обрастали невероятными подробностями. Сообщалось, будто бы русские воины идут на Бухару, собирая вокруг себя ее давних недругов, а хан Кучум схвачен и казнен. Жен и детей же его, заковали в цепи, свезли в Москву. Слухи дошли до Абдуллы-хана раньше, чем сибирские послы переступили порог его дворца.
Поэтому он велел призвать к себе Амар-хана с сыновьями и князя Сейдяка, который успел прославиться как доблестный воин и получил уже звание тысяцкого.
О событиях в Сибири стало известно и Зайле-Сузге. Но она боялась доверять слухам, понимая, насколько они могут быть нелепы. Когда Сейдяка и Амар-хана с сыновьями призвали во дворец, то она безошибочным женским чутьем угадала, что этот вызов напрямую связан с сибирскими событиями.
— Вот и настал час твоих испытаний, — напутствовала она Сейдяка. — Хан Абдулла наверняка предложит тебе совершить поход в Сибирь, чтоб навести там порядок.
— Почему ты так считаешь? — спросил он мать, хотя и сам догадывался, неспроста зовут его во дворец, что-то случилось.
— Я давно ждала этого. К тому же сердце матери знает все наперед. Любая мать переживает за своего ребенка.
— Зачем ты так? Какой я ребенок?
— Ты для меня всегда им останешься.
— Амар-хан ждет господина, — поторопил его вошедший слуга.
— Только не принимай поспешных решений, — напутствовала Зайла-Сузге сына.
Хан Абдулла принял их весьма милостиво, расспрашивал о здоровье и одарил молодых ханов вместе с Сейдяком дорогим оружием.
— Вам, верно, уже стало известно, — перешел он прямо к делу, — что в Сибирском ханстве изгнан из своей столицы хан Кучум?
— Да, мне сообщили об этом, — наклонил седую голову Амар-хан. — В городе только и разговоров, что об этом.
— Наши купцы понесут большие убытки, если русские запретят им торговать в Сибири и менять свои товары на меха. Зато московские купцы поимеют огромную выгоду. Кучум прислал гонцов и просит помощи в борьбе с русскими. Я решил поступить иначе. — Абдулла-хан внимательно вгляделся в лица слушателей и продолжил:
— Говорят, сколько не латай старую крышу в одном месте, она в другом протечет. Видно, стар стал хан Кучум, кончились его силы. Не смог удержать Сибирь, и я волей своей снимаю с него титул Сибирского хана. Пусть хан Сейдяк по праву престолонаследства примет этот высокий титул. Готов ли ты?
— Готов, мой хан, — опустился на одно колено Сейдяк.
— Прочтите ему наш указ и вручите грамоту на владение сибирскими землями, — кивнул хан визирю.
Когда церемония была окончена, то он обратился к сыновьям Амар-хана, стоявшим тут же с опущенными головами:
— Знаю вас как храбрых воинов, детей славного Амар-хана, а потому поручаю всем троим идти вместе с ним, — указал он рукой на вставшего с колен Сейдяка, — защищать нового Сибирского хана и помогать в делах больших и малых. В его власти карать и миловать своих подданных по заслугам. Только передо мной будет держать ответ хан Сейдяк. Направляю сотню воинов для личной охраны, но войско придется набирать в Сибири сообразно с обстоятельствами. Да благословит вас Аллах!
Зайла-Сузге узнала о даровании сыну титула хана Сибирского со слезами на глазах. На другой день она сказала ему:
— Как хочешь, а я одна здесь не останусь. Не хочу больше жить в чужом доме. Хоть Амар-хан и хороший, добрый человек, но тяжело мне. Не было у меня всю жизнь собственного дома. Так хочу хотя бы на старости лет быть рядом с тобой. Когда ты станешь ханом, то, возможно, найдется для матери старая землянка, где смогу спокойно умереть. И еще хочу понянчить внуков… Не откажешь матери в столь малой просьбе?
— Конечно, — Сейдяк совсем не ожидал подобного поворота, — но только не сейчас. Как ты поедешь, когда в Кашлыке русские? Нет, тебе придется подождать…
— И дня без тебя на останусь, — решительно заявила Зайла-Сузге, — а коль не захочешь взять меня с собой, то… то найду с кем мне добраться до Сибири Меня ничто не остановит…
— Я не помешаю? — раздался голос за их спинами. Повернув головы, они увидели стоящего в дверях Амар-хана.
— Что вы, — смутились мать и сын, поняв, что он слышал их разговор. — Вы у себя дома.
— Извините, но я пришел поговорить как раз о том, что Зайле-Сузге лучше было бы какое-то время остаться в Бухаре. Но коль ей так тяжко, то… что тут скажешь, — развел он руками, — решайте сами…
— Я не хотела вас обидеть, уважаемый Амар-хан! Но я должна быть рядом с сыном. Иначе… иначе я просто умру от тоски. Поверьте мне!
— Верю и понимаю тебя. Думал, что мой дом стал твоим домом, а вот ошибся. Силой не желаю никого удерживать… — и круто развернувшись, он вышел.
— Ну вот, — с сожалением проговорил Сейдяк, — обидели зря хорошего человека. Что же теперь делать?
— Ничего. Я попрошу у него прощения и думаю, он поймет меня. Скажи лучше, когда ты собираешься выступать?
— Не ранее весны. Это лучшее время для прохода через ущелья и по степи. К тому же надо все подготовить.
— За это время я смогу все объяснить Амар-хану и выеду с легким сердцем.
— Пусть будет по-твоему…
* * *
…В ту же зиму казачья станица под началом Черкаса Александрова подъезжала к Москве, преодолев долгий путь из Сибири. Они везли царю известие о взятии Кашлыка и бегстве хана Кучума, а также подарки из запасов, обнаруженных ими в ханских кладовых. Казаки долго спорили, стоит ли сообщать царю о взятии Сибири, мол, не ради него в поход пошли, кровь проливали. Но потом, поспорив, пошумев, поостыли да и решили, что Сибирь не баба, с собой на коне или в струге не увезешь, в карман не спрячешь. А царь, глядишь, расщедрится, отвалит свинца, пороха, подмогу пришлет. Снарядили станицу и те, помолясь, отправились.
Москва встретила казаков раскисшей дорогой, толпами нищих, частым колокольным перезвоном. С трудом узнали, где помещается Посольский приказ, сунулись туда. Дьяк, вышедший на крыльцо, долго оглядывал казаков, пытаясь понять, от какого государя те прибыли.
— Из Сибирского ханства мы, — пояснил Черкас Александров, выступя вперед, — направлены с сообщением о взятии его.
— Из Сибирского? — удивился дьяк. — Давно от хана Кучума не бывало посольства. Ясак привезли?
— Да не от Кучума мы, а от атамана Ермака, — сплюнул под ноги Александров. — Убег ваш Кучум-хан и царство свое нам передал.
— Как так? Быть такого не может! Брешете поди…
— Пес брешет, а мы истинную правду сказываем.
— Господи прости! Дела-то какие, — засуетился дьяк. — Проходите в избу, проходите, гостями будете…
На другой день Борис Годунов, войдя к царю с докладом, начал с сообщения о взятии Сибири.
— Это который же Ермак будет, — перебил боярина Иван Васильевич, — напомни-ка. Запамятовал чего-то, — сделал вид будто вспоминает о ком речь. Могучего чернобородого казачьего атамана, что совладал с медведем и был когда-то представлен ему Басмановым, он помнил хорошо, как помнил всех, с кем когда-то встречался, беседовал. Единственное, что не изменяло ему, так это память. Он помнил всех и каждого. И казненных, и помилованных, от чего и мучился порой, но поделать с собой ничего не мог. То был и дар, и наказанье Господне.
Ивану Васильевичу не так давно перевалило за пятьдесят, и недуги, словно только и ждавшие удобного момента, враз повыскакивали, навалились на царя. Выпадали волосы, крошились зубы, кровоточили десна, а самое неприятное — начались боли в ногах, опухавших за ночь так, что нельзя было и сапоги натянуть. Забыл Иван Васильевич про пиры и частые охоты с многодневными отлучками из дворца. Но деятельная натура не позволяла ему успокоиться и он отводил душу в шахматной игре с Годуновым или Бельским; собирал сказителей, волхвов, учил сына Федора как править государством, писал грамоты соседним государям.
Сейчас, услышав о взятии Сибири казаками, отнесся к этому без особого интереса. Если бы несколько лет назад, когда кровь еще играла в нем, то, может, и возликовал бы. Но сейчас не радовало неожиданное известие.
— На кой она мне теперича, Сибирь эта, — прошепелявил он, пока Годунов пытался вспомнить, кто таков атаман Ермак.
— Что сказать изволил, государь? — вытянул к нему шею боярин.
— Чего с Сибирью делать станем? Устал я от дел всяческих…
— Народ надо к присяге привесть, ясаком обложить, воевод отправить.
— И к присяге приводили уже, и ясаком обкладывали, а что толку? Все меж пальцев, все в землю уходит, словно вода. Банька истоплена? — неожиданно переключился на другое государь.
— Не узнавал пока. Верно, истопили уже, — часто заморгал длинными ресницами Годунов. — Посольство принять бы надо… Как положено…
— Примем, коль жив буду, — прокряхтел, тяжело поднимаясь, Иван Васильевич. — Все сделаем, — похлопал легонько по плечу кинувшегося к нему на помощь боярина. — Дай только в себя приду. Ох, грехи мои тяжкие…
Казаков поместили на житье в Чудовом монастыре внутри Кремля. Сунулись в первый же день пойти в город, но были остановлены стрельцом.
— Не велено пускать, — заслонил он дорогу бердышом. — Сидите себе и не рыпайтесь.
Прошло две недели, пока им не сообщили, что завтра пойдут к самому царю докладывать о сибирских делах. Почистились, принарядились. Но против ожидания близко к царскому трону допущены не были. Даже рта открыть не дали, не слышали и царских благодарственных слов. Говорили бояре и думные дьяки. Правда, вынесли каждому по дорогой шубе и обещали деньги на обратный проезд. Высокий горбоносый боярин сказал им с важностью:
— Заслуги ваши царь учтет и помощь окажет. Будет направлен в Сибирь воевода и стрельцы с ним. Вам же следует дождаться его и выступить совместно. Да, еще вины за разбой, — спохватился боярин, — государь казакам прощает. Так и передайте всем.
Вернувшись обратно в монастырские кельи, Черкас Александров скрежетал зубами, кипел яростью:
— Мы тащились в Москву, будь она трижды неладна, как калики перехожие. На-те вам Сибирь, примите. А они тут кочевряжатся, в глаза не глядят. Воеводу нам в помощь отправят. Тьфу на них!
— Не горячись, — успокаивали его, — мы свое дело сделали. Отдохнем, покормимся царским харчем и обратно к своим подадимся.
Воеводою в Сибирь назначили князя Семена Дмитриевича Волховского, ведущего свой род от Рюриковичей, человека тихого и осмотрительного. Был он до этого вторым воеводою в Курмыше, повоевал с поляками и шведами. Взрослые уже сыновья его, Василий и Михаил, несли службу по разным городам, но узнав об отъезде отца, немедленно помчались в Москву, проститься. Княгиня рыдала, заламывая руки, словно на казнь провожала мужа.
— Да будет тебе, — успокаивал ее Семен Дмитриевич, — чего раньше смерти хоронишь? Живой ведь поди пока.
— Вот то-то и оно, что пока, — сокрушалась княгиня, — в басурманскую страну идешь. Чего ж помоложе кого не сыскали?
Сыновья отмалчивались, понимая, что словами не поможешь, а слезы лить с детства были не приучены.
Из Москвы отправились на Казань, а там по Волге, Каме на Пермь, где должны были набрать для сибирского воеводы стрельцов и других охочих людей для похода в дальние земли. По царскому указу, Строгановы готовили речные суда, провизию. Воинских людей набрали две с половиной сотни и без потерь к началу зимы прибыли в Кашлык. Начальными людьми над стрельцами были поставлены Иван Киреев и Иван же Глухов.
* * *
…Казаки успели обжиться на ханском холме, срубили по краям городка четыре просторных избы, частенько выбирались на охоту или рыбалку. Лето провели в плавании по Иртышу и Оби, где обложили данью многие городки, привели к присяге князей, набрали добрых мехов столько, что в пору и торговать ими было. Только не побереглись казаки в том походе, плыли открыто, словно на свадьбу правили. Подкараулили их лихие люди и с высокого берега застрелили из луков несколько человек, а среди них и есаула казачьего Никиту Пана. Там их и схоронили, пропели вечную память.
Ермак пригласил к себе в избу князя Волховского с помощниками, кликнул своих есаулов.
— Рассказывайте, — кивнул он воеводе, когда все расселись по лавкам, — с чем пришли, какой наказ царев до нас будет.
Волховский прокашлялся и заговорил негромко:
— Царь благодарит вас за службу и велит тебе, атаман, в Москву ехать за новой службой, а мне с помощниками тут за главного оставаться, управлять всем.
Недоброе молчание повисло в пахнувшей смолой избе. Казаки переглянулись меж собой и Иван Кольцо первым подал голос:
— На Москву в оковах ехать, али там закуют?
— Зачем вы так, атаманы. Не своей волей я сюда до вас приехал. Мое дело — царю служить, его наказ передать. А вы уж сами решайте, как быть, поступать.
— Мы, выходит, не царю служим? — выкрикнул Богдан Брязга. — Да не мы, дык вам Сибирь и сроду не взять!
— Взять мало. Ее еще и удержать надо. — Волховский хотел всеми силами избежать ссоры с казачьими атаманами, но те сами лезли на рожон, не желая признавать его старшинства. — Царь вас простил за все вины и наградил достойно. Чего еще?
— Значит, гонишь нас отсюда, воевода? — поднялся со скамейки Матвей Мещеряк. — Этак дело не пойдет. Мы люди вольные и сами решаем, где нам жить, где промышлять. Не нравится тебе рядом с нами жить — милости просим, лес большой, рубите избы, селитесь где вздумается. А то как лиса к зайцу в избушку погреться попросилась, а потом его же и выжила. Не пойдет так, воевода, не пойдет!
Ермак, который до этого не проронил ни слова, но незримо руководил спором, поддерживая молчанием своих есаулов, решил, что надо как-то приходить к согласию.
— Я вот что скажу, — неспешно начал он, — коль царь нас на Москву зовет, то надо ехать…
— Как ехать?! — вскочил опять Богдан Брязга. — В зиму ехать? Да ни в жизнь! В городке отсидеться дай Бог, а в дорогу пускаться дураков не сыщешь.
— Все сказал, Богдан? Теперь меня послушай. Не те мы люди, чтоб с пустыми руками к царю ездить. Надо с подарками ко двору являться…
— Мехов за зиму подсоберем и отправимся, — почти угадал мысль атамана Яков Михайлов.
— Меха мехами, а я про иной подарок говорю. Кучум все еще на свободе гуляет. И воевода его главный — царевич Маметкул, что много наших в бою положил, посмеивается над нами. Такого не бывало, чтоб кто нашего брата обидел и безнаказанно ушел. Словим их — и будет с чем на Москву ехать.
— Точно, — заулыбался довольный Богдан Брязга, ценивший уловку атамана, и глянул на воеводу.
Понял и князь, что с казаками надо решать добром и миром, а потому перечить не стал, пожал плечами:
— Я вам царский наказ передал, а вы уж сами решай как поступать. Неволить не стану. Ссориться нам не с руки. Надо людей моих разместить где-то, о пропитании позаботиться.
— Лес валить, избы ставить поможем, а с пропитанием хуже, — вздохнул Ермак. — Муки нет, сухари еще в ту зиму кончились. Одна надежда на рыбу да на зверя. Обещали князья местные подвезти кое-что, да только давно не едут. Не перехватил ли Кучум их?
— Разведку послать бы надо, — предложил Иван Кольцо, — поглядеть, что да как кругом. А то сидим тут, как медведи в берлоге, ни о чем не ведаем.
— Направим и разведку, — согласился атаман, — только прежде поможем стрельцам избы срубить, землянки пока на скорую руку соорудим, чтоб от холодов укрылись.
Волховский, выйдя на крыльцо, поглядел на сидевших вперемешку у костров казаков и своих стрельцов, подумал, что пока верховодят здесь казачьи атаманы, за лучшее будет соглашаться с ними во всем.
ПОЗНАНИЕ СМЕРТИ
Мухамед-Кул медленно поправлялся от раны, полученной во время сражения с русскими. Тяжелая секира, прорвав панцирь на плече, повредила кости. Если бы не сотник Янбакты, заслонивший его собой, не жить бы ему. Русские дрались словно одержимые, один в битве стоил десятерых и их сабли, боевые топоры валили нукеров одного за другим.
Первую зиму Мухамед-Кул провалялся в отдаленном улусе, ждал, пока срастутся кости, вернутся силы. Летом уехал в степи, где кумыс и мясо молодых барашков вернули его к жизни, и вскоре он стал так же бодр и подвижен. Тогда и разыскал его гонец от хана Кучума, приглашавшего племянника на большой совет в свой лагерь.
Оставив Кашлык, Кучум первую зиму провел скрытно под Абалаком, выставив посты на всех дорогах, чтоб вовремя узнать о приближении русских. Но те, обрадованные первой победой, укрылись в городке и не рисковали совершать дальние переходы. Вернувшийся из набега царевич Алей тяжело заболел незнакомой прежде болезнью и встал на ноги лишь к весне, изможденный и обессиленный.
Кучум думал, что русские, дождавшись вскрытия рек, вернутся обратно. Но лазутчики донесли, что весной большой отряд ушел из городка вниз по Иртышу, а остальные и не думают покидать ханский холм. Из-за стен доносился перестук топоров, по углам появились добротно срубленные из сырого леса башни, укрепили ворота. В Кашлык украдкой пробирались окрестные князья, везли им продовольствие. Так прошло лето.
По первому снегу в лагерь к Кучуму прискакал дозорный и, захлебываясь, скороговоркой выпалил, что к русским подошла подмога числом до трех сотен при ружьях. Вот тогда-то хан окончательно понял, что по своей воле с его земли русские воины уходить не собираются, и созвал большой совет, пригласив и племянника.
Мухамед-Кул не виделся с Алеем после его последнего посещения и плохо представлял, как поведет себя при встрече с ним. Но совместная беда объединяет людей, вынуждает забывать обиды. К тому же после похода на русские города Алей должен был на многие вещи смотреть иначе. Да и не время сейчас ссориться, когда враги заняли столицу ханства.
Кучум приветливо встретил племянника, похлопал по плечу, поинтересовался здоровьем.
— Не бойся, хан, саблю держать могу, а все остальное — пустяки, — отшутился тот и взглядом встретился с Алеем, что стоял позади отца вместе с младшими братьями. Он похудел и осунулся, но от этого выглядел гораздо мужественнее, заострившиеся черты лица стали более жесткими, на лбу появились упрямые складки. Рядом с ним стоял, глядя в сторону, Карача-бек, что насторожило Мухамед-Кулу, но, не показав и вида, он по очереди поздоровался с Алеем и другими братьями.
— Вот мы и снова вместе, — примирительно заговорил Кучум, — пришло время для решительных действий. У нас есть еще сила, чтоб изгнать русских, сделать так, чтоб земля горела под ногами у них.
Мухамед-Кул с удивлением смотрел на подряхлевшего хана, дрожащий, чуть надтреснутый голос которого говорил не столько о возрасте, сколько о растерянности и беспомощности его. Он уже не приказывал, а скорее просил собравшихся о единстве. Ни одним словом не обмолвился, что он хан этой земли. Нет, скорее он призывал кого-то из молодых ханов на борьбу с русскими Но никто из сыновей не предложил какого-либо плана действия против русских. Молчал и Мухамед-Кул. Может, потому и стал говорить вслед за ханом Карача-бек, скользнув взглядом из-под полуопущенных век по собравшимся.
— Хан верно сказал: время ссор и обид прошло. Нам больше не на кого надеяться, кроме как на себя. Царевич Алей полон сил и имеет опыт как следует сражаться против русских. Думаю, что он и должен командовать нашими сотнями…
— О каких сотнях ты говоришь, визирь, — грубо перебил его Алей, — у нас слишком мало людей, чтоб класть их под русскими пулями. Для взятия Кашлыка нужно не меньше пяти, а то и семи сотен. Где их найти? Остяцкие и вогульские князья отвернулись от нас.
— Дело не только в них, — покачал головой Кучум. — Многие из князей сказались больными и не приехали по моему приглашению. Почему люди так быстро забывают о добре?
— На них наших сил хватит, — зловеще проговорил Ишим.
— Отец, в самом деле, — порывисто предложил Алтанай, — позволь нам с братом проехать по их улусам и высечь плетьми каждого, кто скажется хворым.
— Не надо спешить, сынок, — мягко остановил его Кучум, и Мухамед-Кулу показалось, что хана подменили. Не тот человек находился перед ним. Разве может этот старик, что позволяет перебивать юнцам старших, справиться с казаками? Разве не должен он именно сейчас перед всеми признаться в своей слабости и сложить с себя власть? Мухамед-Кулу хотелось крикнуть об этом вслух, но он опять сдержался, хорошо понимая, что окажется в меньшинстве.
— Ишим прав, — поддержал его старший брат, — давно пора взять по заложнику у каждого из князей и безжалостно казнить нескольких для острастки. Это заставит их поумнеть.
— Что скажет мой племянник? — хан повернулся к Мухамед-Кулу. — Ты храбро дрался с русскими и нам бы хотелось услышать твое мнение.
— Мне трудно говорить, когда не знаешь, что случится завтра. Зачем меня позвали на совет? Узнать о том, что нужно драться? Я это сделал одним из первых и едва не лишился жизни, в то время как другие улепетывали, как трусливые зайцы.
— Но, но! Не забывайся, с кем говоришь, — подпрыгнул на месте Алтанай. — Мы так же сражались, пока на нас не напали сзади.
— Что же помешало тебе сражаться дальше? Вы говорите о князьях, которые не желают защищать вас. А почему они должны это делать? Кто обложил их ясаком? Кто брал воинов у них? Чьи наложницы в ваших гаремах? Радуйтесь, что они пока не выступили против вас! Я бы на их месте так и поступил…
— Замолчи!!! — яростно завизжал Алей, хватаясь за кинжал. — Еще слово и я перережу твою поганую глотку!
— Почему же… Пусть говорит, — мягко удержал царевича за руку Карача-бек, — очень даже интересно. Теперь хоть знать будем, откуда беды ждать.
— Раньше надо было думать, — Мухамед-Кул не собирался смягчать смысл сказанного и продолжал выплескивать из себя горечь, скопившуюся в нем за последние годы после удаления из Кашлыка, — а теперь, когда вас вышвырнули, словно слепых щенков из логова, вы спохватились. Никто не пожелает проливать свою кровь, чтоб потом опять платить ясак и ждать ласкового слова почтенного хана. Никто не пойдет за вами! Никто! Слышите?! У меня столько же прав на ханство и объявляю вам, что сам соберу князей под свою руку, изгоню русских и буду править без ваших указок. Запомните мои слова!
— Хорошо ли ты подумал, племянник? — вкрадчиво спросил Кучум, и в его голосе вновь зазвучала былая сила и угроза. — Никто еще не придумал, как можно прожить и править государством, если не собирать ясак со своих подданных. И тебе не избежать этого, даже если князья поверят и пойдут за тобой…
— Сам разберусь, — уже на ходу бросил Мухамед-Кул, — а сейчас я еду к своим друзьям и завтра у меня будет воинов в два раза больше, чем у вас. Прощайте…
Когда Мухамед-Кул беспрепятственно покинул лагерь, то все долгое время сидели молча. Кучум, ни на кого не глядя, заговорил приглушенно:
— Верно, ушло, кончилось мое время. Слово хана уже ничего не значит. Стар я стал. Пусть Алей на правах старшего примет власть из моих рук. Ему вручаю заботу о наших жизнях и судьбу всего ханства.
— Отец, — подошел тот к нему, — я всегда буду помнить об этом… Обещаю тебе, что выполню все, что скажешь ты. Во всем буду всегда советоваться с тобой. Можешь ни о чем не беспокоиться…
— Береги себя, — обнял его Кучум, — а вы, дети мои, слушайтесь его что бы ни случилось, как отца своего.
Остальные царевичи, прикусив губы, молчали. Кучум понял, что согласия, о котором он мечтал последнее время, уже не достичь.
— А как поступить с Мухамед-Кулом? — спросил Алей отца.
— Оставь его в покое. Против нас он не выступит. С равным себе по силе всегда можно договориться. Помни об этом. Мы все одной крови.
Когда Алей направился к своему шатру, то его догнал прихрамывающий Карача-бек, схватил за руку.
— Можно дать совет молодому хану, — льстиво улыбаясь, заговорил он.
— Говори, — поморщился Алей, — только недолго.
— Знает ли хан, что Соуз-хан отправил своих сыновей на службу к русским?
— Мне говорили, что и твои сыновья сдались русским. Разве не так?
Их захватили в плен, но потом они бежали. И теперь они рядом со мной. А старшие сыновья Соуз-хана, Шарип и Набут, так и остались в русском лагере…
— И что из того?
— Позволь мне наведаться к нему и поговорить с ним. Соуз-хан очень богатый человек и может хорошо заплатить. А деньги нам сейчас нужны, чтоб собрать хорошее войско против русских.
— Делай что хочешь, — Алей махнул рукой, собираясь идти дальше.
— Это не все, — удержал его Карача-бек, — я знаком с семьей сотника Янбакты…
— То еще кто такой?
— Он ближний человек Мухамед-Кула?
— Ну и что? Ты хочешь вырезать его семью?
— Зачем так… Я поступлю иначе. У него есть старший брат, который будет нам обо всем докладывать. Пошлю к нему своего человека и передам, чтоб он ехал в лагерь к Мухамед-Кулу.
— Скажи-ка, визирь, — взглянул на него царевич, — а ты сам никогда не мечтал стать ханом Сибири?
— Как можно даже думать об этом, — склонился в поклоне Карача-бек, — мне, недостойному, я должен уберечь моего хана от лишних забот. Я слуга своего господина.
— Вот и помни об этом. — Алей вырвал руку из цепких пальцев визиря и пошел дальше, не оглядываясь.
— Зря ты со мной так, — прошептал зловеще ему вслед Карача-бек, — как бы не пожалел. Ха-а-ан! — с презрением произнес он и сморщился.
Мухамед-Кул вместе с поджидавшим его преданным Янбакты и двумя десятками охраны прямо из ставки Кучума направился в улус своего друга Айдара, а затем без промедления разыскали Дусая.
— Наш хан стал чересчур стар и нерешителен, — объявил им Мухамед-Кул, — я вышел из-под его подчинения и набираю собственное войско. Скажите, вы мне друзья?
— Конечно, почему ты спрашиваешь, — не раздумывая, ответил Айдар.
— Можешь не сомневаться, — поддержал его Дусай.
— Но надо набрать не одну сотню, чтоб одолеть русских?
— Вы же пошли за мной, пойдут и другие. Многие князья недовольны Кучумом.
— Тебе решать, — согласился немногословный Дусай.
Через неделю к ним присоединились еще пятеро князей и под началом Мухамед-Кула собралось две сотни воинов. Они ехали по замерзшему руслу Иртыша и уже проехали Абалакскую гору, когда ехавший впереди Янбакты предупреждающе поднял руку.
— Что случилось? — подъехал к нему Мухамед-Кул.
— Следы, — указал тот. Впрочем, тот и сам заметил цепочку следов, спускающихся с горы к реке.
— Прошли пешие, не больше двух десятков человек.
— Ты думаешь, это были русские?
— Скоро узнаем, — ответил сотник. — Надо отправить часть нукеров, чтоб обошли их вдоль берега, отрезали путь назад.
— Айдар, — скомандовал Мухамед-Кул, — возьми полсотни и быстро вдоль берега. Мы чуть подождем и погоним их на тебя.
Проехав еще немного по льду реки, Мухамел-Мухамед-Кулразличил вдали фигурки людей, суетившихся возле большой проруби. "Рыбки им нашей захотелось, — злорадно подумал про себя, — сейчас накормим рыбкой, погодите чуть…"
Казаки, что без разрешения атамана отправились на рыбалку, слишком поздно заметили отряд Мухамед-Кула, летящий на них. Они не взяли с собой ни панцирей, ни кольчуг, понадеявшись, что Кучум со своим войском давно не тревожил, не показывался в этих местах. Теперь, побросав сети и свежую рыбу, они бросились к берегу, стремясь уйти вверх по крутоярью, но и оттуда навстречу им выскочила полусотня Айдара, завернула обратно. Казаки заметались, падая под ударами сабель, вяло отбиваясь. Всадники окружили их плотным кольцом и, выкрикивая ругательства, секли по одному, хвастаясь меткими ударами, когда чубатая голова падала под копыта коней. Увлеченные расправой с рыбаками, они не сразу заметили запылавший высоко на холме костер, от которого повалил густой дым, уходя столбом вверх.
— Сигнал вроде как подает кто? — указал Янбакты. Казаки на всякий случай оставили на гребне холма дозорного, который должен был подать в случае опасности условный знак дозорным в Кашлыке, но пока он искал хворост, разжигал, с его товарищами все было кончено. В Кашлыке заметили сигнал и быстро выслали в сторону Абалака две сотни. Айдар первым увидел цепочку людей, спешащих к ним навстречу.
— Казаки! — крикнул он громко, — Много их. Сотни две будет.
— Вон и поверху идут, — кивнул Дусай на вершину холма.
— Может, лучше будет отойти? — предложил Янбакты осторожно.
— Ни за что! — Мухамед-Кул, разгоряченный и обрадованный легкой победой, погнал коня вперед, размахивая саблей. Остальные, растянувшись, скакали следом.
Первыми выстрелами казаки свалили нескольких всадников, а прорвавшихся встретили плотным строем, выставив вперед копья и бердыши.
— Держись, ребята! — кричал Иван Кольцо, клокоча от ярости. Ему слишком поздно доложили, что станичники из его сотни захотели побаловаться свежей рыбкой, но было поздно, и сейчас он с холма увидел их изрубленными.
Первым ранили горячего Айдара, и он упал на лед, схватившись руками за окровавленное лицо. Нукеры кинулись к нему, чуть оттеснили казаков, положили князя на коня и вывезли из сечи. Дусай бился молча, стараясь пробиться к голубоглазому казаку, отдающему команды. Но его ударили копьем в грудь и острие прошло меж пластин панциря, достало до сердца. Мухамед-Кул поднял коня на дыбы, закричал, как будто ранили его самого, и, рассыпая удары направо и налево, с трудом вырвался из кольца пеших казаков, огляделся.
Казаки стояли плотно, плечо к плечу, и продвигались вперед шаг за шагом, умело прижимая его нукеров к берегу, где снег был глубже и кони вязли в нем. Кони вздрагивали, пятились, всадники в сутолоке мешали друг другу, команды никто не слушал.
— Отходить надо, — крикнул прямо ему в ухо Янбакты. Мухамед-Кул дико глянул на него, словно не узнал, и указал рукой на казачьи ряды:
— Там Дусай! Они убили его! Убили!
— И Айдар очень плох. Ему раскроили саблей череп. Едва дышит. Надо отходить. Мы еще доберемся до них.
— Ни за что! Умру здесь, но не отойду! — Мухамед-Кул огрел коня нагайкой, тот взвился, прыгнул вперед, но его остановили нукеры, которые без приказа начали отходить назад.
— Куда?! — кричал Мухамед-Кул, хлеща нагайкой по лицам, по спинам, стараясь повернуть их обратно. Но кто-то вырвал у него из рук нагайку и увлеченный общим потоком конь поскакал прочь от места схватки. Вслед им прогремели последние выстрелы, но вскоре они были уже в безопасности, укрывшись за стволами разлапистых талин, росших вдоль берега.
Ехали остаток дня. Заночевали на опушке леса. Лишь достигнув на другой день небольшого селения, Мухамед-Кул решил остановиться на несколько дней, чтоб дать передышку нукерам, подлечить раненых.
— Тут рядом живут мои родичи, — сообщил ему Янбакты. — Если позволишь, то я навещу их.
— Поезжай, — не поднимая головы, отозвался Мухамед-Кул. — Возвращайся побыстрей…
Через два дня сотник вернулся вместе с младшим братом, которого звали Сенбахты. Тот привез освежеванного барана на плов, сыр, свежий хлеб и с поклоном положил все это к ногам Мухамед-Кулы.
— Угощайтесь, пожалуйста, а мне домой надо, — не глядя в глаза, проговорил он.
— Разве ты с нами не останешься? — удивился Янбакты.
— Нет, пообещал матери дома быть засветло, — отвечал тот и, даже не дав передохнуть коню, уехал.
Янбакты спал в шатре, рядом с Мухамед-Кула, когда рано утром услышал приглушенный крик. Он схватил саблю, выскочил наружу и наткнулся на бородатого казака с пищалью в руках.
— Стой! — крикнул тот, но сотник пригнулся и отпрыгнул в сторону. То что он увидел, поразило его и он чуть не выронил саблю из рук. Вокруг их лагеря стояла плотная цепь казаков, а перед ними сидели на снегу безоружные нукеры со связанными руками. Навстречу к нему шел младший брат, широко улыбаясь.
— Положи саблю, — предложил он. — Русские хорошо приняли меня и пообещали подарить тебе жизнь.
— Как ты мог? Брат! — вскрикнул Янбакты. — Что я отцу скажу?
— Отец ничего не узнает, — беззаботно ответил Сенбахты.
— Он все узнает! — взмахнул саблей старший брат, но тут же отброшенный выстрелом рухнул на снег и тихо прошептал: — Зачем ты сделал это?
Мухамед-Кулу взяли спящим в шатре и вывели со связанными руками.
— Ого, старый знакомый, — подошел к нему Иван Гроза. — Не я ли тебя тем летом секирой своей попотчевал? Узнаешь?
Тот лишь злобно сверкнул глазами и бессильно заскрежетал зубами.
— Лучше убейте меня! Не останусь в плену! — закричал он.
— Такой молодой, а умирать собрался, — засмеялся Гришка Ясырь. — Вот к атаману доставим, а тот как решит.
Ермак, когда пленников привели в Кашлык, велел привести к нему в избу ханского племянника, недобро глянул на него, спросил:
— Где хан Кучум скрывается?
— Для меня он не хан. Я сам по себе. За него воевать не хочу.
— Может, за нас повоюешь? — усмехнулся атаман, но увидев, что пленник готов броситься на него, добавил. — Остынь. Против своих воевать не станешь. Знаю. А потому готовься в Москву к царю-батюшке отправиться.
— Кто его захватил? — спросил казаков. — Иван Гроза? Вот тебе и ехать с ним на Москву. Готовься, после Рождества и отправитесь.
* * *
Карача-бек вошел в шатер Кучума и со вздохом сожаления произнес:
— Твой племянник, Мухамед-Кул, оказался в плену у русских…
— Как это случилось? — Кучум сидел перед небольшой жаровней с углями, укутанный в теплые шубы. Его согнутая фигура и надтреснутый глухой голос вызывали жалость. Тут же была и Анна, которая ухаживала за ним. Остальных жен и детей он отправил в степь, где они находились под охраной небольшого отряда верных ему нукеров. Старший сын Алей объезжал дальние улусы, собирая воинов для войны с казаками. Карача-бек видел, что вокруг Кучума остается все меньше желающих защищать его.
— Мухамед-Кул решил напасть на русских, но потерпел поражение. Были убиты его ближние князья.
— Я не верю, что он сдался в плен добровольно.
— Его захватили ранним утром, когда все спали.
— Не верю. Мой племянник не только храбрый воин, но и осторожен как рысь. Верно, кто-то предал его.
— Возможно, — дернул плечом Карача-бек.
— Что тебе известно об этом. Расскажи. Я хочу знать.
— Его предал брат сотника, что был правой рукой при Мухамед-Куле. Он навел русских на их лагерь.
Кучум поднял на него мутные, слезящиеся глаза и тихо спросил:
— Скажи, тут не обошлось без твоей помощи? Ты умеешь обделывать такие дела. Скажи честно, тебе ничто не грозит.
— Мухамед-Кул пошел на разрыв с твоим родом, хан. А я был и остаюсь преданным слугой сибирского хана, кто бы он ни был.
— Я слышу ложь в твоих словах. Ты слишком хитер, визирь. Иди. Не желаю больше видеть тебя. Лучше я останусь один, чем буду окружен такими людьми, как ты.
Придет время — ты предашь и меня. Прощай и ничего не отвечай мне.
Анна наклонилась над Кучумом, когда стихли шаги Карачи-бека, провела теплой рукой по его лицу.
— Ты правильно поступил, прогнав его. Тот кто родился предателем, останется им всю жизнь.
— Знаю, знаю… Но так устроен мир, что коль правишь людьми, то должен принимать их такими, как они есть. Слишком многое хотел я исполнить, но судьбе было неугодно это. Пусть молодые пытаются переделать мир. Пока у них есть силы. Мне уже поздно заниматься этим.
— Как твои глаза? Очень болят?
— Я уже не помню, когда они не болели. Аллах покарал меня за то, что я смотрел слишком далеко вперед, а не увидел предателей и гордецов под своим собственным носом.
— Давай я вотру тебе мазь и боль пройдет.
— Хорошо. Я рад твоей заботе обо мне. Но хочу спросить: может быть, будет лучше, если ты отправишься к своим родственникам? Русские не остановят тебя, а ты не скажешь им, что была женой несчастного хана.
— О чем ты говоришь? Среди наших женщин не принято бросать мужа, когда ему угрожает опасность. Забудь…
— Как я могу забыть, когда рядом ходит смерть. В любой момент могут появиться русские казаки и убить нас или забрать в плен.
— Что бы ни случилось, но я останусь с тобой.
— Спасибо тебе, Анна… Если бы кто несколько лет назад сказал мне, что я останусь почти один и рядом со мной будет лишь русская женщина, я рассмеялся бы ему в глаза. Теперь мне не смешно.
— Никто не может предугадать, что ждет человека впереди. Может, все наладится. Тебе надо пойти на мир с русскими…
— Нет! — В голосе Кучума появилась обычная уверенность и всегда ему свойственная жесткость. — Не бывать тому. Пусть я умру голодной смертью, но на поклон к ним не пойду.
Карача-бек после расставания с Кучумом отправился к единственному человеку, который никогда не перечил ему и выполнял все указания, к Соуз-хану. Именно он мог сейчас помочь ему в задуманном, лучшего человека просто не найти.
Соуз-хан, оставив старших сыновей на службе у русских, чуть успокоился, уверенный, что те не посмеют напасть на его городок, заполучив таких достойных воинов. Сыновья несколько раз приезжали к нему, рассказывали с гордостью, как несут службу и в скором времени ждут повышения. Сам атаман обещал поставить их десятниками. Соуз-хан слушал их и внутренне кипел от негодования за детей. Им ли, потомкам древнего рода, быть десятниками?! И у кого? У презренных оборванцев без роду и племени. Но иные времена нынче и не известно, как все обернется. "Пусть будут десятниками, а там посмотрим", — думал он.
Гораздо больше волновало его собственное здоровье. Он стал тяжело дышать, не хватало воздуха, кружилась голова, не помнил, когда выезжал из городка, а за последний год лишь раз наведался в шатер к молодым наложницам. Выписанный из Бухары лекарь каждый день осматривал Соуз-хана, давал специальные отвары, следил, какую пищу подают ему. Из Бухары он привез полный кувшин отвратительных пиявок, которые, по его словам, могли и мертвого на ноги поднять. И сегодня с утра он явился опять ставить этих тварей ему на тело. Пиявки неслышно впивались в кожу и вскоре набухали, становясь похожими на перезрелую клюкву. Лекарь ставил их на щеки, на грудь, на ноги, и Соуз-хан беспомощно таращился на ненасытных тварей, боясь пошевелить рукой.
— Они из меня когда-нибудь выпьют всю кровь, — стонал он.
— Зачем так говорит, мой господин, — протестовал лекарь. — Великие государи мира прибегали к подобному способу еще в древние времена…
— Я не великий государь, и мог бы придумать для меня что-то менее болезненное и противное.
— Но ведь господину становится лучше. Разве не так?
— Лучше, лучше, — брюзжал Соуз-хан, — круги перед глазами плывут, а ты говоришь, лучше. Поди, сам себя не лечишь этими тварями.
— У господина большой избыток крови, к тому же у вас очень крепкий организм и вы еще меня переживете, — успокаивал его лекарь, — но лишняя кровь только мешает и от нее лучше избавиться.
— То моя кровь и я не желаю избавляться от нее! Снимай их — завизжал больной, пытаясь стряхнуть с себя раздувшихся тварей.
Когда ему доложили о прибытии Карачи-бека, то он проворчал:
— Еще один кровопиец приехал. Все только и мечтают как урвать у меня что-нибудь. Чует мое сердце, не к добру это, ох, не к добру…
Улыбающийся Карача-бек внимательно оглядел Соуз-хана, заметил:
— А ты совсем молодцом стал. Верно, еще одну молодую жену завел? А?
— Не до них мне теперь. Неспокойно кругом. В Кашлыке русские засели. Хан Кучум где-то скрывается. Не пойму, что и творится.
— Зачем о таких глупостях думаешь? Пусть другие этим занимаются. Я тебе друг? Вот и послушай меня. Кучум больше не хан этой земли…
— Как? — Подпрыгнул Соуз-хан и его тучное тело заколыхалось. — Не может быть!
— Послушай, что я тебе скажу. Кучум назначил ханом своего старшего сына Алея…
— Этого сосунка? А почему он про меня забыл? Почему ты не напомнил ему об этом? Чьи предки управляли некогда этими землями?
— Подожди, не спеши, любезный Соуз-хан. Пришло твое время. Разве согласится Кучум назначить тебя ханом? Не тот он человек. Но у Алея нет преданных людей, которые помогли бы ему изгнать русских и вернуть обратно ханскую ставку. У тебя есть золото, есть товары, есть табуны скота. Пришло твое время, — повторил он.
— Я нанимаю нукеров, а ты платишь им, и мы вместе стерва прогоним Кучума, а потом примемся за русских.
— Что-то я опять ничего не пойму, — растерянно замотал головой Соуз-хан. — Объясни получше.
— Твои сыновья служат у русских?
— А тебе это откуда известно? Какое твое дело?!
— Да я о том, что русские примут тебя и послушаются, если ты приедешь к ним повидаться с сыновьями. Они сейчас в Кашлыке?
— Похоже, там… А зачем я поеду к русским? Мне нечего там делать.
— Ты скажешь им, что я готов выступить с ними вместе против хана Кучума и прошу помощи. Обещай хорошо заплатить им и они согласятся.
— И что потом?
— Мы прогоним Кучума с их помощью, а потом соберем войско и выгоним из Кашлыка русских. Тогда ты и будешь ханом Сибири.
И хотя Соуз-хан не поверил и половине того, что наговорил ему бывший ханский визирь, но отказать ему он просто не мог. С покорностью обреченного на казнь он собрался, простился со всеми и сел в повозку, взяв лишь двух нукеров для охраны. Возле Кашлыка они расстались с Карачой-беком.
— Скажи русским, что я буду ждать их возле устья Вагая. Слышишь?
— А они меня отпустят обратно? — недоверчиво спросил Соуз-хан.
— Конечно. Не сомневайся. Ведь твои сыновья служат у них.
Ермак сразу узнал Соуз-хана, хотя тот и сильно постарел, стал вдвое толще, чем раньше. Зато тот, переживая за свою жизнь, постоянно озирался кругом и не признал в атамане своего старого знакомого.
— Так что предлагает Карача-бек? Зачем ему понадобилась наша помощь? — пытливо выспрашивал Ермак прибывшего. Тут же сидели Матвей Мещеряк, Иван Кольцо и князь Волховской.
— Не верю я этим басурманам, — выслушав ответ часто хлюпающего носом Соуз-хана, вздохнул князь Болховской.
— Почему он сам не явился? — спросил Матвей Мещеряк.
— Верно, караулит хана Кучума. И ждет вас.
— Не мешало бы изловить хана сибирского, — как бы между прочим озорно блеснул синими глазами Иван Кольцо. — Много ли заплатить твой Карача обещался?
— Много, много, — закивал головой Соуз-хан. — Табун коней обещал.
— Коньков заиметь это хорошо, — мечтательно произнес Кольцо. — Отправь меня с моей сотней, атаман. И хана за бороду притащим, и коньков пригоним. Как скажешь?
Ермак недоверчиво глянул на прибывшего гонца и обратился к князю Волховскому:
— Что князь скажет? Может, твоих людей направить?
— У меня помороженных много, — не согласился тот, — да и места они эти плохо знают. Пусть ваши казаки отправляются, коль ты, атаман, басурману этому веришь.
— Сотню я с тобой не пущу, — не глядя в глаз а есаулу, вздохнул атаман, — а то могут они сговорившись и по Кашлыку ударить, пока мы их по лесам ловим. Коль согласен, то бери полсотни. Сколько у Карачи-бека воинов?
— Две сотни будет, — с готовностью отозвался Соуз-хан.
— Хватит, чтоб Кучума словить. А что не так, то мигом обратно.
— А куда же нам еще деваться? — засмеялся Кольцо.
— Только чур, конька сам себе выберу. По вкусу.
— Выберешь, выберешь, — заулыбался Ермак ему вслед.
Соуз-хан тоже направился к двери, но был остановлен властным окриком.
— Куда собрался, уважаемый?
— Так, однако, обратно надо…
— Вернутся казаки, и ты домой отправишься. Подави пока с нами. Места на всех хватит. — Понурившись Соуз-хан пошел разыскивать своих сыновей, проклиная коварство Карачи-бека.
* * *
Две недели не было известий от казаков, что ушли вместе с Иваном Кольцо, а как-то ночью караульный на башне услышал легкий шорох внизу, а потом что-то твердое упало на замерзшую землю. Караульный поспешно спустился по лестнице с факелом в руке, без особого труда нашел обычный рогожный мешок и, развязав его, в ужасе вскрикнул, не помня себя, побежал к избе атамана.
Ермак долго смотрел на лежащую перед ним окровавленную голову есаула, казалось бы и сейчас беззаботно улыбающегося, с голубыми глазами, а потом с трудом произнес:
— Выбрал ты себе, Иван, конька… Только голову не сберег. — Скрежетнув зубами, велел будить есаулов и привести Соуз-хана.
Тот вошел заспанный, подрагивая от холода, и обвел избу, озаренную чадящим светом факелов, ничего не понимающими глазами.
— За этим ты казаков звал? — угрожающе шагнул к нему атаман, указав на отрубленную голову есаула.
— Зачем так говоришь? — испугался тот и еще сильнее задрожал. — Карача-бек правду говорил, что Кучума прогнать хочет. Он ушел от него. Затем и нукеров просил.
— Врешь ты все! Сговорился с ханским визирем, чтоб заманить наших казаков. Готовься к смерти!
— Моя русским служить будет, — залепетал, путая свой и русский языки, Соуз-хан. — Моя не виновата… Карача-бек нехороший человек…
— Что с его сыновьями делать? — спросил Матвей Мещеряк. — Может, на осине вздернем?
— Так его сыновья здесь?
— А где же им быть. Туточки. Просились с Иваном в поход, да он не взял их.
Ермак задумался на какое-то время. Было не похоже, чтоб трусливый Соуз-хан пошел на такой шаг и пожертвовал бы не только своей собственной шкурой, но и жизнью сыновей. Не такой он человек.
— Вышлите утром дозор, — приказал он Мещеряку, — а с ним пока погодим. Разузнать надо, чего с казаками нашими случилось. Может, и жив кто остался, расскажут. Не сбежит, не бойся, — ответил он на выразительный взгляд есаула в сторону Соуз-хана.
Но высланная утром разведка быстро вернулась обратно, доложив, что узкая тропа перекрыта и они чуть не угодили в засаду.
— Попробуйте спуститься по реке и пробиться на другую сторону, — указал Ермак на крутой спуск Якову Михайлову.
— Поздно, атаман, — кивнул тот на замерзшее русло реки, где в нескольких местах можно было разглядеть чернеющие группы всадников. — Обложили они нас. А по снегу через лес не пробиться.
Ждали еще неделю, не предпринимая особых попыток выбраться из Кашлыка. Вместе со всеми ждал своей участи и Соуз-хан.
В один из хмурых зимних дней к Ермаку подошел есаул Савва Волдырь и попросился на вылазку.
— Сиди не сиди, а припасы кончаются, — пояснил он.
— Может, доберемся до какого селения, возьмем рыбы, мяса.
— Хлебца бы… — сказал мечтательно Гришка Ясырь.
— Да, хлебца бы не помешало, да где его взять. Ермак видел, как отряд Волдыря беспрепятственно прошел по реке, тяжело утопая в наметенных за зиму сугробах, и взобрался на противоположный берег. Никто их не тронул. Их ждали неделю. Не вернулись. Ждали еще одну. А потом батюшка Зосима сказал Ермаку:
— Кажется мне, что заупокойную службу служить надо по ним…
— Не будем торопиться. Служба не уйдет. Шла третья неделя Великого поста и в городке не осталось ни крошки еды. Отец Зосима объявил казакам, что берет грех на себя и разрешает употреблять в пищу скоромное, если кому удастся добыть какую живность. Казаки переглянулись меж собой и промолчали.
Еще через неделю не смог встать утром князь Болховской. Осенью уехал в Москву вместе с Иваном Грозой сопровождать пленного Мухамед-Кула княжеский помощник Киреев, и стрельцами командовал Иван Глухов. Он и сообщил Ермаку, что воевода совсем плох.
— Что же раньше молчал? Язык проглотил?
— Да так есть хочется, что хоть язык собственный на похлебку вари, — слабым голосом отшутился тот.
Атаман откинул тяжелую меховую полость, укрывавшую Волховского, и увидел раздувшиеся ноги того, посиневшие ступни.
— Батюшку мне позовите, — попросил князь негромко. — Исповедоваться перед смертью хочу.
— Да подожди, князь, умирать. Скоро лето придет. Пробьемся к реке, рыбы наловим, ушицы сварим. Погоди…
— Кто на Москве окажется, пусть саблю мою и доспехи сыновьям передадут, — не слушая Ермака, наказывал Волховской.
Позвали отца Зосиму, оставили их одних. Батюшка долгое время не выходил, а потом, приоткрыв дверь, велел позвать Ермака. Тот появился быстро, наклонился над воеводой, который с трудом прошептал:
— Извини, атаман, что подвел тебя… Лишних едоков привел на ваши головы… Прости…
Ермак вышел из избы, держа шапку в руках. Собравшиеся у крыльца стрельцы и казаки все поняли и стянули шапки с голов. Умершего воеводу положили до весны в погреб, чтоб не долбить мерзлую землю, не тратить понапрасну силы.
И почти каждый день кто-то в городке не мог встать утром и, пролежав в забытьи полдня, тихо умирал. Сыновья Соуз-хана не отходили от отца, который лежал в полузабытьи уже неделю. Они варили ему похлебку из сосновых иголок, насобирали под снегом обглоданных рыбьих костей и с ложечки кормили муторно пахнущим варевом. Но он даже не желал открывать рот. Кожа на нем обвисла, выпирали острые кости. Шарип и Набут тихонько плакали, глядя на отца. В один из дней ему кажется стало лучше и он открыл глаза, увидел лица сыновей и тихо одними губами залепетал:
— Похороните меня на родовом кладбище рядом отцом и дедом…
— О чем ты, отец, — запротестовали сыновья.
— Тише, не мешайте мне, — остановил он их. — Если останетесь сами живы, то уходите из этих краев…
— Куда идти? Ведь здесь наш дом…
— Не знаю куда, но уходите отсюда. Это моя последняя просьба… — Он закрыл глаза и вскоре перестал дышать.
Тогда Сабанак, сам едва передвигая ноги, пришел к Ермаку и, долго отдуваясь, попросил:
— Отпусти меня, атаман. Если не вернусь, то знай, не предал вас. Отпусти…
— Иди куда знаешь, — махнул тот рукой.
Сабанак выбрался из городка через небольшую калитку и его не было до вечера. Уже в сумерках он вернулся обратно, опираясь одной рукой на копье, а в другой руке держа зайца-беляка. Его добычу варили в огромном казане, оставленном еще воинами Кучума. Собрались все, кто мог сам передвигаться. Чуть похлебали и понесли в мисках еду обессиленным казакам и стрельцам. Теперь каждый день под началом Сабанака осторожно пробирались в лес по нескольку человек охотников, ставили петли на зайцев, иногда удавалось поймать глухаря или тетерева.
Как только вскрылась река, Ермак выбрал полсотни казаков, что могли держаться на ногах, и велел им сделать вылазку, назначив главными Матвея Мещеряка. Ночью они прокрались вдоль русла маленькой речушки Сибирки, впадающей в Иртыш, ударили по обложившим их татарам. Те навалились на казаков, рассчитывая взять их, полуживых, голыми руками. Тогда открылись ворота Кашлыка. Из них шли, поддерживая друг друга, во главе с Ермаком все, кто пережил голодную зиму. Их глаза полыхали неукротимым огнем, в руках сабли наголо. Даже сраженные татарской стрелой они продолжали ползти вперед, пытаясь схватить врага за горло, сдавить, умереть вместе с ним. Татарские воины дрогнули, начали отступать, а потом побежали, не обращая внимания на злобные выкрики сотников. Последним отходил Карача-бек. Он не думал о потерях. Гораздо важнее было то, что силы казаков были на пределе. Это он видел своими глазами. "Долго они теперь не продержатся, — думал он злорадно, — то чего нельзя добиться силой оружия, сделает голод…"
Ермак, собрав оставшееся воинство, оглядел каждого с грустной улыбкой, спросил:
— Выдюжили зиму? Отогнали врага? Как дальше жить станем?
— А как скажешь, атаман. Коль такую зиму пережили, то и другие не так страшны будут, — отозвался неунывающий Гришка Ясырь.
— Спасибо ему, — указал Яков Михайлов глазами на Сабанака, — выкормил нас. Не он бы, так и до весны не дотянули.
— Это точно, — Ермак неожиданно стал снимать с себя панцирь, что был когда-то подарен ему царем, — получи от меня на добрую память.
Сабанак растерянно заулыбался, хотел было отказаться, но подбадриваемый выкриками казаков принял дар из рук атамана и, поклонившись всем, ответил:
— И вам спасибо. Спасибо, что приняли, поверили… Своим признали… Почти что русским с вами стал.
— Кто с нами из одного котла хлебает, зла за пазухой не держит, тот и русский, наш значит, — хлопнул его по спине Гришка Ясырь.
Позже хватились сыновей Соуз-хана, но их не было ни среди живых, ни среди убитых.
— Оно, может, и к лучшему, — отозвался Ермак, когда услышал об этом. — Силой держать — себе накладной будет.
ПОЗНАНИЕ СОМНЕНИЯ
Ивану Васильевичу в эту зиму нездоровилось. Не помогали ни лекари, ни знахари, долгие часы проводящие возле него. По растерянности в их глазах он отчетливо читал, они не могут определить причину болезни. А может и могут, да скрывают, боясь признаться, назвать ее.
— Чего отмалчиваешься? — тянул он к себе слабою рукой приехавшего недавно лекаря по имени Жакоб, только что подавшего ему чарку с каким-то горьким снадобьем. — Почему не скажешь, что гнетет меня? Какая хворь приключилась? Ну, говори!
— Государь, то не дано мне знать. Тело человеческое заключает в себе многие недуги, но нельзя сразу определить, какой из них побеждает. Если взять чуму, то…
— Так я чумной, по-твоему? — с силой дернул его за рукав Иван Васильевич, тяжело дыша в лицо гнилостным запахом, исходящим изо рта. — Чумной, да?
— Я этого не говорил, государь Я хотел лишь пояснить как бывает…
— Не желаю слушать как бывает! Ты про мою болезнь сказывай. Слышишь? А то кликну палача, он мигом тебе язычок развяжет. Так скажешь или нет?
— Скажу, скажу, — захлюпал длинным носом лекарь, вырвавшись наконец из ослабевших царских рук, отскочил подальше от больного, — только не надо сердиться на меня.
— Хорошо, говори. Слушаю, — Иван Васильевич полуприкрыл глаза и стал слушать, как Жакоб длинно и путано объяснял про устройство человеческого организма, и о влиянии на него различных веществ. Причины болезни он так и не назвал, но слова отвлекали, успокаивали. Иван Васильевич и сам догадывался, о чем боялся сказать лекарь. Близок его смертный час. Господь карает муками и страданиями за все прошлые прегрешения и деяния. Он всего лишь человек, хоть и царь. Хоть и княжеская кровь течет в его жилах. Пожил свое. Поцарствовал… Но не верилось ему в столь скорый конец. Чего-то главного не сделано. Начато, но не доведено до конца. Рано, рано умирать… Еще год нужен, а то и два и… Тогда можно и умереть. Ведь библейские цари жили по триста лет. Чем он отличается от них? Разве не соблюдал заповеди Господни? Не ходил в храм? Не держал посты? Не раздавал милостыню? Пусть он не праведник, не святой, но страдал и мучился не меньше иных. Враг рода человеческого не дал прожить так, как хотелось бы. В нем вся причина.
— Эй, позови лучше Богдана Бельского ко мне, — прервал он излияния лекаря. — А сам прочь поди. Толку с тебя, как с козла молока…
Бельский появился тут же, словно ждал за дверью. А может, так оно и есть. Все они только и дожидаются, когда он не сможет подняться. Тогда кинутся делить царство, оттеснят бедного Федора, потянет каждый на себя одеяло. Разорвут государство на части. Нет, он должен знать, сколько ему отпущено лет, дней. Знать, чтоб успеть завершить начатое, разогнать всех снующих вокруг жадных людишек, назначить нового честного преемника.
— Звал, государь? — напомнил робко о себе Бельский.
— Плохо мне, — выдохнул Иван Васильевич, — мутит всего.
— Может, подать дать кваску?
— Пил уже. Ты вот что, Богдаша, — царь на минуту опять задумался, словно забыл, зачем он позвал ближайшего к нему человека, знающего о всех царских прихотях и желаниях, умеющего читать по глазам и оказаться рядом в нужную минуту, — собери гадалок и предсказателей, каких сыщешь. Пусть придут ко мне. Все понял?
— Понял, государь. Кому гадать надо?
— Не твое дело. Не суйся куда не просят. К вечеру чтоб были.
— Исполню, государь, — озадаченно поскреб в затылке Бельский.
Вечером два десятка старых и еще молодых женщин вошли в царскую горницу. Был среди них и седой костлявый старик с бельмами вместо глаз. Его вел под руку белоголовый мальчик в чистых лапотках, подпоясанный красным кушаком. Слепой старик почему-то больше всего вызвал доверие у Ивана Васильевича, и он пригласил его подойти поближе.
— Можете мне всю правду сказать, коль попрошу? — спросил царь гадалок.
— Коль государь повелит, то отчего не сказать, — ответила за всех бойкая толстуха с лукавыми глазами.
— А ты, старый, тоже гадать можешь? — обратился к слепцу.
— Да он среди нас наипервейший. Его и кличут Прозором, хоть и незряч, а все наперед знает, — затараторила все та же толстуха.
— Пусть сам скажет, — остановил ее Иван Васильевич.
— Могу, государь, — чистым, неожиданно звонким голосом отозвался старик. — Дал Господь мне дар такой, зрения лишив. Порой и сам не рад, а вижу все наперед.
— Как же, без глаз, а видишь?
— Не могу сказать как, но вижу.
— Будь по-твоему. А собрал я вас по делу важному. Такое дело, что никто окромя вас больше и знать не должен. Коль прознает кто, семь шкур спущу, языков лишу. Смотрите у меня!
— Забудем обо всем как есть, — запричитали гадалки, — понимаем поди…
— Так что молчите как рыбы, а то худо будет, — постращал их еще немного царь, а потом смущаясь спросил, чуть покашливая. — Знать же от вас хочу, сколько годов мне Бог дарует жить на этом свете.
— Ой!!! — пронеслось по палате. — Можно ли такое самому царю говорить!
— Обещаю, не трону никого, а еще и награжу. Сейчас станете говорить или время вам дать для ворожбы?
Гадалки попросили пару часов и их отвели в пустую комнату, где бы никто не мешал им. Лишь Прозор отказался идти с ними и произнес медленно, когда остались одни:
— Вели мальчонку домой отпустить, Государь.
— А как же ты без него?
— Ничего, справлюсь.
Иван Васильевич отпустил мальчика, который, втягивая маленькую головку в плечи, поспешил бесшумно исчезнуть из царских покоев.
— Садись что ли, — предложил он слепцу.
— Постою… Только сядешь, а уже и вставать надобно.
— Твое дело. Хочешь так стой. Ну, чего тебе там видится? Говори.
— Не торопи, государь, то дело непростое. Не всем по нутру слова мои приходятся. Бывает и гневаются, приказывают взашей выгнать.
— Да ты, видать, труслив, старик. Не бойся меня. Говори все как есть. Я правду люблю более всего на свете.
— Ой ли. Все поначалу так говорят, а как услышат, то уже другие речи ведут. А правда моя такова: вижу ангела смерти, что руки к тебе тянет, государь. Чуть-чуть и дотянется. Совсем малость осталось.
— Когда это будет, — осипшим голосом выдавил из себя Иван Васильевич, не слыша собственных слов.
— Скоро. Очень скоро.
— Когда?! День можешь назвать?
— Трудно день назвать, — старик поднял голову вверх и глубоко вздохнул, набрав в грудь побольше воздуха, — бесы мешают, хвостами машут. Вижу! — вскрикнул вдруг он. — Алексия преподобного человека Божьего вижу. Как его день наступит, то значит и тебе, государь, в дорогу собираться пора.
Иван Васильевич мгновенно взмок и пот мелким бисером высыпал на лбу, заструился по щекам.
— Как же ты видеть можешь, коль слеп? — спросил он наконец слепца, покорно стоявшего перед ним.
— А и сам не ведаю того. Господь знает.
— Чем подтвердить можешь слова свои?
— Прости меня грешного. Может, не то мне причудилось. Не верь ты мне, — слепец, верно, по голосу догадался о перемене в настроении царя. Но было поздно. Иван Васильевич наливался яростью, голова его начала мелко подрагивать, руки сжали посох и он нацелил его в грудь старца.
— Иуда! — прохрипел он. — Кто научил? Кто велел сказать такое?! Да я тебя переживу! Тебе ли, смертному, знать о провидении Господнем?! Как смел ты… — задохнулся он.
Бельский вбежал в царскую горницу как раз в тот момент, когда Иван Васильевич пытался достать острием посоха до груди беззащитного старика, пятившегося назад. Он подхватил царя, усадил обратно в кресло, подал кубок.
— Слышь, Богдан, что мне дурень этот наговорил, — пришел наконец в себя, сделав большой глоток, Иван Васильевич, — будто не дале как до дня преподобного Алексия мне жить всего-то осталось. Когда он у нас?
— Скоро должен быть, — пожевал губами Бельский, — через две недели должен быть.
— Так что же мне две недели только и осталось? — захохотал Иван Васильевич злобным булькающим смехом.
— Да не слушай ты их, государь. Прикажешь прогнать в шею?
— Нет. Не надо их гнать. Пусть рядышком подождут. В темницу их всех. А как срок придет, то выкопать во дворе яму и я их собственными руками землицей присыплю, голубчиков. Я покажу им, как царю своему неправду говорить. В темницу их!
Слепца, а вместе с ним и остальных ворожей свели в темный подвал, ничего не объяснив. Старухи шептались меж собой, а Прозор лишь тяжко вздыхал и за все время не проронил больше ни слова.
…Настал указанный слепцом день. Придворные, среди которых слух о скорой смерти царя разнесся непонятным образом, жались по темным углам, не желая лишний раз попадаться на глаза царю. Ранним утром приказано было истопить баню. Иван Васильевич парился долго и, наконец, показался помолодевшим и вполне довольным собой, отправился во дворец и, увидя идущего навстречу Бориса Годунова, спросил:
— Далеко ли собрался? Пойдем со мной. У себя в горнице Иван Васильевич потребовал шахматную доску и велел Годунову сесть напротив.
— Как здоровье, государь? — спросил тот, расставляя фигуры.
— И ты о том же, — недовольно проворчал Иван Васильевич, беря в руку точенного из рыбьего зуба короля, — разве сам не видишь…
Но фигура вдруг выпала у него из ослабевшей руки и он, проводив ее глазами, повалился головой на доску, сметая стоящие там фигуры.
— Прав старик… — прохрипел Иван Васильевич и закатил глаза.
— Лекаря, скорее, — закричал Годунов и кинулся к царю.
Прибежал Жакоб с пузырьками и склянками, следом примчались другие знахари, склонились над едва дышащим государем. Широко шагая, вошел митрополит Дионисий и несколько монахов с ним. Увидев, что царь совсем плох, стали читать молитвы и совершили обряд пострижения его в монашество, нарекая умирающего Ионою.
Без чьего-либо приказа на кремлевских звонницах ударили колокола на исход души, вскоре им отозвались в других московских храмах. Во дворце поднялась страшная суета, все куда-то бежали, сталкиваясь, падали. От оброненной свечи начался пожар, но его тут же потушили.
— Народ к Кремлю бежит, — закричал испуганно Богдан Бельский.
— Прикажи ворота затворить, — негромко сказал державший под руку Федора Иоанновича Борис Годунов, — а то не дадут душе спокойно отойти…
…Казаки вместе с пленным Мухамед-Кулом прибыли в Москву на второй день после смерти царя. Город бурлил и по главным улицам невозможно было проехать. Пока разыскали Посольский приказ, объяснили кого привезли из Сибири, уже стемнело.
— Не знаю, куда вас и на постой определять, — пожимал плечами слегка хмельной дьяк, громко икая, — не вовремя вы.
— Мы-то найдем крышу над головой, — пробасил Иван Гроза, — а вот этого куда девать, — указал на ханского племянника, — не с собой же следом таскать.
— В монастырь какой, может, попроситесь?
— Пустят в монастырь с нехристем этим. Держи карман шире.
— Сами решайте, — поднялся дьяк, — поздно уже, а мне еще до дома добираться надобно.
Тогда Иван Гроза нагнулся к мешку, лежащему у него под ногами, порывшись там, вытащил шкурку черно-бурой лисы, кинул на стол. Дьяк сразу повеселел, заподмигивал.
— С таким богатством вас каждый пустит. Сведу вас к знакомому купцу. Дом у него просторный, определит на постой.
У купца они прожили до самой осени, ожидая, пока о них доложат новому царю и тот распорядится, куда ж девать Мухамед-Кула.
— Не затем я башкой своей рисковал, когда тебя брал, чтоб так вот бросить, — втолковывал, выкушав ковш, другой хозяйской браги, заплетающимся языком Иван Гроза сидящему напротив царевичу, — мне за тебя и награда поди положена царская.
Мухамед-Кул, который по дороге несколько раз порывался бежать, в Москве быстро освоился, пообвык и ходил везде с казаками, разглядывая диковинные наряды горожан, церкви, мосты через реки.
Наконец, Федор Иоаннович принял их, наградил казаков добротным сукном и годовым жалованием, а Мухамед-Кулу объявлено было служить при царском войске и жалован титул князя Сибирского.
ПОЗНАНИЕ ЛЮБВИ
В начале лета Ермак повел казаков на дальнюю сибирскую реку Тавду, где издавна жили могучие племена вогулов. Переговорив с Матвеем Мещеряком и Яковым Михайловым, решили поискать там водный путь на Русь и, если удастся, добраться до строгановских городков, выменять утех на собранные меха свинца и пороха. Оружейные запасы подходили к концу, и все до единого казаки носили с собой снятые с убитых татар луки и колчаны полные стрел.
Всего восемь стругов плыло по извилистой реке, бороздя темные илистые воды, преодолевая завалы вековых деревьев, отбиваясь от встречающих их на берегу вогульцев. С ходу взяли городок князя Лабут-бека. Зарублен в бою князь Пачан-бек, бежала его охрана и без боя сдался городок Чандырь. Тогда к казакам вышел великий шаман всех местных племен и знаками пригласил их идти за ним.
— Чего это он? Поди заманивает? — обеспокоились казаки.
— Ему можно верить, — отозвался Ермак, пристально вглядываясь в разрисованное охрой лицо шамана. — А чуть чего, так сабли при нас. Идемте…
Они вышли к большому кургану, обнесенному длинными жердями, украшенному копьями с разноцветными флажками и тряпицами.
— Тут спят наши вожди, — объяснили им. — Шаман позвал вас, чтоб показать как камлать будет.
— Что значит камлать? — спросил Мещеряк Ермака.
— С духами говорить станет, — ответил атаман. Рядом с курганом разложили большой костер и после того как пламя взвилось вверх, затрещали стволы сухих, сложенных крестообразно деревьев, вогульцы стали бросать пучки сырой травы. Повалил густой дым, казаки закашляли, отодвинулись в сторону.
— Комаров что ли отгоняют? — удивился Гаврила Ильин, отмахиваясь от разъедавшего глаза дыма.
В это время шаман ударил в бубен и закружился на месте. Дым окутал его и почти скрыл от глаз окружающих.
— Где он? — тряхнул головой Ильин. — Не видать что-то…
И точно, шаман пропал, будто унесся вверх вместе с клубами темно-желтого дыма. Казаки удивленно подняли головы к небу и тут звук бубна донесся с вершины кургана. Шаман был уже на самом верху, продолжая кружиться, подпрыгивая на месте, приседая.
— Вот дает! — шепнул на ухо атаману Гришка Ясырь. — Как он так?
— Помолчи. Он все слышит и видит.
— Ну да?! — не поверил Ясырь и тут же согнулся пополам, словно кто заехал ему кулаком в живот, испуганно замолчал, озираясь.
Шаман же продолжал свой танец, а к костру вышли еще четверо молодых людей с разрисованными лицами и бубнами в руках. Они стали медленно перемещаться вокруг костра, все ускоряя движение и выкрикивая непонятные слова. Потом один из них взвился вверх и перелетел через костер, а навстречу ему рванулся другой танцор, и они, слегка задев друг друга в воздухе плечами, опустились по разные стороны. Такой же прыжок повторили двое других юношей. Их сородичи начали притопывать на одном месте ногами, ударять в такт ладонями, выкрикивать что-то.
Ермак глянул на казаков. Они тоже не могли удержаться и прихлопывали, подталкивая один другого локтями, завороженно глядя на костер.
Все забыли про главного шамана, а он неожиданно возник в центре круга, закружился, ударяя в бубен все чаще и чаще. Вдруг к нему подбежали двое мужчин, держа в руках большой кусок красной материи, и обмотали ей крутящуюся фигуру шамана, спеленав того с головы до ног. Толпа расступилась и в центр вошел широкоплечий воин в шлеме и длинным кинжалом в руках. Не раздумывая, он ударил шамана в живот и выпустил кинжал. Рукоятка торчала из тела продолжавшего кружиться шамана, а воину подали второй кинжал.
— За что он его так? — ужаснулся Ясырь. — Безоружного убивает…
Ермак едва удержал его, рвавшегося защитить старика, а уже второй и третий кинжалы вошли в шамана, но он все кружился и кружился, будто и не его вовсе поразила острая сталь.
Наконец шаман остановился, провел по телу рукой, поднял ладони вверх. Они были густо измазаны кровью. Затем он по очереди вырвал все три кинжала, бросил их на землю, размотал материю и открыл глаза, уставясь прямо на Ермака, и что-то быстро-быстро забормотал, тыча в сторону казаков пальцами.
К ним подошел тот самый воин, что втыкал в тело шамана кинжалы, и начал переводить.
— Он говорит, что вы сильный народ, храбрый народ. Духи призвали вас, чтоб защитить нас от врагов. Вы не должны уходить с нашей земли, а жить тут всегда. Мы станем дружить с вами, отдавать своих дочерей в жены. Вам нечего бояться…
— Да мы и не боимся. Тоже мне… — хмыкнул Ясырь, но Ермак так глянул на него, что он тут же замолчал.
— …Поворачивайте обратно и ставьте свои шатры у реки Иртыш. Там вам будут покровительствовать наши духи…
Дальше Ермак не слушал, потому что у него вдруг потемнело в глазах и он увидел перед собой ярко освещенное лицо Зайлы-Сузге. Она махала ему рукой, улыбалась, звала куда-то. Он невольно протянул руку вперед и коснулся чего-то мокрого, липкого. Глянул, то была кровь. Перед ним стоял шаман и что-то продолжал говорить, чуть шевеля губами, закатив вверх глаза так, что были видны лишь белки глаз.
— …Он говорит, что ты великий воин. Тебе нужно остаться на нашей земле и только здесь ты обретешь покой и счастье. Ты потерял свое лицо, но здесь ты вновь нашел его и уже не потеряешь больше. Тебя подстерегает смерть, но ты обманешь ее. Тебя долго будут помнить друзья и враги. Так говорят наши духи, — закончил он.
Шаман же протянул к Ермаку руку и жестами чего-то просил у него.
— Может, он тоже хочет проткнуть тебя кинжалом? — предположил Ясырь.
— Он просит у тебя что-нибудь на память, — пояснил им толмач. Ермак поискал глазами что бы можно дать шаману и, не найдя ничего, рванул бляху со своей кольчуги, подал ее ему. Шаман, приняв подарок, низко до земли склонился перед казачьим атаманом и тут же его сородичи рухнули на колени, протянув руки в его сторону.
— Ого, — удивился Ясырь, — да они тебя, атаман, за бога своего, видно, принимают. Во дела…
Ермак и сам был удивлен не меньше и не знал как поступить.
— Скажи им что-нибудь, — подбодрил его Мещеряк, — а то неловко выходит.
— Спасибо, что верите нам. Мы не желаем вам зла… — начал атаман, скользя взглядом по обращенным к нему лицам стариков, женщин, детей, взрослых мужчин, широко открытыми глазами глядящих на него, — мы такие же как вы и нам нечего делить, незачем воевать. Мы люди одной земли. Пьем воду из тех же рек, едим ту же пищу, смотрим на те же звезды. Скажите об этом своим соседям, пусть они передадут дальше мои слова.
Казаки почти неделю оставались на берегах Тавды, а потом, погрузив припасы, подаренные им вогульцами, отплыли обратно.
* * *
Стояла середина лета, когда под стены Кашлыка приплыл на своей долбленке старый Назис. Он долго взбирался по размытой дождями тропинке в гору, кряхтя и часто останавливаясь. Наконец он подошел к калитке и постучал в нее. Охранник поинтересовался, кто ему нужен, и рыбак ответил, что желает видеть самого атамана, чтоб тот вышел к нему сюда, на обрыв.
Ермак поздоровался со стариком, пригласил в городок, но Назис наотрез отказался, а хитро сощурившись, произнес негромко:
— Тебя желает видеть одна женщина…
— Давно ли сделался сводником? — едва удержался от смеха атаман.
— Доброе дело никому не запрещено совершать.
— Скажи мне тогда, что за женщина пожелала встретиться со мной.
— Она просила не называть своего имени, но велела передать вот эту вещь, — и Назис протянул тонкий серебряный браслет с тремя большими камнями на нем.
Ермак взял его в руки, покрутил, припоминая, и хотел было отдать браслет обратно старику, когда заметил на внутренней поверхности тонкие узоры. Внимательно вглядевшись в них, атаман решил было, что ошибся, поднял глаза на хитро улыбающегося Назиса и ощутил, как сердце быстро-быстро застучало в груди, перехватило дыхание.
— Где она? — выдохнул он.
— Ждет недалеко отсюда.
— Ты увезешь меня сейчас? Да?
— Конечно, если выдержит моя лодка.
— Пошли, — он схватил рыбака за локоть, подтолкнул к спуску с горы.
— Своих хоть предупреди.
— Эй, скажи есаулам, чтоб меня не теряли. К вечеру вернусь, — крикнул атаман стоявшему на вышке стражнику и увлек Назиса за собой.
Они долго плыли через реку в черпающей воду бортами долбленке. Назис ворчал, что, посадив такого бугая, он рискует не дожить и до вечера, но Ермак не слушал, жадно вглядываясь в противоположный берег. За каждым деревом чудилась знакомая фигура и каждая веточка, шелохнувшаяся под легким ветерком, казалась машущей призывно рукой. Наконец, лодка ткнулась в илистый берег, и он, едва не перевернув ее, выскочил на песок, увяз, но, не замечая этого, побежал дальше.
Зайла-Сузге сидела на стволе огромного в обхват дерева, наклонившегося к земле, как бы подставившего себя для отдыха. Ермак замедлил шаги и залюбовался ею. Она была все так же стройна и тем же теплом лучились ее большие глаза, столь же ярки оставались губы, тонка шея, будто и не прошло столько лет, разделявших их.
— А ты почти не изменилась, — прошептал он, беря руки Зайлы-Сузге.
— Зато ты совсем не похож на человека, которого я знала.
— Как же ты догадалась, кто я?
— Сердце подсказало. Когда сын рассказал о встрече с тобой, то я поняла, мы еще увидимся.
— А где он сейчас?
— Кто? — не поняла она сразу. — Сейдяк? Он здесь, в Сибири. Но не решается пока подходить слишком близко к Кашлыку.
— Он тоже мечтает занять ханский холм? — в голосе атамана послышалось легкое раздражение.
— Разве он не вправе сделать это? Я думала, ты сам предложишь ему стать твоим наследником, выделишь хотя бы улус поблизости.
— Но пойми… Я не хан Сибири. Я атаман небольшого отряда.
— Так в чем разница? Ведь ни кто-то другой, а именно ты занял Кашлык и тебе несут ясак все окрестные народы. Или я чего-то не понимаю?
— Прости, но ты действительно многого не понимаешь. Сибирь уже не сможет оставаться такой, какой была прежде. Кончилось ее время…
— Кончилось одно время, но наступило другое. — Возразила она — Мы-то те же самые Что нам мешает договориться обо всем? Или ты не хочешь, чтоб мой сын занял твое место? Так и скажи. И я передам ему твои слова.
— Да пойми ты, не от меня это зависит. Ни я, ни Кучум, ни тем более Сейдяк не смогут удержаться долго здесь без чьей-либо помощи и поддержки. Тебе надо хоть раз побывать в большом русском городе, чтоб убедиться в этом.
— Ты знаешь, а я все это время жила в Бухаре? Это тоже очень большой город, где собралось много людей. И что из этого?
— Да, Бухара сильна. У нее много воинов. Когда-то я убедился в том. Но ей не нужна Сибирь. Ей нужны ее меха и только. Она занята другим. Зато русские придут сюда через год, через пять лет и навряд ли им понравится хан Сейдяк
— Но он же законный наследник, — не сдавалась Зайла-Сузге.
— И что из того? Тебе известно имя Мухамед-Кула?
— Да. Он сын моего бедного брата Ахмед-Гирея. Где он сейчас?
— Этой зимой мы отвезли его в Москву. Одним наследником стало меньше, — губы атамана растянулись в нехорошей усмешке, — но думаю, что и тот, кто захочет сам самостоятельно взойти на ханский холм, рано или поздно окажется в Москве. Там теперь решается судьба Сибири.
— Кажется, я что-то начинаю понимать… Выходит, московский царь направил тебя сюда? Значит теперь ты не свободный человек? Вот оно что…
— Не в свободе дело. И царь меня не направлял сюда Но так получилось, что русские воины пришли со мной. Они считают меня своим, и я не желаю предавать их.
— Ты, может, и себя считаешь русским? — Видно было, что Зайла-Сузге едва сдерживается, чтоб не наговорить ему обидных слов. — Кстати, почему тебя все зовут Ермаком? Ты забыл свое настоящее имя?
— Я бы хотел забыть не только свое настоящее имя, но и прошлое и много чего другого.
— Потеряв имя, человек теряет и свое лицо. Так у нас говорят. Ты и меня хотел бы забыть? Да? Ты же сам сказал…
— Прошу тебя, Зайла-Сузге, не обижай меня. Тебя я помнил и всегда буду помнить. Ты для меня единственный близкий человек. Единственная женщина…
— И у тебя не было других женщин? — дернула она бровью. — Ни за что не поверю. Но не будем об этом. Лучше скажи, что мне передать сыну. Как я поняла, ты не хочешь, чтоб он приходил сюда.
— Да, я не хочу, чтоб он ввязывался во все дела, связанные с ханским престолом. Добром это не кончится.
— Но его ты спросил об этом? Почему ты можешь решать, даже не поговорив с ним? Ведь он все же твой… — она замялась и с трудом закончила, — твой сын.
— Хорошо. Я поговорю с ним и все объясню. Пусть он придет сюда.
— Нет. Один прийти он не сможет. Слишком опасно. А коль с ним будут нукеры, то твои воины нападут на него.
— Этого не случится.
— Лучше будет, если ты разыщешь его. Его сотни стоят неподалеку отсюда. В двух днях пути.
— На Иртыше?
— Нет. На Вагае. Спросишь местных рыбаков и они проведут тебя.
— Договорились. Я возьму с собой небольшой отряд и встречусь с ним. Попробую все объяснить. А ты не хочешь перебраться в Кашлык?
Зайла-Сузге ответила не сразу. Видно было, что она колебалась, но, наконец, решительно покачала головой.
— Зачем? Слишком многое связано у меня с ханским холмом. Хорошего и плохого. Не нужно ворошить воспоминания. Старый Назис укроет меня. Когда вернешься, мы встретимся…
— А мне можно сейчас остаться с тобой? — неожиданно робко спросил он.
Легкая тень пробежала по лицу Зайлы-Сузге и она коснулась тонкими пальцами его лица, прошептала:
— Ермак… Какое странное имя. Первое мне нравилось больше. Но разве можно вернуть обратно прошлое? Мы хоть и рядом, но слишком далеки. Слишком. Время развело нас, а с ним бесполезно бороться.
— Но я хочу быть с тобой! Слышишь?!
— Прости, если причинила тебе боль. Я хоть не поменяла имени, но тоже стала другой. Прощай… Ермак…
* * *
Через неделю Ермак сообщил Матвею Мещеряку, что он остается за главного в Кашлыке.
— Мы же с Яковым Михайловым на одном струге прогуляемся до Вагая.
— Не опасно, атаман? Может, побольше народу возьмешь с собой?
— Чего бояться? Кучум не показывается, Карача-бек тоже где-то далеко в степях. Не сунутся.
— Тебе виднее, атаман. Но чего-то сердце у меня ноет.
— Гроза идет, вот и ноет.
И в самом деле. Наступало время страшных гроз, когда небо, словно рассорившись с землей, начинает гвоздить ее огненными пиками, сжигать леса, будоражить речные воды. Тучи то затягивали небесную синеву, то разбегались в стороны, освобождая проход для солнечных лучей. Ласточки низко носились над рекой, ловя на лету мошкару, мелькая белыми грудками. Стихали испуганно кузнечики, как только черные тучи заволакивали небо, и тут же громко принимались стрекотать с прежней силой, едва тучи разбегались и длинные лучики проникали в заросли травы, высвечивая иной, незнакомый мир, обитатели которого мало интересовали человека.
Казачий струг неспешно шел вдоль левого низменного иртышского берега, и Ермак, сидевший на корме, всматривался в прозрачную воду. На какое-то время его глаза различили неподвижно застывшую у лежащей на дне коряги серую щуку. Она казалась плохо обструганным осиновым бревнышком, зацепившимся за корневище, но поблескивающие глаза выдавали ее. К берегу плыла стайка беззаботных чебачков, и Ермак лишь улыбнулся, представив себе, как они будут улепетывать через мгновение, столкнувшись с ожившей внезапно хищницей.
Глядя на темную гребенку леса, тянувшегося по вздыбленному холмистому правому берегу, словно частокол крепости, Ермак думал, что когда-нибудь обязательно уйдет в этот вечный сумрак, где станет спокойно жить, охотиться, не будет ответственности ни за чьи жизни, не нужно будет воевать, нападать, обороняться и можно быть самим собой.
Ишим и Алтанай неистово нахлестывали коней, спеша побыстрей добраться до отцовского лагеря, разбитого в излучине между Иртышом и Вагаем. Там же находился их старший брат Алей. На зиму они готовились отойти дальше в степи, но сообщение, которое везли братья, могло многое изменить.
— Отец, — закричал Ишим, врываясь в шатер к Кучуму, — казаки на одной большой лодке вчера днем отплыли от Кашлыка.
— Куда они направились? — безразличным тоном спросил старый хан. Он уже жалел, что разрешил сыновьям следить за всеми передвижениями казаков, чтоб не быть застигнутым ими врасплох.
— Они направляются в нашу сторону.
— И только на одной лодке? Странно… Куда же они могут плыть?
— Может, они готовятся напасть на нас? — предположил Алей.
— Вряд ли… Они бы выступили всеми силами. С ними ли Ермак?
— Кажется, там, — неуверенно отозвались братья, переглянувшись.
Кучум безошибочно вычислил, через какое время казаки могут оказаться вблизи его лагеря, где встанут на ночлег. Выходило, что через три дня, если расчеты его правильны. Но он не мог ответить, зачем и куда они направились. Вдруг он понял, куда плывет казачий струг.
— Где ты видел отряд Сейдяка? — спросил он старшего сына.
— В двух чакрымах отсюда. Уже несколько дней они стоят там.
— По-моему, казаки плывут к ним. Верно, хотят соединиться, — неуверенно заговорил Кучум. — Но если так, то нам придется плохо.
— Как Ермак узнал, что Сейдяк стоит здесь?
— Мы видели как в Кашлык приплывал небольшой рыбачий челнок, — сообщил Алтанай.
— Так я и думал. — Кучум встал и положил руку на плечо Алея. — Ты сможешь незаметно идти по берегу вслед за русскими?
— Конечно, отец. Мои воины хорошо знают эти места.
— Тогда выступай сегодня же… Да поможет тебе Аллах.
…Старый Назис поздно вечером, с трудом сгибаясь, вошел в жилище, где укрылась Зайла-Сузге. Она не спала и тут же спросила рыбака:
— Чем ты так озабочен? Плохие вести?
— Увы, моя госпожа. Рыбаки сообщили мне, что дети хана Кучума видели, как казаки отплыли от Кашлыка.
— И что с того?
— Они тут же поскакали по направлению к Вагаю.
— Ты думаешь, они могут устроить засаду?
— Конечно. Они не упустят такой возможности. Выследят их и нападут во время ночевки.
— Что же делать? — вскочила она на ноги. — Ермака надо как-то предупредить. Может, ты отправишься в Кашлык? Поднимешь казаков?
— На их тяжелой лодке не нагнать атамана. Уже день прошел.
— Твоя лодочка более быстроходна?
— Само собой. Она легка как перышко. Русские на своих лодках никогда не догонят меня.
— Можно ли найти человека, который согласится нагнать струг Ермака. Я награжу его.
— Вряд ли… Ближайшие селение, где можно найти гонца, находится вниз по течению, а пока мы плывем туда, то лишь потеряем время.
— Тогда отправляемся прямо сейчас, — все доняла Зайла-Сузге.
— Госпожа тоже поплывет со мной?
— Да.
— Искать гонца?
— Нет. Мы поплывем вслед за казаками. Ты же сам сказал, что не стоит тратить время впустую. Я готова.
— Госпоже лучше остаться. Собирается сильная гроза.
— Нет. Я еду с тобой.
— Ой, не к добру все это, — вздохнул Назис, но возражать не стал.
Узкая долбленка, направляемая опытной рукой старого рыбака, шла меж вздымающихся волн, подгоняемая дующим в спину ветром. Назис что-то ворчал себе под нос, но Зайла-Сузге, сидевшая в носу, не слышала за плеском волн его слов, погруженная в свои собственные мысли.
После встречи с человеком, которого она все еще любила, в сердце осталась непонятная горечь. Даже не от того, что он изменился, стал другим, а потому что в который раз оказалась перед выбором. Она не могла допустить, чтоб ее сын погиб в очередной стычке, охраняя чей-то караван или неся службу в войсках бухарского хана. Лучшая участь виделась ей. Сейдяк, став ханом Сибири, не только во многом обезопасил бы себя, но и занял при этом достойное его происхождению положение. Тогда она смогла бы жить рядом, нянчить внуков и спокойно встретить скорую старость.
Однако, другой, не менее дорогой ей человек, должен был пожертвовать собой, чтоб обезопасить сына.
Оставался еще и брат, которого она не видела после возвращения из Бухары, хотя Назис рассказывал ей о нем. Говорили, будто бы Кучум почти утратил зрение, плохо ходит, но все еще уверенно держится в седле. Многочисленные сыновья находятся при нем и навряд ли он обрадуется тому, что Сейдяк займет ханский холм. У старого хана совсем другие планы.
А что может сделать она, слабая женщина? Заставить их помириться, протянуть друг другу руки? Но это труднее сделать, чем унять разыгравшуюся бурю.
Только тут она заметила, что волны взлетают на огромную высоту, увлекая за собой легкую долбленку, и Назис с трудом удерживает ее на волне, усиленно выгребая коротким веслом между валами вздымающихся вверх водных громад.
— Дальше плыть нельзя! — крикнул он изо всех сил, стараясь перекричать все усиливающуюся бурю. Она не расслышала его слов и лишь прикрылась рукой от водяных брызг, окатывающих ее с головы до ног. Назис попытался повернуть лодку к берегу и тут же волна накрыла их, подбросила лодку вверх, перевернула и швырнула в сторону от берега.
Зайла-Сузге взмахнула руками, пытаясь уцепиться за лодку, но ее отнесло, закрутило, накрыло с головой. Вынырнув на поверхность, она попробовала определить, где находится берег, и увидела, как уносит вниз по течению перевернутую лодку и голову старого Назиса, барахтающегося среди волн. В следующий момент волна опять накрыла ее, потащила вниз, на дно. Усиленно работая руками, Зайла-Сузге снова оказалась на поверхности, выплюнула воду изо рта, попыталась крикнуть, но вода погасила ее крик очередной волной. Тогда во вспыхнувшем ярко сознании мелькнула мысль, что теперь ей уже не нужно выбирать между любимыми людьми. Она сделала все возможное. Теперь они должны будут сами решать, как им поступить дальше. И река понесла ее тело туда, где высился в ночной мгле неприступный ханский холм, где она была когда-то счастлива и любима.
ПОЗНАНИЕ ПОДВИГА
… Казачий струг укрылся от налетевшей грозы, свернув в устье Вагая. Гребцы измотались за день, а хлещущие сверху потоки воды вымочили всех до нитки. Быстро натянули походные шатры, укрылись под ними, стали выжимать сырую одежду. Разводить костер в такую грозу ни у кого не было желания.
— Чего панцирь не снимаешь? — ткнул пальцем в грудь Сабанака Яков Михайлов.
— Зачем? — отозвался тот. — Ему сохнуть не надо. Пусть…
— Спать как в нем станешь? — не унимался Яков. Ему нравился спокойный и подвижный Сабанак, который не гнушался любой работы и всегда соглашался пойти в караул, когда другие падали от усталости. Вот и сейчас он подшучивал над ним по старой привычке, не желая обидеть того.
— Так мне спать не хочется пожал плечами Сабанак, — в карауле останусь.
— Смотри не усни, — сладко зевнул есаул. — Возьми с собой Гришку Ясыря. Вместе веселей будет.
— Хорошо, — согласился он и вылез из шатра под проливной дождь.
Гроза то утихала, то накатывала с новой силой и при вспышках молний длинные тени падали от корявых стволов росшего по берегу тала. Сабанак невольно втягивал голову в плечи, не давая дождю попасть за воротник. Он не пошел звать Гришку Ясыря, который все одно бы заснул под деревом даже в такой дождь. Он привык к одиночеству. Так было даже спокойнее.
Неожиданно он увидел в вспышке ударившей сверху молнии громадного зверя, направляющегося к шатрам, где спали казаки. Он походил на волка, но был гораздо крупнее и выше его. Сабанак потянул саблю из ножен но она не поддавалась, а может быть, он слишком нервничал. Тут зверь повернул морду в его сторону и он увидел полыхнувшие зеленым холодным светом глаза, жутко смотрящие прямо на него. Несмотря на холодные потоки воды, Сабанак вспотел и подумал, что это явно не простой зверь. Ему не раз приходилось слышать от стариков, будто есть люди, которые принимают звериное обличье и нападают на людей, душат их, утаскивают на дно реки. И этот зверь походил больше на того самого оборотня, нежели на настоящего волка.
Наконец, Сабанаку удалось вытащить саблю и он взмахнул ею перед собой. Зверь оскалился и глухо зарычал, тяжело ступая, пошел на него. Первым порывом было желание убежать, но сзади была река, а путь к шатрам отрезан приближающимся страшилищем. И тогда, подняв над головой саблю, он рубанул того по огромной башке, по открытой пасти, уже дышавшей ему в лицо. Но сабля прошла сквозь оскаленную морду и ткнулась в землю. Он замахнулся снова, но зверь вдруг исчез. Сабанак кинулся к шатру, потянул ближайшего к нему казака за ногу.
— На караул айда, — проговорил негромко прерывистым голосом.
Казак сел, протер глаза, не понимая, куда его зовут. В темноте не было видно его лица, но для Сабанака это было и неважно. Лишь бы кто-нибудь оказался сейчас рядом с ним.
— Чего случилось, Сабанак? — послышался голос атамана.
— Зверь рядом ходит, — не раздумывая, сообщив тот.
— Что за зверь? Кучум что ли?
— Может, и он. Страшный такой и глаза горят…
— И мне не спится. Неспокойно чего-то, — Ермак нащупал сапоги, выглянул из шатра. — Ничего не слышишь? — спросил вдруг он.
— Нет, — откликнулся Сабанак.
— Вода хлюпает. Будто идет кто через речку.
— Сейчас гляну, — он пошел вокруг шатра и увидел неподалеку темные фигуры людей, выбирающихся на берег с копьями и саблями наперевес, он громко вскрикнул и кинулся обратно.
Ермак уже бежал к нему навстречу с саблей в руках.
— Вставайте! К бою! — закричал он и рубанул кинувшегося на него воина, отбил удар другого. — Отходим к стругу, — указал рукой выскакивающим из шатров полуодетым казакам.
Несколько человек бросилось сталкивать с берега струг в воду, отбиваясь от все прибывающих татарских воинов. Остальные, встав плечо к плечу, сдерживали натиск, оглядываясь назад, ожидая пока столкнут тяжелый струг и можно будет взобраться на него.
Ближним к берегу бился Яков Михайлов, не успевший даже натянуть сапоги. Перед ним угрожающе размахивал копьем высокий татарин, но Яков отбивал удары, ловко орудуя саблей, и постепенно пятился к реке, где уже покачивался на волнах спасительный струг.
— Да отцепись ты от меня, — крикнул он наседавшему воину, тут ноги его разъехались на мокрой земле и он упал на спину. В тот же миг острие копья ткнулось ему в грудь, пройдя тело насквозь.
— Есаула убили! — громко закричал Гришка Ясырь, увидевший это, и налетел на татарина, рубанул с оттяжкой по шее, бросился к Михайлову, приподнял его, потащил к воде.
Ермак отступал рядом с Сабанаком. Они видели, что почти все казаки забрались на струг и ждут их, не отплывая. Но татары наседали с небывалым бешенством, не давая подойти им к воде. Тогда атаман, увидев, что с левого края врагов меньше, крикнул казакам, бывшим на струге.
— Плывите вдоль берега, мы там пробьемся!
Струг потихоньку отчалил и поплыл к устью Вагая. Ермак подобрал оброненное кем-то копье и, прикрываясь от сыплющихся на него ударов, отбросил оказавшихся у него на пути двух юнцов, скалящих злобно зубы, и побежал в противоположную от берега сторону. Сабанак кинулся следом. Татарские воины не сразу сообразили, куда побежали казаки, и чуть отстали от них.
Ермак и Сабанак легко проскочили заросли кустарника и оказались на берегу небольшой протоки, впадающей в Вагай. Они вошли в воду по колено, когда сзади раздались крики и их преследователи выскочили на берег, угрожающе размахивая копьями.
— Быстрее плыви — крикнул Ермак и сам поспешил на глубину, уходя почти по колено в вязкое дно.
— Сейчас, сейчас, — Сабанак брел следом, в нескольких шагах от него, и вдруг споткнулся, начал оседать. Атаман, — прохрипел он и протянул руку.
Ермак обернулся и увидел, что в спину Сабанаку угодило копье, одним движением вырвал его и потянул обвисшее тело за собой. Он плыл, загребая левой рукой, как вдруг из прибрежных кустов вылетело несколько стрел и, просвистев, впились ему в плечо. Он заскрежетал зубами, рука против воли разжалась, выпустив Сабанака, который тут же ушел под воду. Ермак набрал побольше воздуха в грудь и постарался нырнуть как можно глубже, пока не смог достать до дна руками.
Татарские воины радостно закричали, увидев как скрылись под водой головы плывущих, и кинулись следом, чтоб выловить их. Но сколько не шарили в темноте копьями по дну, не подныривали, но найти ни того, ни другого не удалось.
Казачий струг долго не удалялся от берега и гребцы всматривались в темноту, поджидая Ермака и Сабанака. Никто не хотел верить, что они погибли. Пытались подойти ближе к берегу, но были встречены градом стрел и отошли на середину реки. Зарядов почти не осталось, да и стрелять они не могли из-за проливного дождя. Уже начало светать, когда казаки наконец решились вернуться обратно в Кашлык. Они везли двух убитых, в том числе есаула Якова Михайлова, не досчитались еще пятерых.
— Неужели атамана в плен взяли? — всхлипнул, ни к кому не обращаясь, Гришка Ясырь. — Он мне заместо отца и брата был… Жалко-то как…
— Не хнычь, — отвечали ему хмурые казаки, — не дался бы он живым. Поди утоп в реке, а то и зарубили…
Через неделю рыбаки вытащили на берег тело утонувшего воина в дорогом стальном панцире и решили, что это и есть казачий атаман, знаменитый Ермак, погибший в ночном бою на Вагае. Его раздели, поделили вооружение меж собой и похоронили с почестями на священном кладбище, где лежали знаменитые вожди и старейшины. В первую же ночь возле могилы видели здоровенного волка, который громко выл, не боясь людей, подняв в небо страшную голову.
Рыбак Назис выплыл, держась за долбленку, и через два дня нашел утонувшую Заилу-Сузге, поплакав, отвез ее на древнее ханское кладбище, где и предал земле.
Матвей Мещеряк, оставшись за атамана, две недели не уходил из Кашлыка, все надеясь, что вот-вот раздадутся тяжелые и неторопливые шаги Ермака, и он, подойдя к нему, опустит руку на плечо, спросит: "Что, есаул, тяжко? Ладно, давай вместе думать, как дальше жить станем…" Не было атамана. И чем дальше он думал, тем более укреплялся в мысли: надо уходить обратно на Русь. Еще одну голодную зиму им не пережить.
А тут еще пришла весть, будто татары выловили тело атамана и с почестями захоронили его. Хотел поднять остатки казаков Мещеряк, отбить утонувшего атамана, предать земле по своему обычаю, да передумал. Зачем кровь проливать, когда ничего изменить уже невозможно.
Сибирские заливные луга лежали, напитанные влажными предосенними росами, спутывая шаг, удерживая зверя и человека, ступившего на них. Умолк стрекот кузнечиков, молчала кукушка в прозрачном березняке и лишь безудержно плавилась рыба в реке, резвились молодые щурогайки, гоняясь за мальками, выскакивали на поверхность и тут же булькались обратно, уходя на глубину. И все. Снова тихо и гулко, пусто вблизи ханского холма.
Так простояв две недели, последняя казачья сотня погрузилась на струги и на прощание выстрелили в воздух, помянув остающихся здесь товарищей. Налегли на весла, с каждым взмахом удаляясь все дальше от ханского холма, упруго сдерживающего бег стремительного Иртыша. Матвей Мещеряк сидел на носу, вглядываясь в набегающую на них крутоярь. А казаки, упершись сапогами в днища стругов, откидываясь назад с каждым взмахом, провожали оставляемый ими навсегда городок низкими поклонами и недолгими взмахами длинных, взмокших от речной воды весел. Сам холм, увенчанный белой короной многослойных облаков, таял и уменьшался, оставаясь столь же притягательным и желанным, таящем в себе силу и власть над страной, зовущейся Сибирью.
ПОЗНАНИЕ ПЛЕНА
Хан Алей, узнав про уход казаков из Кашлыка, незамедлительно занял его со своими нукерами и поспешил объявить всем князьям и бекам, чтоб везли ясак и отправляли к нему воинов на службу. Но не прошло и десяти дней, как пожаловали гонцы от Карачи-бека, который просил молодого хана о встрече. Визирь ждал его неподалеку, но приехать в городок сам не мог из-за болезни. Так сообщили гонцы. Алей выехал с большими предосторожностями, не особо доверяя хитрому Караче-беку, и вскоре убедился, что поступил разумно, у ближайшей переправы его ждала засада. Не приняв боя, повернул обратно в Кашлык. Подъезжая к шаткому мосту через глубокий ров, заметил, что на башнях сидят лучники и целятся в него. Развернув коней, ускакали обратно в лес, ушли вверх по Иртышу, где узнали о стремительном занятии Кашлыка князем Сейдяком. Вместе с ним был и Карача-бек, который уже не верил ни в силу хана Кучума, ни его сыновьям, посчитав за лучшее принять сторону направленного могучей рукой бухарского хана Абдуллы молодого князя Сейдяка.
Осенью под стенами Кашлыка проплыли суда русского воеводы Мансурова, посланные царем Федором на подмогу казакам. Но они проплыли без остановки вниз на Обь, где и зазимовали.
Прошла зима и пришедшие с Туры рыбаки сообщили о закладке русскими воеводами острога на месте старой сибирской столицы Чимги-Тура. А еще через лето появились русские суда и при слиянии Иртыша с Тоболом вскоре на горе встали свежеструганные стены еще одного небольшого городка.
Поздней осенью снедаемый любопытством князь Сейдяк пригласил к себе Карачу-бека и, оставшись наедине, спросил:
— Думаешь, русские надолго пришли в нашу землю?
— Судя по всему, надолго. Сами они вряд ли уйдут.
— Может, запалить их городок? Перебить всех и останки сбросить в реку, рыбам на корм?
Карача-бек надолго задумался, посидел так, опустив глаза, а потом заговорил:
— Вряд ли твои желания, уважаемый хан, соизмеримы с нашими силами. Не так-то легко выкурить русского медведя из берлоги. Нужна хитрость и смекалка. Я бы не советовал тебе нападать на городок.
— Что же тогда? Сидеть и ждать, когда они выбьют меня из Кашлыка? Нет, действовать лучше всего сейчас, не откладывая.
— Тебе решать, хан. Но я бы предложил выманить их из крепости.
— Как это сделать? Скажи.
— Устрой охоту на лугу вблизи городка. Сотню нукеров оставь в засаде. Как только русские погонятся за тобой, то ударь по ним, а потом уже можно подумать о взятии самой крепости.
— Хорошо, — не раздумывая, согласился Сейдяк, — завтра едем на соколиную охоту. Пусть нукеры мои приготовят полные колчаны стрел.
Когда Кашлык был взят, то все трое сыновей Амар-хана засобирались обратно в Бухару. Он не стал их удерживать. Они сделали свое дело, помогли вернуть то, что принадлежало его отцу, и вправе были поступать дальше по собственному усмотрению.
Весть о гибели матери ему принес старый, высохший от времени рыбак, который и проводил его к маленькому земляному холмику на древнем кладбище. Постояли молча, а потом Сейдяк осторожно спросил:
— Правда ли, будто погиб казачий атаман по имени Ермак?
Рыбак долго не отвечал, то ли не расслышав вопроса, то ли думая о чем-то своем. Потом заговорил:
— Всякое говорят. Может, и погиб Ермак, да другой человек остался.
— О чем ты? — не понял Сейдяк.
— Никто не знает, как умирает человек. Вот я перед тобой вроде как живой стою, беседуем. А мне кажется, умер я давно и вовсе не я пришел на кладбище. Сам же гляжу сверху и ни во что не вмешиваюсь… Может, и Ермак где-то рядом ходит, за нами поглядывает. Одно скажу: не простой он человек был…
Сейдяк невольно оглянулся и далеко не сразу узнал местность, где они находились. Ушел, не простившись со стариком. А старый рыбак остался один, будто и в самом деле давно не жил и лишь на время появлялся в солнечном мире, чтоб напомнить о ином, вечном бытие и недолговечности происходящего.
Устроенная на виду у русских соколиная охота не сложилась. То ли утки разлетелись, услышав топот многочисленных всадников; то ли недавно пойманные ловчие птицы не вошли в азарт и постоянно промахивались, падая мимо редких селезней, с громким криком выпархивающих из высокой осоки, то ли нервничали сами охотники, поглядывая на возвышающуюся на береговом уступе рубленную из свежего дерева крепость. Но уже к полудню, подобрав сбитую дичь, решили возвращаться обратно, когда увидели скачущих к ним русских всадников.
Сейдяк бросил быстрый взгляд на Карачу-бека и тот согласно кивнул головой, давая понять, что спрятанная в овраге сотня готова к бою. Но русские остановились недалеко от подножия горы, а вперед выехал лишь один из них, почтительно передав приглашение русского воеводы отобедать в крепости.
— Не соглашайся, — шепнул Карача-бек, но Сейдяк, самодовольно глянув в его сторону, ответил:
— А ты не езди. Коль перетрусил, то так и скажи. Визирь потемнел лицом, но понимая, не согласись он сейчас сопровождать самодовольного хана, и не быть ему ближним советником уже к завтрашнему утру.
— Хорошо, — кивнул, — но пусть охрана будет подле нас.
Вошли в крепость, настороженно поглядывая по сторонам, рассматривая стрельцов на сторожевых вышках, рубленые избы с малыми оконцами, больше похожими на бойницы.
Навстречу им вышел русский воевода, которого толмач назвал Данилой Григорьевичем Чулковым. Рядом с ним стоял казачий атаман Матвей Мещеряк, в котором Карача-бек безошибочно узнал есаула, что несколько лет назад ранней весной прорвался из Кашлыка. Дрогнули тогда нукеры, а то бы не улыбался сейчас, не смотрел победно. Видимо, и Мещеряк узнал Карачу-бека, потому что сел за столом напротив и не сводил глубоких темных глаз с ханского визиря, что-то шептал на ухо казакам.
Сам же Карача-бек чувствовал себя неловко среди русских и попытался сесть на лавку поближе к выходу, но воевода настойчиво пригласил гостей садиться в центре перед висящими в углу иконами.
— Пригласил я вас, чтоб разговор о мире повести, — переводил толмач слова воеводы, — земля ваша теперь русской державе принадлежит и царь наш, Федор Иоаннович, повелел все народы к присяге привесть, ему исправно служить…
— Почему он говорит, что наша земля принадлежит русскому царю? — недоуменно спросил Сеидяк у Карачи-бека, но тот лишь дернул плечом под пристальным взглядом казачьего атамана.
Меж тем принесли вино и Данила Григорьевич, подняв свой кубок, громко проговорил:
— За здоровье нашего государя и землю русскую, — сделал несколько больших глотков, глянув на всех. — А почему гости не пьют?
— Они не желают здоровья государю нашему, — ответил за них Матвей Мещеряк и выпил до дна.
Сеидяк сделал вид, что пьет, но Карача-бек шепнул:
— Вино может быть отравленным, остерегись, — сам же даже не притронулся к своему кубку.
— Коран не позволяет мусульманину вино пить, — широко улыбаясь, поклонился он воеводе.
— Ничего… За здоровье государя не большой грех и выпить чуть. Не надо хозяев обижать, — шутливо погрозил пальцем Данила Григорьевич.
— Пойду коней погляжу, — поднялся из-за стола Карача-бек и, несмотря на протесты воеводы, вышел во двор, где остались нукеры охраны. Неподалеку от них расположились стрельцы с пищалями в руках. Ворота же были наглухо закрыты и там стояло десятка два стрельцов. У Карачи-бека похолодело все внутри. Похоже было, что вместе с неразумным ханом он сам залетел в клетку, из которой не так-то легко выбраться. Подозвав к себе сотника, спросил осторожно:
— Кони где?
— Отвели куда-то, — беспечно ответил тот, сплевывая на землю.
— Скажи, чтоб все шли за мной, — и Карача-бек решительно направился к воротам. — Выпусти нас, — приказал он стражнику.
— Не велено, — сухо ответил тот, неприязненно глянув на идущих к воротам татарских воинов.
— Я велю Тебе! — закричал потерявший самообладание Карача-бек и выдернул саблю из ножен.
— Братцы! Наших бьют! — завопил, отскакивая в сторону, охранник. Стрельцы и казаки побежали к воротам с пищалями и саблями в руках. Шум услышали и в воеводской избе. Данила Григорьевич Чулков поднялся и, нахмурив густые брови, кивнул Матвею Мещеряку:
— Сходи разберись. Поди опять твои молодцы драку затеяли. А хан пусть с нами останется, — мягко осадил вскочившего было Сейдяка.
У ворот несколько человек уже бились на саблях, когда Мещеряк врезался в толпу, громко крича:
— Бросай оружие! Неча свару устраивать, так разберемся! — Он подскочил к Караче-беку и выбил саблю, схватив за руку.
— Получай! — выкрикнул Карача-бек, свободной рукой выхватил из-за пояса кинжал и ударил атамана в грудь.
Тот охнул, ноги ослабли. Сделав несколько шагов, Матвей Мещеряк дотянулся до ворот, и уперевшись в них, оглянулся назад, прохрипел:
— Прощайте… братцы… Не поминайте… — и не докончив фразы, осел на землю, привалившись плечом к жалобно скрипнувшим створкам.
Увидев своего есаула мертвым, оцепенели казаки. Лишь толмач Гришка Ясырь, что уходил с последней сотней на Русь и вернулся вместе с Мещеряком обратно, в бешенстве взвыл и опустил приклад пищали на голову Карачи-бека. Остальные навалились на растерявшихся нукеров, повязали их, посадили в ряд возле крепостной стены. Вышел бледный Сеидяк и, глянув по сторонам, поспешно обратился к Даниле Чулкову:
— Аллах свидетель, я не хотел этого…
— Хотел не хотел, а ответ держать придется перед государем, коль слуга его верный убит. Вяжите и его, ребята. Свезем всех в Москву, а там пущай разбираются.
В середине зимы хан Сейдяк и Карача-бек были доставлены в Москву, где Федор Иоаннович выслушал их, простил нечаянное, как было показано, убийство атамана Мещеряка и направил хана Сибири и его визиря воеводами при московских полках.
УЗГЕРЭП[10]
…Мягкий мокрый снег непрерывно сыпал с небес, превращая бескрайнюю степь в грязно-серое месиво, в котором увязали по бабки копыта коней. Кучум, закрыв глаза, ехал, плохо представляя, куда он направляется всего с двумя оставшимися верными ему нукерами Неважно, куда идет его конь: к берегу реки или к ногайскому кочевью, где на них набросятся голодные озверевшие собаки.
Сколько времени он ехал по степи? Год? Два? Десять? После каждого ночлега не доставало кого-то из ближних людей, а сыновей русские воины отлавливали, словно зайцев, набрасывали аркан, хватали, везли в Москву.
Только чудом удавалось Кучуму ускользать от погонь, уходить от облав, теряя в каждой схватке воинов охраны. Сыновья писали из Москвы жалостливые письма, в которых умоляли его вручить себя в руки победителей и приехать к ним, склонить седую голову к ногам русского царя, смириться с судьбой, признать себя наконец-то побежденным. Но нет! Хан велел кидать в костер их грамоты и вычеркивал из памяти писавшего.
Все что осталось у него — так это память. Воспоминания о долгих годах, сражениях, любимых женщинах. Но почему-то чаще всего во время долгой, бесконечной езды от становища к становищу вспоминался гордый и преданный Тайка. Конь, не подпускавший к себе никого другого, ждавший лишь его на другом берегу реки. Он верил, что Тай не умер, оставленный им где-то под Кашлыком, а бродит здесь в степи, и не сегодня-завтра он обязательно встретится с ним — и тогда все будет иначе, наладится, и они ускачут вместе в дальний уголок, где никто не живет, а лишь звенят чистые родники, шелестит шелковистая сочная трава, бродят непуганые человеком звери.
Незрячие глаза престарелого хана не различали лиц спутников, которые лишь из сострадания оставались с ним, видя, что он плох и долго не протянет. А Кучуму казалось, будто то два ангела смерти едут за ним, провожая в иной мир, куда они столько дней никак не могут найти дорогу. "Тай, где же ты, мой Тай?" — шептал он, принюхиваясь к влажному степному воздуху, запаху прелой, подгнившей травы. — Почему ты не прискачешь ко мне? Не спасешь меня? Ведь мы с тобой друзья… Друзья навек…"
Неожиданно один из нукеров схватил ханского коня под уздцы, придержал. Кучум попытался вырвать повод, но услышал собачий лай и ветерок донес до него запах дымка и человеческого жилья.
— Там чье-то кочевье, хан, — проговорил один из нукеров.
— Нам не стоит ехать туда, — поддержал его второй. — Поворачиваем…
— Прочь с дороги! — крикнул Кучум и хлестнул ближайшего нукера нагайкой, норовя ударить по лицу. Но, заслоняясь от ударов, те крепко держали, теперь уже вдвоем, его коня, пытаясь увести слепого хана подальше от чужих кочевий.
— Ах так! Вам нужен мой конь?! — закричал Кучум и спрыгнул на землю, вырвал кинжал, несколько раз взмахнул им перед собой. — Только попробуйте подойти! Шакалы! Презренные трусы! Вам не взять меня! Пошли вон! — выкрикивал ругательства Кучум и, спотыкаясь, шел в сторону кочевья.
Нукеры, увидя бегущих к ним вооруженных людей, бросили хана и торопливо поскакали в сгущающиеся сумерки, нахлестывая коней. Гуще повалил снег, залепляя глаза, и те, кто бежал от кочевья, никак не могли понять, отчего громко лающие собаки не желали и шага сделать в открытую степь.
— Волк, видно, рядом, — озираясь, прокричал один из пастухов.
— А то кто же еще, — отозвались другие, держа в руках длинные бичи из толстой кожи с вплетенными на концах свинцовыми шарами. — Самое для волков время…
— Вот он! Вижу! — закричали откуда-то сбоку и послышалось щелканье бича. — Здоровенный какой!
Пастухи наугад секли пустоту, оставляя длинные полосы на сером, смешанном с грязью снегу. В набирающей силу пурге трудно было понять, с кем ведут схватку пастухи: с призрачным зверем, со злыми духами или кружащимся вокруг невесомым снегом. Вой пурги напоминал волчий вой, а щелканье бичей походило на скрежет звериных зубов.
— Бей его! Бей гадину! — кричали пастухи неистово, кидаясь то в одну, то в другую сторону.
Более часа мелькали фигуры людей и слышалось щелканье длинных сыромятных бичей, рассекающих то здесь, то там сырой, насыщенный снегом воздух. Усталые они поплелись обратно в свое становище, волоча за собой кожаные плети, словно чудовищные хвосты, так и не поняв, кто появился близ их кибиток в такую непогоду. Может, волк, а может, лихой человек нагрянул в столь неурочное время. Разве почтенный человек отправится в путь в этакую непогодь?
А ранним утром сын одного из пастухов, не спросясь взрослых, отлучился в открытую степь и вскоре вернулся обратно, волоча следом изодранный в клочья и покрытый пятнами крови халат. Старейшина их рода, не говоря ни слова, взял из рук мальчика пахнущий ароматом дорогих благовоний халат и так же молча кинул его в огонь. Но удивительно, что пламя отступило от зловещей находки, а вскоре и костерок загас, лишь едкий дым разъедал глаза собравшихся вокруг пастухов. Тогда старейшина велел поймать дикого молодого жеребца, и привязав злополучный халат к его хвосту, отпустили того на волю. Жеребец умчался, высоко выбрасывая задние ноги, как бы стараясь достать ими волочащийся следом, шуршащий по едва замерзшему снегу, взмывающий в воздух темной птицей и словно продолжающий жить далее жизнью своего прежнего хозяина полосатый халат, в каких некогда пришли завоевывать Сибирь нукеры доблестного и несчастного хана Кучума.
И каждую осень, в предзимье, когда начинает из разверзнувшихся темных туч валить мягкий и мокрый снег, к степным кочевьям выходит огромный, невиданный в тех краях зверь, обличьем похожий на волка, и, уставившись горящими глазами на людей, на их убогое жилье, начинает выть, наводя ужас на все живое. И пастухи, собравшись вместе, выходят навстречу ему с длинными кнутами в руках и секут ими сгущающиеся сумерки, отгоняя чудовище от плачущих в люльках младенцев, застывших у очагов женщин и своей земли, унаследованной много веков назад ими от предков.
А когда все успокоится, уснет, то меж кибиток неслышно проедет невидимый для людей незрячий старик, пытающийся найти дорогу домой для себя и единственного, кто остался верен ему, любимого коня, друга и спутника вечных странствий.
…В том месте, где коричнево-рыжеватые воды Тобола настигают величественный и гордый Иртыш и вступают с ним в схватку, борясь за первенство, за главенство на сибирской земле, там, на левом берегу, образовалась намытая речной водой небольшая песчаная возвышенность у самой кромки леса. Именно на ней, напротив заложенного недавно на крутом правобережье острога, срубил кто-то небольшую часовенку с деревянным, некрашеным крестом на остроконечной крыше.
Осторожные служилые казаки несколько раз наведывались в часовенку, желая застать ее обитателя. Но каждый раз часовенка оказывалась пуста и лишь самодельная лампадка теплилась у иконы Спаса Нерукотворного, грозно взирающего на непрошенных посетителей. Казаки кричали, аукались, думая, что поселившийся здесь отшельник скрылся от них в густом лесу, но никто не откликался. Как-то, раздосадованные, они попробовали было сами сунуться в таежный урман, но были не на шутку напуганы медвежьим рыком, раздавшимся поблизости. И они решили больше не беспокоить, не искать живущего в одиночестве отшельника, надеясь, что он сам со временем выйдет к людям, откроется.
Однажды, во время весеннего половодья, вдоль левого берега выгребали в сторону острога, белеющего на крутоярье, плывущие на струге казаки, спеша засветло добраться в крепость. И вдруг над речным разливом они увидели как бы парящую в воздухе, пронизанную золотом солнечных лучей деревянную часовенку, а на крыльце стоял седой, длиннобородый старец, у ног которого послушно лежал огромный бурый медведь, извечный хозяин и властелин всея Сибири.
КОНЕЦ
Тобольск, весна 1996 г.
Примечания
1
половодье
(обратно)2
ярость
(обратно)3
изгнанник, изгой
(обратно)4
печаль
(обратно)5
сомнение
(обратно)6
страх
(обратно)7
видение
(обратно)8
сговор
(обратно)9
поражение
(обратно)10
преображение
(обратно)
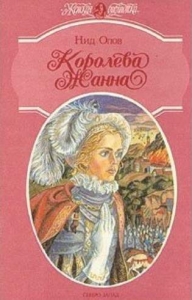

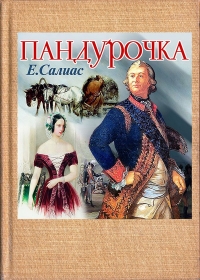
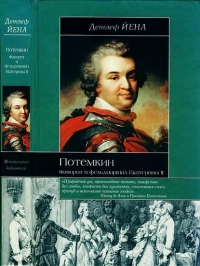
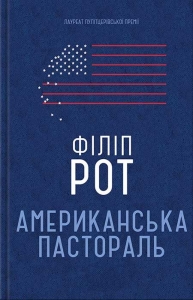



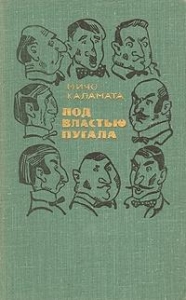
Комментарии к книге «Кучум», Вячеслав Юрьевич Софронов
Всего 0 комментариев