Михаил Петрович Старицкий Червоный дьявол (Рассказ из жизни г. Киева в XVI столетии)
Зимнее солнце клонилося к вечеру, когда к дверям заезжего двора, что поставили по Вышгородской дороге догадливые отцы доминикане, быстро подскакал молодой всадник. Привязавши поводья своего коня к одному из железных колец, вбитых в высокий деревянный столб, он проворно соскочил с седла и направился к корчме. Однако, подойдя к дверям, он остановился нерешительно и стал осматриваться кругом. У столба привязаны были еще две лошади. Это обстоятельство показалось всаднику довольно утешительным: в корчме, очевидно, было немного народа, и можно было скоро добиться всего необходимого всаднику и его коню. Взгляд всадника ласково скользил по красивому животному, которое грациозно вытягивало свою блестящую черную шею, дотрагиваясь мягкими губами до морд незнакомых лошадей. За седлом его привязан был большой сверток, из которого выглядывал кусок красного, как огонь, сукна. Казалось, что этот-то сверток и заставил молодого всадника остановиться в нерешительности у порога. Наконец он заметил невдалеке повисшего на заборе еврейского мальчишку.
— Эй, ты! Шмуль, Лейба или как там тебя?! — крикнул всадник молодым голосом, подзывая мальчишку к себе.
В одно мгновение соскочил мальчуган с забора и, сбросивши почтительно шапку, остановился перед молодым всадником.
— Ты здешний, что ли, будешь? — спросил его тот.
— Так, ясный пане, из здешней корчмы.
— Вот и прекрасно… На ж тебе гостинца, — бросил молодой всадник в шапку мальчишки большую серебряную монету, — посмотри за моим конем, слышишь, чтобы никто не подошел к нему и не тронул. Понял?
— Понял, понял, пышный пане! — радостно крикнул мальчишка, пряча монету за пазуху и бросаясь к поле пана. Но всадник уже распахнул двери и вошел в шинок.
Сразу на него пахнуло ярким светом огня, паром и теплом жилья. В широком низком очаге пылали гигантские поленья дров. Близко придвинувшись к огню, сидели на грубых деревянных дзыгликах две мужские фигуры. Лиц их новоприбывший не мог рассмотреть, так как они сидели к нему спиной. У прилавка стоял почтенный седой еврей, известный всем людям дорожным Лейзар Гицель.
— Здравствуй, Лейзар! — крикнул весело и звонко молодой гость, приближаясь к еврею. — Что же, узнал меня, или я так изменился за год?
— Ой вей, как же мне не узнать пана?! — заговорил радостно жид, выходя из-за прилавка и кивая своей седой головой с длинными серебристыми пейсами, на которой красовалась высокая меховая шапка с наушниками. — Да я ж пана еще вот такусеньким маленьким помню, — пригнул он руку к самой земле. — Да какой же пан красень, какой лыцарь стал! — зачмокал жид губами, склоня голову набок и прищуривая левый глаз. — Верно, уж сразу станет мастером, а потом и паном цехмейстром… Ого-го-го! Такой пышный пан, даст бог, далеко пойдет!
— А отчего это ты здесь шинкуешь? Разве уж не держишь в аренде подольский шинок?
— Зачем нет? — улыбнулся довольно жид. — Собрал себе немножко денег, бог помог, да и взял у святых доминиканских отцов и эту корчму. Может, пан будет такой ласковый, зайдет ко мне и на Подоле выпить вина. Я ж пана еще таким хлопчиком знаю, да и Сура б моя полюбовалась на вас…
— Ну, ну, ты много не распевай там, старый, — улыбнулся весело гость, встряхивая своей светловолосой головой, — а дай мне чего там поскорее перехватить, да горло промочить, да коня моего не забудь: видишь, едем не из близка!
— Пусть меня убьет святой Паликопа, если это не знакомый голос! — крикнул один из сидевших у очага.
— Да, кажись, так и есть, — ответил неторопливо другой.
Незнакомцы быстро поднялись и повернулись к новоприбывшему. Первый из них имел почтенную наружность, седоватую, коротко подстриженную бороду и такие же усы. Второй глядел совсем молодым черноволосым хлопцем. Одежды обоих были одинакового покроя, но разнились в цветах. На старшем был темный кафтан, заходящий за колени, из доброго синего лионского сукна, опушенный широкой лисьей опушкой. Пуговицы на кафтане были позлотистые; широкий кованый пояс охватывал его стан; на ногах были высокие сапоги; на голове низкая шапка, также опушенная мехом. Кафтан на молодом был гораздо светлее, а у пояса его висела длинная сабля.
— Мартын Славута?! Каким ветром, какой хмарою? — вырвался у обоих радостный возглас.
— Пан цехмейстер![1] Грыць Скиба! — радостно крикнул и новоприбывший, обнимаясь с ними и целуясь по христианскому обычаю трижды.
— Ге, да и вправду ты красенем стал, — заметил решительно старший, отступая на шаг и любуясь молодым хлопцем. — Вот если б жив был небижчик старый Славута, порадовался б таким сынком!
— Пропадут все наши горожанки, брате! — ударил Грыць Скиба по плечу Славуту.
— Ну, иди ж сюда к огоньку, обогрейся с дороги да расскажи нам все, откуда ты и как? А ты, Лейзар, насыпь-ка в келехи меду да подай хлопцу перекусить: я думаю, отощал совсем, — заметил степенно старший, придвигая неторопливо свой стул к огню и оставляя Славуте место подле себя.
— Ой панство, ой пышное панство! — не переставал лепетать Лейзар, причмокивая губами и летая с такою поспешностью из одного угла шинка в другой, что полы его длинного лапсердака казались крыльями какой-то черной птицы. — Даже хата радуется, видя таких гостей.
Вскоре перед гостями появились три высоких кубка, наполненных медом, соленая рыба, жареная яичница и большая краюха хлеба.
Когда первый голод был удовлетворен, Славута с удовольствием отбросился на грубую деревянную спинку стула и расстегнул свой кафтан. Одежда его была гораздо щеголеватее и параднее одежды соседов. Из-под распахнувшегося синего суконного кафтана, опушенного седым бобром, выглянул голубой едвабный однорядок,[2] опоясанный кованым серебряным поясом. На ногах были высокие щеголеватые сапоги коричневой кожи; но хотя Мартын и ехал все время верхом, шпор не было на них. Теперь при ярко пылавшем очаге товарищи могли рассмотреть его еще лучше. Ростом он был выше их и значительно шире в плечах. Лицо его, молодое и красивое, дышало здоровьем и приветливостью. Светлые волосы были коротко острижены, усы подкручены по последней моде. В голубых же глазах, опушенных светлыми ресницами, светилось столько неподдельной доброты, что взгляд их невольно располагал каждого в пользу их обладателя.
— Ух! — вздохнул он невольно, вытягивая ноги перед радужным огоньком.
— Устал, верно. Ну, откуда ж теперь едешь? — спросил пан цехмейстер, наполняя свой кубок.
— Теперь прямо из Кракова.
— Ну, а где же еще бывал?
— Где нас только не было! Был во Львове, был в Варшаве, был в Нюренберге, в немецкой земле.
— Ну что ж, и от всех цехов свидетельства есть?
— Тут они! — ударил себя Мартын по правой стороне груди. — Недаром по крайности мыкался по чужой земле.
— Эх, счастливый ты, брат, — вздохнул молодой, — так ты уж не сегодня-завтра мастером будешь.
— Бог даст, а добрые люди помогут, — улыбнулся Славута.
— Вот только б штуку misterium[3] гораздо сделал, — заметил с достоинством пан цехмейстер, поглаживая короткую бороду, — а там вноси вступное,[4] справь collatio,[5] и тогда уж мы живо примем в цеховые братчики!
По лицу Славуты мелькнула веселая и лукавая улыбка, которая, казалось, говорила: ну уж, что касается штуки misterium, то у меня есть такая, какой вам и не снилось никогда!
— Что ж делается в нашем Киеве? Вы молчите, не рассказываете мне ничего? — обратился он к соседям спокойным голосом, но в глазах его мимо воли мелькнуло какое-то нетерпеливое ожидание.
— Что ж в Киеве? Хорошего ничего. Все, как было, вот только пан воевода нам прыкрость великую учинил, — провел пан цехмейстер снова по бороде, — да такую прыкрость, такую, что не знаем теперь, как и быть. Знаешь, там за городом, мили две, на горе, возле Золотых ворот, где наша польная сторожа стоит, подле руин святой Софии велел он меж старых валов слободу оселить да и привилеи той слободе на тридцать четыре года выдал. Вольности им такие дал, что куда!.. Ни капщизны[6] им, ни варового,[7] ни солодового…[8] Ну и пошли все шинковать, а теперь вот выходит, что кому пива или меду нужно, даром что от миста далеко, что идти-то небезпечно, а все в слободу тянет.
— Ну, а как же войт[9] наш? — спросил Славута, стараясь придать своему голосу вполне равнодушный тон; но, несмотря на это, ему все-таки показалось, что его молодой товарищ бросил в его сторону лукавый насмешливый взгляд.
— Ге, войт наш добрый! Дай ему боже доброго здоровья и долгий век! — поднял пан цехмейстер к потолку глаза. — Все делает, что может. Стоит за наши старожитни звычаи, да трудно ему против воеводы, больно притислив воевода стал. Все это, видишь, по новым обычаям, а теперь уж такие звычаи настали, что могут наше майтборское[10] древнее право и так и этак перевернуть! — опрокинул он с досадою пустую кружку вверх дном и стукнул ею с силою по столу. — Так-то! В наше время не так было, а теперь!.. — он не договорил и сердито махнул рукой, как бы хотел сказать этим: стоит ли о нынешних временах и говорить!
Присутствующие замолчали.
Между тем зимнее солнце опустилось уже совсем низко и заливало теперь огненным светом мелкие стеклышки окна.
— Однако пора! — поднялся Славута. — Конь уже отдохнул, а в Киеве надо до вечера быть. Вы куда, панове?
— А в Киев же, тоже в Киев.
— Вот и отлично! Ну, Лейзар, получай! — крикнул он весело, бросая жиду на прилавок серебряную монету.
— Постойте, куда же вы торопитесь? — вышел Лейзар из-за прилавка, кланяясь степенно гостям. — Еще и солнце не спряталось, а такими славными коньми, ой вей! можно и в полчаса доскакать.
— Нет, нет, пора! — решительно заявил Славута.
— Пора, а то, пожалуй, и через Мийскую браму[11] не пропустят, — решил и пан цехмейстер, подымаясь неторопливо с места и рассчитываясь с жидом.
Небо все розовело… И розовые отблески падали и на соседние горы, и на далекий Днепр, и на снежную пелену, покрывавшую дорогу. Маленький морозец затянул тонким слоем льда большие лужи, стоявшие то там, то сям. Мальчишка подвел всадникам лошадей; быстро вскочили гости в седла, и кивнувши приветливо жиду, который стоял на пороге, широко распахнувши двери, и усердно кланялся почти до самой земли, поскакали по направлению к Киеву.
Разговор не клеился. Старик угрюмо молчал, погруженный в свои досадливые мысли. Молчал и Славута; только глаза его нетерпеливо вглядывались вдаль, стараясь разглядеть на нежном лиловом горизонте очертания киевских башен и стен. На лице его бродила счастливая неопределенная улыбка; несколько раз он сдавливал шпорами своего коня. Несколько раз нетерпеливо передвигал бобровую шапку на своих светлых волосах и, казалось, если б не спутники, полетел бы он ветром-бурею навстречу киевским мурам. С правой стороны потянулись горы, покрытые лесом, солнце скрылось за ними, и только на противоположной стороне Днепра, что раскинулась ровной белой пеленой, окаймленной темной полосой черниговских боров, горели еще нежные розовые тона.
— Чего торопишься? — обратился наконец цехмейстер Щука к Славуте. — Видишь, как распустило, конь весь в мыле.
— Домой! Шутка сказать, пане цехмейстре, целый год не видел.
— Оно-то, положим, вернуться в свою сторону приятно, да мало-то хорошего дома! — заговорил угрюмо Щука, как бы продолжая прерванную нить своих размышлений. — Скажем, что войт наш и славный, и твердо за права наши стоит, и старовины крепко держится, да куда ему против этих собак! Теперь вот с Ходыкою знакомство свел, думает, что тот ему поможет, — тот ведь дока! Недаром и Ходыкою зовут.
— С Ходыкою? — изумился Мартын. — Да ведь они были заклятые враги?
— Были-то были, да мало ли за год воды утечет, — проговорил глубокомысленно пан цехмейстер, поправляясь в седле.
Неприятное чувство шевельнулось в душе Славуты при последних словах, но в это время молодой Скиба крикнул весело:
— Смотри, бра, а вот и Щекавица, теперь и в Киеве скоро станем.
— Так, так, Щекавица! Она и есть! — обрадовался Славута..
Действительно, вдали, с правой стороны всадников, подымалась высокая гора, покрытая густым лесом; дорога вилась у ее подножья. Налево виднелись небольшие деревушки.
— Так, так… — говорил с восторгом Славута, подымаясь и стременах и осматривая окрестность. — Вот и Приорка, и Оболонье, скоро покажется и Вышний замок! Шутка сказать — целый год!
— То-то своя земля, — заметил философски пан цехмейстер, подымая вслед за Славутою коня в галоп, — нет у человека в городе ни матери, ни отца, а как тянет его к родной земле
Слова пана цехмейстра вызвали невольную краску на лице Славуты; он нагнулся к луке и начал разбирать как бы нарочно запутавшиеся повода.
Между тем Щекавица начала понемногу понижаться, и вдруг за крутым поворотом вынырнул перед всадниками в юговом, морозном тумане славный Киев-Подол.
Грозно подымался на верху высокой горы, словно на ледяной скале, Вышний замок. Высокая стена шла короной по всей вершине горы. Пятнадцать трехэтажных шестиугольных башен подымались по сторонам. Вокруг стены тянулся широкий ров. Подъемный мост в Воеводской браме, что выходила против Щекавицы, был спущен. Угрюмо темнели в стенах амбразуры. Из-за высокой стены виднелись золотые кресты и купола церквей. Дальше к Днепру шли такие же блестящие горы, окружая полукругом нижний город — Подол. А он весь раскинулся у их подножья сетью кривых уличек, красных черепичных крыш, церковных крестов и куполов. Вокруг города шел глубокий ров и вал с высоким острогом, но Замковая гора, увенчанная зубчатой короной, царственно владычествовала над местностью, точно глядела с презреньем со своей снежной вершины на суетливую, мятежную жизнь, приютившуюся у ее ног. А над белым Днепром, и над снежными вершинами, и над замковыми стенами разливалось тихое сияние догоравшего зимнего дня.
Славута сбросил шапку и, осенив себя широким крестом, спрыгнул с коня и преклонился к самой земле.
— То-то наш Киев! — вздохнул цехмейстер Щука. — Думаю, нет такого города и в немецкой земле?
— Нету, пане цехмейстре, нету! — вскрикнул с жаром Славута. — Ни такой святыни, ни такой красы!
— Да шарпают они нашу красу. Вон доминикане и бернардины своих кляшторов сколько наставили! — указал он вдаль пальцем, в ту сторону, где у подножья горы виднелся острый шпиль костела. — А сколько грунтов от города отволокли! Опять воевода теснит горожан. А подати эти все! Где тут торговать! Покуда товар до места довезешь, так одного мыта возового и мостового[12] в пять раз больше отдашь, чем он сам в Царьграде стоил. Вот теперь и последнее — шинки наши хочет оттягать.
Между тем всадники быстро приближались к городу. Уже начали ясно обозначаться улицы, дома, острая вершина ратуши, городская брама, и чем больше приближались всадники тем угрюмее глядел на них грозный замок с вышней горы.
А Щука продолжал говорить так же медленно и степенно, как бы разворачивая перед собой длинную нить своих тысячу раз передуманных дум. Говорил и о стеснительности торговых пошлин, и о намерениях воеводы, и об хитрости и стяжательности наплывших в город новых элементов, но Славута это рассеянно слушал: глаза его старались различить среди все расступавшихся улиц один высокий красный черепичный дом, как вдруг несколько слов Щуки, рефлективно долетевших до его слуха, пробудили снова его внимание.
— А я ему говорю, чтоб он Ходыке не верил, потому Ходыка сам первый плут, первый зух… Знаем его, он ведь за воеводу руку тянул, а теперь хочет только с войтом породниться… потому что воевода стоит на перешкоде всем его темным делам.
— Как? С войтом породниться? — невольно потянул повод Славута, устремляя на Щуку изумленные, расширившиеся глаза.
— А так, самым простым звычаем, — пожал плечами Щука, недоумевая, что могло показаться Славуте странным в его словах. — Просватал за своего брата Федора Галю, войтову дочку.
— Не может быть! — крикнул запальчиво Славута, и яркая краска залила его лицо.
— Гм! — усмехнулся недовольно Щука. — Ты меня учишь? Когда говорю — так знаю. Просватал уже, скоро и весилля будут гулять.
— Не может быть, говорю вам, не может быть! — кричал Славута. — Я говорю, что она не пойдет за него.
— Ты говоришь? А почем ты знаешь? — ответил Щука, раздражаясь все больше. — А я тебе говорю, что идет, и с радостью идет, и где бы нашлась такая дура из этих белых голов,[13] чтоб за Ходыкины маетки не пошла!
— Ложь! Ложь! Ложь! — крикнул Славута, хватая нагайку и подымаясь в стременах.
— Да как ты смеешь, блазень, мне, цехмейстру столяров и плотников… — схватился было взбешенный Щука.
Но Славута уже не слыхал его слов; как вихрь, как буря, мчался он к городу, стискивая коня. От быстрого бега ремни в тороках распустились, и красный, как огонь, роскошный суконный плащ свесился с коня. Не останавливая лошади, подхватил его Славута и набросил себе на плечи. Вот и Мийская брама, мост спущен. В карьер промчался по мосту обезумевший конь. У въезда сторожа хотели остановить его.
«Мыто! Мыто!»— закричали ему. Но не видя, не слыша ничего, промчался он мимо них в красном, развевающемся плаще. Один из сторожей успел, однако, опомниться и схватился было за стремя, но розгоряченный конь ударил его с такой силою, что бедный стражник покатился в беспамятстве наземь. Часть сторожей бросилась подымать товарища, часть погналась за Славутой, но Славуты не было и следа.
На шум и на крики собралась вокруг перепуганных сторожей пестрая толпа. Горожанки в белых намитках, горожане в высоких меховых шапках.
— Что случилось, что сталось? — кричал грозно запыхавшийся кругленький человек в военном костюме, пробираясь вперед через толпу.
— Червоный дьявол, пане Лою, в город влетел, — ответил прерывающимся голосом один из сторожей, — на черном коне… из ноздрей огонь валит… красный плащ развевается… Степан бросился было схватить его за стремя, да так замертво и упал…
— Ловить! Ловить! Трусы! Страхополохи! — закричал из всех сил кругленький человек, бросаясь вперед и скрываясь в ближайших дверях. Но толпа уже не слыхала его слов. «Дьявол, дьявол в город влетел!»— зашумели кругом обезумевшие от страху голоса, и вся площадь перед Мийской брамой опустела в один момент.
Мрачный и сердитый вышел пан войт киевский Яцко Балыка из своего богатого дома. Приказавши еще раз молоденькой дочери Гале запереть и дом, и ворота на железные болты и не впускать до его возвращения никого, войт отправился на вечернее заседание в магистрат. Медленно шел войт, осторожно пробираясь по кривым и узким улицам. Он опирался на толстую тростниковую палку с острым шипом, украшенную дорогим золотым набалдашником. Седая голова войта была низко опущена; лицо, обыкновенно добродушное и приветливое, было теперь угрюмо и сердито. Время от времени у войта вырывались недовольные слова, он сердито постукивал палкою, посылая кому-то в вечернюю мглу самые ужасные проклятия, какие он только знал.
— О-го-го-го! Да и сердит же как войт сегодня! — замечали друг другу болтливые горожанки, сидя еще на скамеечках у своих ворот и кивая хорошенькими головками, завернутыми в белые намитки. Встречные горожане кланялись войту, но сердитый войт не замечал никого. Да и как же было не сердиться войту? Не далее как позавчера воевода нанес ему такую обиду, какой он не забудет никогда. Пану воеводе понадобились подводы ехать на охоту, на вловы, а пан воевода прислал к нему, к войту, с требованием доставить лошадей. Так, войт знает, что есть такое правило в градских книгах давать лошадей, если воевода едет по потребе, и то не далее двух миль. Но войт знал прекрасно и то, на что нужны кони воеводе, да и воевода, получивши подводы, нарочито промчался по всему городу с гиком и криком со всеми своими прихлебателями, с хортами и ружьями. Что ж? Лошади вернулись к вечеру заезженные, загнанные вконец. Да не жаль войту лошадей: хватит у него статков-маетков, чтоб и новых накупить, а не может он стерпеть нарушения прав мийских и своих! А вот вчера опять прислал воевода своих дозорцев приказать горожанам огни в домах тушить… Не имеет он на то права! Пан войт знает все права и привилеи напамять, хоть ночью его разбуди! Знает он, что тушение огня в домах вечерней порой ему принадлежит, и воеводе в грамоте строго наказано: «А ни чим ся в него не вступоваты». Хочет воевода оттягать от него права, да не на такого человека напал: не легко согнуть войта! Правда, есть у него и враги в городе, зато все старожитни люди за него горой постоят! Вот был ворог и Хитрый и лютый — Ходыка, а теперь сам породниться хочет. За брата, Федора, как просил! Больно, говорит, полюбилась ему, пане войте, дочь твоя… «Ну, положим, кому Галя и не полюбится, где такого дурня и сыскать?! — улыбнулся самодовольно войт, и по сердцу его прокатилась теплая волна. — Да и не бесприданница, есть, слава богу, что дать! Правда, нет таких поместий, какие вот теперь приобрел себе Ходыка, зато древнее добро, дедовское, честно нажитое, а не награбованное, как у этих харцыз!» Войт стукнул сердито палкой по снегу. Эх, не лежит-то его сердце к этим новым людям, то есть так вот не лежит, а что делать?.. Надо родниться! Обещает Ходыка, как только он повенчает дочку с его братом, скрутить воеводу и в шоры взять! А он это может! Он ведь все законы умеет затылком наперед перевернуть. Дожился, пане войте, до краю, пришлось на старость лет у Ходыки помощи искать, к новым звычаям привыкать… Войт уныло понурил седую голову и, погрузившись в печальные размышления, не заметил, как мимо него пробежало несколько испуганных насмерть горожан с криком: «Червоный дьявол! Червоный дьявол!» То ли было в доброе старое время? Жили себе люди просто, зато сытно. Никаких этих новых обычаев не знали. Пили мед да пиво, горелку дзюбали, а ни этих венгерских, ни мальвазий и в помине не было. Ели добре по-старожитнему кашку с грибками, или вареники, или гуску с капустой, а в праздник и кашу рыжову с шафраном да имбирем, а теперь настроят всяких этих легумин да паштетов, что твои горы стоят! Опять что до одежи: мудрует вельможное панство, а за ним и горожане тянутся. И людям зазорное, и богу противное носить стали: черевики на высоких каблуках, шапки-мегерки, кунтуши разные! «Эх, — махнул войт рукой, — не так жили в старину, зато крепко стояли за свои привилеи, за свои права — все как один!»
Войт поднял голову и оглянулся. Он вышел на большую торговую площадь, посреди которой подымалось темное и мрачное здание ратуши. На верху гонтовых и черепичных крыш окружавших площадь домиков зажглись кое-где большие масляные фонари. На площади было пустынно и безлюдно. Вдруг взгляд войта упал на высокий деревянный столб, стоявший посреди площади. Большой лист пергаментной бумаги был прибит на нем. В конце бумаги висела на шелковом шнуре тяжелая печать. В темноте нельзя было разобрать текста бумаги, да войту этого и не надо было; он знал, что в ней трактуется о новой золотоворотской слободе. «Ух! — стиснул войт палку в руке, как бы желая разломить ее на тысячу кусков. — И не найдется ж ворон и шулик, чтоб разорвать этот проклятый папир! Нет, этого нельзя так попустить! — решил он. — Нужно во что бы то ни стало послать королю жалобу: нет сил так дальше жить».
Подошедши к дверям ратуши, войт вынул из кармана связку тяжелых ключей и, выбравши один из них, вставил его в скважину и с трудом повернул в замке. Щелкнул замок, и тихо заскрипела тяжелая дверь на своих ржавых петлях.
Сальные свечи в медных шандалах осветили темный магистратский зал. С длинных, посеревших от времени стен смотрели портреты умерших — зайшлых князей и королей. Сквозь высокие готические окна виднелось темное, синее небо. Тяжелые мрачные тени, едва разогнанные неярким светом сальных свечей, повисли темным покровом под высокими сводами. Войт сел на своем месте у стола и задумался. Седая голова его опустилась на руки. Вспоминалось ли ему то счастливое время, когда он еще впервые вошел в эту ратушу молодым черноволосым членом-советником, райцем, или проходили перед ним те долгие годы, проведенные здесь, в этой поседевшей, как он, зале, годы томительной и упорной, и большей частью бесплодной борьбы за отчаянную защиту своих вольностей, своих старожитних прав… Минуты ползли тягостно и медленно… Свечи нагорали, а темные тени спускались все ниже и ниже над склонившейся у стола седой головой.
Дверь заскрипела протяжно и жалобно, и в комнату вошел высокий худой человек в аксамитном черном кафтане и в такой же бархатной черной шапочке. Он был немного сутуловат и гнулся вперед. Лицо его было желтое и сухое, как пергамент. Заострившийся нос, большой, как бы разрезанный рот с тонкими бескровными губами; черные глазки, немного косо прорезанные, и редкие да черные, как смоль, бородка и усы. В лице его не было ни приветливости, ни искренности, в нем светилась всегда какая-то глубоко затаенная мысль. Резкие складки, идущие по всему лицу, свидетельствовали о многих опасностях и тревогах, пролетевших над ним, а глаза глядели так пронырливо и подозрительно, точно хотели пронизать каждого насквозь. Вошедший шел такими мягкими кошачьими шагами, что погруженный в свои размышления Балыка почти не заметил его.
— Здравствуйте, пане свате! — произнес вошедший негромко, стараясь придать своему сухому голосу как можно больше приветливости. — О чем задумался, пане войте? Что, снова воевода доезжает?
— Сам знаешь… Вчера опять своих дозорцев прислал с приказом огни тушить, когда это право мое, — сверкнул он глазами, — и в него никому вступоваться незачем! Да вот и в грамоте оно есть.
Балыка тяжело поднялся и, оттолкнувши железную дверцу в стене, вынул тяжелую книгу, переплетенную в темную кожу. Перевернувши одну за другой несколько пожелтевших страниц, исписанных крупными латинскими и славянскими буквами, войт указал Ходыке пальцем: «Читай сам!» С видом знатока придвинул к себе Ходыка книгу и прочел два параграфа, указанных войтом: «Також, коли в ночи с огнем на месте в домех сиживали, за то на них воевода биривал: ино мы то им отложили: нехай о том войт видает, как мает то в грози миты; а если бы не хотил войт того смотрети, а того недбалостью, которая бы ся от огню мисту шкода стала, тогда мы маем сами за то виною нашею карати».
Во втором стояло так: «А коли воевода от замку за две мили едет або в лову, подвод им под него не давати».
— Так! — закрыл он книгу, тщательно осмотревши предварительно подписи и печати. — Бумага верная.
— Что ж, и можешь выиграть это дело? — взглянул на него исподлобья Балыка.
— В две недели и решение привезу.
— Да ты-то все только обещаешь, а и до сих пор не делаешь ничего.
— Да и ты, пане свате, все только обещаешь, — усмехнулся Ходыка, — а вперед ничего не годится давать. Зато, как только одружим своих молодят, — не тревожься ни о чем, поручи мне это дело, и мы воеводу доедем. Мне с саксоном[14] не в первый раз возиться, — усмехнулся он снова, причем длинный рот его растянулся еще шире, и лицо приняло какое-то хищное выражение. — Уж мы ему насолим! Выиграем справу и в трибунале, и в самом задворном королевском суде!
Последние слова Ходыки прозвучали искренно, и в черных глазах его засветился сухой, злобный огонек. Да, Ходыке было чего и лютовать на воеводу, не за права мийские. Это его тревожило мало, а за то, что он ему, Ходыке, на дороге стал. Завидно стало воеводе, что простой горожанин Ходыка разбогател так, что и князя за пояс заткнет. Какое ему дело до того, каким чином Ходыка привлащает свои пожитки? Пусть смотрят в судах — не попался, значит, прав. Удочка для глупых рыб, а умная и из сети уйдет! Да он-то, воевода, разве сам не грабит, разве не выдумывает разных выдеркафов.[15] Нет, ему досадно, что простой горожанин Ходыка такие княжеские маетки захватил! Так он, Ходыка, дома черный хлеб ест, сам дрова рубит, чтобы работника не держать, да ему лучшего и не нужно: с детства к такому житью привык, а захочет — весь Киев аксамитом выстелит и самого воеводу в золоте утопит. Да! На желтом лице Ходыки от острого прилива крови выступил бледный румянец. Нет, пане воевода, нет, нищенство и униженье даром не проходят. Уж он умрет, а будет вельможным паном! Скоро, скоро сбросит он с себя и мещанское имя… Вот только бы войта Балыку в сети свои опутать, чтобы он на перешкоде его тайных дел не стоял… А тогда — руки свободны! Делай, как знаешь… А когда уже Ходыка вельможным паном станет, ух, тогда он им всем покажет, как надо из людей масло выбивать!
Длинные цепкие руки Ходыки хрустнули под столом, тонкие губы полуоткрылись от прилива страсти, черные глаза глядели жадно, плотоядно…
«Бр…да и гадина ж! — подумал войт, следя из-под седых бровей за своим собеседником. — А что делать? Надо родниться! Он один сможет воеводу дойти».
Ходыка уже заметил неблагоприятное впечатление, произведенное им на войта.
— Ну, пане свате, — произнес он вкрадчиво и мягко, — так мы тем часом времени гаять не будем. Как вернется брат, так сейчас и веселую свадебку сыграем… Бенькет справим, а тогда займемся и делами, как великими, так и поточными.[16]
— Так-то так, — кивнул головою войт, — да какая свадьба, когда еще и жениха нет.
— Прибудет, не тревожьтесь, прибудет, я уже получил известие, что он из Ржищева выехал… Не завтра, так послезавтра будет здесь… И товары все целы, не случилось ничего.
— Дорогу больно распустило, — заметил серьезно войт, нахмуривая брови, — товар у меня, знаешь, все ценный: камка золотая, адамашек, златоглав, аксамит. Боюсь, как бы тут на узвозе, знаешь, — войт понизил голос и, глянувши куда-то в темный угол, добавил так — Не случилось бы чего.
— Об этом, пане свате, и не думай! Брату не впервой: он мне не раз товары свозил и, бог дал, не попался ни раз, ну, а тестю-то будущему чтоб не постарался? Ой-ой! Не думай, пане свате, о том! А вот как бы свадьбу только далеко не откладывать… Видишь ли, свате, последняя неделя идет, там и заговины… А уж любит брат Федор Галю твою — слов не приложу. Да и жених-то в городе не последний, сам, свате, посуди.
— Ну и Галя ж не в сорочке пойдет, — нахмурил недовольно войт свои седые брови, — есть что дать, дедовское добро, предковечное, честно нажитое.
— Хе-хе-хе, свате! — злобно усмехнулся Ходыка, потирая свои худые, бескровные руки. — Денежки-то и старые, и новые, и честные, и грабованные пальцев не жгут, свате, нет, не жгут, а греют!
Войт вскинул серые открытые глаза на своего черного собеседника и хотел было возразить что-то, но в это время двери снова заскрипели протяжно и жалобно, и в залу спустились по трем каменным ступеням два почтенных райца. Они молча поклонились войту и заняли свои места на длинных лавах, идущих подле стола. Еще и еще раз скрипнули двери и впустили седых и степенных горожан, панов райцев и лавников.[17] Зала наполнялась тихо и бесшумно. Входящие почтительно кланялись войту, в сторону же Ходыки бросались большею частью исподлобья затаенные, недружелюбные взгляды. Однако, несмотря на это, вскоре подле него образовалась небольшая группа. Это были все более или менее новые люди в городе, захватившие всевозможными кривыми путями и деньги и власть. Они относились к Ходыке с почтением и подобострастием.
Когда, наконец, все тридцать мест были заняты, два крайних горожанина поднялись с мест и подошли к дверям. Тяжелый железный болт звякнул. Войт стукнул по столу, и сдержанный глухой гул, слышавшийся то там то сям в потонувшем в полумраке зале, утихнул в один момент.
— Шановные мещане и горожане, бурмистры и райцы, вся Речь Посполитая киевская, — начал войт, подымаясь со своего высокого стула, — не на веселую раду созвали мы вас. Сами гораздо знаете, какие нынче настали крутые времена: обложили нас паны воеводы да старосты всяким мытом, всякими выдеркафами со всех сторон. Платим мы и мостовое, и возовое, и подымное, и капщизну, и осып, и солодовое, и варовое, и чоповое, и десятину, и свадебную куницу,[18] и чего уж, чего мы не платим воеводам, славетнии панове горожане киевские, — да все мало: с каждым днем хотят они все больше и больше оттянуть у нас наши старожитни, неотзовные права, что даровали нам наши зайшлые князи и короли. Вот уж и поседел я, панове горожане киевские, обороняючи ваши вольности и права, а все не хочется головы гнуть, не хочется прав своих попустить.
Войт замолчал и устремил свои серые глаза в глубину комнаты, откуда смотрели на него такие же утомленные, такие же состарившиеся лица.
— Вот уже с полгода, шановные паны райцы и лавники, — продолжал войт, — как велел пан воевода киевский слободу межи старых валов у рук святой Софии оселить и привилеи им выдал. Только отобрала эта слобода наши последние доходы: нет сил нам больше ратушных шинков держать и за них воеводе двадцать тысячей а четыре тысячи злотых платить! Осталось нам одно: написать королю жалобу, что не можем мы больше при порядках таких ни шинков мийских держать, ни капщизны платить!
— Жалобу, жалобу! — зашумели кругом ободренные голоса.
— Пусть сбавят капщизны!
— Так, так!!
— Пусть вернут нам наши старые вольности, каких мы заживали за старых королей, — продолжал войт, — чтобы снова все сталось в славном городе, как и здавна было!
— Слава, слава пану войту! — отозвались дружные голоса из разных сторон.
— Ну, пиши же бумагу! — скомандовал войт писарю.
Когда бумага была окончена, войт тяжело поднялся со своего места и, отперши железную дверцу в стене, вынул городскую печать, кушу, на которой на голубом фоне была изображена тетива с полумесяцем. Приложивши печать, войт омокнул в чернило большое гусиное перо и подписал свое имя. За ним чинно один за другим стали подходить райцы и лавники, подписываясь под именем войта.
Тишина прерывалась только скрипом пера.
— Да ведь этого мало, свате, — подошел к Балыке Ходыка, — речь в том, кто жалобу повезет? Ведь мало папир отвезти, надо еще там так поворожить, чтобы утвердили его. Пошлешь какого-нибудь дурня, так и вся справа пропадет.
— Правда, — согласился Балыка, — да кого ж такого зналого отыскать, кроме тебя, некому.
— Оно-то верно, — улыбнулся хитро Ходыка, — знаю я, что если кто другой поедет, так и дело пропадет, да обложат еще и большим мытом, чтобы не подымали головы… Ну, да что делать? Не могу… Не выходит время, а жаль… Как бы приняли нашу просьбу, ого-го-го! Как бы поднялись наши горожане… Хоть куда!
Войт взглянул на него внимательно.
— Чего ж ты хочешь? — спросил он сурово.
— Ничего, сватушка, не хочу. А видишь ли, дело в том, как бы уже повенчал я своего брата Федора, ну, тогда мог бы поручить ему все свои поточные дела, а сам бы и поехал со спокойной душой, а то как же я здесь все свое брошу, а сам поеду об мийских делах хлопотать? Оно, положим, что если нам этой просьбы не уважут, так всем тут хоть пропадать, да что делать — своя рубашка…
— Так ты, значит, хочешь, — перебил войт, — чтобы поскорее детей повенчать?
— Кто же счастья своему брату, пане сват, не захочет? Да и бумагу-то скорее надо везти, не то пропустим срок. А сегодня, видишь, имеем мы среду, в пятницу или в субботу прибудет брат, а в воскресенье и венчанья последний день. Перевенчали б их, ну, я тогда б сейчас же и выехал.
— Да как же это так, — вспылил войт, — чтоб в один день и детей повенчать и свадьбу сыграть?.. Галя не кто-нибудь, а войтова дочь!
— Те-те-те, сватушка, тем-то и лучше, лишние денежки сбережем, — но, заметивши неудовольствие на лице Балыки, Ходыка сейчас же переменил тон: — А коли захочем, так закатим и на масляной такие пиры, что ну! Да и чего же детей томить? Решили повенчать, ну и венчать, не откладывать в долгий мешок!
— И ты обещаешь провести жалобу в трибунальском суде и согласие привезти?
— Голову в заклад отдаю.
— И выедешь сейчас же в воскресенье?
— Часа не промедлю.
— И на подвоеводия за нарушение прав мийских и войтовых управу найдешь?
— Вот тебе рука моя!
— Аминь! — заключил пан войт, сжимая его руку и опускаясь на свой высокий стул.
Между тем в добром каменном будынке пана войта киевского из-под закрытой ставни маленькой горнички пробивалась узкая полоска света. В горнице, на своей парадной постели, наложенной почти до самого потолка мережаными белыми подушками, сидела единственная дочка пана войта киевского, просватанная Галя. Она сидела, опустивши на колени руки, свесивши голову на грудь.
На точеном столе горела в медном шандале восковая свеча. В других домах киевских светили и лучинами, но пан войт ничего не жалел, а жил широко и сытно, как живали в старину. Тут же лежала брошенная работа — вышиванье воздушна в церковь, лежала на серебряных тарелках и нетронутая вечеря. На средину комнаты выступала высокая грубка с лежанкой, сложенная из зеленых изразцов; персидский ковер покрывал каменный пол; такие же ковры висели и по стенам; низкие канапки, покрытые особого рода тонкими ковриками — коцями и красным сукном, стояли у стен; подле образов теплилась серебряная лампада. В горничке было и тепло, и уютно, но личико Гали было безутешно грустно. «Господи, господи, да что ж это будет, — повторяла она себе один и тот же вопрос тысячу раз. — Да неужели же отец отдаст ее за Ходыку? Ух, противный какой: как жаба, как змея!!» Просить? Плакать? Но Галя знала, что это напрасно, знала, что уже если пан войт забрал себе что в голову, так того не выбьешь оттуда и топором, а просьбы и слезы еще больше раздражают его. «О господи, господи, хоть бы опоздал Ходыка с товарами из Цареграда. Хоть бы замешкался! Вот, слава богу, среда, там четверг, пятница и суббота, а в воскресенье уже последний день. Господи, задержи его в дороге, только бы до субботы не приезжал, да уж и теперь всего три дня, не захочет же батько ее кое-как замуж отдать. Может быть, господь сжалится, а там пост, святая неделя, тем временем подъедет Мартын. Да и Мартын тоже, — вздохнула Галя, — передавал через торговых людей, что вернется к рождеству, а вот уже и заговень, и пост не за горой, а его все нет как нет! Хотя б знал, хотя б ведал, что тут затевает без него батько и слово свое старое, что его отцу давал, забыл, поспешил бы он к своей Галочке, на крыльях бы прилетел! — Галочка охватила колени руками и печально закивала головой: — А может, забыл, может и не вспоминает, может, другую нашел… Мало ли там в Кракове и в Варшаве краль да красунь! А она что?» — Галя с тоскою взглянула на свою маленькую фигурку, на свои ножки, обутые в червоные сапожки, на узенькие плечики, сквозившие сквозь тонкое шитье рубахи, — и глубокий вздох вырвался из ее груди. — «Не за что меня любить!» — печально проговорила Галя и вытащила из-под подушки круглое прелестное венецийское зеркальце, которое купил ей отец за большие деньги у иноземных купцов. Вот внучка покойного войта Богдана Кошколдовна, вот красуня так красуня! Грудь высокая, плечи полные, лицо белое и румяное, коса до земли… Галя вздохнула и взглянула в зеркало: «Ну, за что меня любить?! Вон брови тонкие, как нитки, нос к небу поднялся… лицо черное…» Но несмотря на слова Гали, зеркало говорило ей совсем другое. Оно говорило, что брови тонкие и бархатные, как шнурочки; что носик маленький и хоть немножко и вздернутый, зато с такими хорошенькими тонкими ноздрями, что светятся, словно розовый коралл; что лицо у ней не черное, а смугленькое, с алым румянцем; что из-за полуоткрытых губ смотрят мелкие и ровненькие, словно у молодого мышонка, зубы. И кроме того, из венецийского зеркала смотрела на нее пара таких милых, таких ласковых карих глаз, что и сама Галя невольно улыбнулась им. Ах, а он не приедет или приедет слишком поздно и застанет Галю с завязанной головой… Только ж нет, нет! Господь не допустит этого, Ходыка опоздает. А если и приедет, если по-своему захочет сделать отец, так и она покажет, что батькова дочка: зарежется, утопится, а за Ходыку не пойдет!
Кто-то дернул за дверь, Галя вздрогнула, поспешно спрятала зеркало под подушку и отерла глаза.
В комнату вбежала высокая и полная блондинка с довольно крупными, хотя и красивыми чертами лица.
— Здравствуй, Галочка, чего пригорюнилась? — заговорила она весело и живо, подбегая к Гале и опускаясь рядом с ней.
— Здравствуй, Богдана.
— А я это бегу от пани цехмейстровой да и думаю, дай заскочу к Галочке, проведаю ее.
— Спасибо, голубка.
— Чего ж ты опять зажурилась? Не приехал ли Ходыка?
— Да нет, слава богу, еще не приехал, а все-таки боюсь, как бы нe поспел…
— А!.. Не приехал… — протянула с некоторым разочарованием Богдана, — а я думала — он уже тут.
— Нет, нет! Что ты думаешь, Богданочка, — схватила ее за руки Галя, — как ты думаешь: правда, если б он даже теперь и приехал — батько не захочет нас так прихватцем, кое-как повенчать?
— Ну?
— Ах, какая-бо ты, Богдана! — всплеснула руками Галя— В посту ведь семь недель, а там еще и святая — вот и выходит целых два месяца, а за то время Мартын подъедет, а он уже не допустит, чтобы меня силомиць за Ходыку отдали!
— Ты так уверена в том? — И на одно мгновенье в складках губ Богданы мелькнуло какое-то злое, насмешливое выражение. — А почему же он не едет до сих пор?
Рука Гали выпустила Богданину руку.
— Потому что… мешает что-нибудь… замешкался, — проговорила она растерянно, вглядываясь в Богданины глаза, и вдруг отскочила с ужасом. — Ай! Богдана! Ты так смотришь?! Ты что-то знаешь… скажи!
— Ха-ха-ха! — рассмеялась звонким деланным смехом Богдана, причем пышная ее грудь заходила ходуном. — Ты уже и перепугалась! Да что я могу знать, — ничего… Вот только пани цехмейстрова говорила, что много уже подмастерьев из-за границы вернулось, рассказывают, что видели Мартына. Ты не тревожься, голубочка, — охватила она рукою шею Гали, — жив он, здоров и весел… Таким паном, говорят, ходит, что хоть куда! Все красавицы пропадают за ним…
Богдана подняла голову Гали и заглянула ей в глаза.
— А ты уже и зажурилась опять… Ну чего же? Чего? — встряхнула она ее.
— Так, — протянула печально Галя, роняя голову на грудь.
— Все боишься, чтоб Ходыка не подъехал?
Галя ничего не ответила.
— И чего так боишься? — продолжала Богдана. — Ума не приложу! Ну, Мартын и красивый, и статный, и молодой, да и Ходыка ж не старый! Не такой красень, как Мартын, а все-таки человек как человек. Зато что Мартын против него? Ничто! Подмастерье, ну, приедет, мастером станет… и лет уже там через двадцать цехмейстером выберут… А Ходыка и теперь первый багатыр, а там еще богаче станет, бурмистер-шей будешь, первой горожанкой в городе. Золотом, самоцветами засыплет он тебя!.. — Лицо Богданы разгорелось. — А то Мартына ждать… Когда еще он приедет?.. Да и приедет ли? Что-то не очень поспешает…
— Приедет, приедет, приедет! — воскликнула Галя.
— Ну, — пожала плечами Богдана, — жди… А что, как не приедет совсем?
— Все равно за Ходыку не пойду… Не люблю я его, Богданочка, видеть не могу! Пусть Мартын меня и разлюбит, пусть забудет, а за Ходыку не пойду, не пойду.
— Что ж, так в девках и останешься?
— Если не за Мартына, так ни за кого!
— Гм! — взбросила Богдана своими пышными плечами, подымаясь с места. — А мне уж и так надоело дивувать!.. Ну, а теперь прощай, моя ясочка, — обняла она Галю и заговорила торопливо, набрасывая платок, — я и засиделась… А на дворе уже темно. Не журись, не сумуй, ой господи! Будет мать бранить, а то и побьет! — рассмеялась она, выбегая из комнаты.
В дверях Богдана столкнулась с согнувшейся ветхой старушкой.
— Фу ты, господи, — вскрикнула та, — чего это ты так прожогом бежишь, чуть не опрокинула совсем…
— Простите, простите, бабунцю, засиделась, домой тороплюсь.
— И то, — проворчала сердито старуха, — когда вспомнила. Виданное ли это дело — до такой поры девке сидеть? На башне ударило двенадцать, а она бродит по чужим дворам.
Старушонка вошла в комнату и, боязливо оглянувшись по сторонам, заперла дрожащей рукой на задвижку низкую дверь.
На ней был темный байбарак,[19] голова была повязана белой намиткой.[20] Вся она, сморщенная и согнувшаяся, напоминала старый ссохнувшийся грибок. Голова ее тряслась, а руки постоянно дрожали.
— Господи! Слышала ли ты, дытыночко, что в мисти случилось? — заговорила она полушепотом, тряся своей седой головой.
— Что, что такое? — поднялась испуганно Галя.
— Червоный дьявол в город влетел.
— Ой! — вскрикнула Галя.
— Говорят люди, что это самый страшный, самый лютый из них, дытыно моя, а мы тут с тобою как на грех одни в доме остались, — перекрестилась она. — Спаси и сохрани!
— Да как же он влетел? Кто видел? Кто сказал? — говорила уже побледневшая Галя, устремляя глаза в таинственную полутьму слабо освещенных углов.
— Все видели, все, моя ясочка, — говорила старуха еще тише, приближаясь к Гале. — Прилетел на черном коне, у коня крылья распущены, из ноздрей пар, из глаз искры сыпятся, сам в красном плаще, как огонь горит. Через мост не ехал, так при всех взвился на воздух и пе…
Тихий стук в ставню прервал слова старухи. Глаза Гали расширились еще больше. Несколько минут никто не решался заговорить. Галя судорожно сжала руки старухи и почувствовала, что эти руки были холодны и влажны, словно руки восставшего мертвеца.
Наконец старуха спросила Галю тихо и прерывисто:
— Слы-ша-ла?
— Слышала, — хотела было выговорить Галя, но новый, еще более явственный стук окаменил ее; она так и застыла с полуоткрытым ртом. Стук повторился еще и еще настойчивее.
— Постойте, постойте, бабусю; да это, быть может, тато из ратуши вернулся, — заговорила наконец Галя, овладевая собой.
— Куда ему! Еще рано!
— Ну, а может быть, все там и разошлись. Я, бабусю, посмотрю.
— Ой наделаешь беды, ой накоишь. Господи помилуй, господи помилуй, — шептала старуха, поспешно крестясь и хватая Галю за руки, но уже немного успокоившаяся Галя подошла к окну, опустила кватырку и, толкнувши ставню, высунула голову в окно. Высунула, да так и отскочила: у окна перед ней стояла высокая плотная фигура, завернутая в красный, как огонь, плащ.
— Он! Он! — вскрикнула с ужасом Галя, отскакивая и захлопывая окно.
Долго стучал, долго кричал Славута, но никто не откликался на его зов. Решительно не понимая, почему его появление привело в такой ужас Галю, Мартын начинал уже невольно верить словам цехмейстра Щуки, что за Ходыкины маетки всякая с радостью пойдет, что Галя просто испугалась того, что он своим приездом помешает ее свадьбе. «Да нет же, нет, — подымалось из глубины его сердца. — Галочка ж твоя, она любит тебя, она присягалась тебе. Быть может, войт приказал ей не видеться с тобою и не говорить. Быть может, был в хате кто чужой… Так или не так, а надо завтра же все разузнать! Коли не пустили в хату, так найдем и на дворе!» — решил Мартын и, нахлобучив шапку, двинулся к воротам. Отворивши фортку, он готовился уже перешагнуть порог, как вдруг перед ним выросла высокая, немного согнувшаяся фигура войта.
— Гей, кто там? Чего ходишь по ночам? — крикнул грозно войт, отступая и чувствуя, как по спине его побежала ледяная струя.
— Я… Разве не узнал меня, пане войте?.. Мартын Славута, — сбросил шапку Мартын, кланяясь почти до земли.
— Кто тебя и узнает в таком шутовском наряде, — буркнул сердито войт, косясь на красный плащ.
— Только лишь сегодня из-за границы прибыл… На мастера уже все свидетельства получил.
«Как раз тебя теперь и нужно было», — пронеслось в голове у войта.
— Так чего ж ты по ночам ходишь, чего тревожишь добрых людей? — произнес он вслух.
— Простите, пане войте! А уж очень встревожило меня одно известие: прослышал я… — Мартын остановился, как бы не решаясь выговорить страшного слова, — что вы Галю за Ходыку просватали.
— Ну и просватал, ну и отдаю! А тебе-то что до этого? — запальчиво крикнул войт, ударяя палкой по снегу.
— Смилуйтесь, пане войте, — поклонился Мартын в землю, — вы же еще покойному отцу моему обещали детей соединить… Вспомните старое…
— Старое, старое!! — продолжал горячиться войт все больше и больше. — Теперь старое никому не нужно… Новое идет… Да когда б ты сам старое помнил, не смел бы ты такие речи среди улицы говорить!
— Сам знаю, простите, пане войте! — снял Мартын шапку и поклонился снова до земли. — Да и терпеть было несила, хотелось самому узнать… Пане войте! — снова заговорил он. — Что вы делаете?! Подумайте… сердце-то у вас доброе! За кого вы отдаете дочку?! Да разве ее Ходыка так, как и, жалеть будет? Да разве он будет сыном для вас? Новые пни люди, пане войте, с новыми звычаями, а уж о звычаях ихних все мисто знает. Вам ли родниться с ним?
— Молчи, блазень!! Что это ты войта учить вздумал? Или ты обучался таким звычаям в чужой стороне?! Сам знаю, что мне делать! Сам знаю, за кого свою дочку отдавать… — стучал старик по снегу палкой, и голос его звучал как-то слишком раздраженно, слишком резко.
— А, так вы хотите свою единую дочку со света сжить? — крикнул уже запальчиво и Мартын, подступая к войту. — Так не пойдет же она за него, утопится, а не пойдет!
— Не пойдет? — переспросил войт, и лицо его все побагровело, а в глазах вспыхнул тот огонек, который ясно показывал, что войта теперь уже ничто не согнет. — А я тебе говорю, что идет, — произнес он медленно, отчеканивая каждое слово, — идет с радостью.
— С радостью идет? — переспросил Мартын, отступая и как бы не понимая услышанных слов.
— С радостью, с радостью! — повторил настойчиво войт, стуча палкой и проходя мимо ошеломленного Мартына. — Земли не слышит под собой!
На другое утро уже по всему городу бежала и страшная, и неслыханная новость, что червоный дьявол, влетевший вчера в город, добивался ночью в дом войта.
— Подлетел, расправивши красные крылья, да так и опустился у окна, — рассказывала бабуся столпившимся вокруг нее женщинам. — Мы уже с Галей начали все молитвы читать, страстные свечи у образов зажгли, окропили окна и двери святой водой — так он и пропал, так и пропал, — повторяла она, разводя руками, а соседки кивали с ужасом головами, — словно сквозь землю ушел или тучей поднялся!
На Житнем торгу, и на ратушной площади, и у Мийской брамы, и даже на Вышнем замке только и говорили, что об этом странном происшествии. Притом редакции рассказа делились на две версии: одни утверждали, что дьявол в огненном столбе провалился сквозь землю, другие же спорили, что полетел огненной тучей над землей. Настроение было тревожное… Ждали всяких бедствий: голода, наводнения или нашествия татар…
Один только войт знал более или менее, кто был тот червоный дьявол, добивавшийся с вечера в его дом. Но после вчерашней встречи он все время молчал, угрюмо уставившись в угол и подперши голову рукой. Короткая люлька войта то и дело гасла; видно, думы его были очень глубоки… Однако войт не решался оставить дом, опасаясь, как бы червоный дьявол не постучался к нему и среди бела дня.
Уже Галя с наймичкой подоила коров и, закончив дневные труды по хозяйству, присела отдохнуть и помечтать в сумерках, когда дверь в горничку Гали весело скрипнула и в комнату вбежала Богдана.
— Здравствуй, сестричка, опять пригорюнилась? — заговорила она быстро и громко, подбегая к Гале, которая сидела, подперши голову, у маленького окна. — Я тебе новость несу хорошую, веселую!
— Какую, какую? — встрепенулась Галя, подымаясь навстречу подруге, и все ее печальное личико вдруг оживилось при словах Богданы.
— Мартын Славута приехал! — выпалила Богдана разом, останавливаясь перед ней.
— При… приехал… — захлебнулась Галя, вся кровь отхлынула у ней от лица, ноги задрожали, и, будучи не в силах стоять, Галя опустилась на табурет.
— Чего ж ты? Чего испугалась? — затараторила Богдана, теребя Галю со всех сторон. — Разве не рада? А?
— Рада, рада, сестричка! — вскрикнула Галя, бросаясь Богдане на шею и чувствуя, как горячая краска заливает ей всю шею, все лицо. — Так рада, так рада, серденько, что и сказать не могу, — повторяла она, прижимаясь к Богдане. — Когда б ты знала, как я ждала его, как молилась, — но тут губы у Гали задрожали неожиданно, захлопали как-то растерянно, быстро ресницы, и вдруг крупные-крупные слезы покатились одна за другою из глаз.
— Чего ж ты плачешь, чего плачешь, дурашечка? — целовала Богдана темноволосую головку, припавшую к ее пышному плечу, но на лице ее, полном и красивом, которого теперь не могла видеть Галя, отразилось крайне неприязненное, завистливое чувство.
— От счастья, от радости, Богдана, — подняла на нее Галя свои счастливые, полные слез глаза. — Горе мое несчастное! Я ведь на бога роптала, думала, что Мартын и забыл меня… Глупая… Глупая… — улыбнулась она счастливой сияющей улыбкой и прибавила, тихо вздохнувши — Думала, что он полюбил другую…
— А ты уверена в том, что нет? — спросила ее Богдана с какой-то недоброй, странной улыбкой.
— Прежде думала, что да, — улыбалась Галя, обвивая руками шею подруги, — а теперь уверена, уверена в том, что он не забыл меня! — вскрикнула она с жаром, отклоняя свое лицо от подруги и глядя на нее горящими восторгом глазами. — Когда б ты знала, Богданочка, как я ждала его, как молилась… как бога просила… — снова говорила она поспешно, как бы стараясь опередить свои слова. — Думала, что он уже застанет меня с белой головой, только нет, нет! Умерла б, а не пошла б за Ходыку! Господи, Богдана, скажи мне, — улыбнулась она, опуская руки на плечи подруги и забрасывая головку назад, — скажи мне, все ли закоханные дивчата таки дурни?
Но, не получивши от Богданы ответа и не замечая впечатления, произведенного ее словами на Богдану, Галя продолжала с новым приливом восторга:
— Ах, да я и не спрашиваю тебя главного: когда он приехал? Откуда ты узнала о нем?
— Вчера вечером, а пришел он сегодня к нам сам.
— К вам? — протянула Галя, устремляя на нее изумленные глаза. — Почему же он к нам не пришел?
— Не знаю… — ответила Богдана как-то неопределенно и отвела в сторону глаза.
— Ах да, — вспомнила Галя, кивая головой, — верно, узнал о нашем горе, да и не хотел так сразу попасться отцу на глаза. А ты ж говорила ему о моем несчастье?
— Говорила.
— Что ж он? — сжала Галя руки Богдане.
— Ничего, — ответила Богдана тем же странным, ничего не выражающим голосом.
Но Галя улыбнулась про себя: конечно, он ей не скажет ничего, она ведь знает своего Мартына, знает, какое у него гордое, зухвалое сердце.
— Богдана, голубочка, родненькая! — защебетала она, заглядывая подруге в глаза. — У меня к тебе просьба: зробы ласку, моя рыбочка, пошли кого переказать ему, что я измучилась, дожидаясь его, что не люблю Ходыку, что замуж за него не пойду, что если не за Мартына, так хоть под лед воду пить.
По лицу Богданы пробежала какая-то сомнительная улыбка.
— Хорошо, хорошо, голубочка, я ему все расскажу.
— Ну вот, вот! — вскрикнула Галочка, звонко целуя подругу. — А завтра на цеховом празднике, может, удастся хоть словом перекинуться. Ты скажи ему, мое солнышко, что пусть делает, что знает: я рада за ним и на край света пойти!
Еще ленивое зимнее солнце не успело подняться из-за гор киевских, а Галочка поднялась уже со своей мягкой постели. Поспешно вытащила она из-под подушек свое дорогое сокровище — венецийское зеркальце и, поставив его на столе, начала свой туалет. Сегодня Галя хотела одеться так хорошо, как только могла. Господи! Да ведь уже больше года, как он не видел ее! Надо же, чтобы он увидел, что и в Киеве могут одеться не хуже краковских красунь! «Радость моя, счастье мое, сокол мой ясный, голубь мой сизый», — шептала Галя, вынимая один за другим из большой скрыни, расписанной по зеленому полю разноцветными цветами, и свои, и материнские, и бабкины наряды. Она разложила на кровати целый ряд самых ярких саетных, аксамитных и златоглавовых жупанов, байбараков и спенсеров. Долго стояла перед ними Галя в недоумении, подперши щечку рукой, не зная, на чем остановить свой выбор. Наконец выбор был решен. Опоясавши свой тоненький стан шелковой, затканной золотом плахтой и оправивши шитый золотом подол, Галя надела нежно-голубую шелковую попередницу, темно-красный бархатный спенсер, зашнурованный спереди золочеными шнурочками, и нежно-розовый адамашковый байбарак, густо опушенный соболем.
Галя осмотрела себя, насколько было возможно, и осталась довольна своим костюмом. Теперь начиналась самая важная часть туалета. Галя придвинула табурет к столу и открыла дорогую штучную шкатулочку, также купленную отцом у иноземных купцов. Одну за другой вынула Галя нити перл урианских, венецианских, розовых кораллов, гранат и туркуса бирюзы. Когда ее тоненькая шейка вся обвилась в несколько раз драгоценным монистом, Галя повесила посредине еще большой золотой дукач, а в розовые ушки вдела длинные тяжелые серьги с жемчужными подвесками. Взглянувши в зеркало, Галя не могла не улыбнуться тому милому изображению, которое отразилось в нем. Оставалось надеть только головной убор. Галя вынула из шкатулки черную бархатную повязку в виде диадемы, вышитую всю золотом и бриллиантами. Галя взглянула еще раз в зеркало; все ее продолговатое личико с пушистыми волосами казалось в этой драгоценной раме еще миниатюрнее, еще миловиднее. Довольная улыбка пробежала у ней по лицу, и в глубине, в самой глубине сердца Гали шевельнулась одна тайная мысль: ну, если же у него только не каменное сердце, не может он не сознаться, что и в Кракове таких девчат поискать. Но тут же Галочка устыдилась своей мыс ли и, вся зардевшись, сунула зеркальце под подушку и уселась у окна поджидать отца.
Никогда, кажется, не мешкался так войт, как в этот день! Наконец появился на пороге и он в длинном коричневом аксамитном кафтане и в бобровой шапке на седой голове.
Когда Галя шла с отцом по улицам, мийские местные кумушки, кланяясь войту, шептали друг другу: «Ай да красуня ж войтова дочка! Жаль, что Ходыке достанется такой крам!»
И от этого одобрительного шепота угрюмое лицо пана войта светлело, добрая улыбка появлялась под длинными седыми усами, и важный пан войт киевский приветливо кланялся на поклоны встречных горожан.
Между тем по направлению к церкви Стретения господня, братской церкви цеха золотарей, стремилась уже по улицам киевским самая пестрая и нарядная толпа. Горожанки, разодетые в свои едвабные и аксамитные байбараки с меховой опушкой, старшие с головами, повязанными длинными белыми шелковыми вуалями,[21] шли с достоинством и спокойно; молодые в черных бархатных повязках едва сдерживали свои улыбки и веселые речи, зато их карие глазки так и стреляли по сторонам. Почтенные горожане в длинных темных кафтанах и меховых шапках выступали около своих жен степенно и важно, а вечно неугомонная молодежь шла среди улицы веселой толпой, то подкручивая усы, то отпуская более или менее остроумные замечания на счет горожан. Солнце светило ярко и ласково. Со всех крыш быстро и весело капала вода. Воробьи и снегири звон ко чирикали кругом.
Богатая церковь цеховых братчиков была полна уже и самих цеховых, и других приглашенных почетных гостей, когда войт вступил в нее со своей дочкой. При виде пана войта все присутствующие почтительно расступились и пропустили их вперед. Войт занял свое место на клиросе среди самых почетных цехмейстров, а Галя отошла к левой стороне, в так называемый бабинец, где стояли все женщины. Впереди всех у самой решетки, важно выступивши вперед, стояла поважная Духна Кошколдовна, дочь покойного войта, мать Богданы; она тяжело дышала, изнемогая от жары и от тяжести драгоценных мехов, надетых на нее. С ее полного, крупного немолодого лица, теперь принявшего сине-багровый оттенок, катился крупный пот; она то и дело вытирала лицо шитым платочком, выставляя всем на вид свою пухлую белую руку, унизанную бесконечным множеством драгоценных перстней. Байбарак Богданы был такого яркого красного цвета, что красные круги мелькали в глазах каждого, кто взглядывал на него. При виде Гали Богдана весело закивала ей головой и, отступивши, дала место подле себя. С одного взгляда заметила Галя, что и подруга употребила все старание, чтобы выглядеть сегодня получше. Но, несмотря на церковную службу, на всю строгость и торжественность дня, Галя не могла удержаться, чтобы не оглянуться в ту сторону церкви, где стояли мужчины, и взгляд ее сразу встретился с ним. Вся вспыхнула от радости Галочка. А он стоял такой статный и красивый, не спуская с нее глаз… Но, к удивлению своему, Галя заметила, что лицо Мартына было недовольно и глаза глядели мрачно…
«Голубь мой родненький! — подумала Галя. — Верно, сердится на батька и не знает, что я его все равно не послушаю, а за своим Мартыном и босиком пойду!» Галя хотела было еще раз оглянуться на Мартына, но, встретивши сердитый взгляд войта, потупила глаза и начала радостно, быстро шептать молитвы.
— Богдана, — проговорила она потом чуть слышно, не поворачиваясь к подруге, — ты пересказала все Мартыну?
— Все, все! — улыбнулась Богдана.
— Ах, голубка моя, когда б ты знала, какая я счастливая! — сжала Галя ее руку. — Что ж он сказал тебе, что?!
— Сказал, что сам пойдет к тебе и расскажет тебе все.
— Солнышко мое, рыбочка моя! — шептала Галя, притискивая руку подруги.
Служба тянулась бесконечно долго; Гале казалось, что ей никогда не придет конец. Она едва могла удержаться от улыбок и смеха, ей не стоялось на месте, эта могучая волна радости душила ее, ей хотелось говорить, смеяться, плакать, и лицо ее до такой степени сияло счастьем, что соседние горожане замечали друг другу, покачивая с сомнением головой: он как выбрыкивает, даром, что в церкви! А смотрите, говорили, что не любит Ходыки! Нет, как уж там не толкуй, а грош к грошу катится. Последний шум долетел и до Мартына, недовольно кусал он усы, не спуская с Гали глаз. «А вспыхнула, небось, как увидала меня, значит, есть еще совесть, не пропала совсем. Так правду вон и люди, и пан цехмейстер говорят, польстилась на Ходыкины сундуки! Верить вам, верить!.. Голубкой прикидается, а так и норовит коготком царапнуть!» Мартын сжал кулаки, чувствуя, как грудь его подымается усиленно и часто, и желая как-нибудь сдержать свое волнение. «Ну, скажем, тогда вечером отец не велел пускать, может, кто сторонний в горнице был. Да могла же потом через Богдану что-нибудь передать, ведь подруги! — усмехнулся он недоброй улыбкой. — Только и сказала, что отец за Ходыку выдает. Когда бы силою выдавал, не красовалась бы так, как теперь. А для кого нарядилась так? Думает Ходыку своими самоцветами пленить… вон опутала всю шею, словно свеча горит! А смеется… Чуть не пляшет, забыла, что и божий храм! Думает, пожалуй, что приехал дурень, будет тут пропадать, убиваться за ней? Так нет же, не дождется, не слюнявого нашла». Мартын сжал брови, нахмурился и, отвернувши глаза от Гали, уставился на образа.
Несколько раз бросала из-под опущенных ресниц воровской взгляд Галя, но, заметивши, что Мартын совсем на нее и не смотрит, обиделась совсем. «Как будто и не рад, что видит меня, — говорила сама себе, надувая сердито губки. — Мог бы потом отмолиться… А теперь и не смотрит… Вот совсем напрасно сделала, что передавала ему через Богдану, что готова за ним и на край света идти… Теперь, пожалуй, подумает, что вяжусь к нему! Ну, да нет, вот окончится служба, и он подойдет ко мне!» — утешала себя Галя, дожидаясь конца.
И служба наконец окончилась. Шумной толпой высыпали горожане, размещаясь на цвынтаре в ожидании крестного хода. Наконец двинулся и крестный ход во всей своей пышности и красе. Впереди всех вышли из церкви певчие, все подмастерья цеховые, одетые в синие жупанчики. За ними уже двинулось соборне и духовенство. Кресты и хоругви несли почетные гости из городских крамарей. Вслед за ними двинулись цехи. Впереди всех, сейчас вслед за хоругвями, прошел цех золотарей. Мартын шел впереди всех, неся на золоченом древке большое знамя, на котором с одной стороны изображена была храмовая икона цеховой церкви, а с другой — на красном поле золотая цепь. Вслед за ним шел цехмейстер, почтенный, седобородый старик, за цехмейстром шли мастера, а за ними уже — подмастерья и ученики. За цехом золотарей последовал цех портных. Знамя нес молодой цеховик. С одной стороны знамени было изображение Николая Доброго, а с другой стороны красовались огромные ножницы, наперсток и игла… Цехмейстер, мастера и подмастерья шли в таком же порядке. За портными прошли меховщики с горностаевой мантией, изображенной на голубом фоне. За меховщиками двинулись сапожники с большим сапогом, изображенным на желтом аксамите, дальше шли седельники, столяры и плотники, каменщики, и длинной цепью разворачивалась цеховая процессия перед очарованными глазами горожан: мелькали пестрые знамена с изображением инструментов ремесла с одной стороны и иконой патрона — с другой, степенно выступали цехмейстры и мастера. Хор пел радостно и весело; солнце заливало теплым светом всю эту блестящую, пеструю толпу; легкий ветерок приподымал волосы на обнаженных головах, колебал знамена. Растянувшись длинной лентой, процессия обогнула церковь. Перед Галей снова показался Мартын со знаменем в руках. Бедное сердце ее забилось и радостно и тревожно. Ах, как же он был дорог ей в своем синем жупане, с этой светловолосой милой головой! Но, проходя мимо Гали, Мартын отвел глаза в сторону, в ту сторону, где стояла Богдана Кошколдовна, и снова скрылся с процессией за церковью. Галя почувствовала, как острая мучительная обида проснулась в ее сердце; она взглянула в сторону Богданы. Богдана громко смеялась, рассказывая о чем-то своим соседкам. Галя отвернулась и заметила, что к ним приближается Василий Ходыка в своем неизменном черном бархатном костюме, делавшем его похожим на католического монаха.
— Здравствуй, пане свате, здравствуй, красуня невесточка, — улыбнулся Ходыка своими бескровными губами, приближаясь к ним. — Ай да дочка у тебя, пане войте! Ай да красавица! — говорит он, не спуская с Гали глаз. — Даром, что солнце светит, а она и на солнце, как диамант, горит!
Войт взглянул на дочку с самодовольной гордостью и только прибавил:
— И дытына слухняная… Да!
«Господи, только б они не заметили по моему лицу, только бы не заметили! — подумала Галя, стискивая зубы и вызывая с усилием улыбку на свое лицо, а в голове ее быстро-быстро мелькали мысли. — На меня не смотрит… Богдане улыбается… К ним первым пришел».
Между тем процессия обогнула церковь и второй раз. Мартын бросил быстрый взгляд в сторону Гали. Ходыка любезно разговаривал с нею, а Галя слушала его, казалось, внимательно, и веселая улыбка не сходила с ее лица. Светлые глаза Мартына стали черными; проходя мимо Богданы, он улыбнулся ей и молодецки закрутил свой ус.
Покраснела Богдана от удовольствия и потупила глаза, а соседние кумушки одобрительно закивали головами. Все это заметила Галя. Цеховые знамена замелькали перед нею, как в тумане: она видела все и ничего не видела; она слушала все, что говорил ей Ходыка, и не понимала ничего.
Полная пани Кошколдовна вела, между тем, таинственный разговор с двумя худыми пожилыми женщинами, одетыми в богатые наряды.
— Уж поверьте мне, пани цехмейстрова, — говорила она с отдышкой, — поверьте, даром бы дьявол к их дому не подлетал. Ну, скажите мне, чего бы ему так даром без всякой нужды лететь, да это, прости господи, и простой человек не сделает, а не то что черт!
— Так, так! — кивала головой пани цехмейстрова, и желтое лицо ее с потухшими глазками загоралось жадным любопытством. — А скажите ж, для чего б ему туда лететь? — спросила она, заранее предвкушая всю сладость ответа.
— Для чего? Да разве мы этого не знаем? — улыбнулась другая, более молодая, пожимая высохшими плечами. — Для чего к Приське Горбачевне из швецкого цеха дьявол каждую ночь прилетал? Гм? Разумеете?.. Прилетал до тех пор, пока не родился ребенок о двух головах… А? — Она обтерла ладонью губы и, покачавши головою, добавила: — Что с того, что она девушка? Теперь каждая девушка любую бабу проведет!
Пани Кошколдовна ничего не ответила, но, важно надувши кадык своей полной шеи, изобразила на лице такое выражение, которое ясно говорило: само собой разумеется, об этом нечего и говорить…
— Так, так, — подхватила пани цехмейстрова, бросая на Галю злобный, завистливый взгляд. — А особенно от этой войтовны всего можно ожидать… Уж так горда, уж так заносчива!.. Ни почтения от нее, ни привета…
— А что ж, коли отец не учит! — Пани Кошколдовна тяжело вздохнула и заговорила, придав лицу плаксивое выражение — Покойный отец мой тоже ведь войтом был, а как учил поважать людей, не гордиться, не чваниться…
— Ох… ох… — закивали головами кумушки. — Царство ему небесное, вечный покой, добрый был человек!
— Да и я ж была первой невестой в городе и лицом была хоть рисуй! — выпятила пани Кошколдовна вперед свой пышный бюст. — А так не драла нос, как это кошеня!
— Какая она первая невеста! — даже выкрикнула пани майстрова. — Вот Богдана, так пава… А эта… ни поступу, ни походу, тьфу! — сплюнула она.
Процессия между тем обошла церковь в третий и последний раз. Заметивши, что Галя все время слушает Ходыку с веселой улыбкой и звонким смехом, Мартын решительно подошел к Богдане.
— Здравствуй, Богданко! — произнес он умышленно так громко, чтобы слова его долетели до Гали. — Весь день с тебя глаз не свожу! Видел я много краль и красунь, а краше тебя ни одной не нашел!
«А, так вот что!» — закусила Галя губу, и ноздри на маленьком носике раздулись, и в глазах загорелся недобрый огонек.
— А когда, пане, прибудет брат твой? — спросила она громко Ходыку. — Забарился что-то!
— Поспеет к весилью, поспеет, — ответил Ходыка, потирая руки. — А уж закурим на весь город, да!!
— То-то, — заметил пан цехмейстер, приближаясь к ним. — А меня вчера этот блазень, — взглянул он сердито в сторону Мартына, — лгуном обозвал… Говорил, что не захочет войтова дочка за твоего брата идти.
— Кто? Он говорил? — стукнул войт палкой, и лицо его стало багровым. — Ну, погоди ж, я его проучу!
Мартын улыбнулся злой, насмешливой улыбкой и, измеривши Галю презрительным взором, обратился к Богдане:
— А войтова, кажись, очень рада, что за Ходыку идет?
— Нет, — протянула Богдана, — она не хочет, ее выдают…
«Смеется надо мной, глузует!» — пробежало в голове Гали, и возмущенье, и обида, и отчаянье бурей поднялись в ней. Сердце ее сжалось от боли… Какой-то клубок подкатился к горлу.
— Домой, домой, домой! — вскрикнула она задыхающимся голосом, хватая руку отца.
«Господи, и как это, и за что полюбила я его?» — говорила себе Галя, подымаясь с белых подушек и убирая с лица в беспорядке рассыпавшиеся волосы, прилипшие к мокрому от слез лицу. Когда это сталося с нею? Когда?
Галя совсем села на постели, спустила ноги и устремила заплаканные глаза в темный угол. Солнце уже скрылось, и серые сумерки наполняли комнату. Да, это случилось на крещенье. Вот уже два года прошло с тех пор. Какой был тогда дивный, морозный день! На Днепре горожане сделали из разноцветного льда прекрасную иордань. Все цехи стояли со своими знаменами вдоль берегов Днепра. Солнце светило и тысячью ярких блесток играло на снегу и на льду; певчие пели, молодые горожане палили из мушкетов, а с Вышнего замка ревели гарматы. Они с Богданой весело болтали, рассматривали горожан, и вдруг взгляд их упал сразу на него. С детства Галя знала Мартына и даже играла с ним, но с тех пор, как он поступил в цеховое ученье, они не виделись совсем. Галя и не узнала сразу в этом статном и видном юноше того мальчишку, с которым играла когда-то.
— Какой красень! — обратилась она к Богдане, а Богдана и так не отводила от Мартына глаз.
Когда окончилось освящение, Мартын подошел к ним.
— Здравствуй, Галя, — произнес он приветливо и весело, не отрывая от нее восхищенных глаз. — Тебя и узнать нельзя.
Так полюбились они, так и отдала она ему свое сердце навек.
— Господи, да за что же я люблю его, за что?! — сжала Галя руки, и глаза ее загорелись, — Поганый, белобрысый! Волосы белые, глаза белые, как у щуки! — повторяла она с ожесточением, а губы ее дрожали все больше и больше, и слезы катились по щекам. — Нет, нет, не поганый, — шептала она, прижимая к груди руки, — такой милый, такой хороший, такой добрый, и глаза совсем не белые: добрые, славные, голубые, а какие черные и большие делались они, когда Мартын глядел на нее! И головка моя коханая! И усы мои золотые!
Галя снова залилась слезами и закрыла руками лицо. А он не любит ее, разлюбил, забыл, с Богданой смеялся все время, издевался над ней. За что, за что разлюбил он ее?! Разве она не так же любит его, как и прежде, разве б она за него и душу свою не отдала?! Тоска охватывала Галю все сильней и сильней. А тем временем Ходыка привезет из Цареграда отцовские товары, а тогда и свадьбу играть… И окрутят ее против воли, завяжут голову белой намиткой, и останется она, бедная, женой Ходыки на всю жизнь, навсегда! «Ух, как смотреть на него, как говорить с ним, как жить с ним всю жизнь?» Галя упала в подушки и зарылася в них с головой. И отчего она такая несчастная, такая бедная, такая одинокая? Если бы матуся жива была, разве б случилось с нею то, что теперь? Не к кому слова молвить, не с кем поговорить! Одна она, одна на свете, как палец, и никому до нее ни жалости, ни сожаленья нет!
Галя заплакала тихо и печально, вздрагивая своими узенькими плечиками. Что делать? Отца просить, плакать, молить? Галя отрицательно покачала головой. Да и зачем просить? Ведь Мартын не любит, не любит ее, так не все ли равно ей, за Ходыку идти или броситься под лед воды пить?! И зачем она передала ему через Богдану, что любит его, что рада за ним на край света пойти? Зачем? Для того, чтобы он смеялся над нею? С Богданой бы над своей Галей глузовал… Не подошел к ней… Боялся отца? Нет, если б любил, не побоялся бы никого! Даже слова через Богдану не переказал! «Ох, Мартын, Мартын! Сокол мой! — заломила Галочка руки. — За что ты разлюбил меня?! Один ты и был у меня на всем широком свете, да и тот…» Галя припала головой к ладоням рук. Долго вздрагивало безутешно ее маленькое тельце, наконец Галочка отняла руки от лица. «А может, и любит? — прошептала она тихо, устремляя взгляд с надеждой на образа. — Может, так только… на батька сердит?»
В комнате между тем совсем потемнело, и слабый свет лампадки едва освещал погруженную в сумрак горничку.
— Нет! Нет! Нет! — вскрикнула она вдруг с приливом горькой, острой обиды, схватываясь с постели и останавливаясь посреди комнаты. — Разве я ему не передавала через Богдану, что на край света уйду за ним, что надо торопиться, что не сегодня-завтра приедет Ходыка, а тогда уже пропаду я навек! А он не подошел даже… С Богданой говорил, Богдане усмехался… А! — вскрикнула она вдруг, замирая в каком-то мучительном подозрении, и вдруг глаза ее вспыхнули ревнивой догадкой; теперь женские мысли помчались уже безудержу, без размышления, как прорвавшие плотину волны. — Так, конечно, что ему во мне? К ней, к ней первой и пришел!.. Богдана первая красуня, Богдана земянка, у Богданы маетки, как у княгини! Только за что ж он дурил мое бедное сердце? Что он сделал со мной? — всплеснула Галочка руками и упала головою на стол. — Нет! Нет, только бы узнать наверное, а там… она уже знает что! — Галя поднялась, поправила лихорадочными движениями выбившиеся из-под повязки волосы, отыскала платок… Грудь ее высоко подымалась, глаза блестели возбужденно.
— К ворожке, к ворожке! — шептала она прерывисто. — Я знаю… Богдана говорила мне… Там, под Замковою горою за доминиканским монастырем… Она все знает… Она всю правду скажет… Отец узнает? Гневаться будет? Ничего, ничего… Ей все равно… Пусть даже и убьет!
Галя осторожно притворила двери и, заметивши, что вблизи нет никого, юркнула со двора.
На улицах темнело. Почти закрыв свое личико большим платком, торопливо пробиралась Галя по уличкам, стараясь идти ближе к домам с Боричева тока на Житний торг. Однако, несмотря на все эти предосторожности, зоркий взгляд пани цехмейстровой не пропустил ее. Праздная и любопытная пани цехмейстрова, строгая блюстительница нравов киевских горожаночек, еще сидела на своем посту у резных ворот своего маленького дома.
— Ге… посмотрите-ка, пани майстрова, — обратилась она к своей соседке, — кто это улицею бежит? Ей-богу, если меня не дурачат мои старые очи, то войтова дочка.
— Так, так! Она, она! — захлебнулась от любопытства соседка.
— А куда бы это она такой поздней порой? — вытянула свою сухую шею пани цехмейстрова, следя за удаляющейся Галей.
— Куда? — усмехнулась пани майстрова. — Да разве я вам не говорила, голубко, что нынешние дивчата любую бабу проведут?
— Ну, уж я ее прослежу, — решила пани цехмейстрова, — другой дороги, как мимо моих ворот, нет к войтову дому.
Но Галя не слыхала шепота кумушек. Скорым шагом спустилась она с Боричева тока и, минувши несколько уличек и переулков, вышла на Житний торг. Прямо перед ней в конце Житнего торга выступал на высокой снежной горе Вышний замок. Казалось, он давил своей огромной массой весь разметавшийся город. Стены и башни его высоко поднимались к небу и темными своими очертаниями заслоняли последний вечерний свет. Влево от Замковой горы выдвигалась небольшая площадка, словно нарочито срезанная в горе. Два высокие столба с перекладиной возвышались на ней; посреди перекладины болталось что-то темное и длинное. Галя взглянула в ту сторону, и жуткое чувство охватило ее; своими зоркими глазами она ясно различила повисшие, как петли, руки и голову, склоненную на грудь… С ужасом отвернулась Галя, проходя быстро вперед. На площади было уже совсем безлюдно. Торговые лавки, словно мертвецы с закрытыми веками, безжизненно и мрачно стояли. В нише, проделанной в церковной ограде, теплилась перед иконой лампадка слабым красным огоньком. Раз, два, три… пробило на Вышней веже девятнадцать гулких и медленных ударов. «Девятнадцать!»— всплеснула Галя руками. Однако возвращаться домой было уже поздно. Сжавши руками свое замирающее от страха сердце, Галя быстро побежала вперед. «Вартуй!»— раздалось протяжно с замковой стены. «Вартуй!»— ответил также протяжно глухой голос с воеводской стороны. «Вартуй!»— донеслося уныло с нижних Мийских ворот. Вот и доминиканский монастырь. Ух, какой он мрачный и страшный!.. Серый, поросший мхом, оперся на свои тяжелые колонны, словно седой старик на суковатую палку. Страшно… В нем гнездятся черные бритые монахи, словно совы в ущельях скал… Галя зашептала бессвязные слова молитвы и, обогнувши монастырь, пошла по узенькой и неровной уличке, ютившейся с той стороны горы между ее подножьем и городским валом. С этой стороны замок глядел еще грознее. Над воеводским подъемным мостом подымалась самая высокая шестиугольная башня; амбразуры темнели в ней, словно пустые орбиты глаз черепов. Высокие стены и башни, казалось, заступали полнеба. Галя уже не шла, а бежала. Тысячи самых ужасных мыслей гналися за ней. Там, на берегу Днепра, подле шинка Лейзара, площадь, где слетаются ведьмы… А что, как они будут лететь мимо нее?.. Или встретится по дороге червоный дьявол?.. Ведь недаром же он к ним позавчера вечером в окно стучал… Словно ледяной водой окатило Галю с ног до головы. «Господи, боже!»— поспешно закрестилась она под платком. Да если б она только вспомнила об этом, ни за что б из дому не пошла. Однако желание узнать истину превозмогало и страх. Галя все бежала и бежала вперед. Наконец у самой горки она заметила совсем покосившуюся и прилепившуюся к ней хатку. Все сходилось с описанием Богданы. Галя толкнула калитку и вошла во двор. В маленьких оконцах избушки светился красноватый огонек. Галя подошла и робко стукнула в окно. В одно мгновенье свет в окнах погас. Галя повторила свой стук второй и третий раз. В хате послышался шорох, и через несколько минут низенькая дверь отворилась, и на пороге появилась ветхая-ветхая старушка в каком-то странном, красном платье, широко расходящемся на груди, с головой, завернутой в какой-то ярко-желтый грязный платок.
— Кто там добивается? Чего там нужно? — заговорила она гортанным голосом, кивая головой и тщательно закрывая дверь.
— Я, титочко! — прошептала Галя замирающим голосом.
— Ты? — старуха внимательно взглянула на Галю и, заметивши молодую, испуганную девушку в дорогом наряде, ответила гораздо мягче: — А чего тебе, дитятко, надо?
— Погадать, титочко! — проговорила Галя запинаясь.
— Погадать? Бог с тобою! — замахала старуха и головой, и руками. — Я бедная перепечайка, откуда мне гадать?
Но Галя уже немного пришла в себя.
— Титочко, голубочко, что скажете, все дам, ничего не пожалею… Только не откажите: такая потреба, такая…
Старуха бросила между тем взгляд на дорогие намиста, обвивавшие шею Гали, и смягчилась еще более.
— Жаль мне тебя… Ну да кто это тебе такой напраслины наговорил?
— Богдана Кошколдовна, титочко… Уж не откажите вы мне… — В голосе Гали послышались слезы.
— Ну, иди уже, иди, — заговорила старуха совсем мягко, пропуская Галю вперед. — Только чтобы никому ни слова, не то…
Последних слов Галя уже не расслышала: у нее шумело в ушах, стучало в виски, и ноги подкашивались от непослушной дрожи. Они вошли в темные сени, и Галя слыхала, как старуха щелкнула за нею задвижкой. Суеверный страх охватил Галю до такой степени, что она хотела уже было броситься стремглав назад, но в это время чья-то худая рука ухватила ее за плечо, и голос старухи, показавшийся Гале хриплым и зловещим, прошептал над нею:
— Сюда, за мной!
Галя споткнулась в темноте о высокий порог.
— Еще, еще сюда, — говорила старуха, ведя Галю за собой.
Галя почувствовала, как они переступили еще через один порог и как старуха, поставивши ее посреди комнаты, затворила дверь.
— Сними крест, дай сюда, — зашептал над ее ухом голос старухи. Холодом смертельным окатило Галю с ног до головы.
— Сними, дай сюда! — прошептал еще настоятельней гортанный голос. Леденеющей рукой достала Галя из-за ворота сорочки золотую цепочку с крестом и положила ее в руку старухи. — Если есть икона, ладанка, все сними, слышишь, — шептала далее старуха, не выпуская Галиной руки, — все сними, не утаи!
Рука Гали задрожала. На груди у ней на шелковом шнурочке висела ладанка с мощами печерских святых… Но эту единственную защиту Галя решилась не отдавать ни за что.
— Нету, — с трудом прошептала она — так пересохло вдруг ее горло.
— Правда ли? — сжала старуха руку Гали и, получив от нее утвердительный ответ, продолжала дальше так же хрипло и настойчиво: — Сними все перстни с правой руки, да не бойся: я не возьму — назад отдам… Слышишь, сними все! Ничего не утаи.
Один за другим сняла Галя драгоценные перстни и положила их в руку старухи.
— Теперь стой, не шевелись! А я вздую огонек!
Старуха оставила Галину руку, и по звуку шагов ее Галя поняла, что она отошла в глубину.
Через несколько минут в комнате мелькнул на мгновенье слабый красноватый свет и угас… Еще прошла минута, и тотчас же красноватый отблеск осветил уже комнату на более продолжительное мгновение. Слышалось чье-то тяжелое дыханье. Еще раз вспыхнул свет, и Галя увидала склоненное над кучей угля лицо старухи. Ее губы раздулись от напряжения, лицо было красно, растрепанные редкие волосы висели по сторонам, глаза блестели, как у кошки, причем Галя заметила, что один из них был покрыт бельмом и глядел неподвижным стеклянным взглядом, словно глаз мертвеца. Ужас охватил Галю. Она хотела читать молитву и не могла ни одной вспомнить. Наконец синеватое пламя раскалившихся углей осветило комнату. Галя оглянулась кругом. Снаружи оборванная, нищенская хижина совсем не была так бедна внутри. На стенах ее висели какие-то пестрые, никогда не виданные Галей ткани, на полу лежал ковер… Не было ни одного окна, и только в углу стояла жаровня, подле которой сидела старуха. Старуха поднялась и подошла к Гале, и тут только заметила та, что на ней был желтый пестрый халат, что держалась она совсем прямо, не кивала головой, и что голос ее звучал настойчиво и хрипло, а мертвый глаз так и впился Гале в очи..
— Иди сюда! — взяла старуха Галю за руку и подвела ее к пылающим углям… — Говори все, как на духу. Как его имя?
— Мартын… — прошептала Галя.
— Разлучницу как зовут?
— Богдана.
Старуха тряхнула рукавом над пламенем, и вдруг вспыхнул синий огонек, сопровождаемый сильным удушливым запахом серы.
— Смотри сюда! — толкнула старуха Галю, наклоняя ее голову над ведром воды и опуская на дно его драгоценное кольцо. — Смотри туда! Видишь ли что-нибудь?
Вся дрожа и замирая, нагнулась Галя над ведром… Какие-то темные тени при мерцающем пламени шевелились на дне.
— Что видишь там? — спросила старуха, подбрасывая какие-то травы на разгоревшиеся угли.
— Словно темные тучи бродят кругом.
— Тучи…тучи… — повторила старуха. — И над твоей молодой жизнью темная хмара висит. Так ли я говорю? — устремила она на Галю свой мертвый неподвижный глаз.
— Так…так… — ответила Галя.
— Смотри, смотри, видишь ли его в кольце? — шептала, сжимая Гале руку и наклоняясь вместе с ней над ведром.
— Не вижу ничего.
— Не любит, не любит тебя твой коханец, разлюбил, променял на другую! — крикнула резко старуха. — А теперь гляди, не видишь ли кого за кольцом? Смотри, вот!! — указала она костлявым пальцем в темную сторону ведра.
И Гале показалось, как светлый колеблющийся кружок расплывается вдруг в два силуэта. Вот ясно вырезались две головы. А старуха все сжимает ее руку больней и больней, и Галя слышит над собой ее теплое прерывистое дыхание. Вот образ становится яснее и яснее, вот отчетливо обрисовалась мужская голова в высокой бобровой шапке, светлыми усами и приветливым взглядом голубых глаз.
— Он, он! — крикнула Галя, стискивая руки старухе и не отрывая расширившихся глаз от колеблющегося изображения.
— Смотри, смотри! Кто другая? — шептала прерывисто старуха, почти наваливаясь всей тяжестью на Галю.
И вот другой образ заколебался в освещенном месте воды. Вот выделилась на голове черная повязка, вот спустилась белокурая коса. Изображение приблизилось к силуэту в бобровой шапке, и вдруг на Галю глянули насмешливо из воды светлые выпуклые глаза Богданы.
— Она! Она! — закричала Галя, хватаясь обеими руками за сердце, и отбросилась от ведра.
Изображения заколебались, слились и исчезли в сколыхнувшейся темной воде… Старуха подняла с лица встрепанные волосы и вытерла рукавом пот, выступивший на лбу, и, схватив руку Гали, заговорила быстро и прерывисто, рассматривая линии на ладони:
— Не любит тебя твой милый… разлюбил… Нашел другую… Богатую, пышную, красивую… Смеется с ней над тобой!
— Титочко, титочко, да нет ли силы, чтобы вернуть его назад?! — вскрикнула со слезами Галя, чувствуя, как сердце разрывается у нее в груди.
Старуха взглянула внимательно на извилистые разбегающиеся линии маленькой ладони.
— Нет ни на небе, ни на земле! Ваши пути разошлись, как две реки, не слиться им никогда; разделила их сырая земля. А ты, дивчино, не убивайся! — продолжала она дальше, — Есть другое счастье у тебя. Отворачиваешься, а оно само к тебе льнет. Гей, не гони его, будешь счастлива, будешь вродлыва, будешь в золоте ходить!
Как в столбняке стояла Галя, не слыша ничего: ей очи жег насмешливый взгляд светлых выпуклых глаз Богданы, в голове вертелись одни и те же слова: разлюбил, полюбил другую, смеется над тобой! Между тем цыганка, бросив в ведро все снятые с Гали драгоценности, зашептала поспешно какие-то непонятные слова, поводя руками над водой.
— Тьпфу, тьпфу! — плюнула она трижды в ведро. — На перекресток пойду, всю нечистую силу соберу, на золото посзываю, в землю закопаю, все лихо соберу. Теперь плюнь, отвернись! На золото не дивись! — повернула она Галю спиной. — Не жалей, не смей! Как его вода покрывает, так на твоем горе счастье засияет! Згинь!! — крикнула она вдруг диким голосом. Послышался стук, плеск воды, сильное шипенье, и комнату покрыл непроницаемый мрак. Снова костлявая рука ухватила Галю за плечо и повела ее в темноте, толкая через порог. Но ни страха, ни сожаления о потерянных драгоценностях не испытывала Галя; она шла машинально, словно не сознавала ничего. Вот они вышли в сени. Старуха щелкнула задвижкой и вытолкнула Галю на двор. Свежий холодный воздух ударил Гале в голову и отчасти привел ее в себя. Она оглянулась, перед ней на дверях покосившейся избушки стояла седая старушка в красном платье с грязным желтым платком на голове. Галя взглянула кругом, не понимая, что ж это было с нею. Кто говорил с ней, что говорил ей? Кто? Когда? Словно какой-то кошмар угнетал ее голову. Но старуха не дала Гале опомниться.
— Беги, беги, — зашептала она зловещим голосом, вытягивая вперед костлявые руки, — не оглядывайся, беги!
И Галя побежала. Она бежала и бежала кривой подгорной уличкой, как будто за ней гнался целый рой безобразных теней. Вот снова замок. Как мрачно, как грозно уселся он на вершине этой белой горы. «Вартуй!»— раздается протяжно наверху. «Вартуй!»— отвечает задавленный глухой голос с нижней минской стены. Ух! Страшно, кругом ни души… Какие-то мрачные тени догоняют ее… Галя выбежала на средину Житнего торга и остановилась на мгновенье, чтобы перевести дух. Куда ей идти теперь? Что делать? Мучительная тоска сжала ей сердце, и Галя почувствовала отчетливо и ясно, что ей некуда больше идти и нечего делать.
— Не любит, разлюбил!.. Боже мой, разлюбил! — всплеснула она руками, прислоняясь к стене. — Что же теперь? Домой идти? Ах, нет, нет! — заметалась она тоскливо. — Дома Ходыка ждет, венчаться с ним, целовать его, обнимать всю жизнь, всю жизнь все вместе с ним! Ох боже мой, боже мой, не хватит силы! Да лучше ж умереть, лучше душу свою загубить! Не любит, разлюбил, смеется с нею над тобой! Смеется?.. Смеется с нею надо мной, — медленно повторила Галя, вытягивая вперед голову и как бы упиваясь мучительным ужасом этих слов. — Так не будет же этого, не будет! — сжала она руки и даже жилы надулись у ней на лбу.
Она двинулась быстро вперед… Вдруг за поворотом улицы, словно из-под земли, выросла перед ней высокая фигура в красном, как огонь, суконном плаще. «Он, он, червоный дьявол!»— пронеслось, как молния, в ее голове.
— Ай! — вскрикнула Галя как безумная и отшатнулась к забору, окаменев от ужаса; красная фигура заступила ей путь. — Проби! Чур меня! — закричала Галя, вытягивая вперед руки, как бы стараясь защитить себя. Сердце у нее немело… леденел мозг… Она закрыла руками глаза.
— Чего ж так испугалась? — раздался подле нее насмешливый голос.
— Чур! Чур! Да воскреснет бог… — шептала побелевшими губами обезумевшая от ужаса Галя.
— Али я страшен так стал? — прозвучал ближе знакомый, дорогой голос.
Галя отняла от лица руки и, не веря своим ушам, подняла изумленные глаза: перед ней стоял Мартын Славута. Так, ее не могли обмануть зоркие глаза. А может быть, дьявол принял его образ, чтобы обмануть, завлечь ее? Галя со страхом попятилась назад, повторяя:
— Чур меня, не подходи!
— Да не бойтесь так, пани! — раздался еще более насмешливый, еще более едкий ответ — Не тронем! Да и нужды в том большой нет
Галя взглянула еще раз на Мартына: не было сомненья, это был он; только какой злобой, какой насмешкой было искажено теперь это милое, дорогое лицо. Суеверный страх отошел, но зато у нее дрогнуло сердце от боли.
«И нужды в том большой нет», — повторила она про себя, горькая обида вспыхнула в ней.
— Что ж? Это, быть может, к ворожее ходили? Чар искали, чтобы Ходыку причаровать? — продолжал Мартын, закручивая свой светлый ус.
Яркая краска залила все лицо Гали: знает, может, догадался, смеяться будет.
— Ходила! — ответила она, закидывая голову и обжигая огнем гневных глаз. — А чар мне искать не надо: любит и без чар!
— Помогай бог, помогай! — приподнял плечи Мартын. — Только не знаю, как это? Сладко ли его в синие губы целовать, его костяк обнимать?!
— Сладко! Сладко! — вскрикнула Галя, закусывая губу. — Потому что люблю его!
— Любишь? — протянул Мартын, и глаза его потемнели. — Что ж, хрустнул он пальцами, — у кого какой смак… Кому и дохлый кот краше сокола! Так…
Галя молчала.
В это время в небольшое окошечко, проделанное в фортке ворот пана цехмейстра, выглянули две женские головы в белых намитках.
— Она, она, ей-богу, она! — зашептал один голос.
— Кто ж с ней другой?
— Погоди, не видно его, а вот… Ой!
— Ой! — вскрикнула другая голова, отрываясь от окошечка. — Он, он, червоный дьявол! Так и есть!
С шумом захлопнулась деревянная ставенка, и головы скрылись за ней.
Но ни Галя, ни Мартын не заметили этого шума. Они приближались к дому войта.
— Что ж, — спросил снова Мартын после некоторой паузы, — и пойдешь за него?
— Пойду! — взглянула ему Галя прямо в глаза, и уверенная дерзкая улыбка исказила ее лицо.
— Печалиться не будем! — усмехнулся ядовито Мартын.
— Бурмистершей буду! В золоте, в аксамите буду ходить! — говорила Галя, захлебываясь и чувствуя, как ее нижняя челюсть начинает непослушно прыгать, а горло давит спазма и мешает ей говорить, мешает дышать…
— За золото продаешь свои поцелуи? Гаразд! — передернул Мартын плечом, останавливаясь у калитки войтовых ворот. — Прощай же, дивчино, только помни, — голос его звучал мрачно и глухо, — что и через золото слезы льются!..
Галя стояла перед ним, бледная, как мраморная. Черная повязка, унизанная бриллиантами, тускло горела при звездном сиянье на ее голове. Глаза карие, расширившиеся от волнения, казались совершенно черными.
— Не польются! Не польются! — выкрикнула она, и вдруг неожиданное рыданье прервало ее слова.
— Чего ж ты плачешь? — остановил ее Мартын.
— Потому, что люблю тебя! — вырвалось неожиданно у Гали, и она бросилась, шатаясь, во двор; но в это время чьи-то сильные, крепкие руки охватили ее за талию.
— Пусти!! — закричала Галя.
— Нет, уж теперь не пущу ни за что, на всю жизнь! — шептал над нею задыхающимся голосом Мартын, прижимая к себе ее темноволосую головку, покрывая поцелуями ее волосы, ее вздрагивающие плечики и мокрые глаза. — Любишь, любишь, счастье мое, радость моя, зирочка моя! — повторял он бессвязно, прижимая к себе ее тоненькую фигурку и снова целуя мокрые глазки, и плечи, и волосы.
Галя судорожно, нервно рыдала у него на груди…
Вдруг у самых ворот раздались шаги войта. Словно мышонок, юркнула Галя и скрылась в комнатку. Мартын передвинул на голове шапку и, вздохнувши широкой грудью, остался так, как и стоял. «Попробую еще счастья», — решил он.
Сердитый шел войт, постукивая палкой, не подымая седой головы. Вдруг перед самыми воротами выросла перед ним снова красная фигура Мартына.
— Опять ты здесь? — остановился войт. — Чего ходишь по ночам, чего срамишь мой дом? — стучал он палкой. — Да если б не память о твоем отце, за одни те слова, что ты пану цехмейстру сказал, давно б уже упрятал я тебя! А теперь в последний раз говорю, коли ты мне еще раз попадешься здесь, в вязницу запру!
— Пане войте, батечку родной! — сбросил Мартын шапку, кланяясь войту до самой земли. — Не губите вы нас! Отдайте мне Галю!
— Молчать! — закричал запальчиво войт. — Чтоб ни слова не слыхал я больше о том! Завтра приезжает Ходыка — завтра Галя к венцу идет!
И сердитый войт с силой хлопнул дубовой форткой и щелкнул перед опешившим Мартыном железным болтом.
— Гм, — развел руками Мартын, толкнувши дубовую фортку и убедившись, что теперь уже никаким чином пробраться в войтов двор нельзя.
Что же делать теперь? Несколько минут Мартын стоял неподвижно, не зная, что предпринять. Наконец досадный, гневный крик вырвался у него из груди.
— А! — бросил он с силою шапку оземь, — Надо же что- нибудь выдумать, черт побери! — И большими широкими шагами он сердито зашагал вниз по Боричеву току. — Поставить разве Ивану Воину догорыдрыгом свечку? — остановился он на мгновенье, и глаза его загорелись злой радостью. — Он, он всегда послушает! Так этого проклятого глыстюка и скорчит, правцем поставит! Да так ему и след!.. Только нет, — махнул рукою Мартын и снова зашагал вперед, — плохая надежда! Ведь Ходыка такая пролаза: уж если он и судей трибунальских и задворных кругом пальца обернул, уж если он саксон и свернет и вывернет, много ли ему нужно, чтоб Ивана Воина провести? Не одну, пожалуй, свечу ставил ему! А тут и медлить нельзя, надо так что ни на есть, а придумать за нынешнюю ночь! Завтра тот рыжий глыстюк приедет, а послезавтрого и последний день, там заговены и масленая. А! — ударил он себя рукою по лбу. — Что ж тут делать, что ж тут делать? Только отдать ему эту дорогую головку? Ни за что!
Щеки Мартына вспыхнули, вот всего десять минут тому назад лежала она у него здесь на груди; прижимал он к себе ее детскую фигурку, целовал мокрые оченята, слушал любую розмову… И чтоб это было в последний раз? Чтобы он, Мартын Славута, уступил ее тому глыстюку?
— Не бывать тому, не бывать! — крикнул вслух Мартын, останавливаясь среди улицы и не замечая, как при его появлении двое запоздалых горожан из числа шинковых обывателей бросились было бежать, да так и растянулись у цехмейстровых ворот.
Мартын повернул на ратушную площадь, миновал ратушу, миновал новую каменную Богоявленскую церковь и пошел совсем машинально, не глядя куда, по довольно широкой улице, ведущей прямо к Днепру. Раз…два…три… прозвучал за ним двадцать один удар с замковой башни, но Мартын не слыхал их.
«Что бы тут сделать, что бы сделать? — повторял он с отчаянием, теребя свой светлый ус. — Убить, что ли, собаку?» За этим бы дело не стало, да какая от того ему, Мартыну, польза? Ведь велят и его «ничим не уводячись, на горло скарать». «Эх, — сжал он кулаки, — увезти ее, что ли, да как увезти и куда? Приписаться к чужому городу? Пропадут все старожитни маетки и права. Да и не гораздо это дело затевать: подражать что ли буйной шляхте?»
И так как никаких выводов больше не имелось в виду, Мартын поднял уже было глаза к небу, как вдруг взгляд его заметил налево высокий дом, всего двумя окнами выходящий на улицу. Над одностворчатой дверью болтались на палке бутылка и пучок соломы; из-под прикрытой плотно оконницы пробивался едва заметной полоской бледный свет. Мартын толкнул дверь ногою с такой силой, что она с грохотом соскочила с задвижек и распахнулась перед ним.
— Ой вей! — раздался испуганный крик, и высокий худой жид с длинной седой бородой и такими же седыми пейсами упал всем своим туловищем на прилавок.
Мартын остановился на пороге. Большую комнату теперь пустого шинка слабо освещала тонкая лучина, горевшая на прилавке. Деревянные столы и лавки были теперь придвинуты к стене. Из-под распростертого туловища Лейзара выкатилось несколько синих свертков, из которых кое-где высовывались блестящие золотые червонцы. Лейзар глядел на Mapтына расширившимися неподвижными глазами; на его помертвевшем лице выступил пот, зубы выбивали дробь, губы дрожали, но ни одного звука не слетало с них.
— Да что ты, Лейзар, с ума что ли спятил? Или думаешь, что я хочу ограбить тебя?! — крикнул сердито Мартын, стоя еще на пороге.
— Ой вей! — заговорил было Лейзар, но губы и зубы его так дрожали, что он не смог окончить и слова.
Мартын перешагнул порог и закрыл дверь.
Увидя эти движения, жид судорожным жестом ухватился руками за прилавок, прижимаясь еще больше к червонцам, и закричал, сколько мог громко, отчаянным, удушливым голосом:
— Гвулт! Вейз мир!
— Да очумел ты, что ли, Лейзар, или не узнаешь меня? — крикнул уже совсем сердито Мартын и тяжело опустился на соседний стул. — Вина мне! — выкрикнул он.
Голова его свесилась на руки. Тяжелые думы не оставляли, и надежды не виделось впереди. Плащ и капюшон свалились с него и скатились на пол.
— Ой вейз мир! — ударил себя рукою по голове Лейзар, подходя к Мартыну. — Да что это со мною сталось? Это ж шановный пан Славута, а я думал что… — жид понизил голос и, оглядев подозрительно комнату, добавил, — что он червоный дьявол!
— Ух, да и хотел же б я на этот раз дьяволом быть! — стукнул Мартын кулаком по столу.
— А что там такое? — заинтересовался Лейзар, наклоняя свою голову к самому Мартыну, так что его седые пейсы коснулись самого стола.
— А такое, — сверкнул Мартын глазами, закусывая губу, — что или себя убью, или весь Киев сожгу!
— Фуй! — отпрыгнул Лейзар, прижимая растопыренные руки к груди. — Можно ли такие страшные слова говорить?
— Не то что говорить, а и делать, когда заступают свет! — крикнул Мартын, сжимая голову руками. — Давай меду, вина, отравы дай!
— Зачем отравы? — заговорил жид неспешно, пожимая руками, — Меду и вина можно, а отравы… фе!
Перед Мартыном появились две высокие кружки. Мартын опрокинул одну из них и залпом осушил до дна.
— Мало, — подал он жиду кружку, — огню дай, чтоб сжечь здесь все! — ударил он себя кулаком в грудь.
— Огню? Боже сохрани! Я и то боюсь, как бы не видно было света на улицу, а то как заметят бурмистры свет такой поздней порой, сейчас с меня штраф заберут! А может быть, пан Мартын с ласки своей скажет мне, что с ним сталось? — заговорил он мягким, вкрадчивым голосом. — Лейзар старый жид, Лейзар пана еще маленьким знает, Лейзар пана любит, Лейзар все знает и всему сумеет помочь!
— Ты сможешь помочь? — поднял на него глаза Мартын. — Да если б ты смог мне помочь, золотом бы засыпал тебя!
— Ух! — вздохнул жид, и глаза его загорелись. — Зачем осыпать, я с пана так много не возьму, зачем? Маленький даруночек, а Лейзар всегда рад пану услужить.
— Так слушай же, — начал Мартын, — э, да что так говорить! — вскрикнул он снова с приливом досады. — Тут поможет только бог или черт!
— Говори, говори, ясный пан, — замотал головою Лейзар, предчувствуя головоломную задачу, — у Лейзара не пусто в голове!
Мартын взглянул на воодушевившееся, разгоревшееся лицо жида и начал тихо шептать, пересыпая свою речь проклятиями.
— Ходыка?! — вскрикнул радостно Лейзар, прижимая палец ко рту, и перед его глазами встали сразу арендные шинки и лавки, перебитые у него Ходыкою, деньги, раздаваемые им на проценты… Теперь желание Лейзара помочь Мартыну против Ходыки сделалось еще горячее. — Можно, можно, — зашептал он с воодушевлением, кивая одобрительно головой, так что длинные седые пейсы его заболтались над столом.
— Да ведь завтра же брат его, Федор, в город въезжает, а послезавтра войт назначил и венец.
— Пс…пс…пс… — зачмокал Лейзар губами. — А откуда он едет?
— Да везет товары войтовы из Цареграда. Уже из Ржищева выехал, завтра в Киев въедет.
— Через мытницу проезжает? — спросил лихорадочно Лейзар, впиваясь глазами в Мартына.
Мартын кивнул утвердительно головой.
— И войт воеводу не терпит? — продолжал Лейзар с замиранием, приближая свое лицо еще ближе к Мартыну.
— Для того, чтоб дойти воеводу, и дочку за Ходыку отдает.
— А! — отпрыгнул Лейзар, ударяя себя по лбу. — Есть, есть! Нашел! Слушай, пан, слушай сюда! Нет ли у тебя какой-либо драгоценной штуки? Ведь ты из цеха золотарей.
— Есть! Такая, что весь Киев удивит.
— Тем барзей, тем барзей. Воевода изнывает по молодой княгине Крашковской; глаза его уже потухли, так, может, диаманты им блеска наддадут.
И Лейзар заговорил страстным, торопливым шепотом, кивая головой, вытягивая руки и шею с такой быстротой, точно он боялся, что блестящая, осенившая его сразу мысль исчезнет, улетучится, не найдя себе подходящих слов.
И по мере того, как шептал Лейзар, лицо Мартына светлело все больше, юношеский задор загорался в глазах.
— Лейзар! — вскрикнул он наконец с восторгом, отступая на шаг от жида. — Да ты не человек — ты черт!
Однако приветствие не вполне понравилось Лейзару.
— Фуй! — скривился он и бросил подозрительный взгляд на лежавший на полу красный плащ. — И зачем против ночи такое говорить? Да и времени терять не надо: скоро ударит двадцать два часа.
— Все это хорошо, Лейзар, — спохватился Мартын, — да как я проберусь туда? Скажем, подле Воеводской брамы мийская сторожа стоит, можно было б подкупить! Да от меня в этом червоном плаще всякий дурень, словно черт от ладана, бежит!
— В том-то и суть, в том-то и суть! — вскрикнул с новым приливом энергии Лейзар. — Не надо будет и денег терять! — И, увлекая за собою Мартына в самый темный угол, Лейзар зашептал снова так же страстно, так же торопливо, сильно жестикулируя руками.
Через четверть часа из дома Лейзара осторожно выскользнула высокая и статная фигура в красном, как огонь, плаще и в таком же капюшоне на голове. Из-под капюшона торчали в сторону два возвышения, а лицо было совсем закрыто широким плащом.
Фигура выскользнула незаметно, держа под полой небольшой потайной фонарь, и отправилась скорым шагом по направлению ратушной площади и Житнего торга. На улицах уже не было ни души. На больших замковых часах ударило двадцать два удара.
— Ого-го, — проговорил сам себе Мартын, — до полночи всего два часа.
Пройдя ратушную площадь и Житний торг, Мартын подошел к тому месту Замковой горы, где вились вырубленные во льду ступени, ведущие к Воеводской браме. У подножья горы тянулась уличка, за нею шел земляной вал, крепкий деревянный острог, а за ним ров и за рвом подымалась круто и обрывисто Щекавица-гора. Вершина ее покрыта была густой рощей, а снежные глыбы покрывали все бока. Воеводская брама с шестиугольной высокой башней подымалась прямо против Щекавицы. Замок теперь при слабом свете звезд казался какой-то черной громадой, возвышавшейся на вершине снежной горы. Осторожно начал подыматься Мартын вверх по ледяным ступеням. Поднявшись на половину горы, он остановился на несколько мгновений, чтоб перевести дух, и глянул вниз.
Еще не добравшись до половины горы, Мартын уже стоял на довольно значительной высоте. Там внизу, у ног его, разбросился тесными кривыми уличками город. Красные черепичные и гонтовые кровли высоких домов подымаются близко-близко одна подле другой. Между ними то там, то сям встают купола церквей. Тусклый звездный блеск отразился кое-где на них. А вот налево и серые острые шпили доминиканского монастыря. Вон городской вал, вон и Мийская брама — видно, как греется подле нее у костра группа сторожевых. А там направо гора за горой, снежные, высокие, словно ледяным кольцом охватили город до самого Днепра… И белой, тускло сверкающей полосой разлился широкий, неподвижный Днепр у подножья миста Подола и, извиваясь, припал к гористым берегам. «Вартуй!»— донеслось едва слышно с Мийской брамы. «Вартуй!»— ответил глухо голос вверху над головой. Мартын вздохнул еще раз прохладным и свежим воздухом и двинулся вперед… Вот над ним уже ясно обрисовались стены замковые, высокие, совитые,[22] разделенные на множество городень.[23] Каждая городская семья обязана была на свой счет выстроить и поддерживать известную часть крепостной стены; за это она получала право пристроить к своему участку с внутренней стороны комору, куда семья и прятала свое добро во время осад и нападений. Пятнадцать высоких шестиугольных башен подымается на них. Глубокий ров окружает городские стены; по стене мерным шагом двигается то там, то сям вартовой. Осторожно пробирался Мартын, почти совсем пригнувшись к земле, к Воеводской браме.
«А что, как подъемный мост поднят? — задавал он себе все время тревоживший его вопрос. — Не должно быть, время спокойное, татар не слыхать, да там всегда стоит неусыпная сторожа. Ну, а что, как вдруг?»
Мартын даже остановился от такой ужасной мысли. Однако медлить было некогда! Добравшись до самой вершины горы, Мартын пополз вдоль рва, приближаясь к Воеводской браме. Не доходя шагов пятьдесят до нее, он приподнялся и выглянул: отсюда должен был быть виден подъемный мост. Радость охватила его: прямо со второго этажа шестиугольной Воеводской брамы спускались из темных амбразур тяжелые железные цепи на ту сторону рва.
Между тем у подъемных ворот, в небольшой сторожке под сводами башни, собралась вокруг пана Лоя, замкового хорунжего, группка вартовых. Низенький и толстенький пан Лой сидел на деревянной скамейке. Несмотря на то, что все его потешное тело, казалось, состояло из одного лишь необъятного живота, помещенного на коротеньких ножках, с круглой пробкой вместо головы, пан Лой всегда имел важную степенную осанку, особенно когда говорил со своими подчиненными. Вартовые стояли вокруг него.
— И это вы сами видели? — допрашивал их пан Лой с презрительной улыбкой на круглом, лоснящемся лице.
— А как же, да пан и сам выбежал на площадь тогда…
— Гм, — махнул рукой пан Лой, — когда же я выбежал? Поздно! Он-то, завидя меня, и пустился во все лопатки, поджавши хвост. Так что и след простыл… Если б я был с вами в ту пору, когда он на мост влетел, ему бы от меня не уйти ни за что, хоть бы он сидел верхом на ведьме! А почему вы не ловили его?
— Куда его ловить? Сам пан видел — Степан тронул был его за стремя, да замертво и гепнул.
— А почему гепнул? Га? — прикрикнул пан Лой. — Потому что неучи, гречкосеи вы, вот что! Разве кто так к черту просто подходит? Ты попробуй простого быка за ногу взять, так и тот тебя рогом боднет! А ты черта рукой хотел поймать! Тьфу только! — сплюнул он в сторону. — И больше ничего! Вот я уж поздно на площадь прибежал, — продолжал пан Лой, прикладываясь к походной фляжке, висевшей у него у пояса, — а видали ль вы, как я бросился его догонять?! — обвел он присутствующих победоносным взором, приподнимая плечи и выпячивая вперед грудь.
И хотя вартовые прекрасно помнили, как пан Лой скрылся поспешно в соседнем доме, но слова его были произнесены таким уверенным тоном, что им и вправду показалось, что они, вероятно, ошиблись, и это был не пан Лой, а кто-нибудь другой.
— То-то, — продолжал пан Лой, насладившись эффектом своих слов, — и не будь я пан Лой, из славного герба Свичек, когда бы этот самый дьявол не был у меня в руках, если б я, на несчастье, не забыл дома одной штучки. Да! А все потому, что вы трусы, а не войсковые люди, да и не знаете ничего! Слушайте ж: первое против них средство вот что, — поднял он эфес своей сабли, образовывавший крест, — второе — заговорная молитва, а третье… — тут пан Лой замялся и затем прибавил таинственным голосом — Третьего никому нельзя рассказать! Мне его один колдун передал и страшное на него заклятие наложил. Да! А вы думаете, мало я на своем веку ведьм переловил? Ого-го-го! — потер он себе с удовольствием руки, следя за испуганными и заинтересованными лицами своих слушателей. — Некоторые, помоложе, даже игрывали со мной, — подморгнул он бровью и поправил свой щетинистый короткий ус. — Потому им, бедняжкам, тоже ведь опротивеет все со своими черномазыми панычами возиться, а я был, надо вам сказать, панове, и удальцом, и красавцем первой руки! И-и! Женщины млели! Не одна панна из-за меня прогулялась на тот свет, н-да! — оглянулся он, подбоченившись и сдвинувши шапку набекрень.
Слушатели бросили сомнительный взгляд на круглые очертания пана Лоя, но слова были произнесены так уверенно, что они согласились и с этим.
— Так-то! А вспомнилась мне одна история, — уперся он левой рукой в колено и, приложившись к фляжке, отер усы рукавом. — Славная это была штука! Другой, быть может, на моем месте от страха б с места не сошел, а я… Да вот слушайте! — Пан Лой подвинулся на лаве, вздохнул широко, при чем всколебнулся весь его обширный живот, расправил усы, откашлялся и начал — Было это под Смоленском… Обложили мы его… Скука, тоска смертная в стане! Битв больших нет… а так только, морим город. Вот затеяли мы пирушку… И попировали так-таки до петухов… А мне домой через лес дорога… Иду я, в голове немножко постукивает, а в сердце тоска… Хоть бы, думаю, черт какую ведьму послал или сам попался мне для охоты… И только я это, панове, подумал, как вдруг передо мной она и есть! Молоденькая это такая, хорошенькая, что твоя панна… Улыбается мне, пальцем манит. Я за ней, а она в чащу… Я за ней туда, а она еще дальше, дразнит меня! Лечу я по оврагам, по проваллям, через пни перескакиваю, а она то выглянет, то опять спрячется… Только я это изловчился, прыгнул с разбегу да и ухватил ее… Что ж бы вы думали? На ровном месте споткнулся и сорвался в какой-то овраг… Лечу… держу крепко ведьму, а меня что-то колотит да колотит… Скатился на дно… а оно меня как урежет по башке, аж искры посыпались… Я глядь — а это я не ведьму, а какое-то бревно сучковатое держу… Перекинулась шельма!.. А то раз я с чертом в карты играл… Выдумали занимательную игру, прозвали ее дьябелкой… Сатана не так и страшен, как его малюют, он не так и хитер… Всегда в человеческом виде ходит, только рукавички на руках… Да вот, в каком виде был тот, кого ты первый увидал?
— Так вот, как и мы, — заговорил неохотно самый молодой из сторожей, — только плащ на нем огненный, как жар, в глазах искры вспыхивают, у коня огонь из ноздрей валит.
Тихий шум, раздавшийся у входа, прервал его слова.
Глаза пана Лоя сделались сразу круглыми, как у совы, багровые щеки побледнели, взор стал неподвижен.
— Слышали? — спросил он.
— Слышали! — послышался тихий ответ.
Несколько минут продолжалась полная тишина.
— Гм, — откашлялся наконец громко пан Лой, поправляясь на лавке, — верно, собака шляется, их тут… — но пан Лой не договорил: на деревянном мосту явственно раздался звук тяжелых шагов.
— Шаги! — едва выговорил дрожащим, голосом молодой вартовой.
Шаги раздались еще явственнее, но на мосту не было видно никого.
— Идет! — прошептал другой, хватаясь за мушкет.
— Ок… ок… ликни… — едва смог выговорить пан Лой.
— Кто идет? — крикнул несмело молодой вартовой.
Ответа не последовало.
— Гасло! — крикнул громко другой.
И вдруг среди полной тишины послышалось явственно и громко: «Червоный дьявол!»— и красная, как огонь, фигура выросла в башенных воротах.
Не крик, а какой-то сдавленный вопль огласил своды. И, словно рассыпавшиеся клубки, бросились все бежать. Пан Лой так и брыкнул оземь: ужас, охвативший его, окаменил его коротенькие ножки, и пан Лой покатился тут же под ноги своих вартовых. Два из них споткнулись на тучное тело пана хорунжего и упали сверху, остальные запутались в куче и растянулись тут же. Тяжелая дубовая скамья, освободившись от своей тяжести, высоко поднялась в воздух и с грохотом полетела на сбившихся распластанных людей.
Красная фигура беспрепятственно прошла под башенными сводами и вступила на замковый двор.
В замке все уже было тихо и спокойно. С внутренней стороны стены тянулся ряд пристроек; у каждой городни особая комора, куда на случай осады строившие ее горожане имели право прятать свои пожитки.
Это был совершенно особый маленький городок. Направо и налево тянулись конюшни и склады оружия и пороха. Пана воеводу Мартын знал отчасти и в замке бывал часто, так что отыскать дорогу к воеводскому будынку оказалось для него нетрудным. Все еще не спуская с головы красного капюшона, двинулся он вперед. Вот он минул длинный сарай — шопу, где стояли дила;[24] вот лазни,[25] клети, пекарни; Мартын минул и их и вышел на самую середину замковой площади. Здесь в большом беспорядке теснилось множество маленьких десятичных домиков. Вот направо возвышается славный каменный дом Печерского Монастыря, а недалеко подле него дом богатых земян Горностаевых; вон где и знакомые церкви с зелеными куполами и золотыми крестами наверху, а вон где, в конце замка, почти подле самой Драбской брамы, виднеется шпиль костела. Наконец Мартын остановился перед самым большим и богатым домом, домом пана подвоеводия киевского.
Среди дома выдвигалось просторное и высокое крыльцо. Дом был белый, каменный, с красной черепичной крышей. Большие окна закрыты были расписными оконницами, но из-под двух из них смело и дерзко выглядывали яркие полосы света, как бы говоря всем проходящим, что в этом вышнем городе власти войта конец. Мартын вошел на крыльцо и, вступивши в сени, повернул налево. Дверь не была заперта; осторожно отворил ее Мартын и вошел в светлицу.
В светлице было темно, только из полуоткрытой двери в соседнюю комнату широкой полосой падал свет и освещал часть светлицы. Мартын заметил мимоходом богатое убранство и дорогие ковры. Поспешно прошел Мартын дальше и остановился в нерешительности на пороге. Пан воевода не заметил его. Он сидел за большим столом, покрытым темным ковром, в высоком кожаном кресле. На столе в неуклюжих медных шандалах горели желтые восковые свечи и освещали большую пожелтевшую книгу, раскрытую перед воеводой, и его склоненное лицо. В волосах воеводы, щеголевато завитых и надушенных, просвечивала седина, тщательно закрашиваемая его парикмахером; на желтых дряблых щеках лежал слой нежного румянца, усы были нафабрены, подкручены и накрашены. Вообще все лицо воеводы представляло довольно жалкое и комичное соединение изнеженной, изношенной старости и нежных юношеских цветов. На пухлом, холеном теле его красовался аксамитный домашний кафтанчик на дорогом меху; ноги тонули в медвежьей шкуре. Пан воевода был до такой степени увлечен своим чтеньем, что решительно не слыхал шума, произведенного приходом Мартына. Да и было чем увлечься! Несмотря на седые пряди, пробивавшиеся среди подкрашенных кудрей воеводы, сердце его ни за что не хотело остывать, а так как пан воевода был вдов по второй жене, то ему захотелось испытать и в третий раз семейного счастья, и услужливый амур, как на зло, подсунул под его потухающие очи молодую вдовушку, пышную, как спелая вишня, — княгиню Крашковскую. «Все бы ничего, и княгиня была б без особых трудов весьма благосклонна, если б не особая старость, которая так вот и повисла здесь на карку, — ударил себя воевода по затылку. — Эх, если бы хоть десяток с плеч! Не хизувалась бы она! Сама б ползала у подвоеводских ног!» Однако на всякий замок можно и отвертку отыскать. Так и теперь, перед паном воеводой лежала не простая книга, а учебник волшебства, в котором собраны были все заговоры, камни и травы, которыми можно было и очаровать, и околдовать, и главное, чего и искал пан подвоеводий киевский, молодость возвратить. Книгу эту за большую цену купил пан подвоевода у приезжего московского чародея и теперь упивался ею в ночной тишине.
— «Приворот зелье: кукоос, одоен, — читал он, — кто тебя не любит, то дай пить — не сможет от тебя до смерти отстать…» Не то, не то! — перевернул воевода желтую тяжелую страницу. — «Орлов камень — бог дал ему дивные угодья такие, что несведущим людям нельзя про него и веры взять». Хорошо бы и этот камень достать, да только это еще не то, не то, — и пан воевода жадно читал дальше: — «Трава излюдин, кто ту траву ест, и тот человек живучи никакой скорби ни телу, ни сердцу не узрит!» Да нет, не то. Вот, вот оно, — почти вскрикнул воевода, нагибаясь над книгой, — «рог единорога, кто тот рог при себе имеет…»
Вдруг короткий кашель, раздавшийся на пороге, прервал мысли подвоеводы. Он оглянулся и вскрикнул: на пороге стоял Мартын в красном, как огонь, плаще.
— Кто ты? Чего тебе? — вскрикнул подвоевода, подымаясь и придерживаясь дрожащей рукой за кресло.
— Простите, вельможный пане, не тревожьтесь: это я, мастер, из цеха золотарей, Мартын Славута.
Но пан подвоеводный еще не вполне доверял своим ушам и глазам.
— Откуда ты такой поздней порой? — проговорил он с усилием, вспоминая невольно рассказы о червоном дьяволе, всполошившие весь гарнизон.
— Только что прибыл из-за границы; хотел вам, пане княже, из своего рукомесла маленький подарочек поднести, — низко поклонился Мартын и, вынувши драгоценный бархатный ящик, раскрыл его и поставил перед подвоеводой.
— Фу ты, какая краса! — невольно вскрикнул тот, забывая все опасения перед чудом красоты, раскрывшимся перед ним.
На красном бархате лежало золотое ожерелье, да такое красивое и роскошное, какого пан подвоеводный никогда не видал. Все ожерелье состояло из небольших, дивно изукрашенных золотых пластинок, сделанных в виде гербов; посреди каждой блестел бриллиант, а на тонкой золотой цепочке спускалась от каждого герба большая жемчужина.
— Фу ты, какая краса! — повторил с новым восторгом пан воевода, отстраняясь от ящика и поднося его к свечам.
Камни засверкали зелеными и алыми огнями. И перед глазами пана подвоеводия встала пышная шейка пани Крашковской, черные, как смоль, завитушки, вьющиеся на розовом затылке… О, что бы это было за восхитительное зрелище увидеть это ожерелье на ее пышной груди!
Пан подвоеводий даже зажмурил глаза, и губа его отвисла, и по лицу пробежало выражение необычайного блаженства.
— Да, против такой красоты не устоит никакая женская холодность, — усмехнулся он и затем, повернувшись к Мартыну, провел важно ро усам и произнес с большим достоинством, опускаясь неторопливо на стул. — Гм… вацпане, я вижу, что ты славный горожанин, даришь воеводу, не забываешь старовины… Меня это радует… да… И будь уверен, что если тебе будет в чем какая нужда, я также не забуду тебя. Только зачем ты ночью ходишь? Да и как мимо вартовых прошел?
— Вельможный пане, — поклонился Мартын пану подвоеводию в ноги, — если бы не было наглой потребы, не осмелился бы я двинуться к вам такой поздней порой.
— Да что ж там такое? Говори! — заинтересовался уже и воевода, разваливаясь в кресле.
— Вся надежда на вельможного пана воеводу! — вскрикнул Мартын.
Во время рассказа Мартына пан воевода улыбался все милостивее и милостивее. Вопрос оказывался весьма понятным его сгоравшему неразделенной страстью сердцу. Соперником являлся Ходыка, а насолить этому зазнавшемуся горожанину показалось воеводе весьма приятным. Когда же Мартын окончил, пан подвоеводий разразился грузным, раскатистым смехом.
— Ай да и молодец же ты, пан мастер! — весело вскрикнул он, ударяя Мартына по плечу. — Видно, что и в чужих землях побывал, и законы знаешь, да и хитер же ты, черт тебя знает как! Проучить шельму Ходыку мне на руку, — заговорил он уже степенно и важно, — да кстати и другим урок дать, чтобы повадки не было! Будь по-твоему! Вижу я, что умный ты человек, пригодишься мне и в другой раз. Я согласен. Только ж и губа у тебя, вацпане, не дура: красуня войтова дочка — видел сам.
— Хороша ли, дурна, — воскликнул оживший надеждою Мартын, — а для меня кращей во всем свете нет!
— То-то! — улыбнулся пан подвоевода, подмигивая бровью. — А скажи, на много ли будет товару? — переменил он сразу тон.
— Кто его знает, товар ценный: тысячи на три коп литовских грошей.
— Ну, так и быть! — поднялся пан подвоеводий, опираясь обеими руками о стол. — Сделаю уже для тебя. Положи мне тут же тысячу коп литовских грошей — и бери жолнеров, и делай как знаешь… Потому, видишь ли, нельзя же и замку мыта терять!
Велика была сумма, заломленная подвоеводием, но Мартын не обратил на это внимания.
— Ничего не пожалею, — вскрикнул он, растегивая кожаный пояс, — потому что, если не выгорит мое дело — мне все равно головой наложить! — И, встряхнувши поясом, он высыпал перед воеводием кучу золотых монет на стол.
Вечерело… В лесу, тянувшемся по горам и долинам, на далекое расстояние от Золотых ворот собирались уже сумерки. Капли воды, падавшие днем с деревьев, застывали теперь и опускались тонкими ледяными сосульками. Снег, рыхлый и весь точно исколотый, покрывался тонким блестящим слоем. После теплого дня наступал вечерний морозец.
По узкой и извилистой дороге, подымавшейся в гору, медленным шагом двигался обоз. Впереди обоза ехал верхом человек довольно высокого роста в темном мещанском платье. Фигура его была чрезвычайно худа и костлява, голова длинная, словно сдавленная, суживающаяся кверху, из-под меховой шапки выбивались рыжеватые волосы, брови же были совершенно черные, что ужасно резко и неприятно выделялось на бледном, густо покрытом веснушками лице. Его зеленоватые глаза быстро глядели по сторонам исподлобья. Бледные, бескровные губы дополняли неприятное впечатление этого лица. Всадник ехал медленно, да и обоз едва тянулся. Дорога узкая, мало уезженная, теперь совершенно испортилась; возы то и дело попадали в большие лужи или проваливались в разрыхлевший снег. Подле саней флегматично шагали шесть мужиков, одетых в серые свитки с такими же капюшонами, нахлобученными поверх шапок.
— Ну и дорога! — заметил один из них, поддерживая плечом сильно накренившийся воз. — Лошадей уходили совсем.
— Да тут уже недалеко, лес редеет, скоро конец ему, — ответил ехавший впереди всадник, — а там, за лесом, полем небольшой перегон и самые Золотые ворота.
— Да, Золотые ворота, а от ворот-то от Золотых сколько еще до города! — хлестнул мужик недовольно лошадь.
— Да не очень-то и много, до мытницы версты две, полторы, а там под горой сейчас и город.
— Хоть бы чарку пропустить, а то окляли совсем!..
— Можно будет, можно, — повернулся к ним всадник, — там между старых Софиевских валов воевода слободу осадил и шинков наставил, там и мед, и горилка, и пиво, да еще дешевле, чем в самом мисте Подоле.
— Ну, это дело! — обрадовались мужики, похлопывая рукавицами. — Да когда б уже скорее на месте стать; вечереет и в лесу-то этом не совсем безопасно: зверю много бывает…
— Да вот и скоро опушка, — торопливо заговорил всадник, — нельзя ли, панове-товарищи, подогнать лошадей?
Погонщики закричали, замахали руками, и, напрягая последние усилия, двинулся обоз торопливо под гору.
Лес между тем все редел и редел. Наконец всадник ударил каблуками коня и через несколько минут остановился на опушке.
— Стойте, стойте! — закричал он погонщикам, оборачиваясь в седле и не выезжая из-за деревьев.
Перед ним расстилалось ровное, местами уже совсем черное поле; направо и налево тянулись овраги, обрывы и горы, покрытые лесами, а прямо подымались высокие земляные валы; они тянулись полукругом, круто закругляясь по сторонам. Среди валов возвышалась арка, сложенная из золоченых камней с тяжелыми массивными воротами посреди. На арке, над воротами, стояла небольшая часовня с куполом и крестом. Со стороны поля у ворот привязано было несколько лошадей, покрытых попонами; несколько душ польной сторожи расхаживало по валам, остальные сидели группкой у разложенного костра. За валами на фоне нежного неба виднелись силуэты каких-то белых высоких развалин, и больше ничего… Казалось, это было вполне пустынное место, заброшенное и богом и людьми, и если б не группка вартовых, сбившихся у костра, можно было б подумать, что жизнь не заглядывала сюда.
Осмотревшись кругом и убедившись, что его никто не заметил, всадник быстро подскакал к оставленным возам.
— Ну, теперь разгружайтесь скорее, — захлопотал он, соскакивая с коня, — вон уж и Золотые ворота.
— А на сколько возов нагружать будем, хозяин?
— На два!
Мужики покачали неодобрительно головами.
— Ой пане Ходыко, пане Ходыко, заметил первый, — не горазд делаешь: знаешь, какой крутой Десятинный спуск, смотри, как бы не случилось чего!
— И-и! — махнул уверенно пан Ходыка — Что это, разве мне в первый раз? Сам видишь, все мытницы на двух возах проехали.
— Да там что, по ровному можно и на двух, а тут спуск крутой, гора как печь.
— У меня возы крепкие, нарочито для того и сделаны, да и всякие пристрои к ним есть.
— Ну как знаешь, пане Ходыко, дело твое, хозяйское, только ведь часто случается: за грошом погонишься, а копу потеряешь!
Но Ходыка даже не счел нужным ответить на последние слова, он только самоуверенно улыбнулся и махнул рукой. Да и в самом деле! Стал бы он из-за таких пустых опасений столько денег терять?! Дурак бы он был, а не Ходыка! Подвод-то всех шесть, значит, и мыто нужно платить за шесть, а если он платит его везде за два воза, то кругленькая суммочка лышку собирается в чересе, и дурень бы он был, если б этот остаточек будущему тестю предложил! Денежки эти ему принадлежат за дорожные труды. Так! Усмехнулся пан Ходыка, потирая руки, а на киевской мытнице самое большое мыто и чтоб он этот пожиточек из своей руки упустил? Нет, пане-брате, Ходыка умеет жить да пожиточки приращать и там, где другой только бы разинул рот! Ведь так и все делают; мыто платится не от товару, а от воза. Так, значит, и накладывай товару побольше… Вот если обломаешься — так строго: весь товар забирает воевода на скарб… Но у меня возы прочны!
Вскоре два воза, высоко наложенные тюками драгоценных товаров, стояли почти совсем готовые. С четырех сторон возов Ходыка велел вставить нарочито для того заготовленные шесты и все это густо зашнуровать веревками, словно сеткой. Наконец, когда все было окончено и две высоко наложенные подводы, словно две башни, стояли совсем готовые отправиться в путь, Ходыка обратился к погонщикам:
— Ну ж, паны-товарищи, вы теперь порожняком поспешайте скорее, в шинке золотоворотском не засиживайтесь, вот нате, хильните по чарке, — подал он им незначительную монету, — да и скорее поезжайте и ждите нас с Иваном на Кожемяках, внизу под Десятинной горой; а я подожду и, как стемнеет немножко, двинусь туда же.
Презрительно взглянули погонщики на ничтожную монету, и, не поблагодаривши даже хозяина, хлестнули лошадей и двинулись быстро вперед.
В большой просторной хате нового золотоворотского шинка собралась за отдельным столом довольно веселая компания. Несколько кубков и большой ковш меду стояли на столе. Во главе всех сидел Мартын Славута, рядом с ним помещался веселый Грыць Скиба и еще несколько подмастерий из цеха шевчиков и золотарей. Народу в шинке было немного: два жолнера из замкового гарнизона сидели за одним столом да два мещанина, удалившись предусмотрительно от молодой компании, тихо шептались о чем-то в уголке. На Мартыне был добрый синий жупан, такой, какой носило большинство киевских горожан.
— Ну, панове, еще по чарке, чтоб наше дело удалось! — налил Мартын всем чарки.
— Идет! — крикнули молодые голоса, весело чокаясь кубками.
— Да уж пора бы ему и ехать, — заметил один из молодых пирующих.
— А вот я посмотрю! — крикнул Грыць Скиба, вставая с лавки и выходя на улицу. — Едет, едет! — объявил он весело, открывая двери в шинок.
Посреди улицы медленно двигались от Золотых ворот два высоко нагруженных воза. Впереди шел пан Ходыка, за ним двигался рядом со вторым возом погонщик; верховая лошадь была привязана позади переднего воза.
Когда Ходыка поровнялся с шинком, его встретили радостные возгласы.
— А, пан Ходыка, никак с товарами возвращаешься?
— Здорово! Здорово!
— Здорово, панове! — ответил неохотно Ходыка, нехотя передвигая шапку на голове.
— Да куда же это ты? Хочешь, кажется, шинок минуть? — остановил его Мартын. — Нет, пане-брате, так нельзя! У нас тут большая гульня идет! Грыць Скиба всех угощает: жениться задумал. Да и ты, кажись, того, — подмигнул он, — славную, брат, дивчину берешь, по всему городу слух идет!
— Заходи, заходи! — закричали другие, окружая его. — Это уж не обычай — шинок минать, да когда еще в нем свои люди сидят!
Некоторое время Ходыка стоял в нерешительности: не хотелось и времени терять, а между тем и перспектива выпить на чужой счет представлялась весьма заманчивой.
— Товары! — произнес он нерешительно.
— Что товары? — усмехнулся Мартын. — Останется ж дядька с ними, да поставить их вот здесь против окна: никто и не тронет!
— Разве что против окна, — согласился нерешительно Ходыка.
— Да ты не бойся! Дорога проезжая… везде народ, — подхватил его под руку Скиба, и Ходыка вместе с молодыми горожанами отправился в шинок.
— Ну, будем же, братцы, здоровы, — налил все кубки Скиба. — За твое, пане Ходыко, благополучное возвращение и за твою невесту!
— Слава! — зашумели все.
— Спасибо! Спасибо! — откланялся Ходыка, осторожно отпивая из кубка.
— Да что же ты до дна не пьешь? Это непорядок! — зашумели кругом.
— Не привык, братцы, помногу сразу пить!
— Пустое! Доливай ему! На радостях пьем!
Кубок Ходыки наполнили снова. Мартын подмигнул Скибе. Скиба наполнил высокий кубок медом и вышел с ним незаметно за дверь.
— Да и как не пить? — заговорил Мартын. — Проехать с такими товарами такой дальний путь и благополучно домой вернуться… в наши-то времена…
Тут он спохватился, будто бы сказал что-то лишнее и прибавил как-то неловко:
— Как не радоваться? Пей, брат, пей еще! — чокнулся он с Ходыкою, и, заставивши его осушить кубок до дна, наполнил его снова медом.
Недосказанность в словах Мартына не ускользнула от подозрительного Ходыки, но в это время заговорил Грыць Скиба:
— Да уж, правду сказать, я не трусливого десятка, а и то каждый раз перед тем, как теперь из дома вечерней порой выхожу, раз пять молитву прочитаю, да келыха два меду для храбрости опрокину.
— А что так? — спросил уже не совсем спокойно Ходыка.
— Да что! Не стоит против вечера и говорить! — махнул рукою один из молодых подмастерьев.
— Да в чем же дело, панове? — спросил во второй раз Ходыка, оглядываясь кругом.
— Э, друже, — перебил его Мартын, — не стоит о том вспоминать! Вот ты расскажи нам лучше, когда думаешь свадьбу играть?
— А вот приедем… так даст бог завтра и обвенчаемся, — раздвинул он в улыбку свой широкий рот.
По лицу Мартына пробежала насмешливая улыбка:
— Счастливый ты, брат, славную дивчину берешь!
— Да и не голую.
— А ты и об этом подумал?
— Ого! — повел важно головою Ходыка. — Об этом я думаю об первом. Что краса? С лица воды не пить! Вот посаг, приданое — дело не последнее… Да и войтова дочка.
— Разумный ты, пане-брате, — зашумели кругом. — Ну, выпьем же еще по чарке за твое здоровье.
Снова наполнились кубки и осушились до дна.
С непривычки Ходыка почувствовал, как глаза его посоловели и приятная истома охватила все члены; он больше не отказывался от вина.
Мартын еще раз подмигнул Скибе и, когда тот снова вышел с полным кубком, поднялся с места:
— Ну, панове, здорово ж вам оставаться, а тебе, пане Ходыка, всякого блага и благополучия!
Ходыка улыбнулся довольной улыбкой.
— Куда же ты? Чего торопишься? Чего от компании бежишь? — остановили было Мартына товарищи, но Мартын заявил решительно:
— Нет, други, мне в Васильков поспешать нужно, и то засиделся, попируем в другой раз.
Мартын вышел. Ходыка встал вслед за ним, но, убедившись, что его товары стоят целы и невредимы, вернулся снова к столу.
— Ну, надо же правду сказать, и храбрый этот Мартын, черт его не взял, — заметил раздумчиво Грыць, входя в шинок. — Я бы в такое время ни за что один не поехал, ведь от него, — понизил он голос, — не то что от человека, ножом не отобьешься!
— Нет, брат, есть такие пули заговорные, от них, говорят, и он не уйдет, — перебил другой.
— Да кто он? Что такое случилось? — спросил уже не совсем бодрым голосом Ходыка, переводя глаза с одного на другого.
— Да разве ты не слыхал? — изумился один из пирующих. — Червоный дьявол позавчера в город влетел!
Кубок, который поднес было ко рту Ходыка, так и замер у него в руке.
— Дьявол? — произнес он наконец, обводя всех испуганными глазами. — Да кто же видел? Кто сказал?
— Кто видел? Кто сказал? — заговорило сразу несколько голосов. — Весь город!
И один за другим посыпались, перебивая друг друга, страшные рассказы. То уверяли, что червоный дьявол влетел на огненном облаке, то на крылатом черном коне. Говорили, что он задушил старого мещанина Крупа; что, встретивши на дороге бабу Ганку-перепечайку, обратил ее в белую собаку, да так эта собака и бегает по ночам и воет, да никто не может ее отколдовать; говорили, что в Николаевской церкви все иконы посрывались с иконостаса и попадали на пол; рассказывали, как он ночью спустился над ратушной площадью и, разбросивши огненное покрывало, сзывал к себе всех ведьм из-за старого типографского двора. Рассказ заинтересовал всех присутствующих: жолнеры, взявши свои кружки в руки, подошли к столу, даже мещане перестали шептаться и, перейдя за соседний стол, стали прислушиваться к разговорам.
— Да постойте еще, панове гости, — заметил наконец из-за прилавка хозяин, — и до нас эти рассказы дошли, только, думаю, много тут брехни!
— Какая брехня? Черт меня побери! — стукнул жолнер кружкою пива об стол. — Когда у нас не далее прошлой ночи что в замке случилось?
— Что, что? — спросили разом и заинтересованный хозяин, и пирующая компанийка, даже мещане приблизились еще ближе.
— А вот что! Мы стояли с товарищем на Драбской браме, а мийская сторожа с паном Лоем, хорунжим замковым, была у Воеводских ворот. Сидят они, разговаривают. Бьет двадцать два, самый их час. Вдруг слышат шум. «Кто идет?» — спрашивают. Молчок. «Гасло!» — «Червоный дьявол!» — крикнул жолнер таким громовым голосом, что Ходыка даже пригнулся, бросив испуганный взгляд на входную дверь. — Что ж вы думаете? — продолжал рассказчик. — Прямо из- под подъемного моста вырвался огненный столб, и сам он в красном, как огонь, плаще, в красном капюшоне, потому что, знаете, по сторонам его головы рога торчат, — расставил он руки по сторонам своей головы, — остановился в дверях. Бросились было наши вартовые к нему и пан Лой впереди — он на этом деле знается, — что ж бы вы думали? Только взглянул на них… глаза у него огненные, — так они все замертво и упали. На утро мы их нашли — так и лежали, как мертвые, едва святой водой отлили. А то бы совсем пропали, потому что дьявол, говорят зналые люди, сильнее всех, да на пане Лое оказался, на счастье, крест, заговоренный печерским схимником. И что же вы думаете? Даром он в замок пробрался? Куда?! Вошел в дом к воеводе, — заговорил рассказчик, снова понижая голос — да как вошел? Двери были заперты, подошел к ним— так сразу и упали замки. Обмер воевода. «Чего ты явился?» А он ему: «Ничего тебе не сделаю, только Черную книгу мне отдай!» А это книга такая колдовская, — пояснил он, — воевода ее за большие деньги у московских звездочетов купил. Видит воевода, что плохо дело, подступает к нему дьявол, руки вытягивает, а на руках черные когти так и завиваются, так и завиваются. Догадался, к чему это дьяволу книга понадобилась, потому что в ней против него заклятие есть, поднял книгу да и давай на него наступать, давай наступать, а про себя, знай, молитвы читает. Завыл дьявол, застонал, корчиться начал, а потом как взвизгнет, так что у воеводы даже волосы дыбом стали, а руки ходуном заходили, так и провалился сквозь землю в огненном столбе.
— С нами бог, — перекрестился со страхом хозяин, а оторопевшие слушатели не смогли произнести и слова. Ходыка взглянул в сторону горожан и, увидевши и там бледные лица, почувствовал вдруг, как холодная, ледяная змейка побежала у него по спине, ему даже показалось, что какая-то красная фигура промелькнула мимо окна.
— А для чего ж дьявол-то в город влетел? — спросил один из молодых цеховиков.
— Известно уже, для чего, — вставил старший мещанин, — для того, чтобы мучить и тревожить добрых людей.
— Ну, а зачем же б ему к воеводе идти?
— К воеводе? — переспросил жолнер. — А я это прекрасно понял. Ведь вы знаете, что войт с воеводой враждует? — Все наклонили головы. — Так, а дьявол то к войтовой дочке прилетал?
— Как к войтовой дочке? — подпрыгнул на месте Ходыка.
— Брехня, брехня! — поддержали и цеховики.
— Какая брехня? — рассердились жолнеры. — Сама же баба войтова всем рассказывала, как к ним дьявол прилетал, всем рассказывала, а потом уже войт приказал глупой бабе молчать!
Охваченный неизъяснимым ужасом, поднялся Ходыка с места. В комнате собрались сумерки. Лица, испуганные, вытянутые, казались страшными в этой серой полутьме… Он чувствовал, как волосы на его голове начинают шевелиться и сердце замирает в груди.
— Прощайте, панове-товарищи, спасибо за угощенье, а мне надо в Киев поспешать! — прохрипел он дрожащим голосом и, поклонившись всем, нахлобучил шапку и вышел из шинка.
Вечер уже почти совсем раскинулся над землею. Там и сям загорались в глубине неба бледные звезды, хотя окна хат переливались еще зеленым и алым перламутром да на крышах горел последний, прощальный отсвет.
Медленно, шаг за шагом подвигался Ходыка за своим возом. Впереди его на довольно значительном расстоянии двигался первый воз; к неудовольствию своему заметил Ходыка, что погонщик сильно пошатывался, идя рядом со своим возом. В голове его тоже шумело, и досада и ужас наполняли душу. И чего он в шинок зашел? Вот досиделся до такой поры. И сам выпил, и погонщика напоили, а теперь изволь-ка по этим пустырям и развалинам ехать вдвоем, да еще с пьяным… «Ух, — вздрогнул он, завертываясь потуже в кафтан и бросая кругом боязливый взгляд, и в голове его мимо воли поднялись снова все слышанные им ужасы. — Да неужели же летает к войтовой дочке? Ай да войт! Ну, дал бы бог только жениться да прибрать все ее маетки к рукам, а там можно и избавиться. — Ходыка поспешно закрестился под кереей. — В местечко Печеры пешком схожу, богородице двухпудовую свечку поставлю… Только бы доехать благополучно домой! И зачем это он остальных погонщиков отпустил?.. Ну да что уж тут», — махнул рукою Ходыка и, стегнувши лошадей батогом, повернул вслед за первым возом мимо развалин святой Софии и двинулся широкой пустынной улицей прямо к Днепру.
Белой огромной массой поднимались сиротливые развалины… Вот зубчатые стены, в некоторых местах они совсем расселись, и снег завалил их сугробами… Вот въездная башня с подъемным мостом. Моста уже давно нет… Церковь, построенная над воротами, разрушена; в пустые отверстия окон врывается ветер, и злобный стон его носится над развалинами, а сквозь башенный проезд виднеются внутри монастыря разломанные, рассевшиеся развалины огромного храма, унизанные неподвижными черными стаями ворон. «Ух!» — отвернулся в сторону Ходыка, творя торопливо молитву. Направо тянулся длинный и высокий земляной вал, кое-где на нем виднелись ничтожные остатки развалившихся стен. Вдали смутно вырезывались в вечернем полумраке стены и башни Михайловского Златоверхого монастыря. За валами горы круто обрывались вниз, дальше же перед Ходыкою тянулись ровные, занесенные снегом поляны. Темнота наступила быстро. От валов потянулись длинные тени. И вместе с охватывающей местность темнотой ужас обнимал Ходыку все больше и больше. К тому же он отстал на довольно далекое расстояние от первого воза, который уже виднелся перед ним лишь неясным силуэтом. Ходыка то и дело похлестывал лошадь, но уставшее животное едва тянуло тяжелую поклажу и только похрапывало, поводя ушами. И звук этого тяжелого храпа среди безмолвной и безлюдной пустоши нагонял на Ходыку еще больше суеверный, отчаянный страх; шапка начинала тихо шевелиться на его голове… Вот по правую сторону показались какие-то странные развалины. Ходыка вспомнил, как старые люди говорили, что здесь стояли когда-то богатые хоромы, а теперь бродят привиденья, отыскивая забытые клады, и что есть силы погнал лошадь. Несколько раз он окликал погонщика, но на его зов не слышалось никакого ответа, а голос его звучал так дико и хрипло в ночной тишине, что нагонял на Ходыку еще больший ужас. Наконец впереди показались развалины Десятинной церкви с чернеющим разломанным куполом и колокольней. Облегченный, радостный вздох вырвался из груди Ходыки. Тут недалеко уже и до мытницы, да вот мелькнули и огоньки. Ах! Человеческим жильем потянуло! Ходыка расправил спину и плечи и бодрее зашагал вперед. Теперь только спуститься с горы — и город. «Господи, довези, только довези! Трехпудовой свечи не пожалею», — заключил вслух Ходыка, круто поворачивая и останавливая у мытницы лошадь.
Когда мыто было уже заплачено и скрипучие ворота заставы закрылись за возами, Ходыка стоял некоторое время неподвижно, не решаясь двигаться вперед. Перед ними развернулась глубокая пропасть, окруженная с правой стороны горами, а с левой — сбегающей вниз рощей. Крутой, плохо уезженный спуск вел вниз и терялся в наступающей темноте. Пропустив последних путников, ворота мытницы замкнулись, огни погасли в окнах, и густые сумерки охватили Ходыку со всех сторон. Он бросил взгляд на свои высоко нагруженные возы, и досада, и сомнение зашевелились в его сердце. «Эх, лучше уж было на этот раз разложить товары хоть на три воза: дорога крута и размыта… темно… не ровен час… — Ходыка с ужасом оглянулся, боясь заметить где-нибудь красный плащ. — Ну, с богом, однако», — перекрестился он, прерывая свои размышления, и обратился к погонщику:
— Ну, Иване, прежде всего выйми там под возом привязанные веревки, надо возы загальмовать.
— Загальмовать… так и за… галь… мовать, — ответил тот заплетающимся языком, наклоняясь всем туловищем вперед. — Под возом веревка… ну и под возом… а мне что, хоть бы и на возе… Я что? Я — сторона.
Но Ходыка, видя, что погонщик употребляет всевозможные старания, чтобы наклониться, но, несмотря на это, только беспомощно покачивается всем своим туловищем вперед, остановил его:
— Постой, Иване, я сам… Ты только лошадь подержи, чтоб не тронулась.
— Можно! — согласился Иван. — Все можно, потому что я ничего не боюсь! Он мне говорит — червоный дьявол, а я ему: что мне червоный дьявол, пусть его хоть сейчас явится, я ему плюну в самый пысок!
— Молчи, блазень! — крикнул ему из-под воза Ходыка, торопясь развязать дрожащими руками веревки и запутывая их от волнения еще больше. — Нализался, пьяница, а теперь я возись; с ним еще хуже, чем одному!
Несколько раз ему послышался какой-то подозрительный шорох; наконец возы были загальмованы.
— Я вперед поеду, а ты ступай за мной, — обратился он к погонщику, — да смотри мне, куда я, туда и ты; ишь, ирод, залил глаза, а теперь возись с ним! — буркнул сердито Ходыка в сторону погонщика, но сильно бранить его он опасался.
— Ну, с богом! — тронул он лошадь, проезжая вперед.
Медленно и осторожно двинулись привычные лошади вниз с горы. Возы то и дело вскакивали в глубокие ямы-лужи и с трудом выбирались из них. Наконец полдороги было пройдено, оставалось только сделать крутой поворот направо, обогнуть выдававшуюся, нависшую глыбу горы, а там уж хоть и больно круто, зато ровно, без поворотов, можно попросту скатиться вниз.
— Но, но, но! — даже прикрикнул на лошадь Ходыка, помахивая кнутом.
Вот и гора… Как мрачно, как зловеще надвинулась она, закрывая дорогу. Обтаявшие деревья кажутся черной страшной гривой, а сама гора головой какого-то дикого, гигантского чудовища.
«А что, как он? — подумал Ходыка, боясь даже в уме произнести страшное имя и чувствуя, что уже при одном воспоминании холодный пот прошибает его. — А что, как он притаился там за горой в этой сгустившейся тени и поджидает его? Бр-р-р!.. Плащ красный, как огонь… Глаза горят, словно угли, — вспомнились ему слова жолнера, — а когти так и загибаются… так и…»
Вдруг яркий ослепительный свет озарил всю местность, раздался дикий, нечеловеческий вопль, и, словно черная буря, ринулся прямо на Ходыку страшный всадник в красном плаще на черном, как смоль, коне.
— Дьявол! — крикнул погонщик.
— Дьявол! — крикнул за ним безумно Ходыка, пуская вожжи и падая наземь.
Лошади шарахнулись в сторону и, увлекаемые тяжестью возов, покатились с крутизны; возы наскочили на гору, накренились, со страшным грохотом полетели с них тяжелые тюки, опрокидывая лошадей и людей…
Не успел опомниться обезумевший, почти бесчувственно лежащий Ходыка, как толпа вооруженных людей с факелами и воеводою во главе появилась мгновенно и окружила и товары, и лежащих людей.
— Что такое? Что случилось здесь? — спросил воевода, придерживая коня и обращаясь к бледному, как смерть, Ходыке. — А-а! Мошенническая проделка! Хотел избежать мыта, обворовать казну. Ну и попался… — грозно сказал воевода и обратился повелительным голосом к жолнерам: — Собрать все товары и свезти немедленно в замок!
— Ой, не губите, ясновельможный пане, не губите, помилуйте! — повалился перед воеводой на колени Ходыка, хватаясь за серебряные стремена.
— Зачем вез всего на двух возах? Зачем так сильно нагрузил?
— Не сильно, ясноосвецоный, ясновельможный пане, не сильно, совсем даже легко! Это он, — произнес Ходыка с усилием, — червоный дьявол…
— Дьявол… так, дьявол… никто, как он, — заговорил и погонщик, приподымаясь с трудом с земли и осматриваясь кругом бессмысленными, пьяными глазами.
— Что это вы мне бабские бредни здесь разводите! — крикнул грозно воевода, отстраняя лепетавшего бессвязные слова Ходыку. — Залили глаза да и морочите добрых людей! Никакого мне дела до вашого дьявола нет! Законы писаны для людей, а не для чертей! А знаешь ли ты это? Гей, факел сюда! — крикнул он, разворачивая перед Ходыкой желтый свиток пергамента.
Жолнер поднес развевающийся по ветру факел, Ходыка взглянул на бумагу да и окаменел на месте. На желтом пергаменте, освещенном красным светом факела, стояло крупными славянскими буквами:
«Сим Александр божою милостью великий князь Литовский, чиним знаменито сим нашим листом каждому доброму, хто на него узрит или чтучи его услышит, кому потреба будет того ведати. Иж купцы, которые коли едут в Киев и возы свои товаром тяжко накладывают для мыта, иж бы возов меньшей было; и в которого купца воз поломится с товаром, на одну сторону по Золотые ворота, а на другую сторону по Почайну-реку, ино тот воз с товаром биривать на воеводу киевского, и мы тое врядили по-старому, как и перед тим бывало.
Писан у Вильни в лето 1494, мая 14 дня, индикта 12-го».Схватился Ходыка руками за голову, да так и грохнулся оземь.
Всю ночь не спала Галочка. Счастье и радость не давали ей уснуть. На щеках ее еще горели его поцелуи, она видела его дорогое, склоненное над нею лицо, его улыбку, его глаза! «Милый, милый, коханый, жаданый, счастье мое, жизнь моя!»— шептала она с влажными от счастья глазами. И чтоб теперь, после его слов, после его ласки, пойти замуж за Ходыку? Нет, нет! Ни за что! Перед божьими очами обручилась она с Мартыном и будет только его женой! Ах, какие счастливые мечты, какие девичьи грезы опьяняли ее бедную головку всю ночь до утра. Счастье, счастье рвалось в это сердце. И Галя то подымалась с постели, вспоминая все его слова, то снова падала в подушки, сжимая сердце руками, чтоб удержать его мучительно восторженный бой. Наконец настало утро.
Целый день искала Галя случая поговорить с отцом, но это никак не удавалось. Приходил Ходыка сообщить, что вечером брат прибудет в Киев. Пан войт приказал делать все приготовления к венцу, а Галя все слушала со счастливой улыбкой, как будто все это и не касалось ее. Проходя по комнатам, она останавливалась, забывшись, и тогда взгляд ее уходил в себя, а лицо освещалось счастливой безмятежной улыбкой, которая выплывала из глубины души. Она бралась за работу, но работа застывала в ее руках: светлые, дивные мечты уносили ее далеко-далеко от этого обнесенного грозными стенами города. Слова и речи как-то смутно долетали теперь до того счастливого мира, в котором жила теперь Галя. Говорят о свадьбе?.. Нет, свадьбы не может быть, твердила она себе: Мартын любит ее, она любит Мартына, кто ж посмеет у нее это счастье отнять? Умереть — это она может, но за Ходыку не пойдет никогда!
Однако с приближением вечернего времени смущение начинало пробираться в Галину душу все больше и больше. Мартын не приходил. Ведь должен был он знать, что Ходыка сегодня приедет в город. Может, случилось с ним что? Отчего и весточки не перешлет?! Между тем приготовления к свадьбе принимали самый решительный характер; очевидно, войт решил поставить на своем.
А славетный войт киевский сидел в своей светлице угрюмый и мрачный, как осенняя ночь. Все шло так, как ему хотелось: Ходыка въезжал сегодня вечером в город, завтра Галя, его единственная дочь, к венцу с ним пойдет. Что ж, пара в городе не последняя! Чего и желать? Да и Галочка сама не убивается, даром что тот дурень Славута распинался за нее… потому что разумная, покорная дочь… Но, казалось, именно этот-то тихий покорный образ Галочки со счастливой, детски безмятежной улыбкой больше всего и мучил сердитого войта. И когда он представлял себе милый образ своей коханой, балованной дочери рядом с этим тощим бескровным лицом, с его алчными глазами и сдавленной головой, беспричинный, не находящий себе выхода гнев закипал в глубине его души. Мрачно и ненастно глядел перед собою войт, нахмурив мохнатые брови и опустив седую голову на грудь. Густые сумерки сгущались вокруг него. Вдруг тихий скрип двери прервал его неразрешимые думы.
На пороге стояла Галя, тоненькая и бледная, с такой счастливой улыбкой на лице.
В сердце войта задрожала какая-то мягкая и теплая струна, но лицо его осталось таким же мрачным.
— Чего тебе? — спросил он, стараясь придать своему голосу суровый и строгий тон.
— Батечку! — робко проговорила Галя, входя в светлицу и закрывая за собою дверь.
— Ну, что?
— Батечку, родной мой, да неужели же вы решились отдать меня за Ходыку?
— Не видишь, что ли? — буркнул сердито войт. — Не сегодня ведь решилось! Завтра венец.
— Батечку, коханый мой, я ж у вас одна дочка, — заломила Галя руки, и голос ее зазвучал так тихо и печально, что войт почувствовал с крайней досадой, как в сердце его мучительно заскребли кошки под влиянием этих безропотных слов.
— Да разве вы меня не любите, таточку? За что хотите меня загубить, чем прогневала я вас? Разве я вас когда огорчала, разве я вас когда не поважала? Нет у меня ни матери, ни сестры, одни только вы… — тут Галя не выдержала, и жалобное, сдавленное всхлипывание прервало ее слова.
Все взволновалось в душе войта при звуке этого детского, беспомощного плача, но так как дело было уже непоправимо, то досада охватила его еще сильней. «Тоже нашла время, когда говорить, — быстро пронеслось в его голове. — Завтра свадьба, а она сегодня только надумалась! Не осрамить же мне себя перед всем городом из-за нее, опять и воевода…»— и войт сердито стукнул кулаком по столу, возвышая голос:
— Что это ты, батька укорять пришла? Батька учить будешь? Га?! От земли не отросла, а батько уже в землю вошел, и ты еще будешь батьку советы давать?! — кричал все громче войт, раздражаясь уже от звука своих слов. — Я ее не люблю, я об ней не думаю? Спасибо, дочко, — поклонился он, — дождался шаны от тебя! За то, что любил и берег, как зеницу ока…
Но Галя ничего не ответила… Она только тихо плакала у дверей…
А войт продолжал, волнуясь все больше и больше:
— Да Ходыка первый жених в городе, ты поищи еще другого такого. Все горожанки от зависти пропадают, услышав, что ты за него идешь! Да за него б любая княгиня пошла, так чего ж еще надо тебе, а?
— Что мне с его богатства? — едва выговорила сквозь слезы Галя. — Он от скупости черный хлеб грызет…
— У тебя свое будет, тебе все отпишу, не бойся, первой паней будешь.
— Ах, на что оно мне, на что?! — припала Галочка к косяку дверей, вздрагивая всем своим тельцем. — Он уморит, уморит меня…
— Не уморит, не бойся, дочко, любить будет, да еще и как!
— Ох, таточку ж мой родименький, мой единый, мой коханый, — бросилась Галя перед отцом на колени, хватая его руки и покрывая их поцелуями. — Не отдавайте ж меня за Ходыку, не губите мой век молодой! Ух, — вздрогнула она, — как мне подумать обнять его, пригорнуться к нему, слово родное сказать?! Холодный, холодный, как змея, как жаба! Он высушит, вывялит мое сердце! Да не давайте ж меня за него!..
Войт вырвался от Гали и несколько раз прошелся взволнованно по комнате. «А, черт бы побрал всех на свете! Вот плачет же, разливается, словно ее на убой ведут! Прибралась к самому венцу, а теперь и голосит? Это он, он взбаламутил ее, ну, погоди ж, попадешься ты мне! — сердито говорил себе войт, стараясь не глядеть в сторону плачущей дочери. — Завтра венец, весь город знает… Опять и с Ходыкой поссориться, назло на воеводову сторону перейдет! Да нет! — постарался он успокоить себя. — Если бы она была в кого закохана? Ну, другое дело, а то девичьи слезы скоро высыхают, да она раньше и не плакала. Э! Сживется — слюбится!»
— Чего плачешь? — обратился он к Гале более мягко. — Сама не знаешь, что говоришь! Не все же красавцами народились. Будет любить тебя и жалеть, как муж…
— Ах, что мне в его любви, — припала Галя к ногам войта, — когда я, таточку, не люблю, не люблю его?!
— Вздор!! — вскрикнул уже вспыливший войт. — Поживешь — полюбишь! Не ты первая, не ты и последняя! Будешь потом еще и батька благодарить, что не послушался глупых девичьих слез.
— Не буду, не буду! Не губите меня, таточку! Пожалейте ж меня!
— Да что ты, с ума, что ли, сошла? — вырвался наконец войт из цепких Галиных рук. — На завтра свадьба, весь город о том знает, а ты хочешь, чтоб я осрамил, ославил и себя, и тебя на весь свет?!
Но Галя только рыдала, припавши к земле.
— Благодарила б батька за то, что думает о тебе! Батько лучше знает, где своей дочери счастье найти! На него полагайся, его слушай, а своим дурным разумом не раскидай! Или ты думаешь в девках поседеть?
— И поседею, и умру, а за Ходыку замуж не пойду! — выкрикнула вдруг решительно Галя, подымаясь с пола.
— Не пойдешь? Ты смеешь против моей воли идти? — даже отступил войт, не веря своим ушам.
— Не пойду, не пойду! Когда вы меня не жалеете, когда вы меня хотите со света сжить, так я сама себя убью, а за Ходыку не пойду, не пойду! — выкрикнула Галя, захлебываясь истерическим рыданьем.
— Ты, ты так батьку!.. — мог только выговорить войт, застывая от изумления и не веря, что это говорит ему его собственная дочь. — Да как ты осмелилась?..
Но в это время дверь распахнулась, и в комнату влетел растерянный, испуганный Славута.
— Ай! — вскрикнула Галя.
Но Мартын не дал никому опомниться.
— Пане войте, — закричал он еще с порога, — поторопитесь… Несчастье! Ходыка ехал с панскими товарами, да на горе возы обломались, а воевода забирает все на замок.
— Как? Где? — крикнул отчаянно Балыка.
— За мытницей. Хотел прикарманить мыто с четырех возов, да переложил все товары на два воза и обломился.
— Зарезал! Ирод! Дьявол! — заревел пан войт, хватая палицу и шапку, и бросился вслед за Мартыном со двора.
Однако, когда Мартын и пан войт прибежали к заставе, ни одного тюка товаров уже не было на горе: все было сложено и отвезено в замок.
При свете красных, развевающихся по ветру факелов глазам их представилась страшная и пестрая картина. У ворот заставы собралось почти полгорода. Пробираясь сквозь толпу, они заметили и пани Кошколдовну с Богданой, и пани цехмейстрову, и самого Василия Ходыку, и много знакомых горожан. Белые головы женщин наклонялись друг к другу, мужчины покачивали с ужасом головами. «Дьявол, дьявол! Это он!»— слышался кругом сдержанный шепот.
На спуске горы лежало два поломанных воза, лошади уже были выпутаны. Бледный, испуганный, без шапки стоял подле них Федор Ходыка.
— Что ты наделал, что ты наделал, аспид, выплодок чертячий! — застучал войт палкою, наступая на Ходыку. — Ограбил, разорил меня! — кричал он, задыхаясь от гнева и не находя слов.
— Не моя вина, пане тесте, никогда со мною такого не случалось, не я, он… — произнес Ходыка с запинкой, — он виноват…
— Не ты? Не ты виноват? — наступал войт еще грознее. — А кто же тебе велел товары на два воза сложить, когда я велел везти на шести! Кто позволил тебе, га?
— Тебе же, пане войте, хотел корысть сделать… Мыто сберечь…
— Не мне, а себе! Не надо мне твоих сбережений, — закричал запальчиво войт, — не нищим я родился! Было б чем мыто заплатить без твоего ошуканства! Кто тебе позволил мое имя порочить? Ограбить, ославить меня? Отдай мне назад мои товары, деньги возврати! Пропало три тысячи коп литовских грошей! На смех меня воеводе выдал, на позорище, на ганьбу! — Но в это время взгляд расходившегося войта упал на Василия Ходыку. — Ты же уговорил меня доверить брату твоему товары! Что ж ты наделал? Выдал меня воеводе всего, с головой!
— Постой, свате, постой! — попробовал было успокоить его Ходыка, но расходившийся войт не слушал уже никого и ничего.
— Какой я тебе сват, черт меня побери?! — кричал он, стуча палкой. — Ты меня воеводе с головой выдал, так с такими ж скрягами, сквалыгами, харцызами я родниться не хочу! Не видать тебе моей Гали, как своих ушей!
В толпе послышалось движение.
Лицо Василия Ходыки искривилось злобной гримасой, глаза загорелись, но он еще сдержал себя.
— Напрасно не сердись, пане войте, — произнес он дрожащим от гнева голосом, — хотя брат и не виноват в том, что опрокинулись возы.
— Да кто ж тогда виноват, кто? — наступил войт на Федора.
— Червоный дьявол… Видишь, вот он опрокинул возы, подрезал веревки, — поднял Федор одну из действительно перерезанных веревок.
— Нечего мне бабские бредни повторять! Не на дурака напал, — кричал войт. — Знаю ваш сквалыжный род! Соскаредничать захотел! Мыто схоронить задумал?
Но Ходыка перебил войта.
— Что мыто я себе схоронить хотел, того ты еще не знаешь, а что возы червоный дьявол через твою дочь опрокинул, то вот известно доподлинно всем!
— Через мою дочь? — отступил войт, чувствуя, как вся кровь бросилась ему в голову.
— А к кому дьявол летает? Весь город знает, что к твоей дочке! — кричал уже резко и Ходыка, нагло выступая вперед. — Ведь завтра ты думал венчать меня с ней? Известное дело, за что дьявол захотел насолить мне! — разразился он наглым дерзким смехом.
— Правда, правда, — послышалось с разных сторон в толпе робкое подтверждение.
— Ложь, ложь! — крикнул он громовым голосом. — Горло тому перерву, кто посмеет повторить эту ложь! Так мало тебе, что ты ограбил меня, ты еще и ославил мою дочку?! — набросился он на Ходыку. — Не будешь же ты моим зятем, сквалыга проклятый! Не будешь вовек!
— Мы и сами твоей дочки не хотим. Чего расходился? — выступил вперед Василий Ходыка. — Думал нам порченую подсунуть?! — тонкие губы Ходыки искривились в злую улыбку. — Нет, пане войте, хитро ты придумал, да Ходыку трудно провести!
— Я, я? — схватился войт за свою седую голову.
— Подсунуть думал! Ха-ха-ха! — подхватил и Федор. — Только, думаю, теперь после дьявола твою дочь никто не захочет и взять!
— Мою дочь никто не возьмет? — крикнул войт, оглядываясь кругом, но толпа отхлынула от него; подозрительный шепот раздавался то тут, то там; Ходыки улыбались злорадно; Богдана хихикала, а лицо пани Кошколдовны так и пылало от наслаждения.
Растерянный, убитый стоял пан войт киевский. Вдруг среди наступившей тишины раздался громкий голос Мартына,
— Славетный пане войте киевский, отдайте мне вашу дочь; за счастье, за честь почту, буду всю жизнь за вас бога молить!
— Мартын Славута! — шарахнулась толпа.
— Ой! — вскрикнула Богдана и повалилась матери на грудь.
Как остолбеневшая стояла Галя в светлице, ничего не понимая и не зная, что случилось. Вдруг двери распахнулись поспешно, и в комнату вошел пан войт в сопровождении Мартына. Лицо войта было расстроенно, взволнованно и бледно, а Мартын так и сиял радостью и счастьем.
— Ну, дочко, — обратился он к Гале дрожащим голосом, — теперь ты хоть распадись тут порохом, а завтра же ты с ним, — указал он на Мартына, — идешь под венец!
— Ой! — вскрикнула Галя, не будучи в силах удержать радостного возгласа, и закрыла руками вспыхнувшее лицо.
— Годи! — крикнул грозно войт, тяжело опускаясь на кресло. — Чтобы ни слова, ни слез больше я не слыхал! Слышишь! — стукнул он кулаком по столу. — Я говорю: и не пикни. Не закрывай там лица: сколько б не плакала, а завтра же с ним под венец идешь! — Грудь войта тяжело поднималась, слова вылетали с трудом, глаза налились кровью. — Осрамила, ославила на весь Киев, так завтра же назло им, назло всему городу я покажу, кто такой войт и войтова дочка.
А Галя все еще стояла, закрывши лицо руками, не смея взглянуть на Мартына, не веря своим ушам.
— Ну! Перестань там хныкать! Через тебя набрался сраму, — стукнул войт ногою. — Говорят тебе, завтра идешь под венец.
Но, к удивлению войта, Галя открыла лицо и, склонивши низко-низко голову, ответила покорным тоном:
— Ваша воля, батечку, мне ж вам порады не давать.
— Что-о? — протянул с удивлением войт, отбрасываясь на спинку кресла.
— Батько лучше знают, где своей дочери счастье найти, — продолжала так же тихо Галя. — Я на вас и полагаюсь, а своим дурным разумом раскидать не буду…
Ничего не нашелся войт ответить на эти слова, только бросил взгляд в сторону Мартына: сияющий восторгом стоял Мартын, и, кажись, если бы не присутствие войта, бросился бы он и задушил поцелуями свою маленькую, коханую Галину.
Сомнительно покачал седой головою войт и перевел свои глаза на Галю. Покорно склонив головку, стояла у дверей Галя, и только карие глазки ее, словно глазки мышонка, украдкой взглядывали сквозь бархатные ресницы на своего коханого, желанного Мартына.
Молча склонил войт свою седую голову… Глубокие складки на лбу его начали понемногу разглаживаться. Наконец добрая улыбка осветила лицо, ласково сверкнули старческие глаза из-под нависших бровей.
— Лукавое зелье! — произнес он, бросая на Галочку любящий взгляд.
А «лукавое зелье» уже стояло на коленях у его ног, целуя его жилистые руки, прижимаясь головкой к его груди.
— Батечку, счастье наше, коханый наш, — шептали разом Мартын и Галя, обнимая и целуя войта.
Правда, несколько поцелуев Мартына попало ненароком на ушко Гали, но войт не замечал этого.
— Постойте, постойте, медвежата, — отбивался он, усиленно хлопая ресницами и улыбаясь своим добрым старческим лицом, — задушите совсем!
На утро весь Киев только и говорил, что о вчерашнем происшествии и о том, что славетный войт киевский отдает свою дочку Галю за мастера золотарей Мартына Славуту, а бывший жених ее Федор Ходыка женится на богатой земянке Богдане Кошколдовне.
К церкви Сретения и к церкви Николая Доброго тянулись уже с раннего утра богато разубранные толпы народа. Всем хотелось посмотреть на пышные свадьбы, сложившиеся так странно, так неожиданно. Однако большинство тянуло к церкви Сретения, так как весь город, за исключением небольшой партии новых людей, крепко любил своего старого ворчливого войта.
Наконец приблизился и свадебный поезд. Дружки и светилки на разубранных коврами телегах, бояре на увешанных пестрыми квитами лошадях и, наконец, сам славетный войт киевский в золотом парчевом кафтане, а за ним и Галочка, сияющая, смеющаяся, как весенний, радостный день.
— Слава, слава, слава! — кричали кругом горожане, а войт улыбался счастливо и торжественно, кивая всем направо и налево своей седой головой.
В богатом дворище войта настежь стояли ворота. Вдоль всего двора тянулись длинные столы, покрытые белыми скатертями; заваленные яствами серебряные мисы и таци стояли на них; лежали груды пирогов; целые бочки меду и пива возвышались кругом. Горы сластей, ласощей заморских подымались среди серебряных блюд.
В светлице за большим столом сидели самые почетные гости. Пестрели драгоценные кунтуши и жупаны, редкостные каменья, меха и намитки, затканные золотом. За столом на посаде, на возвышенном седалище, помещались только что повенчанные молодые. «Лукавое зелье» совсем присмирело и бросало из-под длинного белого покрывала счастливый смущенный взор на своего дорогого соседа.
Храбрый пан Лой, который умудрялся не пропускать ни одной пирушки, был тут же. Пан цехмейстер, узнавший о свадьбе Мартына, переложил гнев на милость и только в память покойного Славуты — так сказал он Мартыну — согласился пожаловать на веселый пир. Даже тощая пани цехмейстрова, умолкавшая только под взглядом своего сурового пана цехмейстра, сидела тут же среди почетных горожан; впрочем, она не могла удержаться, чтобы не сообщить вполголоса своим соседкам, что с червоным дьяволом пролетала мимо их дома не Галя, а Богдана Кошколдовна, что это она видела своими собственными глазами и готова поклясться всем на мощах всех святых. Слуги обносили всех пенящимся вином; веселые возгласы и здравицы гремели кругом.
Наконец поднялся со своего покрытого бархатом стула и славетный войт киевский.
— Ну ж, зяте мой коханый, — начал он важно, наполняя тяжелый золотой кубок старым дедовским медом, поседевшим в глубоких погребах, — бери ж мою дочку, люби ее и жалуй: одна она у меня… — Голос войта дрогнул, но он мужественно поднял голову и продолжал дальше — Больше хотел я дать ей, да через этого харцызу пропало моих денег три тысячи коп литовских грошей. Что ж делать! Что с воза упало, то пропало, а после моей смерти все заберешь!
— Не печальтесь, пане тесте, — поднялся к нему счастливый и довольный Мартын, — люблю я Галочку и без всякого добра, а товары ваши не пропали: все я ей за доброе и укорливое воспитание в дар записал.
— Что? — изумился пан войт, не понимая, о чем говорит Мартын.
— А вот что! — протянул тот войту большой лист бумаги.
Быстро, быстро просмотрел войт дарственную запись и от радости и удивления не мог первое время и заговорить.
— Как, ты? Все мои товары ей отписал? Да как же ты их у воеводы выдрал? Как?
— Ну, это уж наша печаль! — тряхнул Мартын удало головой, и лукавая усмешка осветила его лицо. — А речь в том, что войтовы товары воеводе не достались, а достались войтовой дочери, как он того и желал!
— Ай да Мартын! Ай да Славута! Молодец — лыцарь, а не цеховик! — зашумели кругом гости, наполняя кубки и протягивая их к нему, а довольный и торжествующий пан войт киевский мог только выговорить, обращаясь ко всем: «А что? Га?» Но весь его сияющий вид досказал остальные слова: какого я себе зятя доскочил.
— Гм… — рассуждал философски пан цехмейстер, отпивая небольшими глотками свое вино. — После этого и нарекай на нечистую силу; правду говорит пословица: бога почитай, а и черта не забывай! Уж истинно, когда господь захочет человеку счастье послать, так и дьявола на добро натолкнет!
— А как же, как же! — подхватил пан Лой. — Вы меня об этом спросите, я ихнюю братию хорошо знаю! Есть между ними и славные ребята, грех сказать. Надо только уметь этих голубчиков к рукам прибрать, да! — обвел он всех присутствующих торжествующими глазами. — Мне с ними много раз приходилось дело иметь, так я уж их хорошо знаю, вот как моих вартовых, — пан Лой отер бархатным рукавом пот с багрового лица и с наслажденьем опрокинул свой стакан. — Да вот, к примеру, расскажу вам смешной случай, как мне однажды черт целую копу хлеба смолотил.
— Как, черт молотил?! — раздалось сразу несколько голосов.
— Так-таки и молотил! — кивнул уверенно пан Лой, поглаживая свой тучный живот. — Не хотелось бедняге, да что делать, пришлось послужить! Го-го-го! От меня ни один не уйдет! Да вот и ваш червоный дьявол? Сбежал… От меня сбежал, и свой пекельный плащ мне бросил, и полхвоста у меня в руках осталось, н-да!
— Полхвоста?! — замерла в изумлении пани цехмейстрова.
— А вы думали как? Пан Лой шутить не любит! Мне лучше в руки не попадайся! Да!
В это время появился в дверях вышедший незаметно в светлицу Мартын и, подняв красный плащ, произнес гробовым голосом:
— Этот пекельный плащ здесь!
Невообразимый крик ужаса вырвался из груди всех гостей. Кубки и фляжки покатились со стола. Гости бросились бежать…В дверях поднялась страшная давка: одни толкались, чтобы выскочить на двор, другие спешили со двора узнать, что случилось за свадебным столом. Невообразимый шум наполнил комнату. Напрасно кричал из последних сил Мартын, держа в руке красный плащ:
— Успокойтесь, славетние горожане: это он, этот червоный плащ натворил всех бед!
Никто не слушал его.
— Да постойте, панове! Куда вы? Это Мартын Славута! — опомнились уже было храбрейшие, стараясь успокоить обезумевших гостей, но успокоить гостей удалось не скоро.
Наконец, когда все уже воочию убедились, что перед ними стоит истинный Мартын Славута, мастер из цеха золотарей, и держит только в руке огненный плащ, громкий хохот огласил всю комнату.
— А вы все уж и перепугались? — раздался голос пана Лоя, скатерть приподнялась, и из-под стола показалась круглая голова пана Лоя; но на этот раз лицо его было красно и сконфуженно. Он смущенно оглядывался кругом, стирая со лба крупный пот.
— А ты чего, пане-брате, под стол попал? — ошеломил его вопросом пан цехмейстер.
— А?.. — пан Лой замялся. — Ге… Я хотел его за ноги поймать!
Но веселый смех покрыл его слова.
— Так это ты, пострел, — обратился цехмейстер к Мартыну, — весь город на ноги поднял?
— Не я, не я, пане, — оправдывался, улыбаясь, Мартын. — Всему виною этот красный плащ! На ж его, Галя, — бросил он жене красный плащ, — спрячь его на самое дно нашей скрыни, чтобы рассказывать и детям, и нащадкам нашим, как нам с тобою, голубко, червоный дьявол стал в пригоде.
— Эх, накостылять бы тебе хорошо за твои штуки, да иди уже сюда, поцелую тебя, шибеник, — не выдержал-таки войт и, распахнувши широко объятия, прижал зятя к груди.
— Так, так, любо, любо, пане войте! — зашумели кругом гости, подымаясь с мест. — Будем жить, как здавна бывало! Ходыки нам не надо: ты за нас, а мы за тебя будем стоять, как и до сих пор стояли, как и здавна стояла наша киевская земля!
Шум, раздавшийся у войтовых ворот, покрыл и веселые голоса гостей. «Воевода! Воевода!»— закричали со двора.
— Воевода? — отступил пан войт, и в голове его быстро замелькали злобные мысли: «Неужели осмелился приехать? Хочет еще свадьбе помешать?»— И лицо войта снова стало угрюмо и сурово, но размышлять было некогда: пан воевода уже входил во двор.
Лицо его, подрумяненное и подделанное, освещала милостивая, приветливая улыбка.
— Что ж, пане войте, — остановился он среди двора, — принимаешь ли на свадьбу гостей?
Еще минуту старый гнев бурлил в строптивом сердце войта, но честь, сделанная ему воеводой в лице всех горожан, растопила наконец и его:
— Пожалуй, вельможный пане, за честь почту, — поклонился он в пояс воеводе, распахивая перед ним дверь.
— То-то ж, пане войте, давай будем жить старым обычаем, без ссор и без свар, — улыбнулся воевода, протягивая руку войту. — Вся-то и свара у нас вышла через этого проклятого Ходыку: сначала он подбивал меня на всякие пакости, на всякие выдеркафы против тебя, а когда я ему укоротил его грабительские лапы, так он на твою сторону!..
Просиял старый войт. С торжеством пожал он воеводскую руку, а горожане обступили свое начальство плотной стеной.
— Спасибо, пане воеводо, вовек не забуду твоих слов!
— Ну вот, вот, так-то лучше будет! А скажи, приготовил ли мне свадебную куницу? — шутливо ударил войта по плечу воевода, — Или старый обычай пан войт забыл?
— Не забыл, не забыл! Как забыть! — воскликнул весело войт. — Гей, хлопцы, свадебную куницу сюда!
У ног воеводы опустили массивное золотое блюдо, на котором лежало шесть дорогих куньих мехов.
— Ай да войт, ай да хозяин! — улыбнулся довольно воевода, делая знак своей свите убрать и меха, и блюдо. — Умеешь честить гостей! — И довольный воевода весело последовал за войтом.
Уже и солнце перешло полуденную линию, а к дворищу пана войта все еще прибывал народ. С обтаявших крыш падали последние капли воды, солнце ярко и весело светило с голубого безоблачного неба; вешние ручьи шумели кругом, а пан войт киевский стоял на своих широко распахнутых воротах, окруженный почетными гостями.
— Гей, панове горожане киевские, цехмейстры, мастера и подмастерья, кушнеры, золотари и кравчики, — громко кричал пан войт, зазывая гостей, — ковали, седельники и шевчики, чеботари и каменщики, столяры и плотники, маслобойники, воскобойники, все почетные крамари и горожане киевские, всех прошу на широкий двор, на веселый пир старожитним звычаем, давним обычаем, как было и за наших дедов и отцов. «Яко мы никому не велим старовыны рухаты, а новыны уводыты».
— Слава! Слава! — гремело кругом.
Примечания
1
Начальник цеха. (Здесь и дальше примечания автора.)
(обратно)2
Род однобортного кафтана.
(обратно)3
Пробная работа, которую должен был приготовить цеховик для получения звания мастера.
(обратно)4
Членский взнос при вступлении в звание мастера.
(обратно)5
Ужин, который должен был дать вновь вступивший в цех для цеховых братчиков, причем стоимость ужина четко определена цехом.
(обратно)6
Налог с водки.
(обратно)7
Налог с меду.
(обратно)8
Налог с пива.
(обратно)9
Городской голова.
(обратно)10
Магдебургское городское право.
(обратно)11
Городские башенные ворота. Минский — городской, от мисто, город.
(обратно)12
Пошлина за товар от воза и за переезд брам.
(обратно)13
Белыми головами назывались вообще женщины — от носимых белых намиток
(обратно)14
Магдебургское право.
(обратно)15
Грабительская придирка.
(обратно)16
Общими.
(обратно)17
Соответствует нашему гласному, а райца — советник — члену управы.
(обратно)18
Налог; чоповое — налог на розничную продажу.
(обратно)19
Длинная верхняя женская одежда.
(обратно)20
Род фаты.
(обратно)21
Накидками.
(обратно)22
Сложенные в сруб.
(обратно)23
Участок городской стены.
(обратно)24
Пушки.
(обратно)25
Бани.
(обратно)
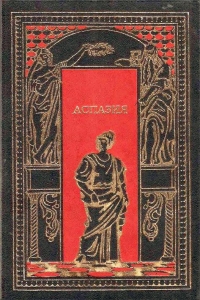






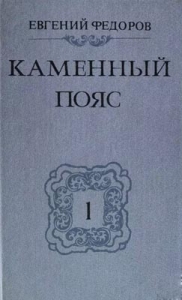
Комментарии к книге «Червоный дьявол», Михаил Петрович Старицкий
Всего 0 комментариев