Лев Никулин РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ
Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем, и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу…
Федор Глинка, 1812…Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна.
А. С. Пушкин, 18341
Фельдмаршал умирал. Лейб-медик Виллие, доктор Гуфеланд и русский врач Малахов стояли у постели умирающего и глядели на это большое и грузное тело, когда-то могучее и стройное, теперь бессильно распростертое на широкой немецкой постели. Они говорили между собой по-латыни, но фельдмаршал понимал латынь; его полузакрытый глаз глядел на них строго, чуть насмешливо.
Был девятый час вечера. Единственное окно небольшой комнаты завесили плотной суконной шторой. Перед домом настелили солому, чтобы звон подков и стук колес не тревожили умирающего. На улице стояла молчаливая, неубывающая толпа; это были жители Бунцлау, маленького городка в Силезии, которому суждено было стать местом кончины Кутузова.
Великий человек умирал. Доктор Гуфеланд, врач-чудодей, посланный прусским королем, в изумлении смотрел на утонувшую в подушках, изуродованную старыми, давно зажившими ранами голову. Он разглядел след первой жестокой раны, — тридцать девять лет назад турецкая пуля пробила левый висок Кутузова и вышла у правого глаза. Какую же силу, какое здоровье дала природа этому человеку?
Гуфеланд наклонился и рассмотрел другой, более поздний шрам. Здесь пуля вошла в щеку и вышла через затылок. Она прошла мимо височных костей, мимо глазных мышц и чудом миновала мозг.
Два раза прострелили эту большую голову, и два раза смерть щадила этого человека.
Доктор Гуфеланд взглянул на Виллие.
— Судьба берегла его для необыкновенного, — чуть слышно произнес Виллие. То были слова известнейшего врача екатерининского времени, гоф-хирурга Массо.
Необыкновенное было свершено. Наполеон бежал из России, победоносные русские войска прошли от Оки до Эльбы, но фельдмаршал умирал.
Знаменитые врачи вынесли свой приговор: нервическая горячка, осложненная паралитическими припадками.
Доктор Малахов, состоявший при фельдмаршале, хотя и был в невысоких чинах, но первый понял, что смерть стоит у порога. После того как у больного отнялась правая рука, он не спал. А прошло с тех пор пять долгих и страшных дней и ночей. Малахов и слуга Кутузова Крупенников постоянно находились у постели больного. Вернее сказать, Крупенников сидел не у самой постели, а на табурете, за ширмой, смачивая полотенце то ледяной, то горячей водой. Когда же Малахов посылал его к аптекарю, Крупенников, неслышно шагая в мягких бархатных сапогах, проходил мимо постели и открывал дверь в соседнюю комнату.
Там стояла мертвая тишина, будто не было ни живой души. Но комната была полна народа. На стульях, на диванах, на принесенных из комнаты табуретах сидели генералы и офицеры — запросто, без чинов. Два лейб-гренадера стояли в карауле у дверей комнаты, где умирал фельдмаршал. Кутузов еще жил, но казалось — ветераны несут караул у смертного одра.
Едва Крупенников переступал порог, он видел обращенные к нему взоры, в них была надежда, искра надежды, но Крупенников опускал голову и проходил мимо. Иногда чья-нибудь рука брала его за локоть, но тотчас отпускала — в глазах Крупенникова были слезы.
В полутемной комнате нижнего этажа Крупенникова ждал аптекарь.
— Фельдмаршал изволит принять порошки? — спрашивал седовласый аптекарь.
Спустя несколько минут люди, стоявшие перед домом, уже знали, что фельдмаршал принял порошки. Чуть позже об этом уже знал весь городок. Знали также о том, что фельдмаршал за всю свою долгую жизнь никогда не принимал лекарств.
В доме становилось тесно. Непостижимо быстро неслась весть о болезни Кутузова. За двадцать верст стояли полки, из полков приезжали заслуженные офицеры, герои Смоленска и Бородина, соратники по Тарутинскому лагерю, приезжали и совсем молодые люди, которых фельдмаршал знал в лицо и любил за отвагу и живость характера.
Рассказывали о том, как горюют солдаты, прослышав о тяжкой болезни фельдмаршала. Вспоминали о том, когда отчеканили медаль с всевидящим оком в память двенадцатого года; солдаты говорили, будто это око самого Кутузова: «У него, у батюшки, один глаз, да он им более видит, чем другой двумя».
Шёпотом повторяли слова фельдмаршала, слышанные офицерами на бивуаках в палатке генерала Лаврова за чаем: «Получил я выговор за то, что командирам гвардейских полков дал бриллиантовые кресты. Говорят, бриллианты принадлежат кабинету его величества, и я нарушаю право… Если по совести разобрать, то теперь каждый, не только старый солдат, но и ратник столько заслужил, что осыпь их алмазами — они все еще будут недостаточно награждены. Ну да что и говорить, истинная награда не в крестах и алмазах, а в совести нашей… честь не мне, а русскому солдату…» Вскричал: «Ура, доброму русскому солдату!» — и фуражку вверх бросил…
— Народ верил фельдмаршалу… — тихо проговорил Суворовский ветеран без одного уха и трех пальцев, отрубленных турецким ятаганом. — Ездил я однажды от Михаила Ларионовича в Калугу с его письмом градскому голове. На паперти читали народу письмо фельдмаршала: «Лета мои и любовь к отечеству дают мне право требовать вашей доверенности, силой коей уверяю вас, что город Калуга есть и будет безопасна…» Ахнула вся площадь, точно в светлое воскресенье, целовались, обнимались и разошлись по домам с спокойной душой.
Здесь были и недруги. Но странная сила исходила от этого, теперь уже умирающего человека. Даже недруги понимали, что сейчас, в последние часы его жизни, кончается блестящая глава военной истории русского народа, что имя фельдмаршала будет сиять в веках и никто не в силах затемнить его свет…
Удивительно ли, что здесь, вдали от родины, в Силезии, народ встречал его как освободителя и осыпал его цветами.
Из комнаты фельдмаршала вышел его адъютант Монтрезор. Он был самым молодым среди адъютантов и самым младшим по чину, но все знали, что фельдмаршал любил этого юношу, и обступили его. И он, в двадцатый раз, шёпотом рассказывал, как десять дней назад — 18 апреля это было — они ехали из Гайнау, где был император Александр, и как в Гайнау жители городка окружили коляску фельдмаршала и венчали его гирляндами цветов, громко называя своим спасителем от ига Наполеона. Они отъехали от Гайнау. Ветер был холодный, апрельский, а фельдмаршал расстегнул шинель…
— Я осмелился сказать: «Князь, вы простудитесь… разрешите застегнуть вам шинель». — «Не надобно», — отвечает… Едем дальше, он и говорит: «Прикажи, голубчик, остановить карету и подать мне коня. Поеду верхом…»
Все кругом качали головами и укоризненно глядели на Монтрезора, — как он не отсоветовал фельдмаршалу ехать верхом, — хотя все знали, что Михаилу Илларионовичу перечить нельзя, как он скажет, так и сделает.
— …А тут дождь пошел, а после и снег. Доехали до Тилендорфа, фельдмаршал сошел с коня и говорит: «Отдохнем где-нибудь в доме, а там поедем дальше. Хочу к вечеру быть в Дрездене». Я упросил доехать до Бунцлау. Нашли сей дом, майора фон дер Марк… Спал фельдмаршал плохо, проснулся скучный, утром ничего не стал есть.
Каждый старался припомнить, что именно делал, о чем говорил фельдмаршал в последний месяц.
«Итак, наши войска в течение этой зимы перенеслись с берегов Оки к берегам Эльбы… — писал он незадолго до этого на родину. — Все немецкие народы за нас. Даже саксонцы и владетельные князья Германии не в силах остановить этого движения и им остается только следовать ему. Между прочим, примерное поведение нашей армии есть главная причина этого энтузиазма. Какое благонравие солдат!»
Уже больной, получил он известие о взятии крепости Торн Барклаем де Толли, и это было радостной вестью. Огорчился, когда узнал, что командир Белорусского гусарского полка взял в излишестве от жителей и в магазинах продовольствие и фураж, и подписал командиру полка строжайший выговор. Приказал соблюдать экономию в расходовании продовольствия и фуража в походе. Трудился до последних дней…
Только вчера, 27 апреля, разнесся слух, что фельдмаршалу стало лучше, он даже выпил полчашки бульона, а наутро, едва найдя силы, чтобы приподняться, попросил Малахова написать с его слов письмо дочери, Лизаньке. Зятя, Кудашева, который прежде писал за Кутузова письма, когда у фельдмаршала уставал глаз, не было при нем, и Малахов взял на себя обязанности секретаря.
Пять дней назад спокойным голосом, сознавая свое положение, Кутузов продиктовал письмо жене:
«Я к тебе, мой друг, пишу в первый раз чужой рукой, чему ты удивишься, а может быть, и испугаешься. Болезнь такого рода, что в правой руке отнялась чувствительность перстов…»
Теперь, диктуя письмо любимой дочери Лизаньке, останавливаясь, тяжело и хрипло дыша, он, наверно, думал о том, что он обращается к Лизаньке с последними словами. Перо дрожало в руке у Малахова. Виллие и Гуфеланд, отойдя в сторону, тихо говорили о том, какая сила духа у этого человека, которому так мало осталось жить. Все же они думали, что Кутузов доживет до рассвета.
Но случилось иначе.
Сквозь закрытое окно и штору донесся слабый стук колес. Чьи-то быстрые шаги послышались за дверями, и двери распахнулись.
Слегка наклонив голову, не глядя ни на кого, вошел император Александр. За ним, шаркая подошвами, волоча длинные ноги и удивленно озираясь, шел Фридрих-Вильгельм, король прусский.
Александр подошел прямо к постели и, наклонившись, посмотрел в лицо Кутузову. Затем отступил немного и медленно опустился в придвинутое кресло. Только десять дней назад он видел Кутузова, — фельдмаршал выглядел удивительно бодрым и свежим. Перемена поразила Александра. Он глядел на поднимающуюся и опускающуюся широкую грудь; дыхание было редкое, хриплое, на губах пена. Фельдмаршал умирал. Но единственный глаз Кутузова в упор глядел на Александра, взгляд был холодным и осмысленным. Александр понял, что Кутузов в сознании, и спросил его о здоровье.
Грудь поднялась высоко, и вместе с хриплым выдыхом до Александра донеслось:
— …умираю.
Александр оглянулся, и тотчас все вышли, только король прусский неподвижно сидел в кресле, положив гусарскую шапку на колени.
Да еще остался в комнате, на обычном своем месте — на табурете за ширмой, верный Крупенников.
Александр думал о том, что ему следует сказать умирающему полководцу. Люди знали: Кутузов немало претерпел обид от царя, Александр не любил фельдмаршала, не хотел его назначить главнокомандующим.
Вспоминали вечер шестого ноября восемьсот двенадцатого года на бивуаках гвардейского корпуса. Фельдмаршал сидел у поверженных вражеских знамен и, приметив на одном знамени надпись «Аустерлиц», сказал: «Жарко было под Аустерлицом, но я умываю руки перед войском: неповинен я в крови аустерлицкой». Все знали, что план сражения составил бездарный австрийский генерал Вейротер без участия Кутузова. Фельдмаршал видел, что солдаты не готовы к бою. Но австрийцы и Александр торопились праздновать победу. Однако после сражения Александр не нашел ничего лучше, как обвинить в этой неудаче Кутузова.
Шёпотом пересказывали друг другу все обиды, все грубые выговоры, вспоминали дерзости великого князя Константина Павловича, досаждавшего Кутузову, вспоминали наглость и подлость Беннигсена. И Александр знал об этом. Как же быть? Может, по-христиански попросить прошения у Кутузова? Все равно никто не узнает об этом; здесь прусский король, но он не понимает по-русски, и Александр как бы с глазу на глаз с умирающим. Облегчить предсмертные муки — да, это по-христиански, это великодушно. Пожалуй, это растрогает старика и он облобызает руки своего государя.
Александр был сентиментален. Он приложил руку к сухим глазам и сказал:
— Простишь ли ты меня, Михайло Ларионович?..
Кутузов по-прежнему тяжело и хрипло дышал. Но вдруг неподвижное лицо его покривилось, глаз широко открылся, губы задвигались, и он сказал громким голосом, прозвучавшим удивительно сильно в мертвой тишине:
— Я вас прощаю, государь… Но простит ли вас Россия?
Александр вздрогнул. Ему показалось, что он ослышался. Он встал со стула и отступил. Король прусский, тоже встав, смотрел на царя вопросительным взглядом.
«Никто не слышал этих слов… И хорошо, что не слышал, — подумал Александр. — Иначе завтра же они облетят всю армию».
Он успокоился, поискал глазами икону и перекрестился. Надо было еще что-то сказать. Сквозь зубы он произнес:
— Прощай, — и пошел к дверям.
Ему показалось, что Кутузов проводил его взглядом. Шаркая подошвами, сзади шел прусский король. Нет, хорошо, что никто не слышал этих дерзновенных слов…
История иногда шутит злые шутки. Мог ли Александр думать, что за ширмой сидел Крупенников, безмолвный свидетель его беседы с фельдмаршалом, и что из уст человека простого звания рассказ об этом последнем свидании перейдет в уста народа, и слова Кутузова станут достоянием истории?
Глухо, чуть слышно прокатился гром колес по устланной соломой мостовой.
Александр был несколько бледен, когда вышел из дверей комнаты фельдмаршала. Это было замечено. Император взволнован. Есть причина для тревоги. Фельдмаршал умирает. Агония. И это было главное и непоправимое. Изгнанный из России Наполеон стоял на Эльбе. Саксония, Бавария, Вюртемберг, Австрия были еще его союзниками, Англия, как говорят, колеблется. Для иных англичан могущественная и победоносная Россия страшнее Наполеона. Через месяц у Наполеона будет полумиллионная армия. Кто может противостоять ему?
Кто победил Наполеона? Кто превзошел его искусством маневра? Фельдмаршал Кутузов. Кто будет его преемником? Легкомысленный и нерешительный Витгенштейн? Храбрый, опытный, но безвольный перед лицом царя Барклай, трепещущий при одном взгляде Александра?
Нужна была голова Кутузова, большая, изуродованная вражескими пулями голова стратега и политика, его воля, величавая непреклонность, с которой он принимал упреки, выговоры и язвительные улыбки императора и делал то, что считал нужным. Какие бы злые мысли ни владели скрытным и лукавым императором Александром, но и он был смущен в эти часы, — правда, не надолго. Еще утром его пугала тяжесть утраты, теперь же, покидая Бунцлау, он думал о том, что с этого дня все будет в его руках — и военные действия и политика. Говорят ведь — даже политику отнял у него Кутузов: он привел Пруссию к военному союзу с Россией; освободив шведскую Померанию, он заставил шведов воевать против Наполеона, заодно с русскими. Даже в Вильне, в театре, в присутствии Александра зажгли транспарант с изображением Кутузова и надписью: «Спасителю отечества».
Александр мог быть высокомерен и груб с фельдмаршалом до изгнания Наполеона, но после победы Кутузов знал свою силу. В глазах всех Кутузов — залог полной победы над Наполеоном, и теперь, когда не он поведет войска, кто знает, что подумает об этой перемене король прусский, внезапно впавший в мрачность после отъезда из Бунцлау.
Александр посмотрел на своего спутника. Положив руки на эфес шпаги, выпятив нижнюю губу, Фридрих-Вильгельм невесело смотрел на мелькающие за стеклом кареты огни…
Проводив Александра, Монтрезор возвратился в комнату фельдмаршала. Он шел на цыпочках, но едва переступил порог, увидел бледное лицо и трясущиеся губы Малахова:
— Теперь надо… священника…
Двери открыли настежь. Комната наполнилась людьми. Многие стояли на коленях. Малахов держал руку фельдмаршала, считая удары пульса.
Монтрезор схватился за голову и отвернулся к стене. Он любил фельдмаршала, любил долгие беседы в ночные часы, когда фельдмаршалу не спалось. Он любил слушать исполненные живости и остроумия рассказы о приключениях молодости, анекдоты о проказах молодых адъютантов, о шалостях давно угасших красавиц. Фельдмаршал был собеседником учтивым и пленительным.
Когда он был послом у его султанского величества Селима III, турецкие дипломаты удивлялись: как человек, столь ужасный в боях, мог быть столь любезным в обществе! Да, он любил жизнь, этот полководец-философ.
— Не постигаю, — говорил Малахов Монтрезору, — еще десять дней назад ум его был так ясен, он отдал приказ Витгенштейну, чтобы тот шел на соединение с Блюхером и главной нашей армией, чтобы не обращал внимания на диверсию неприятеля от Магдебурга к Берлину… Мы, врачи, не верим своим глазам, видя, что приходит конец такой славной жизни, — что же сказать о других? — и он показал на людей, теснившихся вокруг постели.
— Жизнь его была полна бурных событий, — шёпотом сказал Монтрезор, — много трудов свалилось на его плечи… Ум оставался ясен, воля тверда, но походы и раны разрушили это могучее тело.
Жизнь уходила, но еще теплилась. Полуоткрытый глаз глядел на огонек восковой свечи, вложенной в руку. Может быть, он видел не эту полутемную комнату, а быстро текущую желтую реку, курганы в степи, зеленые значки… И слышал звонкий, такой молодой голос: «Ребятушки! Чудо-богатыри!»… Ах, как хорошо было!
Губы умирающего дрогнули.
— Генералиссимус… — прошелестел шёпот.
Кутузов был мертв.
Вокруг громко плакали. Лейб-гренадеры стояли, опершись на ружья, и слезы текли по морщинистым, покрытым рубцами щекам.
У Малахова голова тряслась от рыданий.
По толпе, стоявшей перед домом, прошло движение, когда из дверей вышел доктор Гуфеланд, сел в карету и уехал. Это означало, что надежды нет.
Из дверей выбежал фельдъегерь, вскочил в ожидавшую с утра тележку и умчался.
Окно угловой комнаты, во втором этаже, слева, осветилось. Кто-то поднял штору. Затем окно открылось настежь. Человек в очках появился в окне. Он поклонился народу и тихо сказал:
— Фельдмаршал князь Кутузов-Смоленский скончался.
Была такая тишина, что казалось — эти слова услышал весь мир.
2
В Лондоне весной 1813 года держались туманы. Хотя туманы привычны для жителей британской столицы, но в тот год и два последующих они были особо примечательны. Без фонаря нельзя было отыскать собственного дома; в трех шагах не было видно человека, глашатаи на перекрестках выкликали названия улиц, но их заглушала брань и окрики кучеров; почтовые кареты останавливались, не доезжая Лондона, в деревнях Уолворт и Кэмберуэл.
В один из таких дней, в начале мая 1813 года, в старинном доме на Лэйстер-сквер, на кровати под балдахином лежал лондонский старожил, бывший русский посол в Англии — Семен Романович Воронцов.
Воронцову минуло шестьдесят восемь лет. Он много повидал на своем веку, был в почете, но бывал и в опале у императрицы Екатерины, а затем у Павла. Императрица не могла ему забыть того, что он втайне считал ее узурпатором престола и мужеубийцей. Павел I хотел высоко вознести Семена Романовича, звал его в Петербург, но Воронцов не поехал, и за это была ему снова опала, и Павел даже приказал взять в секвестр его имения. Но и это прошло, и многое другое. Годы шли, Воронцов постарел, — казалось, ничто уже не может его возмутить. Острый, насмешливый взгляд потух, седые кудри падали на высокий лоб, морщинистые щеки подвязаны зеленым фуляровым платком. Воронцов походил на много видевшую на своем веку старуху.
Уже более десяти лет он не был в России; здесь, на острове, он пережил грозы и бури наполеоновских войн, здесь, на острове, думал умереть, хотя и писал соотечественникам, что найдет вечный покой в родной земле, близ могил своих предков.
Потухшие глаза Воронцова грустно глядели на собеседника. Собеседником Семена Романовича был его домашний врач — Роберт Герд.
Длинное желтое лицо сэра Роберта поднималось из высокого воротника с торчащими острыми концами. Врач почтительно слушал больного, временами поглядывая в угол, — там в божнице светились богатые оклады икон, напоминая о том, что хозяин этого английского дома — русский вельможа.
— …смерти не боюсь, — покашливая от простуды, говорил больной. — Дорогие мне люди один за другим покидают сей грешный мир. Сегодня в Лондон пришла весть о смерти светлейшего князя Кутузова-Смоленского…
— Я читал об этом в «Газетире», — сказал врач. — Это был великий военачальник.
— Потомки по заслугам возвеличат Кутузова. Умер он в трудные для моего отечества дни. Бонапарт еще Силен, и долго еще не знать покоя Европе. Поэтому вдвойне для нас, русских, горька весть о смерти фельдмаршала… Сверстники мои уходят в лучший мир, скоро вслед за великим последует его скромный почитатель…
— Верьте, граф, ваше недомогание не угрожает жизни. Я бы назвал его временным упадком сил. Ваша болезнь — следствие дурного климата, затем забот государственных…
— Дорогой сэр Роберт, — возразил Воронцов, — я уже давно отошел от дел государственных. В Лондоне меня заместил мой друг Ливен, разумный, осторожный и опытный дипломат. Я живу в Лондоне подобно многим другим иностранцам, которые давно пользуются гостеприимством англичан. В молодые годы меня обуревало тщеславие. Я был высоко вознесен, но испытал и горечь опалы при покойной императрице и сыне ее Павле Петровиче. Это подорвало мои силы. Нет, никогда я не вернусь к государственным делам.
— Это большая потеря не только для вашего отечества, но и для нас, англичан.
— Хотел бы жить, как живет в Вене Андрей Кириллович Разумовский. Принимать и слушать у себя Бетховена, собирать бесценные произведения искусства, вот о чем мечтает старый и больной Воронцов. — Закрыв глаза, он опустил голову на подушки.
— Туман как будто рассеивается, — сказал врач. — Позвольте мне покинуть вас, граф… Итак, умеренность в пище, но все же, прошу, не злоупотребляйте постами. Следует помнить о том, что господь разрешает больным нарушать пост.
И сэр Роберт простился.
Он был бы крайне удивлен, если бы увидел, что произошло после его ухода. Воронцов, не торопясь, встал с постели, накинул халат на заячьем меху, сунул ноги в туфли и прошел из спальной в свой кабинет в нижнем этаже. С неожиданной в старческом теле силой он пододвинул тяжелое кресло, сел и, открыв секретный ящик бюро, взял несколько листков шелковистой китайской бумаги. Он перечитал письмо императору Александру, которое начал писать еще утром.
Воронцов писал императору Александру о том, что тяжелые осадные пушки, числом 218, которые следует употребить в дело против крепости Данциг, доставлены в порт Довер (Дувр) и будут там грузиться на корабли. Однако поспешности, которой следует ожидать в таком деле, он не видит.
Далее Воронцов писал о положении в Англии, о настроениях в обществе, писал о корыстолюбии первых вельмож британского королевства, которые не отечеству служат, не о пользе народной пекутся, а думают только, как умножить свои богатства, и ради этого способны на низость. Боясь разорения, многие жаждали мира с Бонапартом, злейшим врагом их отечества, торговцы тоже были склонны к миру, терпя великие убытки от континентальной блокады.
Именно на этом месте Воронцова потревожило посещение врача. Врач, слава богу, уехал, и Семен Романович снова вернулся к письму, от которого, в глубине души, ожидал пользы. Александр его не любил, но письмо прочтет со вниманием.
Он дошел до самой важной части письма, где подробно писал императору о том, что австрийская миссия все еще находится в Лондоне и, как ему известно от доброжелателей, склоняет лорда Ливерпуля, главу правительства, и лорда Кэстльри, министра иностранных дел, к миру с Бонапартом. Вероломство Австрии известно еще со времен итальянской кампании Суворова. Сейчас австрийский придворный канцлер, князь Меттерних, самый двуличный, вероломный и развратный из всех приближенных императора Франца, хочет быть посредником между Россией и Бонапартом, так же как между Бонапартом и Англией. Он думает только о своей выгоде и выпрашивает у Наполеона для Австрии Иллирию — славянские земли, Парму и Модену — земли итальянские.
Тут Семен Романович бросил затупившееся перо, взял другое и стал писать необыкновенно быстро, охваченный волнением; он писал о том, что в его руках находится копия донесения английского агента при Венском дворе Кинга и что сей пронырливый англичанин доносит: «Князь Меттерних обладает глубокой антипатией к русским и потому ревниво и завистливо смотрит на большое уважение, которое приобрела Россия своими недавними победами».
Тот же Меттерних предвещал год назад, в памятном 1812 году, оккупацию важнейших центров Российской империи еще до зимы и уничтожение важнейших средств вооружения к снаряжения русской армии. Об этом Меттерних писал прусскому канцлеру графу Гарденбергу, и тот, по всей вероятности, осведомил императора о пророчествах Меттерниха.
Воронцов напоминал, что Меттерних называл, еще шесть месяцев назад. Наполеона «московским императором», что его посол в Париже граф Бубна уверяет Наполеона, будто русские изнемогли, изгнав французов из России. В том же старается убедить лорда Ливерпуля австрийская миссия в Лондоне. Вместе с тем австрийцы уверяют британский кабинет, что Россия окрылена своими победами и будет требовать по меньшей мере владычества над всей Европой.
Здесь Семен Романович отложил перо и задумался. Потом потянулся за табакеркой и понюхал табак. Прежде чем закрыть табакерку, он с грустной нежностью посмотрел на портрет красавицы — искусно сделанную миниатюру на крышке табакерки — и вздохнул о безвозвратно ушедших днях молодости. Потом с силой потянул ленту звонка, и тотчас же дом наполнился протяжным, мелодичным звоном.
В дверях кабинета появился высокий молодой человек в темнозеленом, грубого сукна сюртуке, застегнутом на большие медные пуговицы. Он был коротко острижен и гладко выбрит. Небольшие светлые бачки обрамляли мягкие округлые черты русского лица. Голубые глаза глядели на Воронцова с почтительным любопытством.
— Ну, здравствуй, земляк, — сказал Воронцов, пытливо глядя в глаза молодого человека. — Давно ли на чужбине?
— На масленой пошел двенадцатый год.
Голос был низкий, приятный и понравился Воронцову.
— Какому ремеслу обучился за двенадцать лет?
— Вороненые стали учился в Бирмингаме. В Шеффильде у Роджерса обучился особой закалке клинков. Пистолеты, замки для охотничьих ружей умею делать не хуже английских. Всего не расскажешь.
— Сын про тебя говорил… Это ты шотландского кулачного бойца одолел? Тебя как звать?
— Федором зовут. Федор Волгин.
Волгин смотрел на Воронцова по-прежнему смело и весело, и все в нем нравилось Семену Романовичу, однако он ворчливо сказал:
— Избаловался, поди: народ здесь балованный… Взять хотя бы ноттингемских ткачей. Как так можно работнику против хозяина итти, барское добро ломать? Это ж прямая пугачевщина! Небось, и про это слыхал?
— Слышал, — нехотя ответил Волгин, — в пэблик-хаузах люди толкуют.
— А ты и аглицкому языку выучился?
— Писать не могу, а понимать понимаю.
— Пожалуй, и газеты читаешь?
— Когда было время — читал… Правду ли пишут, ваше сиятельство, будто фельдмаршал князь Кутузов в походе скончался?
— Правда.
— Вечная ему память, — и Волгин перекрестился.
Помолчав немного, Воронцов через плечо внимательно поглядел на курьера. Что-то новое, прежде не заметное появилось в последние годы в русских людях, которых он вывез еще много лет назад из России. Вот и этот тоже… Бедовый народ! Он выпрямился во весь свой высокий рост и строго сказал:
— Слушай, Федор… Загостился ты в чужих краях. Правда, по моей воле. От этого будет польза для ремесла.
— По мне хоть сегодня ехать, — просто сказал Волгин.
— У тебя своей воли нету, ты мой человек, где бы ни был, — чуть рассердившись, сказал Воронцов. — Слушай, пока мы с тобой жили на острове в тепле да в покое, братья, русские люди, отстояли родную землю. Ну, я старый и хворый, а ты вон какой богатырь… Надумал я послать тебя с важнейшими, государственной важности, депешами в главный штаб его величества. Путь твой далекий и трудный. В Гревсенде сядешь на корабль, будешь плыть до города Гамбурга, там тебя высадит на берег шлюпка. В Гамбурге — гарнизон французский, держи ухо востро. Разыщешь аптекаря Кранца, он живет против главной кирки, на площади, в доме под номером восемьдесят восемь. Сведет он тебя к русскому купцу Никите Сергеевичу Рубашкину, от него получишь маршрут. Выучишь его, как «Верую», и сожжешь. Дальше, где в почтовой карете, где верхом, где пешком добирайся до города Виттенберг, что на реке Эльбе. Там в заезжем доме «Под букетом» вдовы Венцель будешь дожидаться курьера канцелярии его величества. Ему отдашь депеши… Ступай, посиди в прихожей. Придет время — позову.
Волгин отправился в прихожую, а Семен Романович вернулся к своему бюро и продолжал писать.
Он писал о том, что австрийцы в Лондоне рассказывают, будто в Париже нет никакого уныния, всюду крайнее возбуждение умов и заносчивая самоуверенность. Бонапарт собрал под знамена сто пятьдесят тысяч новобранцев. Гимназии и лицеи опустели, стар и млад — все ушли в солдаты. Покидая Париж, Наполеон сказал: «На время войны я вновь стану генералом Бонапартом». Англичане полагают, что к началу новой кампании в Европе у него будет полмиллиона солдат, оттого многие склоняются к миру с Наполеоном. Тяжкие испытания предстоят русским воинам. Со славой кончили одну войну, в надежде на победу начнем другую.
В этом месте письма Семен Романович слегка призадумался. Он, впрочем, знал честолюбие Александра и написал о том, что не было известно Александру, — о словах Меттерниха: «Не рассчитываю на твердость императора Александра». Семен Романович осмелился написать и о том, что лондонские благожелатели России опасаются участия в делах политических и влияния на императора Александра человека, который носит высокое звание статс-секретаря императора…
И Семен Романович твердой рукой вывел имя Карла Васильевича Нессельроде, напомнил сокровенные беседы его с князем Меттернихом, когда Нессельроде возвращался из Парижа в 1811 году. Подозрительной была близость Нессельроде с нынешним австрийским канцлером.
На этом можно было окончить письмо, — в сущности, оно ради этого и было написано, — но Семен Романович счел нужным добавить несколько строк. Написав эти строки, он прочел их вслух, как бы обращаясь к невидимому собеседнику:
— Вы милостиво разрешили мне писать вам, полагая, что Христофор Андреевич Ливен здесь человек новый. За то великое спасибо вам, государь… В Петербургских гостиных меня называют англоманом. Какой вздор! Я — русский, только русский! В самые тяжкие дни я жил в Англии и даже в несчастье и в опале вкушал уважение к России. И до последнего дыхания моего остаюсь верным слугой отечества и вашим слугой, государь…
Увлекаясь все больше, он продолжал:
— …император Павел Петрович соизволил сказать обо мне: «Пусть живет, где хочет». И тогда говорили обо мне недруги мои, будто я забыл родину и в доме моем все на английский манер — и ленч, и обед в семь вечера, и пуддинг, и охота английская. Пусть так, но, ко всему тому, я, даже в ущерб моему здоровью, соблюдаю посты и служат мне русские конюхи и егеря, а не английские грумы.
Тут он умолк. Подошел к бюро, прочел написанное. Последние строки письма ему не понравились: он точно оправдывался, а оправдания хоть и были нужны, но не такие. Воронцов представил себе лицо Александра, равнодушную его улыбку… Нет, не перед ним же оправдываться, какой он русский!
Он взял листок, на котором были написаны эти строки, задумался, но оставил не изменяя, добавил благодарность за милости, оказанные сыну Михаилу Семеновичу, и вместо подписи поставил слова:
«Слуга отечества».
Затем Семен Романович потянул ленту звонка и приказал позвать к себе Николая Егоровича Касаткина.
Касаткин, бессменный секретарь Воронцова, уже тридцать лет делил с ним труды. Это был еще крепкий старик со строгим, хмурым лицом, в парике, причесанном по старинной моде.
Воронцов протянул было Касаткину письмо, но не отдал и снова положил перед собой.
Еще в декабре прошлого года принц-регент послал в парламент предложение о назначении пособия пострадавшим подданным императора российского; предложение было рассмотрено в палатах. Воронцов, вспомнив об этом, решил, что известие будет приятно Александру. Пока он дописывал сообщение на отдельном листе, Касаткин молча сидел в углу, поглаживая ноющее от подагры колено.
— Вот, друг мой Николай Егорович, — сказал Воронцов, отдавая ему письмо, — для такого дела годится «Север».
«Север» было название шифра, который употреблялся в особо секретных донесениях императору Александру.
— Тут без тебя, Николай Егорович, толковал я с курьером. Молодец, мне по душе.
— Он племянник вашему человеку, Антону Софронову, что ваша милость посылали в Париж.
— А где он нынче, Софронов?
— Прошлый год в Шеффильде помер.
— Царство небесное…. Мастер был, — поискать такого. Но лукавый старец. Племянник, полагаю, в него. Но, видать, удалец. Доедет, я думаю.
— И я так думаю. А что у него на уме, про то господь знает.
Касаткин ушел к себе.
Федор Волгин терпеливо дожидался в прихожей, пока его позовут наверх, к Воронцову. Время шло. Медленно текли мысли. Волгин вспоминал разговор в кабинете: «Прямая пугачевщина… Это про ноттингемских ткачей. Они, ткачи, верно, про Пугачева и не слыхали. И кто увидал в них пугачевцев? Воронцов, умная голова. Значит, и у него страх в душе».
Пока Волгин размышлял о своем разговоре с Воронцовым, в потаенной комнатке верхнего этажа Касаткин во второй раз от слова до слова перечитывал письмо императору Александру. Нос его сморщился, глаза сощурились, он как будто и одобрял и не одобрял написанное Семеном Романовичем. Будь его воля, добавил бы он к этому письму, что в Данциг отправился восьмидесятипушечный фрегат «Буцентавр», что сей корабль будет стрелять по Данцигу особыми зажигательными ракетами, которыми англичане сожгли Копенгаген.
Когда Касаткин дошел до того места, где говорилось о пособии пострадавшим подданным императора российского, то нахмурился и неодобрительно покачал головой.
Уж кому-кому, а Семену Романовичу было известно, как приняла предложение принца-регента палата лордов. Сам Касаткин докладывал Воронцову: очень хотелось достопочтенным лордам отвергнуть это предложение. Лорд Голланд соизволил сказать, что отвергнуть его, после того как оно сделано, будет «неблагоразумно и опасно». Мол, этим обидишь дорогого союзника… А в палате общин мистер Уитбрэд прямо сказал, что пособие окажется лишь жалкой субсидией, выданной для продолжения войны.
«Бог уж с ним, с этим пособием, — сердито поджимая губы, думал Касаткин, — как-нибудь оправится отечество без их подаяния… И к чему надумал Семен Романович писать об этом деле императору Александру? Уж не думал ли напомнить о великодушии и чувствительности его союзников?»
За тридцать с лишним лет старик хорошо знал Воронцова, знал его дипломатические способности, знал, в чем его сила и в чем слабость. Не по душе была Касаткину дружба Семена Романовича с приближенными принца-регента, оглядка на палату лордов, на правящую аристократическую партию «тори», нарочитая холодность к оппозиции. Тут надо бы действовать тоньше, понимать борьбу партий, не давать волю своим склонностям и симпатиям.
Он дочитал последние строки письма — как бы оправдание Воронцова в том, что ему предпочтительно жить в Англии, — поморщился и снова покачал головой.
По мнению Касаткина, не следовало упоминать о том, что покойный император Павел позволил Воронцову жить, где он хочет. Император Александр знал, как было дело.
Незадолго до убиения Павла был подписан высочайший указ: за недоплаченные лондонскими банкирами Пишелем и Брогденом казне принадлежащие деньги — четыреста девяносто девять фунтов стерлингов четырнадцать шиллингов и пять пенсов — конфисковать на такую сумму имения генерала графа Воронцова, прочие же имения за пребывание его в Англии взять в казенный секвестр. Вот как было дело. Пишеля и Брогдена рекомендовал Воронцов из желания угодить своим английским друзьям.
Правда, Воронцов не уезжал в ту пору из Англии потому, что англичане не выдавали русскому посланнику паспорта на отъезд.
Кто мог угадать, как бы повернулось все дело при крутом нраве и безумстве Павла? Царствования его оставалось всего три недели, а там Александр вернул имения Семену Романовичу… А ведь дело шло к войне, не будь действа 11 марта и внезапной смерти Павла Петровича.
Все это и множество других подробнейших мелочей тридцатилетней службы вспомнил Касаткин, когда перечитывал письмо Воронцова. Как бы ни скрывал Семен Романович склонности к английскому укладу жизни, но не соблюдением православных постов, не гречневой кашей с постным маслом искупить эту склонность. Большого ума человек, а молчал бы лучше…
Только эти два места в письме вызвали неодобрение Касаткина, и при случае он решил об этом сказать Семену Романовичу.
Потом он принялся за обычное свое дело, открыл секретный, скрытый за ковром шкаф, достал запечатанный семью печатями пакет с шифром «Север». Шифр этот придумал знаток тайнописи, чиновник шифровальной экспедиции Христиан Андреевич Бек; меняли шифр каждый год в день рождения Александра Павловича.
Перекрестившись, Касаткин положил перед собой письмо Воронцова и написанный на небольшом листочке пергаментной бумаги ключ к шифру и за два часа исписал цифрами более двух листов бумаги.
Тем временем Волгин дремал в прихожей, немного обеспокоенный: поспеет ли он в гавань к вечеру?
Еще два раза пробили часы. Лакей вынес Волгину на подносе серебряную чарку водки, соленый огурец и ломоть черного хлеба, порадовав сердце русского человека на чужбине.
А Николай Егорович Касаткин, наконец, кончил свое дело и поднялся к Воронцову. Он напомнил о зажигательных ракетах.
— Писал я про это Алексею Петровичу Ермолову. Можайский уж доставил письмо. — Семен Романович вздохнул и покачал головой. — Война будет долгая, притом фельдмаршала нет в живых, одному ему под силу была такая война. До Бунцлау довел он русские войска, а кто поведет их дальше? Барклай? Да уж лучше Барклай, чем оголтелый и глупый Беннигсен или ленивый Витгенштейн… Есть у нас Дохтуров, Ермолов, Раевский, Милорадович, — но что они? Руки, а голова — фельдмаршал… Милорадович? — задумался на мгновение Воронцов, — куда там… фанфарон, честолюбец — подарил стихотворцу соболью шубу за то, что тот сравнил его в стихах с архангелом Михаилом.
— Государь повелел положить светлейшего в Казанском соборе, пусть покоится там, осененный трофеями его побед.
— Мертвых легко славить, — коротко заметил Воронцов.
Разговор снова зашел о самых срочных делах. Касаткин осмелился оказать, что, по его разумению, осада Данцига затянулась. Ежели бы удалось поднять мятеж среди жителей Данцига, французскому гарнизону и генералу Раппу пришлось бы плохо.
Воронцов с этим согласился, но подумал, что для такого дела нужен человек о трёх головах, а он такого не знает.
И Касаткин ушел, не решившись сказать о том, что ему было не по сердцу в письме Воронцова.
Семен Романович велел позвать повеселевшего от угощения Волгина. Тот застал Воронцова уже одного. Перед Семеном Романовичем лежали исписанные цифрами листы. Воронцов еще раз перечитал свое собственноручно написанное письмо. Кончив чтение, он подошел к камину, бросил письмо в огонь и мгновение глядел, как исчезал синеватый дымок от разом вспыхнувшей тонкой, шелковистой бумаги. То, что он писал Александру, превратилось в длинные колонки цифр, тщательно выписанных старческой рукой Касаткина.
Затем Воронцов достал плотный, клеенный на полотне конверт, вложил в него шифрованное письмо и запечатал восковой печатью. Взял со стола сумочку желтой кожи, положил в нее конверт и подошел к Волгину.
— Расстегни ворот, — строго и значительно произнес Воронцов.
Он надел на шею Волгину кожаную сумочку и сам застегнул пуговицы сорочки и сюртука.
— Федор Волгин, — сказал Воронцов, — ежели скоро и не жалея жизни своей доставишь пакет, дам я тебе награду, наградой тебе будет воля… Дам вольную. Слово мое крепко.
И уже другим голосом стал наставлять Волгина:
— Вина в дороге не пить. В Гревсенде, в гавани, стоит бриг «Святая Екатерина», капитан Джордж Вилимс. Он тебя ждет. Дорожные пистолеты возьмешь у Касаткина. Тоже и деньги. Ну, ступай…
Он проводил Волгина до лестницы и невольно залюбовался статным, широкоплечим парнем, шагавшим вниз через две ступеньки.
«Удалой народ, — думал Семен Романович, — однако всем воли дать нельзя, нет хуже скачков от деспотизма к вольности…»
Но тут ему вспомнился человек, который всей душой ненавидел рабство, восстал против сословного деления общества и стоял за равенство свободных граждан перед законом в правах и обязанностях.
Семен Романович вспомнил Радищева, которому брат Александр Романович всегда оказывал покровительство.
В последний свой приезд в Россию он много говорил с братом о несчастном Радищеве. Узнав еще в Лондоне о каре, которая постигла Радищева за книгу, он через верного человека написал брату Александру Романовичу: «Десять лет Сибири за книгу — это хуже смерти… Что же сделают за действительное возмущение?»
Он даже похвалил камердинера Радищева, который пожелал непременно последовать за Радищевым в ссылку.
Но брат показал ему список с книги «Путешествие из Петербурга в Москву», и когда Семен Романович прочитал призыв к рабам — «ярясь в отчаяньи, разбить железом главы бесчеловечных своих господ», — то устрашился и сказал, что, пожалуй, права была покойная императрица, пожалуй, и вправду Радищев похуже Пугачева.
Однако он все же извинял брату его давние добрые чувства к Радищеву.
В то время первым людям государства было лестно вести переписку с «вольнодумцами» Вольтером и Дидро, но те жили далеко, казались неопасными и умели быть обходительными с русскими вельможами.
Он долго еще сидел в кресле у своего бюро, перебирая в памяти минувшее. Грустно было думать, что он один на свете. Умер в опале брат Александр Романович, уволенный Павлом в отпуск «на сколько ему угодно», и каждый раз, отправляя курьера в Россию, Семен Романович особенно болезненно чувствовал свое одиночество. Кто же остался? Сын Михаил Семенович? Но он был в действующей армии. Его ожидало прекрасное будущее, он умел быть на виду, даже находясь в отдалении от императора.
Кого же не хватало здесь Семену Романовичу? Он с некоторым удивлением подумал, что часто вспоминает Можайского, офицера, состоявшего при нем в бытность его, Воронцова, послом.
Этот молодой человек, приятель сына Михаила, осмеливался рассуждать о неуважении людей высоких чинов к людям низшего звания, о жестокости начальников в обращении с солдатами, о лихоимстве чиновников, о Наполеоне, которого Воронцов считал «Робеспьером на коне», похитителем престола и узурпатором.
Молодой офицер тоже осуждал Наполеона, но только за то, что он славе полководца республики предпочел императорскую корону. Этого уже не мог стерпеть Воронцов и запретил Можайскому говорить с ним о том, что не касается дела. Он хотел совсем отослать офицера, но сын упросил оставить его работать в архиве Воронцова. И Семен Романович вскоре тоже соскучился и, позвав к себе Можайского, не без удовольствия слушал похвалы богатству и редкостям, находившимся в архиве. И тут вдруг открылось, что молодой офицер говорил о собрании брошюр и воззваний, выпущенных в Париже в годы революции…[1]
Из этого примечательного разговора Семен Романович заключил, что не только воззвания Конвента известны молодому офицеру, но и газета «Moniteur universelle», в которой печатались отчеты национального, учредительного и законодательного собраний, отчеты заседаний революционных трибуналов. Но более всего Можайского, как оказалось, привлекала борьба монтаньяров с жирондистами.
«Вот уж подлинно — пустил козла в огород…», — подумал тогда Семен Романович.
И тут Можайский пустился в рассуждения о том, что походы коалиции против Франции только объединили ее народ. Когда же Семен Романович не согласился с ним, то этот молодец напомнил, что сам генералиссимус Александр Васильевич Суворов был того же мнения, многократно повторяя в разговоре с Ростопчиным, что вступление во Францию вызовет всех ее обитателей к защите страны, и осуждал разглагольствования эмигрантов-проходимцев…
— Откуда тебе это ведомо? — в гневе закричал Семен Романович, но тут же осекся, потому что именно про это ему писал в письмах Ростопчин и письма эти хранились в архиве.
Вспомнив о Можайском и об архиве, Семен Романович позвал к себе Касаткина.
— Николай Егорович, — с грустью сказал он, взяв из ящика лист, исписанный чистым и ровным почерком. — Вот письмо фельдмаршала, князя Смоленского, ко мне, писанное незадолго до кончины… — рука Воронцова дрожала. — Называет меня покровителем и милостивцем дней его молодости… Не хочется расставаться, однако снеси и запри в секретный ящик.
Но прежде чем отдать, он прочел его, и видно было, что он помнит письмо почти наизусть:
— «…Несколько счастливых обстоятельств, для меня стекшихся в 812 году, тем более осмеливают меня напомянуть милости ваши, что, может быть, счастливые происшествия, частию и на меня относящиеся, приятны будут вам, истинному патриоту. Занятие в короткое время Кенигсберга, Варшавы и Берлина войсками нашими произвести должны важное впечатление в Германии…» О сыне моем пишет Михаиле Илларионович доброе слово… Двух месяцев не прошло с тех дней, и не стало Кутузова. Вспоминаю турецкие походы… Молоды мы были, Касаткин, а что лучше молодости? Ни ленты, ни звезды не дадут того, что дает молодость… Вот оттого позавидуешь иной раз поручику Можайскому. Чин у него малый, состояния нет, одна молодость и голова на плечах. Ума у него не отнимешь.
— Ум — дар божий, — угрюмо отвечал Касаткин. — Только куда заведет иной ум… Как бы не в крепость, а то и дальше.
Воронцов знал, что Касаткин попусту слова не скажет, и строго спросил:
— Что такое? Говори, Николай Егорович…
— Вот, на досуге почитайте… Манускрипт. На сон грядущий.
И он положил перед Воронцовым несколько листков, исписанных четким, ровным почерком поручика.
«Манускрипт» назывался: «Мысли о крепостном состоянии русского крестьянства» и, по-видимому, предназначался для сына Семена Романовича, Михаила Воронцова.
«Крестьянин в законе мертв» было написано наподобие эпиграфа на первой странице. Семен Романович покачал головой: «Всё он, Радищев… Чего натворил». И снова принялся за чтение.
«Крепостное состояние в России есть худший вид крепостной неволи, ибо оно есть не прикрепление к земле, а к лицу владельца. Крестьянин отдается на полный произвол помещика, и ежели помещик деспот и тиран, то может своего дворового или землепашца тиранить розгами, батогами, плетьми и даже, как сказано в указе 13 декабря 1760 года, ссылать в каторжные работы «за предерзостное состояние».
Кинем взгляд на соседние государства. Уничтожение наследственной зависимости крестьян в Пруссии началось с 1807 года, а с 1811 года крестьяне могли получать в собственность находившиеся в их наследственном владении земли, уступая помещику одну треть надела, а в ненаследственном владении — половину земли. В Варшавском герцогстве Наполеон Бонапарт в 1807 году объявил польских крестьян свободными, однако освобождение последовало без земли, земля осталась во владении помещиков. Сословие, кормящее государство, было ограблено и от сего пошла в Польше поговорка — с крестьян сняли цепи вместе с сапогами. Помещики сгоняли с земли своих бывших крепостных, сажая на исконные их земли других крестьян или немецких колонистов.
Но обратимся к злосчастным крестьянам государства Российского. Не возмущается ли сердце просвещенного человека, когда в ведомостях наших он читает подобные объявления:
«В Малой Коломне, в доме на Бугорке под номером 157, продается каменный дом с мебелями, также пожилых лет мужчина и женщина и молодая холмогорская корова с теленком».
«Во второй Литейной части, против церкви Сергия, продаются в церковном доме два человека — повар и кучер, годные в рекруты, да попугай».
Неслыханные зверства помещиков над крепостными не имеют примеров даже во времена владычества варваров. Имя злодейки Салтыковой, злодея Каменского и прочих запятнали дворянское сословие. При государе Петре Великом землевладелец, убивший крестьянина, наказывался смертию, а семейство убитого обеспечивалось имуществом убийцы. А нынче жалобы крестьян на своих мучителей сочтены изветами, сим жалобам верить не велено. Есть указ о том, чтобы крепостных людей, кои отважились бить челом на помещиков, подвергать жестокому наказанию кнутом и отправлять по желанию помещика в Сибирь на каторгу. Бесчеловечный указ, позорящий самодержицу, приложившую к нему руку! Вот причина заслуженной гибели от рук крепостных людей многих помещиков…»
— Час от часу не легче! — вырвалось у Семена Романовича.
«Никита Иванович Панин во всеподданнейшем докладе императрице изволил писать: «…в одной Московской губернии так сильно злодейство от домашних людей к помещикам своим, а иногда к фамилиям их умножилось, что в последних четырех годах двойным, тройным и больше числом от собственных людей своих многие помещики и помещицы в домах своих мучительно пострадали… В Тульской губернии генерал-аншеф Леонтьев от домашних своих людей ружейным выстрелом умерщвлен. Сколько много оскорбить долженствует нежное в человеколюбии сердце вашего величества…»
К сему следует добавить, что названный генерал-аншеф приходился двоюродным братом Панину, жил в своей деревне, окруженный крепостными гусарами, кофишенками, скороходами, предавал своих людей гнусным истязаниям и мучительным пыткам от старцев до малолетков…» — так писал Можайский.
Далее следовала ведомость, сколько за пять лет — с 1764 до 1769 года — состояло дел об убийстве дворовыми людьми и крестьянами помещиков по одной только Московской губернии.
Затем было приложено заявление из сената. Сенат испрашивал высочайшего повеления «на учинение убийцам мучительной смертной казни, сия праведная месть да устрашит злодеев и удержит крестьян и дворовых людей от столь свирепого и умножившегося убийства помещиков».
Переписав этот документ, Можайский заключал записку о крепостном состоянии русского крестьянства такими словами:
«Праведная месть последует не от сената людям, повинным в убийстве своих помещиков. Праведной местью назову я казнь, которую учинит потерявший терпение дворовый или крестьянин, доведенный до крайности мучительством тирана-помещика.
Разве сии умножившиеся убийства не были предвестием грозы, разразившейся на Волге, на Урале, в Оренбургских степях, где от рук пугачевцев горели дворянские усадьбы и множество дворян с семьями поплатились жизнью за свое зверство и зверство своих соседей. Прав был Новгородский губернатор Сиверс, доложивший императрице: «Невыносимое рабское иго — причина волнений от Оренбурга до Казани и на нижнем течении Волги…»
На этом месте обрывалась записка. Семен Романович отложил ее в сторону и задумался. Он и негодовал на поручика Можайского и дивился его смелости. Не все в этой записке было зловредными мыслями вольнодумца. Но признать это Воронцов не решался. Да мог ли он, владелец тридцати тысяч крепостных, согласиться с поручиком из обедневшего дворянского рода? Нет, не мог.
…Федор Волгин достиг уже тем временем набережной Темзы.
Уныло звонил колокол, возвещая, что наступил час прилива и вода достигла самой высокой точки.
Волгину предстояло всю ночь плыть на паруснике до речного порта Гревсенд. Если бы не кожаная сумочка на груди, — все, что случилось с ним сегодня, казалось бы сном, призрачной игрой теней в гуманный лондонский день.
Как бы гам ни было, но он навсегда оставляет этот остров, и хотя только тридцать две мили воды отделяли его от европейского берега, но там, на том берегу, Волгин почувствует себя куда ближе к родине.
Родина…
Он вдохнул влажный, горький от каменноугольного дыма воздух и повернул лицо к ветру, как будто бы этот резкий и сильный ветер мог принести ему запах распускавшихся березовых почек и дымок родных изб, запахи родины.
Монотонно и уныло звонил колокол.
3
Поручик Александр Платонович Можайский, тот самый молодой офицер, которого порой вспоминал в Лондоне Семен Романович Воронцов, провел всю войну в гренадерской дивизии, которой командовал Воронцов-младший, сын Семена Романовича.
Он отходил с дивизией через Москву на Тарутино, выполняя исторический маневр Кутузова. Он участвовал в битве под Красным, Малоярославцем и совершил тяжелый зимний поход, преследуя то, что осталось от армии Наполеона.
Осенью 1812 года находившаяся под командованием Чичагова так называемая Молдавская армия, действовавшая против союзника Наполеона — Австрии, предприняла движение от Бреста к Березине. Русские войска шли с боями, оттесняя армию австрийского главнокомандующего Шварценберга и французского генерала Ренье. Части легкой кавалерии уже вступили в Польшу. Особенно отличались в этих смелых рейдах летучие отряды Дехтерева, Мелессино и Чернышева. Русская конница подошла к Варшаве.
«Русские под Варшавой!» Эта весть ошеломила поляков, считавших Наполеона непобедимым. Народ страдал от своеволия и жестокостей, чинимых французами. В Минске были брошены тысячи больных и раненых польских солдат. На всем пути, где проходила «великая армия» Наполеона, деревни были разграблены и сожжены, крестьяне спасались в лесах от убийц и насильников в мундирах французской, баварской, саксонской, вестфальской армий. И все же высшее сословие — шляхетство — верило и верно служило Наполеону.
Русское командование обратилось к народу с воззванием — Александр I обещал восстановление польского независимого государства.
Распространяя эти воззвания, летучий отряд Чернышева в то же время истреблял склады снаряжения и продовольствия неприятеля, проникая глубоко в неприятельский тыл.
Когда в штабе гренадерской дивизии, которой командовал Михаил Семенович Воронцов, стало известно, что Чернышеву требуются офицеры, хорошо знающие польский язык, Можайский просил Воронцова отпустить его к Чернышеву. Михаила Семеновича удивила просьба Можайского, — служить у младшего Воронцова считалось легко и приятно, вокруг был как бы маленький двор, и этот маленький двор тоже не одобрял хотя бы временного откомандирования Можайского.
При Воронцове состоял Сергей Тургенев, товарищ Можайского по Геттингенскому университету, добрый и умный Казначеев, веселый остряк барон Франк. Они все вместе пробовали отговорить Можайского от его затеи, но он стоял на своем. Приятелей его давно удивляли странности поручика: его склонность к уединению, чередование веселости и грусти. Тургенев объяснял эти странности печальной развязкой сватовства поручика к одной юной особе. Друзья устроили проводы. Дело было в Белостоке, во дворце воеводства, где стоял Воронцов с его штабом. Проводы получились веселые. Отпуская Можайского, Воронцов пожелал ему скорого возвращения; он считал поручика своим человеком еще с тех времен, когда тот жил в их доме в Лондоне, на Лэйстер-сквер, и ведал архивом Семена Романовича.
Три месяца провел Можайский в легкоконном отряде генерала Чернышева и за это время только два раза видел своего начальника. Военные действия отряда Чернышева в Польше были решительными, и смелыми до дерзости. Небольшой по численности отряд кавалерии очищал от французов воеводство за воеводством. У. Чернышева был опыт партизанской войны, в Отечественную войну он действовал в тылу армии Шварценберга и сумел устрашить австрийских генералов. Австрия в то время состояла в союзе с Наполеоном и угрожала юго-западному русскому краю.
В стране многие были обижены высокомерием и надменностью французов, вдовы и сироты не прощали Наполеону гибели польских полков в русском походе. Народ устал от войны и отвечал гробовым молчанием на зажигательные призывы ксендзов в костелах.
Александр I подписал «правила умеренности», «кои должны сопровождать занятие края сего, в видах военных предпринятое».
Фельдмаршал Кутузов дал наистрожайшие приказания о миролюбивом обхождении войск с жителями.
«Войска, — писал в приказе Кутузов, — привыкшие отличаться на поле чести, не менее отличились подчиненностью, послушанием и поведением своим. Обращение с ними жителей доказывает их признательность… С радостью встречали они Российское войско и повсюду пребыли и пребывают спокойны».
Фельдмаршал писал и о народе, который «стенал от угнетений различных, в особенности от сильных налогов», об установлении «равных и неотяготительных поборов». Эти меры успокоили народ, но вместе с тем вызвали злобу магнатов, которым было не по душе подобное равенство. Было среди дворянства немало таких, которые все еще ожидали появления Наполеона на берегах Вислы с трехсоттысячной армией. Здесь, на Висле, потерпевший поражение в России Наполеон обещал встретить русскую армию и отплатить за изгнание из пределов России.
Можайскому было нелегко в кавалерийском походе — все время настороже, в стычках с французскими гарнизонами. Вместе с тем он должен был исполнять «правила умеренности», внушать младшим офицерам и солдатам уважение к польским учреждениям, стараться расположить к русским простой народ, запуганный своеволием помещиков и мелкопоместной шляхты. Обходительный, отлично говоривший по-польски русский офицер, умел расположить к себе и чванного магната, и магистратских чиновников, и даже скрытного, ненавидящего «схизматиков»-русских настоятеля бернардинского монастыря.
При всем том Можайский был личностью, мало значительной для Чернышева; он только дважды удостоился беседы с генералом: один раз, когда приехал в отряд, другой раз, когда его покинул.
Зато Можайскому фигура Александра Ивановича Чернышева представлялась крайне загадочной и романтичной. Еще до его службы у генерал-адъютанта ему много рассказывали о ловкости Чернышева, о его способностях к тайной разведывательной службе. Рассказывали, что в Париже он одурачил министра полиции Савари, да и не одного Савари. Только после того как Чернышев покинул Париж, накануне кампании 1812 года, в точности узнали о том, что копии секретнейших приказов Наполеона нередко попадали в руки Чернышева, прежде чем их подписывал сам император.
Восемнадцать месяцев Наполеон втайне готовил вторжение в пределы России. Восемнадцать месяцев он вел искусную игру, уверяя русского посла Куракина, что передвижение войск к берегам Немана — только предупредительные меры для защиты Данцига от высадки англичан. И когда в Париже появился блестящий щеголь, вертопрах и танцор Александр Иванович Чернышев — для Наполеона не было сомнений в том, что он послан в Париж с секретной миссией разведать замыслы «императора французов». Однако он довольно низко оценил способности Чернышева, приглашал его на интимные завтраки, на охоту, по целым часам болтал с этим «ветреным шалуном» — и все для того чтобы отвлечь внимание, скрыть свои враждебные планы против России.
Александру Ивановичу было наруку благоволение императора, — подражая Наполеону, придворные искали дружбы генерала Чернышева. Этот «вертопрах» и «шалун» с удивительным искусством сумел расположить к себе принцессу императорского дома Полину Боргезе, подружиться с молодыми офицерами гвардии, от которых выведывал все, что делается в полках. Легкомыслие и болтливость дам, честолюбие, зависть, алчность вельмож — все умел использовать Чернышев. До последних дней его пребывания в Париже опытнейшие сыщики не смогли проследить, как Чернышев среди ночи ускользал из танцевального зала во дворце Тюильри, чтобы через некоторое время появиться в маленькой квартирке на улице де ля Плянш, где обитал скромнейший писец экипировочного отдела военного министерства, некий господин Мишель.
Каждые две недели в военном министерстве готовился отчет о составе и передвижении войск, предназначенный только для Наполеона. И, прежде чем попасть в руки Наполеона, секретнейшие данные этого отчета оказывались в руках у Чернышева. Все это проделывалось с помощью того же Мишеля, чиновника экспедиции Сальмона и чиновника отдела передвижения войск некоего Саже.
Для русских не осталось и тени сомнения в том, что Наполеон собрал огромную армию на берегах Немана и готовит вторжение в Россию.
Чернышев был и хитроумным дипломатом; его миссия в Швеции, возложенная на него Александром, увенчалась успехом: он сумел склонить шведского наследного принца Бернадотта выступить на стороне коалиции против Наполеона. Император Александр восхищался смелостью и ловкостью Чернышева в делах, требующих особой тонкости и решительности, и произвел его в генерал-адъютанты.
В первый раз Можайский был представлен Чернышеву в пуще, неподалеку от Вильны. Бушевала январская непогода, дым бивуачных костров ел глаза. Два всадника со свитой выехали на поляну. Можайский сначала не разглядел Чернышева, потому что во все глаза глядел на другого всадника, в бурке и казацкой атаманской шапке. Скуластое лицо всадника, седеющие, опущенные книзу усы, а главное — удивительное спокойствие во всех чертах лица привлекли внимание Можайского. Это был Матвей Иванович Платов, «ветер-атаман», удалой наездник, почитаемый всей армией. Пока Чернышев, утирая платком мокрое от снега лицо, слушал рапорт Можайского, Платов подъехал к костру. Казаки, лежавшие на попонах вокруг костра, тотчас вскочили на ноги. Поздоровавшись с ними, Платов потянул носом воздух, — запах печеной картошки, видимо, дошел до него. Он что-то сказал, и бородач-казак, выхватив почти из огня две картофелины, перебрасывая их с ладони на ладонь, надломил, посолил и подал Платову. Платов взял картофелину, откинул полу бурки и достал флягу. Сделав Добрый глоток, он закусил печеной картошкой и, поворотив коня, подъехал к Чернышеву. Скосив глаза, Можайский все еще глядел на Платова. Чернышев дослушал рапорт, кивнул, и оба всадника исчезли в пелене мокрого, тающего на лету снега.
В другой — и в последний — раз Можайский увидел Чернышева перед отъездом из отряда, в чистеньком домике сельского войта — старосты. Странно было видеть в сельском домике зеркало, флаконы с духами, принадлежности туалета парижской работы.
Час был ранний. Чернышев сидел в халате, в шапочке с кисточкой, задорный хохол черных, уже редеющих волос выбивался из-под неё. Длинный, тонкий нос чуть подергивался, широко расставленные глаза скользнули взглядом по фигуре Можайского, как бы вспыхнули и тотчас погасли. Он был моложав, довольно приветлив, но в нем уже замечались черты сановитости и спеси.
— Мне доложили, что вы, господин поручик, подали просьбу о возвращении в гренадерскую дивизию…
Он приник к зеркалу, как бы желая показать, что его больше интересуют непокорные кончики усов, чем весь этот разговор.
— Военные действия в Польше пришли к концу, не стану вас удерживать…
Можайский с любопытством глядел на этого человека. Было же в нем что-то иное, кроме одного щегольства и заботы о своей наружности, если Наполеон мог беседовать с Чернышевым по четыре часа кряду.
— Отпускаю вас, поручик, но — уговор… Извольте выполнить поручение, которое, зная ваши способности, могу вам доверить. Я вами доволен, хотя мы и не успели с вами близко познакомиться…
Далее разговор шел по-французски. Все в той же снисходительно барственной и в то же время чуть фамильярной манере Чернышев рассказал то, что он знал и чего не мог знать Можайский.
— В Варшаве нам удалось захватить донесения тайных французских агентов герцогу Бассано, касающиеся именитых особ Варшавского герцогства. — Тут он усмехнулся и с видимым удовольствием продолжал: — Сторонникам Наполеона доставит огорчение узнать, что пишут о них его тайные агенты и как низко ставит польскую знать Наполеон… Мне докладывали, что вы, поручик, несмотря на вашу молодость, держались с должным достоинством и проявили в беседах с поляками благоразумие и знание обычаев страны.
— Говорил одну правду, генерал… Говорил, что Наполеон распоряжался Польшей, как своей вотчиной, и, подчинив Польшу курфюрсту Саксонскому, тем самым унизил страну и ее народ… Говорил, что Иосиф Понятовский, которого Наполеон хочет видеть правителем Польши, не более как игрушка в его руках, что и здесь Наполеон идет против воли народа…
— Народ, — пожимая плечами, сказал Чернышев. — Эти господа сочли бы за обиду, если бы их равняли с народом, с простолюдинами… Император Иосиф II как-то изволил шутить: «В Польше всеми делами управляют женщины, мужчины только рассыпаются в любезностях…» Я решил возложить на вас деликатное поручение. Оно не займет много времени, но потребует некоторой тонкости и знания ситуации… Вам надлежит отправиться в Силезию, в поместье Грабник графини Грабовской. Я имел честь быть представленным этой даме в Париже. Она выглядела прелестной, но показалась мне чересчур умной и склонной к опасным интригам… Впрочем, дело не в ней, вы встретите в Грабнике ее родственника, хорунжего Михаила Стибор-Мархоцкого, он доверенное лицо князя Адама Чарторыйского и предупрежден о вашем приезде…
Тут Чернышев на некоторое время снова увлекся созерцанием собственной особы в зеркале, затем продолжал:
— Ваша миссия состоит в том, чтобы вручить хорунжему Мархоцкому подлинные донесения французских тайных агентов, которые удалось захватить в Варшаве. В тех местах особенно сильны сторонники Бонапарта, и это будет для них неприятный сюрприз. Кому приятно читать подробнейшие рассказы о своей алчности, низменных страстишках, всяческих подлостях и свинстве! К тому же тут задеты и патриотические чувства тех, кто их сохранил… Государь придает важнейшее значение польским делам. Сколько мне известно, вы владеете польским языком и, разыгрывая благожелательного иностранца-француза, можете приметить много полезного для нашей политики. Если наблюдения ваши представят интерес для статс-секретаря его величества, кто знает, может быть ваше путешествие послужит добрым началом вашей придворной службы. Вам придется ехать не в мундире, а инкогнито, притом без денщика. Вас будет сопровождать один из моих людей, опытный в таких переделках человек…
Тут он внимательно оглядел Можайского и сказал с некоторой сухостью:
— Будьте осторожны, особенно в мелочах. Вы получите бумаги французского дворянина. Возьмите с собой бальное платье, — это их привычка. Платье, натурально, должно быть сшито портным-французом, лучше всего Леже, он нынче моден… Исполнив поручение, можете возвращаться к графу Михаилу Семеновичу Воронцову. Не предлагаю вам остаться у меня, насильно мил не будешь, — кончил он по-русски, притом с недовольным видом. (Можайского удивило впоследствии, что в своих донесениях в императорский штаб Чернышев похвально о нем отзывался.)
…Так случилось, что через два часа после разговора с Чернышевым, в весеннюю распутицу, по разбитой военными обозами дороге, потащилась запряженная заморенными лошадьми карета, брошенная при отступлении французами. Карета была прочная, но лак и позолота облезли в долгих странствиях по дорогам Пруссии и Польши.
У Можайского было много времени для размышлений. Поручение, возложенное на него, не представляло больших трудностей; он достаточно знал эту страну и политическую обстановку того времени. Юные годы его прошли в местечке на границе с Польшей. События, волновавшие Польшу, доходили до офицеров полка, которым командовал отец Можайского. Впрочем, от влиятельных Друзей становилось известным и то, что волновало Петербург.
— Польша — камень преткновения для дипломатов, — говаривал Семен Романович Воронцов, — корсиканец обречен, народы Европы жаждут мира. Но прежде чем наступит желанный мир, державам следует решить судьбу Польши.
Уже не одно десятилетие судьба Польши тревожила Европу.
В библиотеке замка Сапеги Можайский находил манускрипты и книги польских писателей, историков минувших столетий. Они с горестью писали о власти шляхты, утраченной этим сословием в XVII веке.
Было время, когда все государственные должности, войско, суд находились в руках шляхты. Какой-нибудь пан Завиша из Олькеник, владевший несколькими моргами земли, почитал себя равным магнатам — Потоцкому, Осолинскому, Радзивиллу. Шляхтич не платил налогов и пошлин, не исполнял никаких гражданских обязательств и уклонялся от воинского долга даже тогда, когда объявлялось «посполито рушенье» — всеобщее ополченье. Это время шляхта называла «золотыми вольностями». Каждый шляхтич считал себя вправе принимать участие в государственных делах. «Liberum veto» — единогласие в решении государственных дел именовалось «зеницей вольности», «паладиумом польской свободы». Сорок тысяч шляхтичей съезжались в Варшаву, чтобы подать голос, избрать угодного им короля.
Между тем власть ушла из рук шляхты, не осталось и тени равенства между паном Завишей из Олькеник и графом Потоцким. Обнищавшая шляхта, арендаторы земель у магнатов были у них в полной власти. Правда, на сеймах и сеймиках в провинции шляхтич имел такой же голос, как его покровитель — магнат, но, арендуя у него землю, он жил подачками магната. Сабли шляхты и голоса ее принадлежали магнатам. Если нужно было магнату — шляхтич послушно выкликал «veto». Так пресекались попытки патриотов-реформаторов оздоровить государственную власть. Разъединенная, ослабленная раздорами олигархическая Польша сделалась игрушкой чужеземных влияний.
Можайский с интересом слушал рассуждения Семена Романовича Воронцова о том, как Польша стала камнем преткновения европейских держав:
— Матушка-царица, — так, с чуть заметной иронией, именовал Екатерину II Воронцов, — матушка-царица, по правде говоря, не была склонной разделить польское государство — «понеже мы взирали на Польшу яко на державу, посреди четырех сильнейших находящуюся и служащую преградой от столкновений», — писала ее величество Потемкину…
Можайского всегда изумляла память старого дипломата: ему ничего не стоило прочитать на память трактат или ноту, не ошибаясь ни в одном слове.
Воронцов рассказывал об интригах прусского посла в Варшаве Лукезини, прозванного «итальянским змием», английского посла Гельса, побуждавшего короля Станислава-Августа немедленно начать войну с Россией, чтобы отнять у русских западные и юго-западные области. Время эти интриганы выбрали благоприятное — Россия воевала с Турцией.
— Не даром матушка-царица писала Потемкину, — понюхивая табачок, рассказывал Воронцов, — «Буде два дурака не уймутся, то станем драться». Дураками ее величество изволила назвать прусского короля Фридриха-Вильгельма и британского Георга III. Англия готовила флот свой к отправлению в Балтийское и Черное моря, король прусский собрал войска на восточных границах Пруссии, угрожая нашим границам… Можно сказать, что магнаты польские, склонявшиеся то на сторону Пруссии, то на сторону России, привели к разделу польских владений. Ни матушка-царица, ни Павел, на что был без ума, не видели пользы в разделе Польши. Подумай, для чего было нам усиливать Пруссию и Австрию, отдавая им Привислинские земли и Галицию? Сильная Польша под покровительством России была бы всегда преградой вражескому нашествию…
Слушая рассказ Семена Романовича о разделе Польши и о том, кто был виноват в этом разделе, Можайский думал о другом… Даже самые смелые польские реформаторы не шли далее конституции 3 мая 1791 года. Даже самые смелые реформаторы не решились ограничить власть католической церкви, иезуитов, монашеских орденов. Крестьяне оставались в рабстве у помещиков, городское население — торговцы и ремесленники — не были уравнены в правах со шляхтой. Оттого весь народ польский был равнодушен к судьбам своего отечества, и это равнодушие народа проявилось в годы исторической трагедии Польши, при разделе ее владений между тремя могущественными державами.
Отроческие и юношеские годы Можайский прожил в Литве. Полк его отца стоял близ Немана, отделявшего литовские земли от Польши. В годы восстания Костюшки Можайскому было только пять лет, но в юношестве ему не раз пришлось слышать от отца суровое осуждение предательства магнатов — графа Ксаверия Браницкого и генерала Феликса Щенсного Потоцкого, призвавшего русские войска в Польшу. Не все русские офицеры с охотой шли против польских патриотов.
Просвещенные люди испытывали истинную радость, когда Павел I ознаменовал первые дни своего царствования освобождением Костюшки из плена и возвращением ссыльных поляков в Польшу. Это сочли добрым предзнаменованием. От России ожидали разумной и благожелательной политики. Поляки с ненавистью говорили о Пруссии, которая получила по разделу Данциг, Торн и Великопольшу, ввела в этих польских землях прусскую администрацию, податную и полицейскую систему, насильственно онемечивала поляков. В Галиции, доставшейся Австрии, были австрийская администрация, австрийские школы, и поляков вынуждали служить в австрийских войсках.
Французская революция пробудила надежды в сердцах польских патриотов. Победы революционных армий, казалось, возвещали освобождение Польши. Высоко взошла звезда генерала Бонапарта. Польские легионы сражались под знаменами Франции. Австрия была разгромлена и вынуждена подписать мир в Кампо Формио в 1797 году. Однако в мирном договоре не было сказано ни слова о независимой Польше.
В 1805 году, незадолго до злосчастного вступления в коалицию с Пруссией и Австрией, много говорили о плане князя Адама — Юрия Чарторыйского. План этот состоял в том, чтобы восстановить Польшу такой, какой она была до раздела. Князь Чарторыйский мечтал видеть на престоле польских королей императора Александра. По мысли Чарторыйского, эта династическая связь соединила бы Россию с независимой Польшей. Пруссия и Австрия, получив компенсацию за счет некоторых германских земель, навсегда утрачивали бы польские земли.
Таков был план Чарторыйского, друга молодости императора Александра, в то время министра иностранных дел России. И когда в 1805 году, по пути в Берлин, Александр заехал в Пулавы — родовое имение Чарторыйских, — многим казалось, что план князя Адама близок к осуществлению.
В Пулавах, в великолепном поместьи Чарторыйских, Александр увидел подобие античного храма, сооруженного в парке. «Прошедшее — будущему», — сияла золотая надпись над портиком. В храме были собраны исторические реликвии старой Польши — древнее оружие, знамена, трофеи славных побед. На празднествах в честь Александра гремели крики «виват!» и произносились аллегорические тосты во славу будущего польского королевства.
Но Александр проследовал в Берлин.
В Потсдаме, спустившись в мавзолей короля Фридриха II прусского, император Александр, прусский король Фридрих-Вильгельм III и королева Луиза поклялись в вечной дружбе. И это означало, что польские земли останутся во власти Пруссии.
Прошло восемь лет. Князь Чарторыйский, помня Пулавы и клятву у гроба Фридриха II, писал в декабре 1812 года Александру: «Опасаюсь, с одной стороны, внушения континентальных держав: они захотят отклонить вас от мысли, которой они испугаются и которая слишком прекрасна для того, чтобы поняли ее их кабинеты».
Конечно, всех этих подробностей не мог знать Можайский, как он не мог знать и того, что князь Адам Чарторыйский будет обманут в своих ожиданиях.
Одно было ему известно: есть еще в Польше люди, которые верят в счастливую звезду Наполеона, в то, что он даст Польше независимость и восстановит в прежнем блеске польское государство.
На второй день путешествия Можайский пережил огорчение: при переправе через разлившуюся в половодье речонку дорожные вещи его чуть не утонули в воде; ехавший с ним под видом слуги, «опытный в таких переделках» пожилой человек Чернышева, отлично говоривший по-французски и по-немецки, промок до нитки. На следующий день он заболел горячкой, и его пришлось оставить на попечение ксендза в первом же селении.
Путешествие началось не радостно и так же продолжалось. Радовала только погода. Стояло самое начало весны, и по склонам холмов уже зеленела трава. Открылись синеющие цепи гор, тихие долины, молодые рощицы. Грустные картины разоренных войной селений остались позади. Реже встречались угрюмые, забитые крестьяне, чуть не за версту сдергивающие шапку при виде господского экипажа.
Иногда экипаж Можайского обгонял босоногих, в рваной одежде людей с узелками на плечах. Это были «коморники» — батраки. Они брели по обочине дороги, шлепая по жидкой грязи, — мужики и бабы. За спиной у иной бабы в мешке, высунув головенку, пищал ребенок. Можайский видел, как эти люди входили в деревню, останавливались под окошками хат и терпеливо ждали. Выходили хозяева, осматривали батраков, как осматривают на ярмарках рабочий скот, а те стояли без шапок и ждали, пока их наймут. Была ранняя весна, начало полевых работ, и все больше и больше батраков попадалось на пути.
Дни были еще холодные, но однажды ночью пошел теплый дождь. Можайский ночевал на почтовой станции и, проснувшись поутру, залюбовался ближней рощей — она вся зазеленела, и все вокруг расцвело, все благоухало и радовало глаз.
Как-то в пути, когда перепрягали лошадей, он слышал разговор возницы со старцем в краковской темного домотканного сукна чамарке, с суковатой палкой в руке. То был богомолец из Ченстохова.
— Ой, паны, паны… — вздыхал старец, — губят нас наши паны. Одному захотелось быть королем, другому гетманом коронным, третьему генералом, четвертому богачом, а мы, хлопы, все терпим и за все платим…
У Можайского защемило сердце от этих горьких и правдивых слов. Не об этих ли бедняках писал ученый немец фон Зибель — откуда им было взять любовь к отечеству? Они не спрашивали, кто над ними властвовал, ибо всякая власть приносила им только мучения и кабалу. Однако в песнях своих народ поминал доблестных сынов своих, и разве не крестьяне-косцы, косиньеры были оплотом Тадеуша Костюшки?
На горизонте возникали чистенькие маленькие города; черепитчатые кровли домов теснились вокруг высокой стрельчатой башни костела. Ночевал Можайский на почтовой станции. В доме было душно и не слишком чисто, и он спал в карете. Выехали, как встало солнце; это была последняя почтовая станция перед поместьем Грабник. Дорога шла в гору, дальше начиналась равнина. На перекрестке на высокой колонне стояла размалеванная статуя богоматери, попирающей полумесяц. Далеко впереди блеснула река, а за ней вставала темная стена чернолесья. Можайский дремал; он плохо спал ночь, в полудремоте ему мечталось, что его ждет милая сердцу русская баня с печкой-каменкой, горьковатым духом березовых листьев… Долго ему еще не придется дождаться этой радости. Он проснулся, потому что ему почудился звук трубы… Нет, не почудился, действительно кто-то трубил в трубу.
Можайский открыл глаза, увидел заросшую камышом речку, бревенчатый мост, на нем — людей, одетых в пунцовые ливреи. Два трубача дули в трубы, однако самое странное было то, что въезд на мост был загорожен гирляндой из ельника.
«Неужели свадьба?» — подумал Можайский и даже улыбнулся такой мысли.
Он рассчитывал только на чистую постель, на сытный ужин. И вдруг — свадебный пир. О том, что после встречи с Мархоцким придется тотчас же ехать дальше, в сторону Богемских гор, разыскивать главную квартиру, думалось сейчас как о чем-то далеком. Можайский был молод и привык к долгим странствиям.
Лошади остановились перед зеленой преградой, и толстяк в парике, в вышитой серебром ливрее, сняв шляпу, приблизился к карете.
— Кто бы ни был путник, куда бы ни держал путь, с сей минуты он дорогой гость графини Анели-Луизы Грабовской.
Отступив на шаг, он снова поклонился.
— Приглашаю пана быть гостем графини по случаю дня её именин.
Можайский невольно улыбнулся, — ему показались странными и этот толстяк в ливрее, и способ приглашения. Впрочем, тем лучше… Случайный гость привлечет меньше внимания к своей особе.
Слуга в красной ливрее сел на козлы, карета двинулась не по дороге, а в сторону, по проселку. Открылась аллея высоких тополей, она привела к воротам. В глубине двора стоял дом, построенный в пышном и вычурном стиле барокко. Две статуи, изображающие конных рейтар, украшали подъезд. Когда Можайский подъехал ближе, он приметил, что фасад дома выглядит обветшавшим. На флагштоке развевался голубой флаг с гербом. Флаг спустили и вновь подняли, затем в честь приезда нового гостя выпалила медная пушечка.
Все это позабавило Можайского. Он вышел из экипажа и поднялся по лестнице. Навстречу выбежала пожилая, довольно кокетливая дама.
— Могу я узнать имя гостя? — церемонно спросила она.
— Франсуа де Плесси, — не задумавшись, ответил Можайский, как было условлено с Чернышевым.
Дама наклонила голову, и Можайского проводили в маленькую, обтянутую розовым шелком комнату — одну из приготовленных для гостей. Он тотчас осмотрел себя в зеркале. В раме из фарфоровых листьев отразилась довольно мрачная фигура. Платье было в пыли, к тому же сюртук измят, в волосах соломинки. Впрочем, тотчас слуга принес ему в двух кувшинах воду, и в соседней комнатке он нашел все для умывания. Тем временем внесли его дорожный сундук. Пока Можайский умывался, слуги разгладили костюм. Светло-зеленый фрак на атласной белой подкладке и короткие черные атласные панталоны почти не пострадали, хотя большой дорожный чемодан свалился в воду при переправе. Внимательно осмотрев фрак, сшитый три года назад Леже, одним из самых модных парижских портных, Можайский решил, что он может произвести некоторое впечатление в здешней глуши. Кого можно встретить здесь? Старосветского шляхтича, вылезшего из своего медвежьего угла? Можайскому были знакомы подобные балы по тем временам, когда полк его отца стоял в Литве.
Он был уже одет и сокрушался о том, что прическа «а ля Каракалла» не была известна здешнему парикмахеру, когда раздался стук в дверь. Вошел высокий, черноволосый, румяный молодой человек в мундире польского улана.
— Господин де Плесси? — сказал он, чуть улыбнувшись, и протянул руку. — Хорунжий Михаил-Казимир Стибор-Мархоцкий. Я ожидал вас вчера. Вас задержала распутица? О, наши дороги!..
Можайский тотчас же отдал ему запечатанные печатью Чернышева бумаги и сел в стороне, чтобы не отвлекать Мархоцкого от дела. Мархоцкий запер дверь на ключ, потом, извинившись перед гостем: «Дело прежде всего!» — взломал печати и принялся пробегать глазами бумаги. Донесения агентов относились к декабрю 1812 года, когда Наполеон уже успел сесть с Коленкуром в сани в местечке Сморгонь и покинуть остатки разгромленной великой армии.
Можайский следил за выражением лица Мархоцкого. Тот вдруг побледнел и прочел вслух:
— «Император сказал: «Правда, я потерял в России двести тысяч человек; в том числе были сто тысяч лучших французских солдат; о них я действительно жалею. Что до остальных, то это были итальянцы, поляки и главным образом немцы…» Поляки, — повторил Мархоцкий, покачав головой. Какая черствость сердца и в большом и в малом! Когда скакал через Польшу с Коленкуром, почтарь замерз на козлах его возка, он даже не спросил о несчастном.
Он снова углубился в чтение бумаг; лицо его было серьезным и строгим. Наконец, кончив читать, Мархоцкий хлопнул рукой по бумагам:
— Господам наполеонистам будет горько читать донесения шпионов герцога Бассано… Особенно тем, кто отдал своих сыновей на съедение ненасытному Ваалу! Так писать о самых верных и преданных своих слугах! Не знаю, кто именно обозначен здесь кличкой «Дафнис», но это, я думаю, человек, хорошо осведомленный, и ему хорошо известно, что именно писал Наполеону герцог Бассано о горячих сторонниках Наполеона, как он низко ценил людей, погибших в снегах России…
Затем он сложил и спрятал бумаги, застегнув наглухо мундир.
— Тут, в усадьбе моей тетушки, живут по законам старинного гостеприимства, совсем не так, как жила графиня Анна-Луиза в своем парижском особняке в парке Монсо. Многое вас позабавит… Прошу вас, однако, самым строгим образом сохранять инкогнито. Дом полон сторонниками Понятовского и Бонапарта, господин де Плесси! Француз, каковы бы ни были его убеждения, не вызовет в них вражды или подозрения… Хорошо, что вы попали к именинам тетушки: в этой сутолоке никто не обратит на вас внимания…
Они снова заговорили о последних событиях. Мархоцкий — преданнейший приверженец князя Адама Чарторыйского — был хорошо осведомлен обо всем, что произошло после того, как разбитые французы ушли за Вислу.
— Я своими глазами читал письмо князя императору Александру: «Если вы, ваше величество, протянете польскому народу руку в тот момент, когда он ждет, что последует месть победителя, и даруете ему то, за что он сражался, действие будет магическое, — вы будете удивлены и тронуты…» Император ответил, что чувство мести незнакомо ему и намерения его относительно Польши не изменились… Только безумцы могут ожидать возвращения Наполеона, но в каждом доме, чуть не в каждой семье, раздоры… Отец князя Адама, князь Адам-Казимир, был председателем сейма герцогства Варшавского и провозгласил генеральную конфедерацию, брат князя Адама, Константин, сражался под знаменами Иосифа Понятовсквго и Наполеона… Но князь Адам верит в великую Польшу, в независимую Польшу, в тесном единении с Россией.
Можайский слушал пылкие речи молодого человека и думал о том, что Наполеон стоит с многотысячным войском на берегах Эльбы, что Австрия все еще в союзе с Наполеоном, что император Александр в союзе с Пруссией, что Англию вряд ли обрадует единение славянских стран; он думал о том, что уже давно мешает единению двух славянских народов, и о будущем, которое сокрыто во мраке…
В архиве Воронцова он нашел копию донесения Семена Романовича в Петербург. Семен Романович писал о том, что Пруссия издавна подстрекает русских самодержцев против Польши, Пруссия была злым гением их политики…
Можайский внимательно поглядел на Мархоцкого и сказал:
— Верю, что у наших народов один путь. Но не вельможам решать судьбы поляков и русских, а тем, кто всем сердцем желает своим соотечественникам вольности, равенства, братства… и просвещения.
— Рад слышать эти слова от русского, — заговорил Мархоцкий, — такие люди есть в моем отечестве и в России. Не им дано в эти годы решать судьбы народов в духе вольности и равенства… Но мечтать об этом — должно. Жаль, что жизнь человеческая коротка и, может быть, не одно поколение придет на смену нашему, прежде чем…
Он умолк на мгновение и продолжал уже спокойно, без тени волнения:
— Вы здесь увидите странное для вас общество и, вероятно, осудите этих людей… Я сам так же отношусь к ним, но ведь и князь Адам, патриот, человек благороднейших чувств, порой строго осуждает своих соотечественников за леность, легкомыслие, пустоту и смешное честолюбие. Здесь, в глуши, все эти пороки видишь еще явственнее. Впрочем, вы гость, не будьте же слишком суровы к провинциальному гостеприимству…
— …тем более, что гость завтра чуть свет покинет этот дом, — заметил Можайский. — Мне следует сохранять инкогнито еще и потому, что по соседству стоят австрийские гарнизоны. Все, что делается здесь, вероятно, известно союзникам Наполеона. Мы с вами, разумеется, еще не знакомы…
— Разумеется… Желаю повеселиться и весело провести день и вечер.
Они простились.
Можайский почти не чувствовал усталости, когда за ним пришла все та же пожилая кокетливая дама и пригласила в танцевальный зал.
Он прошел за ней через полутемный коридор, поднялся по винтовой лестнице и остановился, ослепленный светом и оглушенный оркестром, гремевшим на хорах, у него над головой.
День догорал, в зале уже зажгли алебастровые лампы и сотни свечей. Смех, восклицания, гром музыки — все это после лесной тишины ошеломило Можайского.
Полукруглый зал был наполнен танцующими парами. Он угадал — общество было то же, что и во времена его детства в домах у польских и литовских помещиков. Однако картину оживляли мундиры офицеров, доломаны и ментики польских гусар. Дамы тогда уже одевались в тяжелые, затканные золотом платья из лионского бархата, в моде были кашемировые шали, но в этих местах все еще носили белоснежные одеяния эпохи Директории.
Вальс не достиг этих отдаленных углов. Впрочем, мода на вальс широко распространилась лишь после Венского конгресса, когда, по выражению мемуаристов, король вальса Ланнер дирижировал вальсом королей. В замке Грабовской танцевали кадриль, кадриль-лансье — церемонный и неторопливый танец. Кавалеры и дамы шли навстречу друг другу, отвешивая друг другу поклоны.
Можайский подумал о том, что прежде всего следует представиться хозяйке. Анна-Луиза Грабовская — это имя казалось знакомым, когда его назвал Чернышев… И только сейчас он вспомнил: это та самая дама, которую чудом спасли из пламени, когда случился пожар на балу у князя Шварценберга, австрийского посла в Париже.
Это было 1 июня 1810 года, когда империя Наполеона была в апогее величия и славы. Австрийский посол князь Шварценберг дал праздник по случаю свадьбы Наполеона и Марии-Луизы, дочери императора Франца, В одну ночь был построен из дерева просторный танцевальный зал. Его осветили тысячами свечей, убрали гирляндами роз и расписными щитами с вензелями молодоженов. Внезапно загорелся один из бумажных щитов, и тотчас пламя охватило весь танцевальный зал. Мужчины в расшитых золотом мундирах, женщины в тяжелых бархатных платьях, в бриллиантовых диадемах с криками метались в пламени. В огне погибла невестка австрийского посла, княгиня Шварценберг, и многие именитые господа и дамы.
За несколько минут до пожара Можайский вышел разыскать карету Куракина, русского посла в Париже. Здесь, в первый и в последний раз в жизни, он увидел Наполеона. Освещенный пламенем, Наполеон стоял на площади, окруженный придворными, и отдавал приказания саперам и пожарным. Даже на пожаре он никому не уступал права командовать, и в памяти Можайского остался смуглый человек небольшого роста, в мундире гвардейских егерей, освещенный колеблющимся пламенем. Обрушилась крыша, полетели горящие головни, а он все стоял, покрикивая на пожарных, и тысячная толпа на площади смотрела на него, а не на горящее здание…
Приняв непринужденный, слегка скучающий вид, Можайский прошел в боковую галерею. Там ему открылась смешная картина: на диванах и в креслах спали люди, одетые в старопольскую одежду, в голубые, желтые кунтуши с откидными рукавами.
Вдруг в зале снова заиграла музыка, раздался грохот каблуков и звон шпор. Кое-кто из спавших в креслах поднял голову. Двое, трое вскочили и устремились на звуки музыки. В зале развевались белоснежные платья, сверкали драгоценные камни, звенели шпоры, и Можайский подумал: «Да, эти баловни судьбы могут спокойно пировать и веселиться, они обязаны этим весельем ста тысячам русских, навеки уснувшим на Бородинском поле, под Красным, под Малоярославцем…»
Он горько усмехнулся и хотел возвратиться в свою комнату, но прямо перед собой увидел молодую женщину. Она была бы очень красивой, если бы не тень усталости от бурно прожитой жизни, легшая у рта.
Можайский отступил в сторону и поклонился.
— Мне показалось, что вы скучаете, — сказала она. — Но почему бы вам, молодым людям, не веселиться? Жить среди военных бурь, видеть вокруг только горе и смерть… Бедные люди, вы не знаете молодости.
— Я здесь случайный гость, — сказал Можайский, — у меня нет ни друзей, ни знакомых, и, признаюсь, мне не весело.
— Вы приехали издалека?
— Да, и завтра же уеду. Если бы не странная манера приглашать гостей, я не оказался бы гостем этого дома.
— Куда же вы держите путь, если это не тайна?
— Никаких тайн… Я француз, эмигрант, мой отец был губернатором в Пуату, он погиб в дни террора… — Можайский рассказывал очень естественно и непринужденно, все было взвешено и обдумано заранее. — Я жил в Англии. Месяц назад английский корабль привез меня в Ригу. Теперь я пробираюсь в глазную квартиру русской армии, — это где-то возле Бреславля.
— Бреславль в руках французов.
— Я этого не знал… Ну что ж, придется ехать туда, где я найду главную квартиру. У меня письмо к графу Рошешуар, генерал-адъютанту императора Александра.
— И вы, француз, будете сражаться против Франции?
Они отошли к нише окна. Она с любопытством смотрела на Можайского.
— Бонапарт — не Франция. Человек, который осмелился сказать: «Не я нуждаюсь во Франции, а франция нуждается во мне», — не француз. Я буду сражаться против тирании, за свободу народов.
— Все равно вы будете сражаться против ваших соотечественников, — несколько сурово сказала она.
— Мадам, — продолжая разыгрывать волнение, ответил Можайский, — я француз и, возможно, буду принужден сражаться против моих соотечественников. Но прославленный генерал Моро возвращается в Европу из Америки, чтобы сражаться против Бонапарта.
— И вы думаете, что он решится запятнать себя братоубийством?
Вероятно, разговор слишком затянулся. Собеседница Можайского принужденно улыбнулась, готовая оставить гостя, но в противоположном конце галереи вдруг появилась женщина. Она шла очень медленно, шаль падала с ее плеч и волочилась по полу. Она не видела ни Можайского, ни его собеседницы и остановилась, как бы прислушиваясь к музыке. Собеседница Можайского хотела отойти, но что-то в его лице, во взгляде удивило ее. Изумление, тайную боль, гнев — все это вместе вдруг отразило лицо этого самоуверенного и пустого, как ей казалось, молодого человека, искателя счастья.
— Что с вами? — спросила она.
Он ответил не сразу и с видимым смущением:
— Нет… Ничего…
Потом что-то пробормотал о даме, которая появилась и тотчас же скрылась.
— Это мадам Лярош, моя приятельница… Приятельница хозяйки и ее гостья. Муж ее тяжело ранен, она не хочет появляться в обществе. Вы как будто взволнованы?
— Разве мог я, француз, без волнения слышать ваши упреки… — довольно естественно сказал Можайский. — Не так легко решиться воевать против своих соотечественников. Но если моя родина устала, если народ жаждет мира, а этот человек приносит ей только горе, смерть, отчаяние…
— Я видела его не раз, — улыбнувшись сказала собеседница Можайского. — Черты лица мне показались красивыми, но не выразительными… Гладкие, черные, плотно лежащие волосы, светлосерые глаза. Взгляд быстрый и рассеянный, точно он никогда не слушает, что ему говорят, и отдается своим мыслям. Лицо матовой белизны, античный профиль… Однажды он улыбнулся, и, верите ли мне, что-то кроткое было в его улыбке. А говорят, он несет с собой только несчастье… Чтобы ни говорили, я верю, что это великий человек… Если бы не несчастный русский поход, Польша была бы могущественной и независимой! — Она произнесла эти слова как бы с вызовом и посмотрела прямо в глаза Можайскому.
— Он обещал то же Италии. Разве он не говорил, что желает видеть Италию сильной и могущественной, в ряду великих держав? А вместо этого он ограбил ее дворцы и картинные галереи. Цвет Италии — двадцать семь тысяч молодых людей после карнавальных празднеств отправились в русский поход. Вернулось несколько сот счастливцев…
Все, что говорил Можайский, было естественно в устах француза эмигранта, к тому же он говорил искренне.
— С вами трудно спорить, — сказала его собеседница.
Они покинули нишу окна и шли в сторону танцевального зала. Их оглушил гром музыки, взрывы смеха, звон шпор.
— Завтра гости разъедутся, здесь будет тихо, как в склепе, — с усмешкой произнесла спутница Можайского и, кивнув на прощание, скрылась в толпе гостей.
Только тогда Можайский заметил, что краснолицый, дородный господин в голубом фраке глядит на него в упор пристальным и как будто недружелюбным взглядом.
— Простите меня, — сказал ему Можайский, — могу я узнать, кто эта дама, удостоившая меня долгой беседы?
Дородный, краснолицый человек принужденно засмеялся:
— Бог мой! Я думал, вы знакомы с детских лет… — И вдруг, окинув Можайского холодным взглядом: — Это хозяйка дома, сударь, и гостю прежде всего следовало бы представиться ей.
Можайский не обратил внимания на вызывающий тон, но то, что дама, с которой он говорил о войне, о Франции, о Польше, оказалась хозяйкой, Анной-Луизой Грабовской, было для него неожиданностью. Он, может быть, задумался бы над этим, если бы не другое, более важное обстоятельство: здесь, в Силезии, в поместье Грабник, он встретил Катеньку Назимову, свою бывшую невесту, теперь жену француза, полковника Августа Лярош.
Первая мысль — уехать из этого дома! Но прежде нужно найти Стибор-Мархоцкого и тайком предупредить о своем отъезде. Можайский искал его в зале, где были накрыты столы, бродил среди упившихся и объевшихся бражников, потом прошел в игорные комнаты. Он нашел, наконец, Мархоцкого в танцевальном зале и шепнул, что им надо свидеться. Потом прошел в столовую и сел к столу, он давно уже чувствовал голод. И вдруг снова приметил чей-то не слишком дружелюбный взгляд: на него смотрел все тот же дородный, краснолицый человек в голубом фраке. Этот человек сидел рядом с креслом хозяйки, но ее место оставалось пустым.
Анна Грабовская в этот час поднималась на третий этаж; она шла по пустынным, полутемным комнатам, где едва мерцали масляные лампы. Пол скрипел у нее под ногами, вокруг пахло пылью и сыростью. В полукруглой комнате горели два канделябра. Они бросали резкий свет на превосходную копию мадонны Леонардо да Винчи. На дубовой скамье, поставленной против резного налоя, сидела Екатерина Николаевна Назимова, жена полковника Лярош.
— Он уснул? — спросила Анна.
— Бредит… И все то же — битва, слова команды, кровь… Но вчера вдруг вспомнил детство, виноградники, детские шалости… Он услышал музыку и просил меня спуститься вниз и потом рассказать ему о твоем празднике.
— Я видела тебя… — Анна вспомнила своего странного гостя и выражение его лица, когда он смотрел на Катеньку Назимову. И она рассказала об этом госте.
— Кто б это мог быть? — рассеянно сказала Катенька. — Кто-нибудь из старых знакомых… Я не хотела бы его видеть.
— Почему?
— Кто я для моих соотечественников? Несчастная женщина, навсегда оставившая отечество.
— Он не русский. Он француз, эмигрант.
— Француз… — Катенька немного успокоилась и продолжала: — Мои соотечественники должны презирать меня. Для них я жена полковника Лярош, командира кирасирского полка Наполеона. Разве кто-нибудь из русских знает, что Лярош не хотел этого несчастного похода.
— Но ты вышла замуж за полковника, когда Россия была в союзе с Францией. Кто мог подумать, что Наполеон начнет войну с Россией? Ты даже покинула Париж и поселилась здесь, чтобы не быть во Франции в эти дни. Я сама видела, как ты плакала, когда французы подходили к Москве, как радовалась освобождению Москвы.
Грабовская утешала подругу, но в глубине души она понимала всю тяжесть ее положения: она знала и то, что Лярош не жилец на свете, что молодая женщина скоро останется одна на чужбине.
— Что бы ни случилось — мы не расстанемся, — сказала она и встала.
Нельзя было забывать обязанности хозяйки… Ей хотелось, чтобы скорее кончился этот шумный праздник в доме, где доживает последние дни умирающий.
Она поцеловала Катеньку Назимову и спустилась вниз по скрипучей деревянной лестнице. На пороге столовой ее остановил Михаил Мархоцкий.
— Общество в отчаянии, — смеясь, сказал он, — кавалеры возмущены тем, что вы на глазах у всех отдали предпочтение неизвестному молодому человеку, кажется французу. Он интересный собеседник? Познакомьте нас…
И Анеля познакомила Можайского с Мархоцким. Они поклонились друг другу церемонно и почтительно, только искорка лукавства вспыхнула в глазах Мархоцкого. Под звуки настраиваемых скрипок Можайский сказал, что благодарит графиню за гостеприимство и надеется уехать завтра чуть свет.
— Вам скучно в нашей глуши… — почти равнодушно сказала Грабовская. — Притом вы должны торопиться… Может быть, вас ожидает блистательный успех при дворе Александра, вы будете вторым Ришелье или Ланжероном и будете сражаться против нас…
— Против вас? — спросил Можайский.
— Да, потому что Польша отдала свою судьбу Понятовскому.
— Наполеон дал нам герцогство Варшавское, а не Польшу, — вмешался Мархоцкий. — Когда ему нужно выиграть войну, он обещает все, чего мы просим.
— Вы неисправимы, милый племянник, — сказала Грабовская. — Кому же мы можем верить? Пруссии? Австрии?
— О нет!
— Чарторыйскому? Русским?
— Вы несправедливы к родственному нам народу, — серьезно сказал Мархоцкий. — Разве после кампании 1812 года можно отнять у этого народа его достоинства — храбрость, любовь к отечеству? Будем справедливы: если дать ему вольность, если уничтожить рабство, унижающее и господ и крепостных людей, мне кажется, этот народ стал бы одним из величайших народов на земле. Что скажете вы на это? — взглянул он вдруг на Можайского.
— Мне кажется, что этот спор могли бы решить почетно и великодушно оба славянских народа, — естественно и вполне искренне сказал Можайский и добавил: — Конечно, я рассуждаю как иностранец… Верьте, я одинаково расположен к обоим народам. Я думаю, мы все хотим одного — мира и счастья Европы.
Несколько мгновений они молчали.
— Я думаю, что вы оба говорили от души. Мне жаль, что вы оба так скоро покидаете Грабник, и я…
Но тут она замолчала. Поднимая плечи и слащаво улыбаясь, к ним шел дородный, краснолицый господин в голубом фраке.
Она кивнула обоим молодым людям и пошла навстречу этому назойливому человеку.
— Вы не подарили меня ни одним взглядом, Анет… позвольте мне называть вас по-старому, — сказал он. — Другие гости счастливее меня.
— Кто-то сказал, что вы навсегда поселились в Вене… Как вы очутились здесь? — холодно спросила Грабовская.
— Поселиться навсегда можно только в Париже. Я не могу понять, как вы можете так долго оставаться в глуши. — Он тяжело дышал и беспрестанно вытирал пот со лба и жирных щек. — Впрочем, вы и здесь не скучаете, как я уже успел заметить.
— Что вы делаете в этих местах, барон?
— Я приехал сюда, чтобы увидеть вас, графиня.
— Вы мне льстите… Притом вы знаете, что я никогда не была вашим другом.
Он попробовал изменить тон и сказал ворчливо:
— Зачем вы говорите со мной так, Анет? Я знал вас прелестным ребенком, девочкой… Я не сделал вам ничего дурного. Я имею право говорить с вами как друг вашего мужа, как ваш друг. В Вене я узнал о смерти Казимира и был огорчен. Я представил себе вас, одну в этой глуши… Я так хотел видеть вас и говорить с вами…
— Говорите.
— Не здесь.
— Хорошо. Идите за мной, — она показала ему в сторону галереи.
Они прошли галерею и вышли в охотничий зал. Грабовская открыла маленькую дверь, они очутились в круглой комнатке, заставленной ветхой утварью, золочеными рамами от картин. Здесь стояли два кресла, свет проникал через небольшое овальное оконце над дверью. Она села и, опустив голову на руку, сказала:
— Говорите.
— Уютный уголок вы выбрали для нашей беседы, — оглядываясь, проговорил Гейсмар. — Впрочем, это место напоминает мне лавку антиквара на левом берегу Сены, где я увидел вас впервые. Вы были единственной редкостью, драгоценностью среди хлама.
Она с удивлением взглянула на него:
— Неужели ради этих воспоминаний вы приехали сюда?
— Я всегда вам желал добра, Анет.
— Это вы могли мне сказать там… — Грабовская покосилась на дверь.
— Я понимаю, вы не любите вспоминать прошлое. Вы, дочь бедняка, сделали блестящую партию, — найти титулованного мужа трудно даже в Париже. Разумеется, это могло вскружить голову. Вас рисовал Изабе, вы собирали в вашем салоне философов и поэтов. Все это можно понять: вы хотели быть одной из тех дам, о которых говорят в Париже.
— Вы так думаете?
— Простите… Выслушайте меня. Вы вели себя умно с Казимиром: вы, француженка, окружили себя его соотечественниками, вам даже нравилось изредка приезжать в его поместье, рядиться в красивый национальный костюм, танцевать мазурку с седыми усачами. Вы хотели, чтобы вас называли Анеля, а не Анет, вы даже научились болтать по-польски, — это так нравилось Казимиру… И все это было прекрасно, пока был жив Казимир. Он любил вас, и все в вас казалось ему прекрасным.
Грабовская нетерпеливо ударила веером по ручке кресла.
— Я пробыл здесь только два дня и, признаться, был изумлен. Позвольте мне вам сказать напрямик: неужели вы не понимаете, что вы ставите себя в неловкое и даже смешное положение? Вы, иностранка, француженка по происхождению, со всей страстью увлеклись политической борьбой, интригами поляков, до которых вам, в сущности, нет дела! Простите меня за резкость…
— Продолжайте, — холодно произнесла она.
— Для чего вы бросились в польские интриги? Вам хочется быть второй княгиней Чарторыйской? Но она вдвое старше вас, и она принадлежит к знаменитому роду, она у себя на родине. А вы, урожденная Анет Лярош? Что вам до Польши? Вы ведете таинственные беседы с безусыми молодчиками, со старцами, которые вздыхают о временах Яна Собесского… Это не только смешно, это опасно! Об этом я слышал впервые в Вене. Барон Гагер, президент полиции, говорил мне, что он, в лучшем случае, вышлет вас с жандармами, если вам вздумается появиться в Вене. Вы же знаете, как Вену тревожат польские дела. Вы путешествовали по Италии, вы были в Милане, во Флоренции. Картины, статуи — это прекрасно! Но зачем вы тайно принимали у себя итальянских либералов, которые потом кончили жизнь на виселице?
— Однако как вы много знаете! — побледнев, сказала Грабовская.
— Поэзия, философия, музыка, живопись — это я понимаю: это мода… Вы не слушаете меня?
— Нет, я слушаю, — чуть слышно уронила она. — Может быть, в том, что вы говорили, есть доля правды… Но для чего вы это говорили? Зачем вы взяли на себя обязанности исповедника и наставника? Если бы вы знали, как эта роль вам не к лицу!
— Как вам угодно, — покраснев, сказал Гейсмар. — Еще один совет. Вы не в Париже, не в вашем доме в парке Монсо. Здесь, в глухом углу Силезии, в этом патриархальном уголке, вы открыто отдаете предпочтение вашему соотечественнику, который впервые появляется у вас в доме. Вы одиноки, и вы легко можете опозорить себя в глазах этих господ.
— Пустое! Он завтра уезжает, и мы никогда больше не увидимся. — Молодой человек, видимо, занимал ее мысли, и она продолжала: — В нем есть что-то таинственное, а мы, женщины, всегда склонны к таинственному… Впрочем, вероятно это обыкновенный светский повеса, искатель счастья.
— Дорогая, — назидательным тоном произнес Гейсмар, — есть два способа хранить тайну. Один — простой: расхаживать с мрачным видом, произносить изредка одно-два слова, чтобы не прослыть немым. Другой способ: болтать безумолку и притом болтать так, чтобы не сказать ничего. Что, если этот молодчик из таких?
— Не все ли мне равно… Однако вы долго занимаетесь его особой. Уж не собираетесь ли вы сделать мне предложение? — спросила она, с трудом удерживаясь от смеха.
— Что в этом дурного?
— Если мне придется выйти замуж, я поищу другого человека. Пусть он будет глупее вас, Гейсмар, но у него не будет такого прошлого.
Она поднялась и направилась к двери.
Если бы Грабовская увидела лицо Гейсмара в эту минуту, она бы испугалась, но, когда они вышли из потаенной комнаты, он стоял перед ней по-прежнему почтительный, с видом огорченного, потерявшего последнюю надежду на счастье человека. Он долго смотрел ей вслед, когда она оставила его и вернулась к гостям.
…Рухнула надежда на праздную и веселую жизнь. Снова скитания, снова поиски денег, богатых покровителей, опасная жизнь авантюриста — и все это в сорок лет… Он сделал крюк в триста верст только для того, чтобы еще раз услышать, что он бесчестный человек и шпион. Мало приятного, когда напоминают об этом. Эта плебейка, дочь антиквара, получившая титул, когда-нибудь пожалеет о сегодняшнем разговоре…
Гейсмар медленно пошел в ту сторону, откуда по-прежнему неслись звуки скрипок и флейт, гул голосов и взрывы смеха.
Как смешны эти господа в кунтушах и в кафтанах прошлого века, перезрелые невесты, которых вывезли на праздник, престарелые ханжи-помещицы… Он еще немного потолкался в толпе танцующих и глазевших на танцы.
— Уединяться с молодыми людьми, оставить гостей…
— И это на глазах у всех!
— Нет, пан Адам, этого в наше время не было… Гейсмар прислушался к перешептываниям кумушек, и это немного утешило его.
— Ах, пани Аделина, если бы жив был покойный граф…
— Вот что значит жениться без разбору и вводить в наш круг бог знает кого!
— И откуда пришла мода жениться на француженках! Граф Виельгорский, потом его сын…
— Графине Анеле следовало знать, что мы не в Париже…
— Какой пример для молодых девушек!
«Жить в этом медвежьем углу, — думал Гейсмар, — нет, это не для нее. У нее еще достаточно денег, чтобы прожить остаток дней в Вене или в Париже, чтобы найти себе мужа вроде этого француза, с которым она болтала чуть не час, забыв всех гостей… Как глупо, что мне здесь не повезло! Не повезло, когда я решил оставить прежнюю тревожную, опасную, такую соблазнительную, чёрт ее возьми, жизнь!»
Он медленно шел, протискиваясь в толпе. Гости ужинали в огромной столовой, похожей на трапезную католического монастыря, с низкими сводами, голыми стенами, потемневшей росписью на библейские сюжеты.
Гейсмар слушал витиеватые тосты, с аллегорическими сравнениями и патетическими восхвалениями хозяйки дома, и иронически думал о том, что все эти люди способны лишь бражничать и веселиться в то время, когда решается судьба их родины.
Странно, что об этом же подумал в те минуты и Можайский. Он с любопытством разглядывал лица гостей и слушал их речи. Сколько самомнения было у этой уездной шляхты, сколько высокомерия…
Можайскому вдруг представилась дорога в Вильно зимой 1812 года: трупы, сломанные двуколки, ободранные конские туши… Однажды в стороне от дороги он заметил тлеющий костер и неподвижные фигуры людей у костра. Он подошел ближе и увидел, что костер погас, вокруг сидели склонившиеся к тлеющим углям солдаты в польских мундирах… Перед Можайским были застывшие трупы…
Он поднял голову, вокруг звенели кубки, слышался оглушительный хохот, крики «виват!»
Только один из гостей не разделял общего веселья. Можайский уже давно приметил этого пожилого человека в очках, погруженного в свои мысли, далекого от шумного общества. Но тут внимание Можайского было отвлечено: он с удивлением уставился на старика с пышными седыми усами, в старопольской одежде, громовым голосом выкрикивавшего «виват!» после каждого тоста. Он был самым почитаемым гостем, — это было видно хотя бы по тому, как почтительно подливали ему вина и подвигали яства соседи.
— Европа! — говорил Мархоцкий. — Европа была у ног нового цезаря, и странно думать, что так было еще вчера. И этот цезарь смеялся над волей народов, рвал на части живое тело стран, дарил королевства своим вассалам, и только русские поколебали пьедестал этого земного кумира… Кажется, сегодня Европа накануне освобождения…
Вокруг было так шумно, что они могли говорить обо всем, что занимало мысли Можайского. Он спросил Мархоцкого о хозяйке дома, спросил для того, чтобы легче разузнать о той, которую теперь называли Катрин Лярош.
— Удивительная женщина! — чуть улыбнувшись, сказал Мархоцкий. — Ее муж Казимир Грабовский приходился мне родным дядей, и в свое время в Париже его женитьба вызвала настоящий скандал. Но мой дядя был не такой человек, которого могло испугать мнение общества… Здесь так шумно… Вы слышите меня?
— Да, конечно.
— Мой дядя Казимир Грабовский был просвещенный человек, и удивительнее всего, что это сочеталось в нем с бурными страстями. В молодости он был дуэлянтом, игроком, был хорош собой и в пожилые годы сохранил весь пыл юности. Представьте, — в Париже, в лавчонке антиквара, он встречает юную девушку, и она сводит его с ума. Он женится на ней, становится ее учителем, воспитателем, показывает ей античные развалины, картинные галереи Италии, вывозит ее на балы. Годы летят, и это юное существо превращается в очаровательную собеседницу, даму, с которой не только можно танцевать и веселиться. Ее видят на лекциях Гей-Люссака в Политехнической школе, ее окружают композиторы и поэты. Когда умер Казимир Грабовский, она приехала в его родовое поместье. История и судьба Польши, борьба за независимость — только об этом она может говорить сегодня… Надолго ли, — не знаю. Но мне кажется — она искренне любит нашу родину…
Можайский слушал Мархоцкого и ждал, когда можно будет спросить о том, что более всего мучило его. Наконец он прервал словоохотливого собеседника:
— Мне сказали, что здесь в замке живет одна русская дама, мадам Лярош…
— Да, приятельница Анели. Ее муж, родственник, Анели, полковник Лярош, доживает свои последние дни. Его привезли из Ченстохова, — открылись старые раны, врачи приговорили его к смерти. Впрочем, трудно верить здешним врачам… Однако вы так и не прикоснулись к бокалу. Мне кажется, вы чем-то опечалены. Римляне говорили: «Bonum vinum loetificat cor homini». Хорошее вино веселит сердце человека. Выпьем за прелестную хозяйку и ее подругу!
Можайский вспомнил пожилого человека в очках, которого он приметил за столом, и полюбопытствовал:
— Вероятно, домашний врач?
Мархоцкий покачал головой:
— Это — библиотекарь покойного графа… Вот человек! Был с Костюшкой в дни побед и поражений. Побывал в сибирской ссылке и Шлиссельбурге.
Можайскому захотелось внимательнее рассмотреть этого человека, но его уже не было за столом.
Можайский отхлебнул из бокала. Кто-то громко произнес имя Чарторыйского: молодой человек в каштанового цвета сюртуке кричал через стол лысому господину со звездой Почетного легиона:
— Когда генеральная конфедерация провозгласила Польское государство, когда во главе генеральной конфедерации был князь Казимир Чарторыйский, где был его недостойный сын князь Адам? Семейство его, отец — глава рода, друзья, Радзивиллы, Потоцкие последовали на зов родины! Где был князь Адам, я спрашиваю?
— …На богемских и венгерских водах!.. Дипломатическая болезнь! — кричали с другого конца стола.
— Конфисковать имения польских воинов только за то, что они откликнулись на зов польского войска! Какое тиранство! — восклицал лысый господин со звездой Почетного легиона.
— Князь Юзеф Понятовский! Воин, рыцарь, великий характер! Я разрублю на части того, кто осмелится назвать мне другое имя! — точно проснувшись, оглушительно завопил уланский полковник, схватившись за рукоять сабли.
— Но если молодой великий князь увенчает свое чело польской короной? Если Александр возведет на польский престол одного из своих братьев? Может быть, это будет почетно и выгодно для государства, — слышался чей-то тихий, рассудительный голос.
— Кто посмел сказать такое слово? Кто смеет говорить о низкой выгоде за столом, где сижу я, князь Грациан Друцкой-Соколинский?! — хриплым голосом прорычал огромный, тучный старик с седыми усами.
— Друзья мои, — примирительно провозгласил красивый, статный ксендз, сидевший по правую руку князя, — как бы там ни было, земли, отошедшие к польской короне на Люблинском сейме без малого двести пятьдесят лет назад — Волынь, Киевщина, Подолия, — суть земли короны, а не Руси. И пока в наших жилах хоть кашля шляхетской крови — земли по Днепру принадлежат короне. Не будет мира между нами и схизматиками до тех пор, пока москаль не преклонит колено перед вечным статутом Люблинского сейма!
Крики «Да будет так!», гром рукоплесканий на мгновение оглушили Можайского. «Вот оно что… — думал он, — вот чего хочешь ты, святой отец, вы — доминиканцы, иезуиты и алчная шляхта. И виновники тому сами же русские дворяне, отдавшие в шестнадцатом веке Киевскую Русь и крестьянство во власть польской короне и фанатикам ксендзам. Рим и посейчас сеет вражду между нами и поляками, ты знаешь, чего хочешь, — хитрый поп, выученик Римский…»
— О чем задумались? — услышал он голос Мархоцкого.
Можайский улыбнулся ему и ничего не ответил, как бы оглушенный всеобщим шумом.
Все, что происходило за столом, — яростный спор, угрозы, объятия, страсти, подогреваемые обильными напитками, — все это занимало Можайского. Спорили о заслугах Понятовского, о шляхетских привилегиях, о значении дворянства, точно только дворянство населяло польские земли. Пожилой человек в очках сидел в конце стола, и Можайскому почудилась горькая усмешка; он улыбнулся в ответ, но тут же вспомнил, что ему как иностранцу, не знающему языка страны, надо было не показывать виду, будто он понимает, о чем спорят эти люди. Тем более, что на него в упор глядел плотный, рыжеватый человек в голубом фраке. Он уже видел этого человека сегодня… Да, это тот самый, у которого он спросил о хозяйке дома… Можайский тотчас взял бокал и сделал вид, будто ему безразличны застольные споры, что это только любопытство человека, не понимающего чужого языка.
Господин в голубом фраке нахмурил брови и отвернулся…
Впрочем, может быть, все это только показалось Можайскому. Голова немного кружилась, но в мыслях была ясность, — сказалась привычка к походным пирушкам. Он помнил, что предстоит долгий путь и что выехать надо пораньше, хорошо бы на рассвете. Встав из-за стола, он, к удивлению своему, почувствовал слабость в ногах. Никто не обращал на него внимания. Он прошел в галерею, соединяющую дом с флигелем, потом вышел в сад, чтобы разыскать своего возницу. Пожалуй, так его отъезд не будет замечен. Еще днем Можайский приметил кленовую аллею, ведущую к конюшням, но едва он сделал несколько шагов, как остановился, пораженный необыкновенным зрелищем.
Под столетним вязом в серебряном сиянии луны плясали гайдуки, горничные, лакеи, конюхи, судомойки, крестьяне и крестьянки, из любопытства пришедшие на праздник. Музыканты с яростью ударяли смычками по струнам, головокружительная мелодия точно подстегивала танцоров, все сливалось в мелькающий, ослепительный хоровод, пара за парой пролетала перед Можайским, и вдруг безумный, стремительный темп мелодии сменялся медленным, величавым, хватающим за сердце напевом…
То была мазурка, народный, полный грации, мощи и страсти танец. Его плясали простые люди, недавно еще робко сгибавшие спину перед господами, а сейчас вдруг в этом танце ощутившие хмель вольной, беспечальной жизни.
Вдруг музыка оборвалась, все стихло, остановилось, все обернулись в ту сторону, где стоял человек во фраке, головы склонились в низком поклоне. Можайский достал из кармана золотой, положил на скрипку юноше-музыканту и быстрыми шагами ушел в глубину кленовой аллеи. Внезапно ему послышались голоса и звон шпор.
В тени деревьев он увидел группу людей в белых мундирах. Они держали под уздцы коней, немного в стороне стоял запряженный четверкой экипаж. По светло-синим обшлагам и воротникам Можайский узнал мундиры австрийских жандармов. Их было четверо. Можайский замедлил шаг и стал в тени старых кленов, — в его положении следовало быть осторожным. Он решил повернуть назад и узнать в замке, чем обязана хозяйка появлению неожиданных гостей.
И тут Можайский почти столкнулся лицом к лицу с Мархоцким.
— Это вы? — нисколько не удивляясь, сказал Мархоцкий. — Вас тоже потревожил этот визит? — потом, повернувшись к сопровождавшему его слуге, приказал: — Так разыщи же пана Стефана!
— Что случилось? — спросил Можайский.
— Что случилось? Разве поляк хозяин на своей земле? — Мархоцкий говорил как будто спокойно, но рука его, сжимавшая локоть Можайского, дрожала, — Австрийский комендант прислал своего адъютанта с приказом арестовать библиотекаря графини… арестовать всеми уважаемого человека…
— Ему надо бежать, — вырвалось у Можайского.
— И я так думаю. Пока управляющий графини объяснялся с адъютантом, я послал верного человека предупредить пана Стефана. Но как бежать? Куда? Под своим именем? Его схватят на первой же заставе.
— Погодите! Погодите… — сказал в раздумье Можайский, — видите ли, в моих бумагах указан камердинер, француз… Он заболел в пути, я оставил его на попечении ксендза… Что, если…
Он не договорил, потому что Мархоцкий тотчас понял счастливую мысль, которая пришла в голову Можайскому:
— Я еду на рассвете… Он поедет со мной, как мой камердинер.
Мархоцкий побежал в замок. Можайский неторопливым шагом прошел мимо австрийских жандармов. На конюшенном дворе он разыскал своего возницу и приказал ему подать лошадей еще до восхода солнца.
— Слушай, — вдруг сказал он вознице по-польски, — с нами поедет мой камердинер, француз. Он всю дорогу ехал с нами от самой границы. Так?
— Так, пане, — ответил возница. Его как будто нисколько не удивило, что путешественник вдруг заговорил на чистом польском языке.
Можайский неторопливо вернулся в замок. Он думал о том, что Чернышев, пожалуй, будет недоволен, если узнает, что русский офицер, посланный с тайным поручением, ввязался в такую историю. Ну, что ж… Ему и самому непонятно было, чем расположил его к себе этот пожилой, молчаливый человек. Может быть, своим прошлым, ссылкой… Было приятно дышать прохладным, живительным воздухом весенней ночи. Можайский присел на каменную скамью. Другие мысли владели им, он задумался о встрече, которая произошла сегодня, о женщине, которую, как ему казалось, он давно забыл.
Решив не возвращаться к гостям и отправиться спать, он снова прошел через галерею, танцевальный зал, парадные комнаты и не сразу нашел дверь между двумя колоннами. За дверью должна быть лестница… Так и есть. Он поднялся на второй этаж и дальше пошел наугад, попал в охотничий зал, прошел анфиладу полутемных комнат. Вокруг не было ни души; он шел долго и, в конце концов, устал от того, что блуждал по огромному старому дому. Он пожалел, что не взял провожатого. Вдруг ему показалось, что он у цели… Полукруглая комната, налой, скамья, мадонна Леонардо да Винчи… Где-то близко должна быть его комната. Не эта ли узкая резная дверь?
Он шагнул вперед, но дверь открылась, и женский голос произнес:
— Анри?
Прямо против Можайстого стояла женщина со свечой. Свеча дрогнула в ее руке, женщина отступила и чуть слышно сказала по-русски:
— Боже мой… Так это вы?
Перед Можайским стояла Катя Назимова. Она сделала несколько шагов и опустилась на скамью, поставив рядом подсвечник.
— Так это вы? — повторила она и как-то беспомощно развела руками.
Он молча стоял перед ней.
— …Мне сказали, что вы были тяжко ранены под Фридландом.
Она ждала ответа.
— Я был ранен, — наконец сказал Можайский. — Лучше было бы, если б я умер.
— Пять лет от вас не было вестей.
Снова наступило молчание.
Он сел на скамью. Тускло горящая свеча разделяла их. Они не смотрели друг на друга и говорили, глядя в пространство.
— Вы должны меня ненавидеть…
— Нет, я ни в чем вас не виню. Можно ли верить клятвам семнадцатилетних? Мы были очень юны тогда. Зачем вспоминать прошлое, Екатерина Николаевна? Мадам Катрин Лярош…
Он пробовал рассмеяться, но тут же умолк.
— Упреки… Это все, что вы можете мне сказать через столько лет?
Он молчал.
— Вы думали, что я была счастлива эти годы?
Он тряхнул головой и сказал, почти не сознавая того, что говорит:
— Сказать по правде, я очень мало думал о вас, Екатерина Николаевна, — все же он почувствовал ложь этих слов.
— Вы даже не хотите выслушать меня, — дрожащим голосом сказала она. — Как это жестоко…
— Вы весело жили в Париже, Екатерина Николаевна?
— Не все ли вам равно, как я жила? Вы не думали обо мне.
Он мучительно искал слов. Все точно прояснялось вокруг, но вместе с тем возвращалось старое чувство, чувство обиды…
— Нам не о чем говорить, Екатерина Николаевна. Прошло семь лет… Между мной и вами стоит человек… враг… Прошло семь лет, и если бы не было этой встречи, вы бы не вспомнили обо мне.
— Неправда…
Свеча затрещала, язычок огня заколебался. Он подумал, что через мгновение они останутся в темноте, в комнате, освещенной лунным лучом. Он посмотрел на нее и увидел нежный подбородок, родинку и слезы на глазах. Как это знакомо и как далеко…
Он встал и помог ей подняться со скамьи.
— Прощайте… Одна просьба. Здесь меня зовут Франсуа де Плесси… Ни один человек не должен знать моего настоящего имени. Если в вас еще бьется русское сердце, вы сохраните это в тайне.
— Если во мне бьется русское сердце… — повторила она. — Ах, Александр, я такая же мадам Катрин Лярош, как вы Франсуа де Плесси… Прощайте…
Свеча погасла. Что-то зашуршало в темноте, и слышно было, как скрипнула дверь.
Можайский был один. Впереди лежал лунный луч, как дорожка, указывающая путь в темноту. Можайский шагнул вперед; он сделал несколько шагов и вдруг совсем ясно увидел дверь своей комнаты. Он подошел к двери, толкнул ее, ощупью нашел софу, упал на нее и долго лежал неподвижно.
Он не хотел думать о прошлом, но прошлое было здесь, рядом, и властно сковало все его мысли. И он думал о счастье, которое ушло от него.
Семнадцати лет Можайский потерял отца, смертельно раненого под Аустерлицом. От Аустерлица у него осталось воспоминание тесноты, давки на улицах города. Разбитые погреба, вино из разбитых бочек хлещет прямо в снег, ветер, метель и долгий-долгий путь с умирающим отцом через Польшу, Смоленск, в Москву…
Мать его умерла, когда он был еще ребенком. Отец мало заботился о сыне. Любимец Суворова, отчаянной храбрости офицер, игрок, дуэлянт, вольтерьянец, безбожник, хоть и редко обращал внимание на сына, но не хотел, чтобы тот рос недорослем. У Можайского сохранилась написанная рукой отца программа обучения: «Логика и психология», «Опытная физика», «Химия начальная», «Философия и естественная история», «Полигика».
В седельной сумке отца Можайский нашел томик трагедий Корнеля и рукописные наставления мартинистов. После похорон на кладбище Данилова монастыря (отец умер в Москве) Можайский уехал из Москвы и почти весь год жил в деревне, в усадьбе своей тетки Анастасии Дмитриевны Ратмановой, в Новгородской губернии.
Анастасия Дмитриевна была старая дева, вздорная, с капризами и причудами. Юноша, геттингенский студент, побывавший с отцом в действующей армии, видевший бивуаки, гусарские пирушки, войну, пожары, смерть и разрушения, — все еще казался тетушке мальчиком. Она приходила в ужас, когда видела его скачущим на застоявшемся донском жеребце. Ее удивляло и сердило почти приятельское отношение юноши к дворовым людям. Он скучал, выслушивая длинные поучения тетки, и уезжал за двадцать верст, в деревню Васенки.
В Васенках жил его дальний родственник, ветеран суворовских походов, майор Назимов с внучкой Катенькой. В ветхом деревянном флигельке в Васенках Можайскому было веселее и приятнее, чем в старом помещичьем доме в усадьбе Святое.
И там нежданно-негаданно пришла первая любовь.
Были тайные встречи у пруда, соловьиные ночи, первые робкие поцелуи и клятвы. До сих пор не мог позабыть Можайский синие, осушенные длинными ресницами глаза Катеньки, нежные розовые ее губы.
Потом он уехал в Петербург. Они должны были свидеться через три месяца и соединиться навеки. Но началась военная служба, потом поход, потом битва при Фридланде, рана, выздоровление…
После этого были Париж и Лондон. Брожение умов, вызванное французской революцией, служба у Воронцова. Он писал письма, отправлял их с оказией и не получал ответа. Он не знал того, что дед Катеньки умер, что ее взяла к себе из милости его тетка Анастасия Дмитриевна.
Зоркий глаз Семена Романовича Воронцова оценил ум, способности и честолюбие Можайского, он поручал ему щекотливые дела, требующие особого доверия. Можайский узнал жизнь. Ему случалось бывать в кругу продажных и алчных вельмож, шулеров, авантюристов, дуэлянтов. Он научился разгадывать шпионов, скрывавшихся под маской легкомысленных повес или безрассудных игроков. Он много читал, второпях учился, странствовал и понемногу стал забывать Васенки, и березы у пруда, и глаза, и улыбку Катеньки Назимовой. Только тогда он понял, что потерял счастье, когда узнал, что в 1810 году Катенька Назимова вышла замуж за полковника Лярош — французского офицера, прибывшего в Петербург вместе с послом Франции Коленкуром.
Сначала он почувствовал себя глубоко оскорбленным. Поступок любимой девушки показался ему предательством, он даже готов был вызвать на поединок ее мужа, но вскоре понял, что был бы в смешном положении. Когда в Париже ему случилось увидеть мадам Лярош, он поклонился ей с таким видом, как будто силился припомнить, кто эта дама… Но прошлое оказалось сильнее, чем он думал. Однако уязвленное самолюбие победило, и он собрал всю силу воли, чтобы заставить себя забыть свою первую юношескую любовь. И даже сегодня, на балу, он больше всего досадовал на то, что ему не удалось скрыть свои чувства от графини Грабовской, когда неожиданно явилась Катрин Лярош… Ненавистное имя!
Но теперь все эти чувства вдруг показались ему ничтожными, и острая боль и жалость утраты охватили его; он вдруг осознал, что самое мучительное для него — близость той, которую он не может забыть; она здесь, совсем рядом, и она чужая, чужая навсегда.
Это была правда, — в нескольких шагах, за стеной, у постели Августа Лярош сидела Катя Назимова.
На высокой подушке лежала желтая, восковая голова пожилого или рано состарившегося человека. Повязка закрывала правый глаз, желтые руки лежали поверх одеяла, они были сложены, как у покойника.
— Август, — сказала Катя Назимова, — вы слышите меня? Со мной случилось несчастье. Я встретила его.
Больной молчал.
— Я встретила его. Вы слышите меня, Август?
Губы больного зашевелились. Он сказал тихо, но явственно:
— Слышу… Но я умираю. И это счастье для вас.
4
Можайский уезжал из Грабника, мучимый поздним раскаяньем. Как непростительно глупо он вел себя с Катей. А ведь она была самым дорогим для него человеком.
Об этом думал Можайский, когда подошел к карете, открыл дверцу и увидел согнутую фигуру дремлющего в углу человека. Он не сразу вспомнил то, что произошло ночью, и свой разговор с Мархоцким и услугу, которую обещал оказать его другу. Все, что произошло в кленовой аллее, встало у него перед глазами, он почувствовал смущение и даже некоторое недовольство — ему было неприятно сейчас присутствие здесь, в карете, чужого человека.
Однако он кивнул своему спутнику и расположился так, чтобы удобно было дремать… Послышалось хлопанье бича, карета покачнулась, сначала мелькала зеленая, свежая весенняя листва парка, потом чернолесье и слева равнина в синей дымке предутреннего тумана.
Можайскому показалось неловким молчание, и он спросил у своего спутника:
— Надеюсь, все обошлось благополучно?
Спутник утвердительно кивнул.
— Они оставили засаду в моей комнате… — спустя мгновение, он добавил: — Благодарю вас.
Время шло, они ехали молча, Можайский задремал — дорога была мягкая, влажная от весеннего дождя. Проснулся он от внезапного толчка. Карета резко остановилась.
Грубый голос по-немецки приказал вознице: «Стой!»
Рука в светло-синем обшлаге постучала в окошко кареты.
Можайский взглянул на своего спутника. Тот был неподвижен. Можайский опустил окошко. Всадник в мундире жандармского офицера наклонился к окошку:
— Кто едет?
— Кавалер де Плесси и его камердинер.
Жандарм взял из рук Можайского охранный лист с австрийским орлом. «Мы, божьей милостью, император Франц…» — так начинался охранный лист. Тем временем Можайский поглядел в окошко кареты. Три всадника ожидали у моста через полноводную, узкую речку. «Застава», — подумал Можайский. Это его успокоило. Повидимому, это обыкновенная застава, а не погоня за беглецом из замка. Бумаги, разумеется, были в порядке. Об этом позаботились люди Чернышева.
Возница хлопнул бичом, и карета с грохотом въехала на мост.
Было уже утро, солнце поднялось чад лесом, изредка, словно нехотя, куковала кукушка.
— Мы будем ехать по равнине в полуденный жар, — сказал Можайский. Молчание его спутника казалось ему невежливым.
— Дальше пойдут холмы. С этой горы открывается прекрасный вид, — вдруг заговорил по-польски спутник, и Можайский с досадой подумал о том, что Мархоцкий раскрыл инкогнито русского офицера.
— Михаил сказал мне, что вы знаете наш язык, — продолжал спутник Можайского, — не тревожьтесь, после того, что вы сделали для меня, мы друзья навеки… Я скоро покину вас… — и он назвал местечко на границе Саксонии и Богемии.
— Вы доставили беспокойство не мне, а графине… — сказал Можайский. Он внимательно разглядывал своего спутника — высокий в морщинах лоб, брови, нависшие над глубокими впадинами глаз, седые виски… Да, этот человек много видел и пережил.
— Графиня?.. Что ж, истинная патриотка должна быть готова к таким неожиданностям, — с легкой иронией сказал спутник Можайского. — Я доставил беспокойство и гостям графини. Вообразите их чувства, когда этих господ остановят жандармы здесь, у заставы, так же как остановили вашу карету.
Лошади шли шагом, карета медленно поднималась в гору.
— Не пожелаете ли вы подняться в гору пешком? Полюбуйтесь прекрасным видом.
Можайский и его спутник вышли из кареты. Не торопясь, они поднимались на холм. Вид был действительно прекрасный. Внизу сверкала серебряная лента реки. За рекой темнела стена вековых дубов, справа открывалась поляна, на которую выходил фасад замка Грабовских, а перед ним овальное зеркало пруда. От пруда, подобно лучам, расходились аллеи парка.
— Вы долго прожили в этом замке? — полюбопытствовал Можайский.
— Нет, не долго. Это не родовой замок Грабовских. Усадьба принадлежала Потоцким, это — одно из имений генерала коронной артиллерии Феликса Щенсного-Потоцкого, ему принадлежали в Галичине сто с лишним селений. В 1772 году Галичина по разделу перешла к Австрии. Феликс Потоцкий не мог ужиться с австрийцами, кроме того, у Потоцких было слишком много долгов, они пожелали освободиться от заимодавцев и обменялись имениями с маршалом конфедерационного сейма Понинским. Вместо имений в Галичине они получили владения в Киевском воеводстве… Может быть, обмен имениями произошел потому, что эти места пробуждали мрачные воспоминания. Отец Феликса Потоцкого и его мать были прикосновенны к делу об убийстве Гертруды Потоцкой, урожденной Комаровской… Когда-то это дело наделало много шума.
— Я слышал об этом деле…
— О, злодеи!.. Изверги! — воскликнул спутник Можайского.
Можайский в изумлении поглядел на своего спутника — столько ярости было в этом восклицании.
— О, злодеи! Что сходит с рук магнату, стоило бы виселицы простолюдину. И то сказать, ни один простолюдин не дойдет до такой низости. Что вы слышали об убийстве Гертруды Потоцкой?
— Только то, что оно обошлось Потоцким сотни тысяч червонцев и кончилось оправданием Потоцкого.
— Это правда. Но вы не знаете обстоятельств этого гнусного дела.
Спутник Можайского бросил на траву старенький плащ и жестом пригласил сесть.
— Любимым гнездом Потоцких было имение Кристинополь. Там у них был невиданной роскоши дворец. Кроме комнатной прислуги, свита Потоцкого состояла из тридцати шляхтичей под начальством главного мажордома князя Четвертинского. У Потоцких была своя дворцовая стража — драгунский и уланский эскадроны и пехота. Офицеры и солдаты носили те же мундиры, что войско короля Станислава-Августа. Сын Франца-Ксаверия Потоцкого Феликс Щенсный полюбил дочь Комаровских — Гертруду и тайно обвенчался с ней. Отец и мать Феликса были в ярости от этого брака, они хотели женить сына на Юзефине Мнишек, дочери краковского кастеляна. И вот на тайном семейном совете было решено похитить Гертруду, законную жену Феликса Потоцкого, запереть ее в монастырь и с разрешения папы римского расторгнуть брак… Вас это удивляет? То ли еще проделывали магнаты! Имение Комаровских, где жила Гертруда, примыкало к имению Потоцких. Шляхтич Загурский и тридцать гайдуков по приказу Франца-Ксаверия ночью ворвались в дом Комаровских и насильно увезли Гертруду. Ее завернули в пуховые перины и увезли в крытых санях. Дорогой они наткнулись на крестьянский обоз. То ли похитители испугались, что крестьяне услышат крики похищенной, то ли Загурский решил кончить дело иначе, только когда сняли перины, в санях лежало мертвое тело Гертруды Потоцкой. Добавлю к тому, что она была беременна… Убийцы бросили тело в пруд. Приказчик Потоцких нашел тело и тайно похоронил, за это он был облагодетельствован семьей Потоцких. А в 1774 году вдовец Феликс Потоцкий женился на дочери краковского кастеляна Юзефине Мнишек, как того хотели его мать и отец… Комаровские начали уголовный процесс. Он длился шесть лет и стоил Потоцким местечка Витков и трех селений в Белзском воеводстве. Эти владения пришлось подарить Комаровским, и они успокоились.
— Отец рассказывал мне, будто к тому времени главный виновник убийства Франц-Ксаверий Потоцкий умер и будто суд постановил вырыть его тело из могилы и повесить…
— Это легенда. С сильным не дерись, с богатым не судись…
Они молчали. Можайский долго смотрел в ту сторону, где сверкало зеркало пруда… Может быть… Тот самый пруд…
— Граф Грабовский выиграл этот замок в карты у одного из сыновей Понинского и назвал его Грабником, в память своего родового имения, которое сожгли крестьяне в 1768 году. Вот и вся история замка… Среди господ, которых вы видели на пиршестве, были старики, которые отлично знали убийц Гертруды Потоцкой и родичей ее. Вы думаете, они осуждали Потоцких? Подлое и жестокое племя!
— А Феликс Потоцкий? Какая его постигла судьба?
— Он дожил до старости. На склоне лег он полюбил последней старческой любовью графиню Софию Витт. И вот нравы аристократов — он купил ее у мужа, графа Витт, за два миллиона. В Умани он велел насадить сад, подобный садам Версаля, и назвал его в честь Софии Витт — Софиевкой. Он умер, презираемый соотечественниками. Он, Ксаверий Браницкий и Ржевусский — прямые виновники раздела Польши. Я видел подробную опись владений, которые оставил Феликс Щенсный-Потоцкий своим наследникам. Город Умань, местечки Браилов, Немиров, Могилев и еще тринадцать местечек, староства Ольховецкое, Гайсинское, Звенигородское, всего четыреста двадцать девять селений и сто тридцать тысяч душ крепостных крестьян… Есть ли правда на земле, когда Потоцкие владеют ста тридцатью тысячами крестьян и ни в чем не уступают американским плантаторам, истязующим негров! Их жестокости мы обязаны тем, что гайдамаки вырезали в 1768 году многих невинных! Но разве кровожадный зверь, Иосиф Стемпковский, не запятнал свое имя резней украинских крестьян в Кодне? До сих пор именем его матери пугают непослушных детей! И после этого алчная свора магнатов смеет притязать на Приднепровские земли! И семя инквизиторов, духовник графини Грабовской, смеет говорит о Люблинском сейме. Да есть ли после этого правда на земле? Когда же, наконец, на старом рынке в Варшаве поставят орудие возмездия — гильотину?!
Он вдруг умолк — послышалось хлопанье бича и скрип колес.
Карета Можайского поднялась на холм.
5
Путешествие сближает людей, и когда путники остановились на ночлег, Можайский уже не удивлялся тому, что его товарищ по путешествию не скрывает свои сокровенные мысли от русского офицера. По-видимому, Мархоцкий кое-что пересказал из своей краткой, но значительной беседы с Можайским, кроме того, услуга, оказанная Можайским, расположила к себе Стефана Пекарского, так назвал себя спутник Можайского.
Он происходил из так называемой «серой шляхты», из крестьян, сумевших доказать свое шляхетское происхождение, и мальчиком был взят в услужение в замок Грабовских. Гувернер молодого графа обратил внимание на способности мальчика к наукам. Стефан Пекарский вырос в замке, он сопровождал молодого графа за границу, как его секретарь. Пока граф искал развлечений в Париже, — его секретарь искал источники знаний и находил их в парижских книгохранилищах.
— С какой жадностью я читал труд Рейналя «Философская и политическая история о колониях и коммерции европейцев». Я заучивал наизусть: «Народы порабощенные мечтают об освободителе… Будете ли вы настолько безумны, чтобы предпочитать рабов свободным людям!» С наслаждением читал я Монтескье, де Лольма, Векария…
Можайский слушал Пекарского и думал о том, что эти же книги заронили в его сознание мысль о преступности самодержавной власти, пробудили стремления к вольности и добродетели.
— Руссо был моим божеством, — продолжал Пекарский, — но помню, меня смутила мысль Руссо о том, что королю Станиславу-Августу следовало бы отрубить голову за измену своему отечеству. В том кругу, где я рос, имя этого короля произносили уважительно. Но вот я стал размышлять о том, как повел себя король в 1791 году, и увидел воочию этого фаворита Екатерины, вознагражденного за любовные заслуги польской короной, и возненавидел Станислава-Августа и его покровительницу. Я не стал открывать эти мои мысли графу Грабовскому. Однажды он искренне удивился, когда я сказал ему, что неравенство умов происходит не от того, что он родился графом, а его слуга — крепостным, а от разницы в образовании. Граф расхохотался, но все же задумался. Я читал ему историю Рима, и он был очень удивлен, когда услышал, что братья Гракхи полагали, что закон должен определить то количество земли, которым дозволялось бы владеть патрицию… Однако этот польский патриций был не из худших. Он внимательно слушал рассуждения Мабли о жизни древних греков под игом деспотов и сравнивал Грецию тех времен с нашей родиной, страной, лишенной свободы, где не было ни законов, ни добродетелей.
День был теплый, весенний, солнце уже садилось за лесом, в карете было душно, хотя оба стекла в окошках были опущены. Карета приблизилась к реке, через которую был переброшен ветхий деревянный мост. Пекарский вдруг замолчал и, высунув голову в окошко, всматривался вдаль. По ту сторону моста к реке спускались всадники и тяжелый открытый экипаж, запряженный шестеркой. Карета Можайского была у самого моста, когда всадник в оранжевой и голубой ливрее проскакал через мост и, поровнявшись с каретой, крикнул вознице: «Стой!» Можайский удивился, а потом побледнел от гнева. Его карета успела бы миновать мост, тяжелый, запряженный шестеркой экипаж был еще далеко. Если бы обстоятельства не вынуждали Можайского избегать ссор, он бы проучил и лакея и его барина, но Пекарский крепко сжал руку Можайского и грустно усмехнулся. Стоило ли затевать спор с надменным глупцом, отправляющимся в дорогу с дюжиной слуг.
Экипаж, наконец, спустился к мосту. Три всадника, одетые в зеленые кафтаны псарей, ехали впереди экипажа. Откинувшись, сложив руки на животе, в экипаже полулежал дородный старик в оранжевом жупане. Против него, на сиденье, лежали охотничьи ружья. Можно было с уверенностью сказать, что пан ехал на охоту, по времени можно было охотиться на глухарей и тетеревов. Весь гнев Можайского пропал, когда он разглядел жирное, лоснящееся лицо вельможного пана, с закрученными, подкрашенными усами, выпуклые, точно стеклянные его глаза. Челядь пана ехала в десяти шагах верхом и в бричке, нагруженной всякой кухонной утварью. Можайскому стало смешно, когда он подумал, что весь этот торжественный выезд затеян ради того, чтобы пан подстрелил из собственных рук тетерева или злосчастного глухаря. Но Пекарский не смеялся.
— Этот напыщенный старый дурак где-нибудь в Вене ползает перед камердинером князя Лихтейнштейна или графа Тюргейма. А здесь — он гроза обнищавшей шляхты и мучитель своих крестьян. Вот эти люди погубили дело Костюшко! — с яростью сказал Пекарский. — Мархоцкий говорил вам обо мне, как о верном друге Тадеуша Костюшко. Это правда, я был с генералом в радостные дни, когда Тадеуш на Краковском рынке принес присягу — до конца жизни защищать отчизну. У нас было мало войска, только то войско, что привел с собой из Варшавы Мадалинский. Однако на минифест Костюшко отозвался народ и не одни шляхтичи, но громада крестьян из-под Кракова. И не шляхта, не войско, а вооруженные косами крестьяне нанесли поражение неприятелю под Рацлавицами. Да, победили крестьяне! Клянусь! Я был возле Костюшко в день победы. Он стоял веселый, радостный в своем светло-сером кафтане, ветер развевал его волосы. Я буду вечно помнить его горящие глаза и счастливую улыбку, его окружал народ В белых чамарках, то был праздник победы… С того дня прошло целых двадцать лег, пошел двадцать первый год…
Он умолк, и Можайский не прервал его молчание. Он не понимал, отчего встреча на дороге с глупым паном напомнила Пекарскому то, что было двадцать лет назад под Краковом.
— Я заговорил об этом потому, что именно эти глупцы не позволили Костюшко осуществить его заветную мечту — освободить польских крестьян с землей, а он хотел этого всем сердцем, всей душой великого патриота! Было время, двадцать лет назад, когда я думал, что универсал Костюшко, данный им в Поланце, искупает все вины магнатов и шляхты перед народом. Помилуйте, крестьянин, хлоп, которого в недавние годы шляхтич мог убить, как собаку, этот хлоп объявлялся лично свободным. Отныне крестьянин находился под покровительством законов, суд решал его тяжбы с помещиком, уменьшались повинности крестьян, и будущее правительство должно было решить вопрос о земле… Да, крестьянин был свободным, но только до тех пор, пока воевал в войсках Тадеуша. Между тем из деревни приходили вести, что семья хлопа в прежнем угнетении, что помещики не выполняют статей универсала, и крестьяне покидали войско и расходились по домам. Ни конституция 91 года, ни Поланецкий универсал не дали крестьянам землю и свободу. Вельможные паны с их сотнями тысяч крепостных в Польше, Литве, на Украине — Чарторыйские, Радзивиллы, Сангушко, Сапеги, Тышкевичи — думали только о том, чтобы сохранить свои владенья под властью ли короля прусского, или императора австрийского, или русского!
— Вы были до конца с Костюшко? — спросил Можайский.
— До самого конца я был с генералом, я был с ним в злосчастный день битвы под Мацеовицами. Наша пехота была рассеяна казаками, канониры не оставили орудий и стреляли, не имея прикрытия… Казачий полковник Денисов нашел тяжело раненого Костюшко. Он лежал на голой земле, истекающий кровью, дрожа от холода. Полковник Денисов приказал постелить несколько казачьих плащей, положить на них генерала и прикрыть плащами. Потом Денисов спросил у Костюшко, не нужно ли ему чего. «Ничего не нужно», — ответил генерал. И тогда казачий полковник сказал: «Я знаю вас, генерал, как великого человека и готов оказать вам всякую услугу». Костюшко ответил: «Я тоже знаю вас, полковник Денисов». Он знал полковника как храброго воина. Казаки перевязали раны Костюшко платками, сделали из дротиков носилки и понесли в лазарет. Все это было на глазах у меня.
Голос Пекарского дрогнул…
Когда стемнело, они остановились в деревне, в доме сельского войта. Надо было дать отдых лошадям, потому что почтовые лошади были куда хуже купленных Можайским у встретившегося барышника и не было смысла ехать на почтовых.
Поужинав молоком с медом и гречневыми пирогами, они вышли из избы и некоторое время молча стояли под вековым дубом у часовни. Взошла луна, и ветхие домики деревни в сиянии луны, широкая сельская улица напомнили Можайскому родину, Россию. Вероятно та же мысль о России пришла в голову его спутнику, он заговорил о русских деревнях и селах, которые ему довелось увидеть, когда ссыльных поляков везли в Сибирь.
— Нас везли сначала мимо русских, потом татарских селений, мимо уральских городов. Русские женщины со слезами глядели на нас, закованных в цепи, выносили нам молоко и хлеб, осеняли крестом. Мы были офицеры, дворяне, у нас были свои, хоть и жалкие, привилегии… Тяжко было видеть, крестьян, которых гнали в Сибирь с женами и детьми. Они поднялись на защиту родины по зову Костюшко и понесли наказание более жестокое, чем их господа. Но и мы терпели оскорбления и грубость наших стражей, мерзли в непривычном, суровом климате. Я был молод и силен, мечтал о побеге, но чем дальше нас везли на восток, тем меньше было надежд на побег. Я понял, что беглец обречен на гибель в непроходимых лесах…
Вокруг было тихо, ни одного огонька, люди спали, чтобы подняться с рассветом и выйти в поле. Временами только слышалось ржание коней, бряцанье уздечки. Пекарский говорил чуть слышно, почти шёпотом:
— В Тобольске молодой офицер велел снять с нас оковы. Он это сделал по своей воле. Среди наших стражей были люди, которые нарушали строгие приказы и облегчали наши страдания. Мы впервые встретились с русскими ссыльными. Это были разжалованные офицеры, образованные люди. Мы оставляли им письма к родным и друзьям в Польшу, потом мы узнали, что эти письма были доставлены русскими купцами в Россию, а оттуда к нам на родину. Раньше я видел в каждом русском врага, теперь я узнал, что даже в людях с красными воротниками бьется благородное сердце… В остроге мы узнали о смерти презренной Екатерины, только через пять месяцев до нас дошла весть, что император Павел приехал к пленному Костюшко, вернул ему шпагу и освободил не только его, но и ссыльных поляков. Не знаю, какие причины заставили его так поступить, я думаю, что он хотел этим показать недовольство политикой своей матери. В одно время с нами был освобожден один русский — писатель, философ, который дерзнул написать книгу против рабства…
— Радищев?
— Да, Радищев.
Вдруг серебряной дробью рассыпалась соловьиная трель, потом оборвалась.
— Я думаю, вы устали? — сказал Пекарский.
— О, нет… Продолжайте.
— Я возвратился в Польшу. Уже давно я мечтал отдать свои силы просвещению молодежи польской. У нас были люди, искренне желавшие распространить в народе семена просвещения. Огромные имущества упраздненных иезуитских коллегий были обращены на содержание новых школ. Естественные науки, математика, физика, химия, новые языки вытесняли латынь, схоластическое направление, принятое в школах католических и униатских орденов… Я нашел для себя поле деятельности на Волыни. В Литве — Вильно, а на Волыни — маленький город Кременец были центрами польского просвещения. Там, в живописном городке, в отрогах Карпат, где зеленая гора увенчана развалинами замка польской королевы Бонны из рода Сфорца, умный и благородный Тадеуш Чацкий основал Кременецкий лицей. Семь лет я был старшим учителем лицея. Мы желали воспитать в юношах любовь к отечеству, идеи равенства, стремление к независимости и свободе. Не догмы католицизма, не риторику, не историю папства изучали ученики лицея, а польскую словесность, анатомию, филологию, хирургию, полеводство, архитектуру. Так длилось до 1810 года, когда комиссия, назначенная для ревизии лицея, обвинила меня и некоторых других учителей в проповеди безбожия, в атеизме. В последний раз я взглянул с высоты горы Бонна на тенистый сад и белые здания лицея, где я провел семь лет вдали от военных бурь и тревог. Не раз в эти годы мои боевые друзья, соратники по битве под Рацлавицами, вербовали учеников лицея в польские легионы, на службу Наполеону. Но я, следуя примеру моего генерала, не шел на службу диктатору. Впрочем, здесь я уже коснулся другой темы и, если позволите, мы продолжим наш разговор завтра, нам предстоит еще долгий путь.
…На второй день путешествия они приближались к границе Саксонии. К вечеру Стефан Пекарский должен был покинуть Можайского, тот с сожалением думал о предстоящем расставании со своим спутником.
— Вы не досказали мне повесть вашей жизни. Как же вы очутились в замке Грабовских?
— Я рассказал вам эту повесть не для того, чтобы возвеличить себя в ваших глазах, — подумав, сказал Пекарский, — моя жизнь — это история моего поколения, жизнь поляка, который видел свой удел в служении нации, а не магнатам и шляхте. Я близок к пятидесяти годам и три последних десятилетия моей жизни отражают печальную историю моей отчизны. Я пережил и триумфальный путь нового Цезаря — Наполеона — через всю Европу. Кости моих друзей лежат в Испании, на полях Пруссии, Австрии, равнинах России, на острове Сан-Доминго, тысячи молодых людей, сражавшихся под знаменами польских легионов, пожрал этот Ваал. Много было обещаний, но ничего не сделал узурпатор для моей родины. Впрочем, в Варшавском герцогстве одним росчерком пера он уничтожил крепостное право. Для этого ему нужно было только написать: «Крестьяне Варшавского герцогства объявляются свободными». Крестьяне стали свободными, и тотчас же помещики сгоняли их с земли, лишая крова и хлеба, переселяя на свои земли колонистов из Пруссии, подыскивая выгодных арендаторов, и это благодеяние принесло новые беды народу. В те годы я уже жил в замке графа Грабовского, он принял меня, как старого друга, я работал в его библиотеке, он закрывал глаза на то, что я не мог примириться с властью австрийцев в Галичине. Когда он скончался, его жена, вздорная и увлекающаяся особа, училась у меня польскому языку, истории и философии. Ни в чем не преуспевая, она воспылала стремлением к тайным политическим интригам. Здесь она нашла себе поле деятельности. Она окружила себя поклонниками из завзятых шляхтичей, хотя именно шляхте Польша обязана своим падением…
— Простите меня, — вдруг перебил Пекарского Можайский, — в замке находится сейчас жена французского полковника… Катрин Лярош.
— Вы говорите о русской даме?
Пекарский был несколько удивлен тем, что разговор принял неожиданный для него оборот.
— Да. О русской даме.
— Мне кажется… что эта женщина очень несчастна. Она трогательно заботится о раненом муже, она умна… Во всяком случае, книги, которые она выбирает в библиотеке, говорят об ее уме…
Можайский более не спрашивал. Он молча глядел в окно. Косые лучи солнца пронизывали сумрак кареты. Пекарский откинулся на спинку сиденья и, казалось, дремал. Можайский долго глядел на глубокие морщины, на синие тени под глазами, на крепко сжатые тонкие губы человека, который видел много горя, много пережил и остался верен мечтам своей юности. Он думал о том, что случайная встреча с этим человеком помогла ему понять многое в судьбах двух единоплеменных народов, волей деспотов-самодержцев разъединенных и лишенных равенства, братства, свободы.
6
Май во всем великолепии уже царил в Богемских горах. Горные тропы и дороги, обычно пустынные, удивляли неожиданным скоплением войск и обозов. Белые мундиры австрийской пехоты казались лавиной, сползающей с гор.
Сто тысяч отборного австрийского войска расположилось вдоль границы. Офицеры штаба загадывали, когда зажгутся костры на вершинах, долго ли им придется стоять в бездействии на гребне Богемских гор.
После битвы под Лютценом союзные войска отступили за Эльбу.
Саксонские крестьяне с кровель домов глядели на движущиеся к Дрездену колонны французских войск.
Прошла пехота и артиллерия, затем на зеленом лугу появились кирасиры, а за кирасирами — множество блестящих всадников в синих с золотым шитьем мундирах. Впереди, шагах в десяти от свиты, ехал человек в зеленом мундире егерского полка и надвинутой на лоб треуголке.
Крестьяне узнали Наполеона.
Итак, этот человек, о котором говорили, что он замерз в русских снегах, что его захватили казаки, что он утонул в Березине, — был жив и 12 мая 1813 года, после битвы под Лютценом, вступил в столицу Саксонии — Дрезден…
Брюлевский дворец в Дрездене, где совсем недавно, три недели назад, ночевал император Александр, теперь принял другого гостя. Опять жители Дрездена собирались в парке и на набережной и глядели в окна дворца, будто за плотными оконными шторами могли увидеть Наполеона.
В эти чудесные дни весны два человека во Франции, вдали от бурных событий, никак не могли предвидеть, что им предстоит далекое, столь неожиданное путешествие в столицу Саксонии.
Эти два человека были: негоциант из города Рубэ Луи Вессад и негоциант из Лиона Анри Мерие.
Два почтенных французских буржуа, не зная друг друга и не сговариваясь, осмелились написать императору Наполеону о тех затруднениях, которые испытывают промышленные фирмы в связи с войной и с континентальной блокадой Британских островов.
Письма были доставлены Наполеону, от него направлены министру полиции Савари, герцогу Ровиго и затем вернулись к императору с подробнейшим досье тайной полиции. В досье говорилось о том, кто такие Вессад и Мерие, описывалась чуть ли не вся их жизнь — от колыбели и до дня, когда они осмелились потревожить своими письмами его величество.
В один и тот же день полицейские чиновники явились в дом господина Вессада в Рубэ и в дом господина Мерие в Лионе, предложили им сесть в полицейские кареты, захватив с собой необходимое платье, «в котором не стыдно явиться ко двору», как сказали эти чиновники. В один и тот же день полицейские кареты прибыли в Париж. Здесь оба негоцианта, до сих пор не видевшие друга друга в глаза, очутились в кабинете министра полиции. Савари вышел к ним, не вступая в длительную беседу, вручил им подорожные и сказал, что завтра на рассвете они выедут в Саксонию, в Дрезден, об остальном имеет инструкции сопровождающий их полицейский офицер.
Они ехали быстро, нигде не задерживаясь. В облаках дорожной пыли перед ними открывались то живописные ущелья, то нависшие над дорогой скалы, то зеленые берега Эльбы и вьющаяся по берегу, обсаженная цветущими каштанами дорога.
В одно прекрасное утро они миновали пловучий мост через Эльбу (каменный был взорван); запыленная карета, запряженная четверкой добрых коней, промчалась по Нейштадту — предместью Дрездена — и остановилась у гостиницы «Макс и Шарлотта».
А спустя два часа господа Мерие и Вессад уже сидели на хрупких золоченых стульях в малахитовом зале дворца саксонских королей. Они сидели молча, стараясь не глядеть друг на друга: господин Вессад — маленький, коренастый, с низким лбом и испуганными глазками — и господин Мерие — с пергаментным; высохшим личиком и угрюмым, потухшим взглядом слезящихся, выцветших глаз. Ему было за восемьдесят, он сохранил здравый ум и был главой известной всем шелкоделам мануфактуры в Лионе.
В зале царила мертвая тишина. Кроме Мерие и Вессада, здесь были еще два человека — адъютант у закрытых дверей и красивый пожилой генерал в нише окна. Он стоял, положив руки на эфес шпаги, и, улыбаясь, смотрел поверх голов Мерие и Вессада, — над ними висел портрет уродливой длиннолицей дамы в горностаевой мантии.
Адъютант стоял, как статуя, у двери высотой в четыре человеческих роста. Эта тяжелая, с золотой резьбой дверь, как заметил Вессад, не была плотно прикрыта, — любопытство, очевидно, одолевало адъютанта. И вдруг люди, находившиеся в зале, услышали пронзительный крик; кто-то кричал, видимо, в припадке бешеной ярости:
— Сколько вам заплатила Англия за то, что вы стали моим врагом?!
Генерал в нише окна (это был маршал Бертье) пошевелился, тень тревоги появилась на его лице.
За дверью все стихло, наступила прежняя тишина. Вероятно, это длилось долго… Потом снова раздались два громких голоса вместе и крик ярости:
— Она для меня только мать моего сына! Это я сделал ее императрицей, — явственно донеслось из дверей, — и это моя ошибка, чёрт вас всех возьми!
Господин Вессад посмотрел на господина Мерие: лицо того не отражало ни малейшего беспокойства. Тогда господин Вессад перевел взгляд на генерала: тот отвернулся, видимо, для того, чтобы скрыть волнение.
«Во всяком случае, — подумал Вессад, — я ничего не слышал. Провались они, все эти государственные тайны! Я ничего не слышал, к тому же я глуховат, это знают все в Рубэ. Недурно они ведут себя во дворцах, почти как мы, простые люди, когда дело идет о невыгодной сделке».
Затем тот же голос, который только что был гневным и угрожающим, произнес отчетливо и довольно спокойно:
— Государи, родившиеся на престоле, могут дать себя разбить двадцать раз и затем вернуться в свою столицу. Понимаете ли вы это или нет? Я этого допустить не могу, потому что я солдат, выскочка! Моя, власть рухнет, когда я перестану быть сильным, когда меня перестанут бояться.
Генерал, стоявший в нише окна, вдруг зашевелился и, стараясь негромко ступать, подошел к двери и закрыл ее.
Казалось, все стихло за дверями, но когда господин Вессад почти успокоился, раздался грохот, разбилось что-то стеклянное и послышался крик:
— Тогда — война!..
Спустя минуту из дверей вышел человек, бледный, с напудренными волосами. Маленькая голова с выдвинутой вперед челюстью придавала нечто змеиное его облику. На богатом, расшитом золотом мундире сверкали бриллианты нашейного ордена. Генерал, только что закрывший дверь, пошел ему настречу и взял об руку. И господин Вессад (он не был так глух, когда это было нужно) услышал, как этот человек сказал генералу: «Клянусь вам, он потерял рассудок…»
Господин Вессад снова повернулся к Мерие; губы старика зашевелились, он посмотрел в сторону человека, которого увел под руку генерал.
— Князь Меттерних… — скорее прочел по губам, чем услышал, Вессад.
Но в это мгновение послышался резкий звон колокольчика, адъютант скрылся в дверях, но тотчас появился снова и возгласил:
— Господа Вессад и Мерие — к императору!
Оба никогда раньше не видели Наполеона, они знали его по портретам, по суровому и важному профилю на золотых монетах. Теперь они увидели довольно полного, пожилого человека с тусклым взглядом и с усталостью в опущенных, округлых плечах.
Наполеон сидел в высоком кресле, положив руки на стол, и некоторое время молча исподлобья глядел на вошедших.
— Садитесь, господа, — наконец сказал он и добавил: — Вам трудно стоять в вашем возрасте, господин Мерие.
Не было и тени волнения в лице Наполеона, точно это не он только что яростно кричал и топал ногами. Осколки разбитой вазы были убраны, на ее месте стояла зрительная труба. Со стола свисала карта, порванная в том месте, где изображена Австрия.
— Господин Мерие, несмотря на свой почтенный возраст, вы все еще глава фирмы?
Мерие медленно наклонил голову.
— …Мне говорили, что ваш род обязан своим богатством еще Кольберу? Так ли это?
— Королевский министр был сыном купца из Реймса… В нашей семье хранится предание, что великий Кольбер дарил моего прадеда своей дружбой… У нас хранятся реликвии — чернильница и табакерка, но мне кажется, ваше величество, что королевский министр оказывал внимание и другим французским негоциантам и французская торговля процветала в те времена. Кольбер сделал все, чтобы защитить ее от соперничества иностранцев.
— Это был великий ум, — снисходительно сказал Наполеон, — и ваш прадед, вероятно, был достоин дружбы Кольбера.
Вессад с изумлением слушал этот разговор о министре Людовика XIV. «Он разговаривает с купцом, как с вельможей, а пять минут назад кричал на вельможу, как на торгаша», — подумал он. Он обратил внимание на матовый, зеленовато-смуглый цвет лица Наполеона: «Нездоровый цвет лица…»
— Господин Мерие и господин Вессад, — неожиданно громко заговорил Наполеон, — ваши письма похожи одно на другое, точно вы советовались, когда решили мне писать.
Вессад сделал отрицательный жест:
— К глубокому сожалению, я не имел чести знать господина Мерие, так же как он меня, государь…
— Я это знаю и пригласил вас обоих. Однако я думаю, что у вас нет причины быть недовольными, господа.
Мерие и Вессад переглянулись и не сказали ни слова.
— Вы, Вессад, поставляли сукно для армии и нажили три миллиона золотых франков, вы сделали себе состояние за последние шесть лет. Вы, Мерие, с 1810 года поставщик моего двора, вы тоже не можете жаловаться. За это время вы увеличили ваше состояние на полтора миллиона франков.
— Совершенно верно, ваше величество, — беззвучно сказал Мерие.
— Об этом, господа, вы не писали ни слова в ваших жалобных посланиях…
Он взял со стола зрительную трубу и постучал ею об стол.
— Я сделал все, что мог, для того, чтобы промышленность Франции процветала. Подобно Кольберу, я заботился о том, чтобы открывались новые и новые фабрики. Ваши коллеги, негоцианты Саксонии, Вестфалии, Италии, Баварии, могут упрекнуть меня в том, что, обогащая вас, я разорял их. Я приказывал Бельгии и Нидерландам покупать сукна в Лилле и Рубэ, бархат и шелк в Лионе. А что делали вы, господа негоцианты?
Вессад умоляюще протянул руки.
— Вы пользовались каждым случаем, чтобы вздувать цены, вы вынудили меня на два месяца позже выступить в русский поход. Я воевал, я завоевывал оружием богатство и славу, а вы меня грабили!
Он поднялся, положил руки на стол и вдруг закричал:
— Почему в Рубэ закрывают прядильные фабрики?
Судорога сжала горло Вессаду, он прохрипел что-то бессвязное, Мерие поднял всегда опущенные веки и проговорил глухим голосом:
— Нет хлопка. Склады пусты, ваше величество. У меня работают только тысяча двести прядильщиков и прях, а два года назад их было вшестеро больше.
Тогда осмелился вставить слово и господин Вессад:
— Хлопок в Египте, за морем… а в море — англичане. Чтобы красить материи, нужно индиго. Все там, за морем.
— Но я для того и воюю с Англией, чтобы моря стали свободными, чтобы вы получали дешевый хлопок! Почему же раньше вы не осмеливались роптать на континентальную блокаду, а теперь ропщете? Вы плохие французы, господа негоцианты!
— Ваше величество… — пролепетал Вессад.
— Да, вы плохие французы, — как бы в раздумье, отодвигая кресло, повторил Наполеон. — Я всегда хотел видеть торговлю Франции процветающей и французские товары — далеко за ее пределами. И что же? Несколько жалких французских торговых домов в России — и это все. Савари был в Петербурге и Москве в те времена, когда я состоял в союзе с императором Александром. Он видел французскую торговлю в полном унижении. Где ваши ткани, господин Мерие? Где лионский бархат? Где полотна, фарфор, серебро, кружева, драгоценности, гобелены? Все это вы могли дать России, господа негоцианты, но вы ленивы, неповоротливы, трусливы. Вы сидели на своих денежных мешках, пока я завоевывал Европу… Я ненавижу англичан, — говорил он прохаживаясь, шаркая подошвами сапог по ковру, — но меня восхищает их торговая предприимчивость. Они, а не вы, открывали английские магазины в Петербурге, и это были солидные купцы, а не авантюристы, покинувшие Францию с товаром на несколько сот франков. Англичане везли в Россию все — от чернил и бумаги до бриллиантов! Когда я подписывал мир с Россией в Тильзите, я думал о вас, французские негоцианты!.. Савари рассказывал мне о жалобах русских: дворяне-землевладельцы разорялись, потому что у них не покупали пеньку, лес, холст, потому что я лишил их возможности продавать все это англичанам. И я их понимаю. Но разве вы, господа негоцианты, разве богатая, победоносная Франция не могли покупать у русских все то, что прежде покупали англичане? Нет, вы сидели на своих золотых мешках. Вы плохие французы, господа! Я душил пошлинами торговлю немцев и итальянцев, я обогащал вас, — поймете ли вы это, наконец? Мерие, вы жили при Людовиках, — я спрашиваю вас: когда Франция была в таком сиянии славы? Когда, я спрашиваю?
Мерие поднялся и почти шёпотом сказал:
— Не смею спорить, ваше величество. Но мы мирные люди, мы не солдаты. Мы промышленники. Нельзя торговать, когда нет свободного оборота. Моря заперты, в Европе не стало звонкой монеты, в Баварии, в Пруссии, в итальянских землях — везде ассигнации… Нет смысла в торговле… Тяжелые времена.
— Тяжелые времена, — как эхо, повторил Вессад.
Наполеон не слушал. Он думал о другом и вдруг заговорил быстро и страстно:
— Мир увидит великие победы. Через месяц я буду на Висле, через год — на Темзе. Русский поход ничего не значит, господа, вы это скоро увидите…
Должно быть, он не раз говорил эти слова, он повторял их, как заученные. Мерие смотрел слезящимися глазами на императора, на его лицо одержимого, с широко раскрытыми глазами, остановившимся, ничего не видящим взором.
— Господа, я приказал Даву расстрелять гамбургских торгашей за то, что они мешали мне блокировать Англию. Я приказал посадить в тюрьму пятьсот богатейших граждан Гамбурга и конфисковать их имущество за то, что они мешали мне уничтожить Англию. Господин Вессад, поезжайте в Рубэ! Господин Мерие, возвращайтесь в Лион! Скажите французским негоциантам, что их может постигнуть судьба гамбургских купцов, несмотря на то, что они — французы! Помните это!
Мерие и Вессад стояли с опущенными головами.
Они не пытались говорить, да он бы их и не услышал. Он кричал в исступлении, в припадке ярости, не видя их, обращаясь к тем, кто был далеко от Дрездена:
— Мы воевали, мы возвеличили и прославили Францию, а вы грабили! Теперь вы хотите лишить меня неслыханной славы и власти над миром! Нет, нет и нет! Помните это!..
Он вдруг повернулся спиной к Мерие и Вессаду, подошел к двери и ударом сапога открыл ее. Прежде чем уйти, он остановился на пороге и совсем другим голосом, спокойно и сухо повторил:
— Помните это.
Адъютант проводил Мерие и Вессада до кареты. В карете Вессад, наконец, пришел в себя и, задыхаясь от волнения, спросил Мерие:
— Ну, что вы на это скажете?
Мерие молча смотрел в окошко кареты. Они ехали к пловучему мосту. На улицах Дрездена звучала французская солдатская песня. Странно, что ее пели ломающиеся, мальчишеские голоса. Шла рота пехотинцев с тяжелыми ружьями на плече, шагали мальчуганы в солдатских мундирах.
— Что вы на это скажете? — повторил Вессад.
Мерие повернул к нему восковое, безжизненное лицо. Голова его тряслась (карета ехала по разбитой мостовой), голос прерывался:
— Помню… в 767 году наводнение смыло мост через Рону… Это случилось ночью. Было еще темно, но уже чуть светало… Мы стояли на берегу. Вдруг на горе появилась карета. Четверка горячих коней летела во весь опор. Люди побежали за ней, кричали, но ни кучер, ни лакеи не обращали внимания на крики. Из окна выглянул человек в белом парике и голубом камзоле. Он кричал «Вперед! Вперед! Скорее!» И карета умчалась… Этот человек торопился в Париж. Он не знал, что мост через Рону рухнул. Ему было смешно, что какие-то жалкие людишки что-то кричат ему и машут руками… Потом рассказывали, что его ожидало в Париже счастье, богатство, милость короля… Он мчался, мчался: «Вперед! Скорее! Вперед!» И через мгновение четверка лошадей, карета, кучер — все рухнуло с обрыва в Рону.
Мерие умолк и, наклонившись к самому уху Вессада, прошептал:
— У того… там, во дворце, было такое же лицо, лицо человека из кареты…
«Во всяком случае, я не хотел бы быть на его месте», — подумал Вессад.
7
То, что именовалось «штабом его величества» императора Александра, находилось в замке Петерсвальд, близ Бреславля, на границе Саксонии.
Трудно было понять, как маленькое селение, расположенное вблизи замка, вместило такое множество штабных офицеров, свиты, придворных, сопровождавших в походе Александра.
В этой кипевшей, как потревоженный муравейник, толпе можно было увидеть русских гусар, лейб-казаков в красных мундирах и высоких шапках, гоффурьеров в ливрейных фраках с черными орлами. За высокими стенами — во дворе замка и в галерее над замковым садом — ожидали аудиенции русские и прусские генералы и дипломаты. Чуть сторонясь их, торопливыми шажками прошел человек лет тридцати, почти карлик ростом, одетый, как на бал, — в оливкового цвета фрак, серые панталоны, сапоги с желтыми отворотами и кисточками. Маленький рот его застыл в недоброй улыбке, из-под длинных ресниц глядели черные, пронизывающие насквозь точки зрачков. Куда бы он ни шел, толпа штабных и придворных раздвигалась и уступала дорогу. Это был статс-секретарь императора Александра граф Карл Васильевич Нессельроде, Нессельрод, как называли его русские.
Нессельроде мог всюду следовать верхом за императором и заведовать императорской личной канцелярией. Такой человек, пожалуй, был необходим царю, однако его присутствие умаляло значение канцлера Румянцева — «престарелого и болезненного», как о нем со вздохом говорил Александр.
Придворные шалуны не могли забыть, что статс-секретарь русского царя родился в Лиссабоне, на английском корабле, окончил гимназию в Берлине, из Карла Вильгельмовича стал Карлом Васильевичем. Но стоило графу Неосельроде повернуть голову туда, где послышался смешок, шутники умолкали и старались не встречаться с холодным взглядом маленьких, как бусинки, глаз.
Так, не глядя ни на кого, но видя всех, он прошел в боковой полутемный зал, служивший когда-то казармой для замковой стражи.
Здесь было прохладно и сыро. Хотя за стенами был теплый майский день, но по приказу Нессельроде топили камин. С треском разгорались поленья, и человек, сидевший у огня, не услышал легких и быстрых шагов. Нессельроде появился так неожиданно, что человек у огня вздрогнул, но тотчас же встал и почтительно поклонился. В отблеске пламени можно было разглядеть его красное, как бы воспаленное лицо и шрамы от сабельных ударов.
— Я заставил вас ждать, — небрежно сказал Нессельроде, — но что поделаешь…
Его гость был случайным парижским знакомым, надо было ему показать, что Карл Васильевич стал весьма значительной особой и не склонен помнить случайное знакомство тех времен, когда состоял при князе Куракине в Париже.
Нессельроде сел в услужливо подвинутое кресло и, как бы думая о другом, спросил:
— Что нового в Вене?
— Я оставил Вену четыре дня назад, — хриплым голосом ответил собеседник. — Город был в смятении, толпы народа окружали дворец французского посла. В окна летели камни. С тех пор как карету посла забросали грязью, он избегает выезжать. Чернь распевает обидные для французов песни, полиция разгоняет толпы, но она бессильна.
— А господин канцлер? — холодно улыбнувшись, спросил Нессельроде. — Почему сто тысяч австрийцев стоят без движения в Богемских горах? Неужели марш во фланг Наполеону князь Меттерних думает заменить дипломатическим демаршем в Лондоне и Париже? Эта медлительность ставит в невыносимое положение его друзей.
— Лютцен… Бауцен… — заметил собеседник. — При дворе императора Франца только и слышишь: «С парижскими мальчишками он заставил своего противника уйти за Эльбу…»
— Что делает австрийская миссия в Лондоне? — не слушая, продолжал Нессельроде. — Мой милый барон фон Гейсмар, вы не можете мне на это ответить… Утверждают, что посланцы князя Меттерниха уговаривают англичан заключить мир с Наполеоном. Они стараются доказать, что падение Наполеона усилит Россию, что сильная Россия опаснее Наполеона…
— Странно, что я ничего не слыхал об этом.
Нессельроде прищурил глаза и с любопытством поглядел на своего собеседника:
— Вы очень комично описали мне музыкальные упражнения императора Франции. Я оценил ваше остроумие, но мне было бы интересно узнать кое-что другое… Например, тайные намерения князя Меттерниха, — разве об этом ничего неизвестно при дворе? По крайней мере, какие строят догадки, предположения?.. Вы ничего не слышали о подробностях истории с английским курьером, который вез депеши лорду Каткэрту, в Петербург?
— Вы говорите о нападении на курьера? Но, право, об этом говорили один вечер, не дольше, и все винили французов… Мое положение в Вене не позволяло мне интересоваться подобными историями. Кто я? Путешественник, случайно задержавшийся в Вене. Другое дело, если бы я принадлежал к штату российского посольства…
— Вы просили в письме аудиенции у его величества…
— Я был бы удовлетворен, если бы вы, граф, доложили императору о том, что я счастлив служить под вашим начальством, в штате российского посольства при Венском дворе…
— Я думаю, — растягивая слова, сказал Нессельроде, — я думаю, что мне не удастся найти для вас пост, который бы соответствовал вашим личным достоинствам… Ваш возраст и положение в свете не позволяют мне предложить вам незначительную должность.
Это был вежливый отказ.
Гейсмар поклонился, но это мало походило на поклон. Бычий затылок его налился кровью. Когда Гейсмар выпрямился, то увидел, что он один в полутемном зале.
Несколько времени он стоял неподвижно у камина. Маска доброжелательства и учтивости слетела, его лицо кривилось от бессильной злобы. Он унижался перед этим карликом, перед человеком, который еще недавно, в Париже, искал связей в свете и не раз сидел с ним, с Гейсмаром, за ломберным столом. Дело не в уязвленном честолюбии, в конце концов можно даже ползать у ног этого карлика, если бы он помог Гейсмару. Пока же о Вене нечего и мечтать… Грустно в сорок лет начинать с начала, но что поделаешь… Впрочем, может быть…
Он вытер платком пот, лицо его вновь обрело снисходительно-учтивое выражение, и, не торопясь, вышел из зала.
…Карл Васильевич Нессельроде не только потому так сурово обошелся с Гейсмаром, что хотел показать, какая дистанция между состоявшим при князе Куракине чиновником и статс-секретарем Александра I.
У барона Гейсмара была дурная репутация, о нем нехорошо отозвался некий синьор Маллия, полезнейший человек в Вене, всезнающий агент. В последнем письме он писал, что в ближайшее время сообщит еще нечто весьма важное о бароне фон Гейсмаре.
Кроме того, Карл Васильевич запомнил, что этот самый барон Гейсмар ставил себя на равной ноге с аккредитованными в Париже дипломатами. В те годы его считали богачом, — удачной игрой в карты он поправил свое состояние. И за ломберным столом он снисходительно посматривал на Карла Васильевича, этого не мог забыть Нессельроде.
Между тем Карл Васильевич выполнял тогда секретную миссию: он связывал некую «Анну Ивановну», «красавца Леандра», «кузена Анри» с Александром I.
«Анной Ивановной» (она же «красавец Леандр», она же «кузен Анри») был не кто иной, как отставной министр иностранных дел Наполеона, великий камергер его двора — Шарль-Морис Талейран-Перигор, герцог Беневентский. И царь доверил неизвестному молодому человеку, Карлу Нессельроде, эту важную миссию только потому, что его рекомендовал государственный секретарь Сперанский.
Однажды за обедом в Тюильрийском дворце Наполеон сказал о Нессельроде:
— Этот маленький господин когда-нибудь будет большим человеком.
Зоркому провидцу не могла прийти в голову мысль о том, что «маленький господин» связывал великого камергера его двора с Александром. Впрочем, если бы Наполеону пришла в голову такая мысль, князь Талейран был бы повешен на решетке площади Карусель, как это ему однажды обещал император.
Но чутье Наполеона не обманывало, он чувствовал, что у Александра есть тайные связи в Париже, и через прусского посла Шладена пытался нащупать эти связи. И это была бы гибель Талейрала.
Никогда не забывал Карл Васильевич страшной ночи, когда «красавец Леандр», при всем своем хладнокровии, бросил партию в вист и осмелился сесть в ожидавшую его у кладбища Монмартр карету Нессельроде. Но гроза прошла мимо… И по-прежнему, с изящной небрежностью «Анна Ивановна» — «красавец Леандр» — принимал из рук Нессельроде деньги за свои услуги или письма на имя банкира, подписанные вымышленным именем. Имя было вымышленное, но деньги, которые хранились у банкира, были настоящими, полноценными гинеями. Талейран предпочитал золотую валюту, она была вернее бумажных франков.
Когда произошло падение, а затем ссылка его первого покровителя — Сперанского, Карл Васильевич подумал, что пришла и его гибель. Он осмелился плести сложную интригу, которая вела к войне между Россией и Францией. Он осмелился итти против властолюбивого канцлера Румянцева. Помимо посла в Париже Куракина, втайне от Румянцева, он связывал Талейрана с Александром. Однако Нессельроде уцелел, на его карьере падение Сперанского не отразилось. Он был нужен и выполнил свою миссию в те трудные годы, когда не надолго умолкли пушки. Россия должна была знать тайные помыслы завоевателя: что означали передвижения войск на восток, куда устремил свой взор ненасытный Наполеон Бонапарт, как далеко он пойдет в своих домогательствах?
И Карл Васильевич приписывал себе великие заслуги, хотя он был только связным в этом деле.
Но тревога никогда не оставляла его, даже когда он стал статс-секретарем императора Александра. Румянцев все еще был государственным канцлером, при дворе многие ненавидели выскочку, «графа Священной Римской империи» Нессельроде. В Париже он вел тайные беседы с князем Меттернихом, — в предвидении войны с Наполеоном Россия искала союзников, полагали, что Австрия выступит против Наполеона.
Меттерних разговаривал с Нессельроде снисходительно-ласково, но ничего не обещал. Карл Васильевич возымел глубокое почтение к Меттерниху хотя бы потому, что тот был аристократ, а не сомнительный граф Священной Римской империи. Сознание своего ничтожества перед Меттернихом навсегда овладело им. Не потому ли впоследствии Карла Васильевича называли «австрийским министром русских иностранных дел»?
И теперь снова встал этот проклятый вопрос. Наполеон изгнан из России, русские вступили в Европу. На чьей стороне выступит Австрия? Склонятся ли англичане к миру с Наполеоном из страха перед растущей мощью России?
Только об этом думал сейчас император Александр. Кто мог ответить ему на этот вопрос? Иногда он глядел угрюмым, неподвижным взглядом на своего статс-секретаря. Карл Васильевич покрывался холодным потом и безмолвствовал. Ему казалось, что все то, о чем нашёптывали царю, ненависть и презрение родовитых русских сановников, толки о его австрофильстве — все это перевесит его мнимые и действительные заслуги и ему укажут на дверь, так же как он сам указал сегодня на дверь Гейсмару.
Карл Васильевич страшился напрасно. В глазах Александра он был не выше парикмахера — швейцарца Пауля; впрочем, без него трудно было обойтись. Но австрийский вопрос вставал перед царем по-прежнему, и ни Нессельроде не мог решить его, ни сам царь.
Один лишь человек своим тонким, острым, глубоким умом мог бы разрешить сомнения царя и заставить австрийцев выступить на стороне коалиции — Кутузов! Для этого-то он и придвинул войска к австрийской границе. Но набальзамированное тело фельдмаршала в эти часы везли через Митаву, Ригу, Нарву и далее в Петербург.
В записях современников читаем:
«…народ, увидев гроб, тотчас отпряг лошадей и ввез оный на себе в город. Бесчисленное множество людей провожало шествие.
…в глазах наших совершил он великое дело освобождения отечества от нашествия иноплеменных, в глазах наших вознесся на высокую ступень первого полководца Европы — и скрылся от изумленных потомков… Потомству предоставляем достойно восхвалить русского героя».
8
Барон Курт фон Гейсмар поистине был встревожен откровенным разговором с Нессельроде.
Возвращаться в Вену было бы неблагоразумно и опасно. Барон Гагер, полицей-президент, давно уже косо поглядывал на лифляндца, мелькавшего всюду — и во дворце Разумовского, и во французском посольстве, и на Бальхаузплац у Меттарниха. Гейсмар не стеснялся в средствах, жил широко, снимал особняк близ Бельведерского дворца. Когда произошла таинственная история с нападением на английских курьеров, лифляндца решили попросить к барону Гагеру. Но полицей-президенту доложили, что барон фон Гейсмар два дня назад миновал границу Богемии; были сведения, что он отправился в главную квартиру русской армии.
Гейсмар любил Вену; уклад венской жизни, уютный и развлекательный, был ему по душе. Но вернуться туда можно только в официальном звании русского дипломатического чиновника. Австрия все еще находилась в союзе с наполеоновской Францией, Разумовский оставался в Вене неофициально, как венский старожил и добрый знакомый императора Франца. Золота в заветном сундучке барона оставалось не так много, чтобы содержать дюжину слуг, кареты, лошадей и притом жить, не отказывая себе ни в чем. Нессельроде довольно ясно указал на дверь барону Гейсмару. Война в Европе продолжалась, до мира было еще далеко, надо было изобрести нечто такое, что дало бы возможность жить в безопасности и спокойствии, пока забудутся все бурные события его жизни.
Неудача у Нессельроде не обескуражила Гейсмара, у него была надежда на графа Витгенштейна, главнокомандующего. Граф Петр Христианович был хорошо знаком Гейсмару по Петербургу. Дом Витгенштейна был всегда открыт для всех петербургских ветренников, для иностранцев, для всех, кто любил повеселиться, попытать счастья в фараон. Витгенштейн, несмотря на немолодые годы, сохранил легкомыслие молодых лет.
Лифляндец видел свет, подолгу жил в Париже, Риме, Вене, знал множество презабавных историй, умел тонко злословить, владел искусством вести застольную беседу, — он нравился Витгенштейну, и они расстались в Петербурге друзьями.
Гейсмар решил напомнить Витгенштейну о себе: не удалось у Нессельроде — можно попытать счастья у графа Петра Христиановича. Он пока еще в славе, после смерти Кутузова его даже называют «оплотом Европы». Если Витгенштейн замолвит за него слово императору, Нессельроде сделает приятную мину при плохой игре и этим все кончится.
Гейсмар никогда не откладывал своих намерений, и в тот же день обходительный адъютант Витгенштейна, тоже лифляндец, барон Нольде, увидел перед собой дородную и внушительную фигуру своего земляка, барона Курта фон Гейсмара.
Витгенштейн жил в богатом и обширном загородном доме королевского лесничего. Едва только Гейсмар переступил порог дома, где жил главнокомандующий, он понял, что нравы петербургского дома графа Витгенштейна перенеслись и сюда. Двери во всех комнатах нижнего этажа были открыты настежь, всюду расхаживали с независимым видом и в полной праздности офицеры штаба, в столовой был накрыт стол, а денщики и слуги не успевали менять приборы, убирать и приносить бутылки.
Хорошенькая немочка с пышным букетом цветов терпеливо дожидалась приема у главнокомандующего; два юных лейб-гусара непринужденно болтали с ней. На диване, под прибитыми к стене огромными оленьими рогами и двумя кабаньими мордами, сидел казачий полковник. Он сидел здесь уже долго и злыми глазами озирался по сторонам.
Все это было удивительно даже для барона Гейсмара и походило не на штаб главнокомандующего, а на охотничий дворец, куда в ожидании охоты съехались гости.
Нольде попросил барона немного обождать, но скрылся и уже не появлялся с полчаса. Проголодавшись и соскучившись, Гейсмар протиснулся к столу, занялся поросенком и от скуки стал прислушиваться к беседе двух офицеров, — один был ахтырский гусар, другой артиллерист.
Они, не стесняясь, бранили порядки в главной квартире. Высокий черноволосый офицер с георгиевским крестом в петлице говорил гусару:
— Я прихожу сюда в третий раз и уже перестал удивляться… Можешь ты мне объяснить, что здесь делают все эти люди? Я летел сюда из Варшавы сломя голову… Мне говорили, что все, что я знаю, нужно и важно, — прошло десять дней, я еще не видел главнокомандующего…
— Ты не единственный. Посмотри на полковника: он прискакал из-под Данцига, от самого Платова, и сидит на этом диване второй день… Что хорошенького в Варшаве? Что нового в театре? Все так же смешит комический актер Жулковский?
Разговор шел по-французски, но вскоре черноволосый офицер перешел на русский язык:
— Помнишь Тарутино? Помнишь Леташевку? Какой был порядок! Каждый знал свое место. Едва появлялся на пороге курьер — и тут же его ведут к самому фельдмаршалу…
— Что вспоминать! — вздохнул гусар. — Оттого и победили. Того уж не будет, что было.
Гейсмар слушал эти речи, подливая себе вина, угощаясь поросенком и стараясь запомнить все, что говорилось вокруг.
— Фигнер, славнейший наш партизан, прибыл сюда, подождал час, не более, вскипел и прямо без доклада вошел к главнокомандующему. И что ты думаешь, — сидел у него два часа, граф не отпускал его, понравились ему рассказы Фигнера. Тот посмешил его, получил, что надобно — снаряжение, две пушчонки, откланялся и был таков. А то еще и по сей день торчал бы в главной квартире.
— Грустно все это, господа, — сказал молчавший до тех пор казачий полковник, — ведь у нас война — и с самим Наполеоном… Да как винить графа Петра Христиановича? В армии два генерала старше его чином — наш Милорадович и пруссак Блюхер, а нынче прибыл из Торна третий — Барклай. Граф не может им приказывать, должен просить… Вот и рассудите.
Выслушав все это, Гейсмар тотчас же встал от стола и пошел разыскивать Нольде. Он нашел его в веселой компании, около той же хорошенькой немочки. Нольде рассыпался в извинениях и исчез, уверяя, что тотчас же доложит о нем графу. Но Гейсмар, вспомнив историю с Фигнером, сам протиснулся к лестнице, которая вела на второй этаж. Тут стояли два генерала. Одного из них Гейсмар знал в лицо, — это был известный своей храбростью герой Бородинского сражения Николай Николаевич Раевский. Другого генерала Гейсмар не знал. Богатырского роста, чуть сутулый, быстрым и проницательным взором он скользнул по фигуре Гейсмара и продолжал начатый разговор:
— На второй день сражения под Лютценом полдня ездили, искали главнокомандующего, ждали, какие будут распоряжения, нашли в поле, сидит на пеньке. Спрашивают: «Какие будут от вас приказания, граф?» А он в ответ…
Генерал оглянулся, Гейсмар отступил в темный угол под лестницей.
— «…когда в армии император, то главнокомандующий ожидает приказаний его величества». А при Бауцене? — продолжал незнакомый генерал. — Где это видано, чтобы главнокомандующий так и не отъезжал от императора? Милорадович говорил мне: «Я плакал, как ребенок. Идет сражение, а я два дня без пользы простоял в арьергарде…» Кавалерия так и не была в деле.
— А ты погляди, что здесь делается, — толкотня, просители, праздные офицеры, просто болтуны-вестовщики. Базарная площадь, а не штаб главнокомандующего…
— Можно занять место великого человека, но нельзя его заменить.
Гейсмар так бы и не ушел, — уж очень интересна для него была беседа. Но вдруг внизу все затихло — говор, гомон, звон шпор, и в наступившей тишине послышались быстрые шаги. Гейсмар увидел румяного, с черными, как маслины, глазами генерала. Он обнял и расцеловал Раевского, потом незнакомого Гейсмару генерала и легко взбежал по ступеням на второй этаж.
Откуда-то появился Нольде со смущенным лицом, сделал вид, что не видит Гейсмара, но тот не постеснялся взять его локоть.
— Тысяча извинений, — сказал Нольде по-немецки, — но у графа Витгенштейна граф Милорадович. Не знаю, как долго продлится беседа. Если угодно, ждите, барон…
Гейсмар решил ждать. Он услышал и увидел здесь много интересного; все, что происходило у главнокомандующего, было важно для него. Уже давно он размышлял о том, чтобы поискать себе нового, доброго и тароватого хозяина. При таком положении дел победа Наполеона казалась ему неизбежной. Все, что здесь происходило, разумеется, было известно Наполеону. Гейсмар не сомневался в том, что в этом доме есть шпионы, — может быть, даже эта хорошенькая немочка с букетом?..
Весь день до вечера Гейсмар толкался среди разношерстной толпы, наполнявшей дом, и подслушал много любопытного. Он уже давно привык из тысячи слышанных им слов запоминать только то, что могло пригодиться. Тем более, если он решится служить другому хозяину, то не с пустыми же руками итти к французам… Правда, и у французов он не мог ожидать хорошей встречи, — его пребывание в Париже оставило некоторые неприятные воспоминания у министра полиции Фуше, а затем Савари. Но это было уже давно и могло быть забыто. Наконец, все зависит от того, насколько он будет полезен…
Поздно вечером он все же проник к Витгенштейну.
Гейсмар застал графа в глубоком и мрачном раздумье; никогда не видели его таким в Петербурге. Глаза графа были тусклы, взгляд рассеян. Он сидел, развалясь в кресле, поглаживая жирные щеки, равнодушно слушал венские сплетни, изредка покачивая головой и принужденно улыбаясь. Когда же Гейсмар приступил к главному и стал просить высокого покровительства, он ничего не ответил.
— Вам вверены судьбы Европы, — настойчиво продолжал Гейсмар, — вы — главнокомандующий, второе лицо после императора, что вам стоит сказать его величеству два слова о вашем покорнейшем слуге! Я мог бы быть полезен вам, граф, раскрыть вам глаза на те чувства, которые питают к вам некоторые ваши подчиненные. Вы даже не подозреваете, сколь завистливы некоторые из них…
Вдруг Витгенштейн остановил его жестом и с грустью сказал:
— Все это сейчас уже нисколько не тревожит меня. Мой любезный друг Милорадович, глубоко почитаемый мной, сегодня говорил со мной откровенно, как воин с воином… «Беспорядки в армии умножаются, — сказал он, — все на вас ропщут. Благо отечества требует, чтобы на ваше место назначили другого главнокомандующего…»
— Что же вы ответили, граф?
— С сегодняшнего дня я уже не главнокомандующий. Император назначил на мое место Барклая.
Лицо Гейсмара выразило такое горе, что Витгенштейн был тронут…
— Что может для вас сделать бывший главнокомандующий? Я вижу вашу приверженность ко мне… — Он задумался. — Вюртембергский герцог Александр-Фридрих командует войсками, осаждающими Данциг… Я мог бы написать ему… Он примет вас как моего друга…
Гейсмар ушел от Витгенштейна с письмом герцогу Вюртембергскому… Брат императрицы… Последняя попытка.
9
Император Александр сидел в саду замка Петерсвальд и рассеянным взглядом смотрел на расстилающуюся внизу долину, башни Рейхенбаха и красные кровли селения.
Александру Павловичу было в ту пору тридцать пять лет. Он был еще очень благообразен, особенно, когда хотел очаровывать и прельщать. Тогда близорукие глаза его томно щурились, и придворные льстецы называли это «улыбкой глаз». Белокурые волосы царя стали редеть, появилась лысина, увеличившая лоб, который те же придворные называли «лбом мудреца». С годами он стал все больше и больше заботиться о наружности и фигуре, мучил парикмахеров, держал в страхе придворных портных, и они доводили до совершенства его мундиры.
Таким был Александр летом 1813 года, когда союзные войска отошли к Швейдницу, приблизившись к границам Австрии. Этим маневром хотели принудить австрийцев начать войну с Наполеоном.
Французы двигались к Одеру и заняли Бреславль.
Русские шли в бой в упоении от недавних славных побед. Они видели трупы французов на дорогах России, видели наполеоновских гренадер — хваленых победителей под Иеной, Маренго, Ваграмом — обмороженными и пленными. Этого не видели генералы — пруссаки и австрийцы; страх перед Наполеоном все еще владел ими, хотя их солдаты рвались в бой и жаждали отомстить за годы порабощения отчизны.
Александра Павловича доводил до бешенства трусливый прусский король Фридрих-Вильгельм III.
Можно ли забыть, что король прусский, после того как его генерал Иорк самовольно подписал конвенцию с Россией, на Пошерунской мельнице, близ Таурогена, приказал разжаловать Иорка в солдаты. Правда, немного времени спустя король признал конвенцию и вернул Иорку чин и регалии, но в первые дни после подписания конвенции Фридрих-Вильгельм был без ума от страха перед французами. Он был напуган и сражениями под Лютценом и Бауценом, хотя сами французы не считали эти сражения победой.
Только умение царя владеть собой удерживало его от припадков ярости.
И сейчас, в одиночестве, в замковом саду, он дал волю своим чувствам. Если бы кто-нибудь подглядывал за Александром, то не увидел бы прельстительной улыбки и томного ласкающего взгляда. Он увидел бы лицо угрюмого и рассерженного, рано стареющего человека.
Впрочем, близкие к Александру люди знали, как он умеет владеть своими чувствами, что «наш ангел», как его называли в семье, раздражителен, коварен, подозрителен, что в ответ на оправдания и справедливые доводы он умеет язвительно улыбаться, а порой и браниться дурными словами.
Таким он был среди самых близких ему людей, наедине с гардеробмейстером Геслером, камердинером Паулем или с Волконским.
Со времени краткой дружбы с Наполеоном (впрочем, особой дружбы и не было) он перенял у Наполеона некоторые особенности обращения с людьми — склонность ссорить близких людей, смущать их внезапной холодностью или вдруг дарить благосклонностью. Одного только не мог перенять у Наполеона Александр — равнодушия к тому, что думали о нем люди, лишь бы они были полезны и верно служили.
Жертвой этого болезненного самолюбия царя был Сперанский, которого Наполеон считал самой светлой головой в России. Александр не любил, когда ему напоминали о Сперанском, и не раскаивался в том, что сослал его в Нижний Новгород, а потом в Пермь.
Двор и крепостники ненавидели Сперанского не только потому, что он был поповичем. Ненавидели потому, что реформы Сперанского создавали новую служилую аристократию, от чиновника требовались способности к службе, а не только, чтобы он был столбовой дворянин, записанный в пятую «бархатную» книгу дворянских родов.
Но более всего ненавидели Сперанского за его финансовые планы. Он требовал «великие пожертвования от дворянства», и это означало введение высокого налога на большие землевладения. Таким образом Сперанский надеялся поправить государственный бюджет, увеличить доходы государства и укрепить рубль, — за серебряный рубль давали четыре бумажных с мелочью.
Вот почему такое ликование знати вызвала опала и ссылка Сперанского. К тому же это означало и конец союза с наполеоновской Францией. Александр не так строго обошелся бы со своим прежним любимцем, если бы не то, что попович проникал в сферу, которую Александр считал безраздельно своей, в которую он не позволял проникать даже государственному канцлеру, хотя тот по званию своему ведал иностранными делами.
И главное, чего не прощал царь Сперанскому, — это суждений о своей особе. Не раз в донесениях агентов говорилось, что Сперанский позволял себе упрекать царя в двуличии, трунить над тем, что Александр незаслуженно считает себя великим полководцем, завидуя славе Наполеона. Александр не любил сражений, он предпочитал смотры и парады, так же как и отец его, Павел. Он предпочитал тайную войну, в которой невидимо сражались его тайные агенты. Он любил читать собственноручные их донесения о придворных интригах, перлюстрированные письма иностранных послов и своих сановников, расшифрованные депеши друзей и врагов. Он не брезговал беседами с Христианом Андреевичем Беком, мастером перлюстрации и расшифровывания, и принимал его не раз у себя — тайно, в гардеробной. Именно донесения Бека были одной из причин жестокой опалы Сперанского, которого, впрочем, и теперь царь считал дальновидным и даровитым государственным деятелем.
Но отправляя Сперанского в ссылку, позаботился о том, чтобы ему послали вслед, на место ссылки, херес, который обыкновенно пил Сперанский.
Сегодня он подумал о Сперанском, так как только что отпустил Нессельроде. Александр не забывал, что Нессельроде был представлен ему Сперанским. Он помнил, какой страх был в лице статс-секретаря, когда царь принял его после возвращения из Парижа и когда Сперанский был уже в ссылке.
Нессельроде признался в том, что исполнял в Париже некоторые поручения своего благодетеля, правда, не слишком важные, касающиеся устройства государственных учреждений франции. Но и осчастливленному им проходимцу из немцев не верил Александр, как не верил никому на свете.
Сейчас, присев на каменную скамью, Александр в раздумье глядел на синеющие вдали утесы Фирштейнштейна, на башни Рейхенбаха, — ему было о чем тревожиться. Особенно тревожила Австрия. Сестра Екатерина Павловна гостила в Австрии, у эрцгерцога Иосифа. Александр поддерживал эти родственные связи. Иосиф был женат на другой сестре императора, Александре Павловне, и недавно овдовел.
Александр с неудовольствием думал о предстоящей поездке. Тяжелые мысли о недавнем прошлом приходили ему в голову. Сестра была выдана замуж за эрцгерцога Иосифа по соображениям политическим и потому, что императрице-матери Марии Федоровне, гордой и надменной, льстил этот брак. Она полагала, что сын, родившийся от этого брака, имел бы все права на венгерский престол. Брак Александры Павловны считался достойной партией. Но с первого дня приезда юной сестры Александра в Вену уже плелась паутина интриг. Императрица австрийская Терезия понимала, что рождение ребенка у супруги Иосифа грозило разрушением унии и отделением Венгрии от Австрии. И русская великая княжна скончалась от хирургической операции при родах. Обстоятельства этой смерти были таинственные, и духовник Александры Павловны священник Самборский докладывал конфиденциально императору Александру, что его сестру погубили по династическим соображениям.
Это было одно из тех мрачных преступлений и ужасных тайн, которых было немало в роду Габсбургов. Воспоминания об этой смерти тяготили царя, но делать нечего, политические соображения заставляли его ехать в Богемию. Александр подумывал о поездке в Богемию как бы для того, чтобы повидаться с Екатериной Павловной, но на самом деле для того, чтобы узнать, когда, наконец, Австрия решится порвать союз с Наполеоном. Екатерина Павловна была неизменной советчицей Александра, особенно в дни Отечественной войны, и вряд ли кто-нибудь имел большее влияние на Александра, чем эта проницательная и упрямая женщина.
На минуту он отвлекся от этих мыслей: в нижней аллее послышался детский смех. Александр Павлович вздохнул, встал и мягкой, скользящей походкой пошел по аллее роз.
Он чувствовал, что на него смотрят из окон замка, остановился у гранитной вазы с цветами и, облокотившись о постамент, принял небрежно-изящную позу.
Он был в черном военном сюртуке без эполет, в фуражке с белым верхом. Высокие сапоги обтягивали его полные нога с женскими икрами. Черный сюртук скрывал намечающуюся полноту, — все, как всегда, было обдуманно в его одежде.
Хорошенькая девочка в темно-лиловом, похожем на тюльпан, платьице подбежала к Александру с букетом роз. Он принял букет, поцеловал девочку в обе щеки, думая о том, что и это видят из окон замка. Затем, спрятав нос и подбородок в цветы, неторопливо поднялся на террасу замка.
Александр Павлович вошел в рыцарский зал замка, который служил ему кабинетом, недовольно посмотрел на груду бумаг на столе и капризно сказал Волконскому:
— Нет новостей?
— Pas de nouvelles… — вздыхая и как бы извиняясь, ответил Волконский.
Он видел, что Александр в дурном настроении, в том состоянии тоскливой тревоги, которая иногда вызывала истерические припадки гнева, опасные для окружающих.
Волконский попробовал отвлечь императора. Он положил перед ним донесения тайной военной полиции, — Александр всегда с любопытством читал это собрание доносов и сплетен. Теперь он равнодушно придвинул их к себе и с тем же рассеянным видом прочитал, что в прошлое воскресенье у штаб-ротмистра Ахтырского полка Слепцова собрались офицеры — братья Зарины, князь Туманов, адъютант Ермолова, Муромцев, пели непотребные песни про духовных лиц, рассуждали о сражении при Бауцене, бранили Витгенштейна и немцев и прочее… Разговор известен через слугу ротмистра Зарина 2-го.
Александр откинулся в кресле и, глядя в потолок, сказал, думая вслух:
— А не может быть того, что они столкуются — англичане, австрийцы и Наполеон — и будем мы да пруссаки против сильнейшего врага?
Он сказал это вслух, чем удивил Волконского, от которого, как тот сам знал, никогда не ждал дельного совета. Он привык не замечать его присутствия и смотрел на него скорее как на заботливого слугу, чуть ли не камердинера.
Забарабанив пальцами по столу, император спросил:
— Когда назначено Воронцову?
Волконский ответил, что граф Михаил Семенович прибыл с утра и приглашен к завтраку.
— Позвать сейчас! — сказал Александр.
И снова стал читать донесение тайной военной полиции про какую-то жену аудитора пехотной дивизии Елисеева, из-за которой было уже два поединка, а вчера разодрались два прапорщика карабинерного полка. В другое время он расспросил бы, действительно ли так хороша собой жена аудитора, каких она лет, кому она отдает предпочтение из соперников, но сейчас только брезгливо поморщился, отодвинув бумаги, встал и подошел к открытому окну.
Равнодушным взглядом он окинул зеленеющую долину и уходящую в голубую даль дорогу. Дорога была в это утро пустынной, но одна чернеющая точка привлекла внимание царя. Потом точка чуть увеличилась и стала величиной с муху. Вернувшись к столу, Александр взял зрительную трубу и снова подошел к окну.
В зрительную трубу он хорошо разглядел дорогу, поднимающуюся в гору, кусты придорожного шиповника и солдата на гнедом коне. Солдат был в гусарском мундире.
Вдруг на лице Александра Павловича явилась знакомая Волконскому язвительная усмешка.
— Гляди, — сказал царь и передал трубу Волконскому.
Припав к стеклу, Волконский хорошо рассмотрел гусара, — день был жаркий, гусар сдвинул кивер на затылок, расстегнул мундир…
— чг Здесь… перед моими окнами, — лицо Александра приняло страдальческое выражение.
— Ахтырского полка… — качая головой, едва выговорил Волконский.
— Узнать, какого эскадрона! Наказать! Строжайше! И кто эскадронный командир!
Волконский бросился к дверям.
Эта неприятная случайность совсем расстроила царя.
Он сел в кресло, жалостно вздохнул и, откинув голову, долго сидел неподвижно, уставившись взглядом в потемневшую роспись потолка.
Он оживился только тогда, когда ему доложили о Воронцове.
Михаил Семенович Воронцов, по своему рождению, по высокому положению его отца и дяди-канцлера, бывал не раз приглашен к высочайшему столу. Михаил Семенович нравился Александру как образованный и тонкий собеседник, но Воронцов понимал, что если бы такие знаки внимания участились, — это испортило бы его отношения со старшими чином генералами и придворными.
Впрочем, сегодня он догадывался о причине приглашения.
До замка Петерсвальд было около двадцати верст; он взял с собой адъютанта, — на этот раз это был Можайский, с которым не успел потолковать после его возвращения от Чернышева. Воронцов с любопытством слушал рассказы о польских делах, о Чернышеве, которого он считал ловким и смелым, но довольно бесчестным человеком. Но его не столько интересовали дела государственной важности, сколько рассказ Можайского о Грабнике и графине Грабовской, о странном обществе, встретившемся в замке, о патриархе тамошней шляхты князе Грациане Друцком-Соколинском.
— My dear friend, — назидательно произнес Воронцов, — от добра добра не ищут. — Затем снова перешел на английский: — Зачем было ехать к Чернышеву, когда у меня вам хорошо служить? Товарищи вас любят, характер у вас ровный и способности немалые… Ах, какой странный век, странные, непоседливые люди!.. Ну, еще что примечательное приключилось с вами в дороге?
— Более ничего, — ответил Можайский.
Они подъезжали к Петерсвальду, и Воронцов умолк; в лице его появилась значительность. Он обдумывал, как ему следует вести себя на завтраке и как показать себя близким императору людям с самой лучшей стороны.
Когда Воронцова позвали в кабинет Александра, он понял, что правильно угадал причину приглашения к завтраку.
Послом в Англии был Ливен, и хотя Александр не любил Семена Романовича, но позволил старику Воронцову писать ему обо всем, что касалось английской политики. Александр понимал, что Ливен не мог ему заменить Воронцова, превосходно осведомленного в делах островного королевства и притом независимого в своих суждениях. Переписка со стариком Воронцовым шла через Михаила Семеновича, и Александр начал беседу с того, что спросил, когда ожидаются вести из Лондона.
— Отец всегда аккуратен, — ответил Михаил Семенович, — каждый месяц я получал от него с нарочным депеши, которые считал за счастье вручить в собственные руки вашего величества… Прошло около пяти недель, но в такое бурное время небольшое опоздание не может быть поставлено в упрек…
Они говорили по-английски, и это было приятно Александру. Этот язык позволял ему говорить с младшим Воронцовым почти как с равным, вместе с тем сохранялась неодолимая преграда между монархом и подданным.
— Значит, вы ожидаете курьера в ближайшие дни? А дорожные опасности?
— Отец всегда умел выбирать людей для таких поручений. Для того, чтобы быть спокойным, я полагаю отправить навстречу нарочному офицера. Маршрут известен и место встречи назначено.
— Это будет предусмотрительно.
— Офицер доставит депеши, минуя меня, вашему величеству в собственные руки… Чтобы не терять времени, ваше величество.
Александр кивнул и приблизился к Воронцову. Он положил ему руку на плечо и, тихо сказал:
— Вы знаете англичан… Не может быть того, что они столкуются с австрийцами и Наполеоном?
Воронцова этот вопрос удивил и даже обеспокоил, его белое, холеное лицо порозовело, выражение лисьей хитрости и умильной почтительности на мгновение исчезло. Он понимал значение ответа и тревогу Александра.
— Мне кажется… Мне кажется, ваше величество, что все решит перевес в силах, вернее — сравнение сил… Английский кабинет, лорд Ливерпуль, лорд Кэстльри, вероятно, осведомлены о наших силах. Австрийцы твердят о большой убыли в людях у нас. Правда, в походах много людей убыло от ран и болезней, однако…
— Надо, чтобы они узнали про резервную нашу армию.
— Труды Михаила Богдановича Барклая, труды Алексея Андреевича дали плоды, ваше величество.
Михаил Семенович здесь покривил душой. Он (как и все в армии) знал, что резервная армия была создана по мысли Кутузова, но он также знал, что императору неприятно слышать это имя, и назвал Барклая и даже Аракчеева, которого презирали за трусость, грубость и жестокость.
— Мне кажется, ваше величество, что армии нашей нужно немного времени, чтобы показать себя в прежней силе. Перемирие, ежели французы пойдут на это, будет нам на пользу… Не может быть, чтобы англичане не знали о наших силах. Не может быть, чтобы не знал и Меттерних. А ежели знают, тогда не будет мира Англии с Наполеоном: слишком сильна ненависть к узурпатору.
— Ты думаешь? — прежде тусклый и как бы сонный взгляд Александра оживился, он улыбнулся той самой «улыбкой глаз», которой верили и часто обманывались.
Александр обнял Михаила Семеновича, и тот понял, что сказал именно то, о чем царь думал сам.
— К тому же, ваше величество, победа над Бонапартом принесет выгоду англичанам. Все дело в том, чтобы они знали наверное, что проигрыша быть не может, что шансы на нашей стороне. Торгашеский дух силен на острове.
— Ты прав. Да, ты прав, — повторил Александр. — Англия вела себя дурно с самого начала и в 807 году, когда дала обещание выставить десять-двенадцать тысяч войска, не указав даже, к какому сроку. Это забыть нельзя. Но пойдем, нас ждут…
Два часа спустя Воронцов сидел в экипаже, слегка склонившись на плечо Можайского. Все обошлось прекрасно: Волконский, Толстой, генерал-адъютанты были ласковы с ним, император удостоил доверительной беседой, вместе с тем не сделано ничего такого, что могло бы возбудить недовольство при дворе. Воронцов любил лесть, но сам умел льстить, не роняя своего достоинства. В умиленном настроении он возвращался к себе в дивизию, однако, вспомня о деле, слегка отстранился от Можайского и тоном начальника сказал о важном поручении, которое тому предстояло выполнить.
Поручение состояло в том, что в городке Виттенберг, в гостинице «Под букетом» вдовы Венцель, Можайский должен встретить нарочного от Семена Романовича и принять у него депеши государственной важности.
Отдав приказ, Михаил Семенович потрепал по плечу Можайского:
— Ты, я вижу, огорчен… Вернешься, — я тебя не буду неволить. Ты просишься к Алексею Петровичу Ермолову? Экий ты непоседа! Ну что ж, отпущу, куда хочешь… И приму к себе, когда захочешь. Я ведь на тебя смотрю как на своего, ты у нас в доме был как свой. Я хочу тебе счастья…
Наклонившись к самому уху Можайского, он добавил:
— Приняв депеши, сам вручишь в собственные руки государю. Может быть, в этом твое счастье. Разве так не бывало?
И откинувшись в угол экипажа, Михаил Семенович задремал, овеваемый ласковым весенним ветерком.
10
Теплый, тихий вечер спускался над садами селения Рейхенбах. В садах пели соловьи, их еще не успели распугать гусары. В палатке, разбитой под цветущим каштаном, на ковре лежали штаб-ротмистр Дима Слепцов и Можайский. Последний вечер накануне отъезда в Виттенберг Можайский проводил у приятеля.
Слепцов слушал Можайского. Он читал первую песнь «Чайльд-Гарольда», переводя по-русски строфу за строфой, досадуя на то, что в прозаическом переводе исчезала музыкальность и сила стиха: «Чайльд-Гарольд уже не видит горных вершин. Они скрылись. В беспредельных степях пасутся стада тонкорунных овец. Но близок безжалостный враг, и пастух вооружен… Весь народ должен сражаться с врагом, чтобы не дать ему властвовать и поработить испанцев…»
В те годы в России еще мало знали Байрона. Слепцов слушал, и воображение рисовало ему суровые пейзажи Испании, эпизоды защиты Сарагоссы. Испанские женщины, мстительницы, с кинжалом в руке, бросаются на штыки наполеоновских гренадер… Народ защищает свою свободу от поработителей. Эти стихи будили воспоминания об изгнании наполеоновских войск из России.
— Поэт свободы и справедливости… — шептал Слепцов.
Между тем Можайский, перелистав страницы, обратился ко второй части поэмы.
— Слушай, он клеймит своих соотечественников, лорда Эльджина, похитителя сокровищ древней Эллады, памятников античного искусства… «Британия, ужель тебя радуют слезы сирого, бессильного грека? Мир будет краснеть за тебя, владычица морей! Ты называешь себя страной свободы, между тем ты похитила у греков то, что пощадило время, на что не осмеливались посягнуть деспоты-турки…» Байрон взывает к малодушным, бичует тех, кто не осмеливается восстать против поработителей: «Сыны рабов! Разве вы не знаете, что сами пленники разбивают свои оковы…»
Можайский отложил книгу и сказал в глубоком раздумье:
— Здесь, на немецкой земле, мы видим таких же малодушных. Дворяне и бюргеры привыкли к ярму, зато ремесленники вооружаются и нападают на французские гарнизоны…
— Случалось ли тебе видеть лорда Байрона?
— Я видел его мельком на прогулке в Гайд-парке. У него лицо античного грека. Осанка, гордый взгляд поразили меня…
— Говорят, — он хромой.
— Я не видел красивее человека. При всем том — такая неслыханная слава. Лондон, молодые люди — все без ума от «Чайльд-Гарольда». Но еще больше говорят о его авторе, о странной его жизни. Он живет в одиночестве, окруженный книгами и саблями. Знает древнегреческий, новогреческий, арабский, изучает армянский. Гордится знатностью рода, но высокомерен только со щеголями, которые собираются в Эльминке и болтают только о лошадях, собаках и петушиных боях. Первая речь его в палате лордов была о ноттингемских ткачах… Мне кажется, нет на свете существа несчастнее английского работника, нет мучительнее его труда в сыром подвале, в полумраке, труда единственно для пропитания и продления существования. Верь мне, Дима, — я жил в Англии, видел страшную бедность и унижение работников, видел я впавших в отчаяние ткачей, ломающих ткацкие машины, обрекающие их на голодную смерть…
— Ты будешь бранить меня, Можайский, но можно ли извинить буйство черни?
— Чернь! Разве не из черни вышел наш Ломоносов? Разве не чернь, не простой народ русский изгнал Наполеона? Помнишь день Бородина? Нечего было уговаривать солдат быть храбрыми… «Что нас уговаривать, — отвечали они, — стоит на матушку-Москву оглянуться — на чёрта полезешь!»
Они помолчали, потом Слепцов заговорил с горечью и страстью:
— Все переменилось с тех пор, как мы стояли в лагере под Тарутином! Все мы были тогда заодно, жили душа в душу, шинели носили из солдатского сукна, с солдатами жили, как отцы с детьми, гатчинскую муштру, экзерциции, парады — по боку! А нынче? Мы в походе, а офицеры одеты точно на смотру, блеск, умопомрачение! Только что парады не устраивают — немочек прельщать, но погоди, и до этого дойдем… Забыть не могу… Стояли мы под Вильной в прошлом году. Наполеон был у Немана, война — чуть что не решена, а великий князь Константин гоняет солдат на плацу, учит парадному шагу для смотра. Мы на него как на полоумного глядели. Вот и теперь — Наполеон еще на левом берегу, а гатчинские капралы за старое взялись, за артикулы и экзерциции. Только и слышно: «пуан де вю», «пуан д’апю», шаг петербургский, шаг могилевский, шаг варшавский, шаг по музыкантскому хронометру, различаемый количеством в минуту. В 1806 году, после Аустерлица, изобрели какой-то новый барабан, производивший страшную трескотню, вот тебе тоже реформа! И притом взялись за наказания телесные, как будто без палки нельзя внушить солдату доверие к командиру, чтобы шел он без оглядки под пули и ядра… Пехота многострадальная! Иные офицеры разевают рот только для брани. Это называется у них служить «по-нашему, по-гатчински»!
Должно быть, Слепцову не с кем было отвести душу, он говорил без остановки, не переводя дыхания:
— Тот, кого фельдмаршал любил, не в чести; Дохтурова, Ермолова, Раевского — только что терпят! Все немцы да немцы. И за что наказал ты нас, царь-батюшка Петр Алексеевич, чужеземцами?
— Чудны дела твои, господи! — грустно улыбаясь, сказал Можайский. — Кто русскому царю служит? Лейб-медик Виллие, гардеробмейстер Геслер, метрдотель Миллер, статс-секретарь Нессельрод. Один кучер Илья русский… Да еще Волконский… И тот приказы по-французски пишет.
— Эх, тоска, тоска… Завидую тебе: ты странствовал, повидал свет, — а что видели мы? В походе еще куда лучше, чем в казарме, где разве что попадешь в руки к полковому лекарю, а от него прямо в царствие небесное… — И, бросив сигару, Слепцов крикнул в темноту: — Кокин! Куда пропал, щучий сын?
Что-то зашевелилось в темноте.
— Возьми золотой в ташке, беги к маркитанту, баклагу возьми мою и поручика, — пусть нальет всего, что есть лучшего!
— Не много ли на дорогу? — усомнился Можайский.
— Пустое! У гусара одна забота: чтобы конь был сыт, а гусар пьян. Коня опоить можно, а гусара — никогда! Стой, Кокин! Беги к Завадовскому, к братьям Зариным, к Туманову — штаб-ротмистру, — пусть идут к нам, нынче у нас проводы, возьмешь у них еще по баклаге. Да поворачивайся скорее, толстый чёрт!
— Прошу прощения, — произнес чей-то незнакомый голос, — изволили обознаться…
— Да это не Кокин! Кто тут?
— Писарь Якимчук. Его высокоблагородие поручика Можайского требуют к генералу.
Можайский вскочил с ковра.
В свете луны серебрились остроугольные крыши немецкого селения. Где-то вдали ржали жеребцы, в садах еще пуще заливались соловьи; все вокруг было погружено в глубокий сон, только быстрые шаги двух людей нарушали тишину.
— Здесь, ваше высокоблагородие, — сказал писарь и показал на чистый двухэтажный бюргерский дом, близ которого коноводы водили взмыленных коней.
Пройдя просторные сени. Можайский вошел в высокие комнаты с дубовой панелью по стенам, с печью, на расписных изразцах которой изображалась охота на уток.
За столом, наклонившись над развернутой картой Силезии, стоял высокий человек без мундира. Могучая шея Геркулеса, тонкий орлиный нос, глаза, в которых светятся ум и отвага; небольшие черные усы оттеняют тонко очерченные губы; спутанные, черные, с чуть заметной проседью волосы зачесаны назад и спускаются на затылок, — таков был герой Отечественной войны Алексей Петрович Ермолов. Горшок с гречневой кашей, каравай хлеба и штоф с глиняной немецкой кружкой стояли перед генералом.
— Ужинал? Нет? Ну, садись.
Можайский сел и ждал, не сводя глаз с Ермолова.
— Твой отец — полковник Платон Можайский, тот самый, что после Аустерлица от раны умер? Ну-ка, дай на тебя поглядеть…
Ермолов долго и внимательно смотрел на молодого офицера. Перед ним сидел худощавый, стройный блондин с прозрачно-светлыми глазами и пристальным, чуть насмешливым взглядом. В осанке его была спокойная непринужденность. Офицер смело глядел в глаза Ермолову, но левая рука его, играющая темляком сабли, чуть дрожала, выдавая волнение.
— Исповедуйся. Давно на службе?
— С семнадцати лет.
— Записан был в полк сызмальства?
— Нет, не сызмальства. Матушка не пожелала, чтоб служил по военной части. Шестнадцати лет послан был учиться за границу, в университет, в Геттинген. В 1808 году нарушил волю матушки, принят был на военную службу, в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. Ранен под Фридландом. После того назначен был в Лондон, состоять при Семене Романовиче Воронцове. Воротился на родину морем, через Швецию. Участвовал в сражениях под Малоярославцем, ходил с графом Чернышевым в Польшу.
— Слыхал я, что ты в Варшаве при французах был, лазутчиком ходил? Граф Александр Иванович тебя хвалил, а он редко кого хвалит. Рассказывай…
— Недолго я пробыл в Варшаве. В ту пору Наполеон оставил там Маре, герцога Бассано, а сам отбыл в Париж. Было это в январе месяце сего года. Герцог Бассано собрал главный совет всех министров, чтоб назначили нового маршала конфедерации на место Казимира Чарторыйского, вел к тому, чтобы назначить князя Иосифа Понятовского. Были среди польской знати отчаянные головы, хотели поднять простой народ против русских, но были и разумные люди, те говорили: русские идут с решимостью отомстить французам за разорение своей земли; негоже нападать на них с тылу. Сколько я видел, простой народ, голодные крестьяне навряд пойдут воевать за Наполеона, при нем ведь независимость польская была одной видимостью, тяжкие налоги и невыносимое напряжение всех сил разорили край. Так оно и выходит — французы посадили Понятовского, однако армия наша прошла спокойно, народ польский против нас не поднялся. Напрасно в костелах ксендзы говорили зажигательные речи, призывали к оружию против схизматиков, — народ слушал их с унынием, а иные ксендзы, похитрее, призывали народ к миру и труду. Везде я видел невозделанные нивы, пепелища деревень, могилы. Одна только знать хотела войны с нами, да и то были вельможи польские, покидавшие нарочно Варшаву, чтобы не итти за Понятовским.
— Я твое донесение читал, — серьезно сказал Ермолов, — признаться, подумал, что пишет муж зрелый, умудренный годами и опытом… Отчего не хочешь ты быть при штабе его величества, не пойму. Такие, как ты, нужны для дел, требующих важности и тайны. Отчего не пойдешь в дипломаты? — он пытливо поглядел в глаза Можайскому. — Гордость не позволяет? Не хочешь перед Нессельродом гнуться? Так ведь не людям же служат, а делу.
Он уловил легкую усмешку на лице Можайского.
— Так-то так…
— Твой отец, Платон Михайлович, мой однокашник был, смолоду вместе служили, так что ты мне не чужой человек. Вот просишься ко мне в адъютанты. Я шаркунов не держу, не заживаются у меня на свете адъютанты. За войну двух убили и одного ранили.
— Знаю и потому прошусь к вам, Алексей Петрович.
— Не горячись, лестно вашему брату покрасоваться с сабелькой на коне… Вот ты состоял при графе Семене Романовиче Воронцове, он пустых голов не терпит. Выходит, для рубаки ты слишком умен. А дружишь со Слепцовым, Завадовским, Зариным — кутилками, удальцами… Садись рядом и слушай.
И, положив тяжелую руку на плечо Можайского, Ермолов продолжал:
— Под Лютценом и Бауценом не было того, чего хотел Наполеон. Гвоздя мы ему не оставили, отходили с боем, людей потерял он пропасть, куда больше, чем мы. Какая ж это победа? Хвалиться нечем. Беда в том, что головы у нас не было, да еще пруссаки — союзники. Как бы там ни было, пусть даже одержит Наполеон одну-другую победу, но судьба его решена. И пойдет другая война — чернильная. И беда в том, что поведут эту чернильную войну Нессельрод да Анштетт.
— …Нессельрод нерешителен, робок, боится потерять положение, завоеванное низкопоклонством, никогда не ответит напрямик, боится сказать собственное мнение, пересказывает слова государя, а когда высочайшего суждения нет, то откладывает до другого раза. А сейчас наступила их пора, сейчас время дипломатов. Вот гляди: главная квартира, штаб его величества, — кто тут первые люди? Сэр Джон Стюарт, лорд Каткэрт, граф Гарденберг канцлер прусский, — дипломаты. Еще в лесу медведь, а эти охотнички уж заспорили о его шкуре, и одна у них забота: как бы нам, русским, поддевшим медведя на рогатину, не дать и клочка шерсти.
Вдруг Ермолов выпрямился во весь огромный рост и сверкнул глазами:
— В течение семи месяцев потеряв не менее восьми губерний, занятых неприятелем, лишившись древней столицы Москвы, обращенной в пепел, Россия все же восторжествовала против враждебных полчищ числом более пятисот тысяч. Не для того полегли наши герои у Шевардина, не для того потеряли мы цвет войска под Смоленском, чтобы Меттерних, граф Гарденберг, лорд Кэстльри унижали нашу державу. Победили мы в кровавой войне, победим и в чернильной. А как победить? Надо знать, чего хочет противник твой, чтобы не зачеркнуть одной подписью на договоре всю нашу славу и великие победы. Ведь так?
— Так, Алексей Петрович.
— Придется тебе, петушок мой, ехать чуть свет туда, куда указано. Ты на войне был, пуль, ядер не боишься, — это хорошо. Славно в гусарском ментике впереди эскадрона в конном строю атаковать, но есть и другая честь. Верный глаз да твердая рука — хорошо, а голова и сердце — того лучше. — Вдруг он умолк и, помолчав немного, добавил: — Языки надо придержать, особенно Димке Слепцову с приятелями. На вас, болтунов, есть тоже управа. Будь здоров. Можайский.
И Ермолов отпустил молодого офицера.
В ту ночь Слепцов с приятелями напрасно ожидали Можайского. Путь его лежал к берегам Эльбы.
Можайский ушел от Ермолова с двойственным чувством. Его тронула забота Алексея Петровича, искренне хотевшего дать добрый совет сыну своего старого соратника. С первого взгляда Можайский почувствовал симпатию к этому русскому богатырю. Но молодой офицер все же кое-чему научился в своих долгих странствиях и кое-что знал о людях своего времени. Он вспомнил, что именно Ермолова, такого чистосердечного с виду (когда Алексею Петровичу это было нужно), простодушного удальца, душа нараспашку, что на уме, то на языке, товарищи, боевые генералы прозвали «патер Грубер».
Патер Грубер был тот самый хитроумный монах, которого иезуитский орден послал в Петербург; эта лиса тончайшими ухищрениями старалась оказать влияние на царедворцев и Павла I.
Правда, время было такое, что без тонкой дипломатии не обойтись. Суворов говаривал, что всю жизнь служил между двух батарей — военной и дипломатической. Кутузову пришлось до конца дней воевать с неприятелем и с придворными. Боевые генералы не страшились пуль и ядер, но трепетали при мысли о немилости двора. Ермолов, при всем величии осанки, душевных качествах, хоть иногда он и резал правду-матку самому государю, был тонким дипломатом, хитрецом и умел, не унижая себя, расположить к себе приближенных царя.
При жизни Кутузова он мог слегка позлословить о причудах «старика», иметь свое мнение о его стратегических планах (Кутузов даже знал о том, что Ермолов писал Александру свое суждение, будто Михаил Ларионович по старости лет не может быть главнокомандующим. Однако никогда, ни одним словом не намекнул Ермолову, что знает, об этом письме), но сейчас, когда фельдмаршал был в могиле, он чуял, что, над гробом фельдмаршала сияет немеркнущая слава. И, вспоминая Кутузова, порой даже смахивал слезу: «Куда нам, грешным… Велик, как велик!»
И это тоже была своего рода хитрость — сияние славы Кутузова озаряло и его имя, имя Ермолова, помогало Дохтурову, Раевскому, Милорадовичу и ему в борьбе с немцами и французами на русской службе.
Хитер и далеко не прост, нечистосердечен был Ермолов, но в те времена не было воина, который не почитал бы его за львиную храбрость в бою, за воинскую доблесть и опыт полководца.
Отпустив и обласкав Можайского, он знал, что есть еще один почитатель, такой же верный, как Дима Слепцов. Правда, он немного ошибся в одном: Можайский знал Алексея Петровича немного лучше, чем об этом думал Ермолов.
«Дело сие хранить под завесой непроницаемой тайны… — так сказано было в инструкции, данной Можайскому, — хранить как зеницу ока и уничтожить в последнюю минуту…» «А как узнать, когда она наступит, эта последняя минута?» — усмехнувшись, подумал Можайский.
Два гусара-ахтырца — старый солдат-ветеран и Молодой, недавний рекрут — сопровождали Можайского. Ранним утром он проехал мимо палатки Слепцова. Оттуда слышались зычный хохот, звон стаканов и знакомый бархатный баритон Димы пропел как бы на прощанье:
Все нипочем нам, снег ли, вьюга, Мы скачем, шпорами звеня, Ночной привал, вино, подруга, Труба… и снова на коня!Можайский был молод, — странствия, дорожные опасности, новые места, встречи все еще увлекали его. Порой приходила ему в голову мысль: долго ли придется ему в одиночестве ездить по дорогам Европы? Он предпочел бы не расставаться с друзьями, жить той, походной жизнью, которую любил Слепцов и его товарищи, но тут же думал о том, что, может быть, ему следует сделаться историографом войны, записывать события, свидетелем и участником которых ему довелось стать. Теперь, после беседы с Ермоловым, Можайскому казалось, что следует служить по дипломатической части, даже если придется терпеть высокомерие и наглость Нессельроде. Одно он решил твердо — оставить службу при Михаиле Семеновиче Воронцове: нет сил более состоять в его свите, изощряться в застольных шутках и тонкой лести начальнику, дожидаться того часа, когда Михаил Семенович станет наравне с первыми лицами государства, и тогда вместе с ним и его приближенными подняться на несколько ступеней выше своих сверстников.
Для того он и уезжал к Чернышеву, чтобы в партизанском походе отдохнуть от маленького двора Михаила Воронцова, от болтовни о штабных новостях. А вернувшись к Воронцову, застал все тех же застольных собеседников — барона Франка, Казначеева, весельчака Сергея Тургенева — и затосковал по лесным дорогам, по привольной жизни в отряде Чернышева.
Утренний холодок освежил Можайского.
Вокруг расстилалась долина, в прозрачном воздухе далеко впереди белели чистенькие домики селений и зеленели сады. Дорога была чудесная. Ехали весь день, отдыхая в тени яблоневых деревьев. Где-то далеко в стороне лежало поместье Грабчик, и, вспомнив об этом, Можайский против воли задумался о Катеньке Назимовой, и ему стало казаться, что все это померещилось, что не было встречи в Грабнике.
Он помнил семнадцатилетнюю девушку, почти девочку, а с ним говорила печальная и усталая молодая женщина. Он подумал, что она стала еще красивее, но тотчас отогнал эту мысль. Не хотелось признаться в том, что им владела гордость, уязвленное самолюбие, что не так надо было говорить с Катенькой, не отталкивать ее холодностью и мнимым равнодушием. Но как он мог говорить с ней, когда рядом, за дверями, был человек, разлучивший их навеки! Нет, ему не в чем себя упрекнуть.
Если бы Можайский знал, что через два дня после того, как он оставил Грабник, полковник Август Лярош скончался от ран и был похоронен вблизи фамильного склепа Грабовских…
Не на пушечном лафете, как должно хоронить воина, не под гром ружейного салюта опустили в могилу гроб ветерана наполеоновских походов. Анеля Грабовская, Катенька да вестовой Анри проводили полковника в его последний путь.
Когда Екатерина Николаевна вернулась с кладбища, она чувствовала себя одинокой, покинутой в чужом, враждебном мире, и хотя Грабовская не отходила от нее, никогда еще чувство одиночества так не терзало Екатерину Николаевну.
Вся недолгая, печальная жизнь встала у нее перед глазами. Родина, раннее сиротство, жизнь у деда, потом у старой и вздорной старухи тетки и только одна радость — встречи с Александром в Васенках. Потом разлука. Потом переезд в Петербург, весть о гибели Можайского, отчаяние… Петербургские родичи развлекали ее. На празднике в Петергофе она увидела французского посла Коленкура. В свите его был полковник Лярош. Короткий разговор во время фейерверка. В ослепительных огнях, в волшебном отсвете бенгальских огней Август Лярош увидел юную девушку… И вдруг — неожиданное сватовство. Что могло ее ожидать, бедную родственницу, из милости пригретую госпожой Ратмановой?
Мир с Францией, казалось, так прочен, всюду висели картинки — Наполеон и Александр, свиданье в Тильзите на плоту. Ей завидовали: кирасирский полковник, друг Коленкура… она будет жить в Париже, бывать на приемах в Тюильри.
И вот замужество и Париж. Потом война. Она оставляет Париж, находит приют у подруги, родственницы мужа Анели-Луизы Грабовской. И вот все двадцать три года жизни…
Как призрак, как видение юности, явился Можайский в Грабнике и мгновенно скрылся. Что бы там ни было, она любила только его. Жизнь, казалось ей, кончена. Вернуться на родину? Примут ли ее там? И для чего? Жить опять из милости у полубезумной, вздорной тетки? И все же там — мир, тишина, родина. Там — желтые нивы, сад на пригорке, речка, тихо струящаяся среди зеленых берегов, старенький флигель, а дальше необозримые луга и песни косарей… О, если бы это можно было вернуть! А если самого дорогого не вернешь, то не все ли равно, где угаснет ее жизнь? И потому она не произнесла ни слова и только заплакала, когда Анеля сказала ей, что они покидают Грабник и едут к ее друзьям в Вену, а потом, возможно, в Швейцарию, к Альпам, или к итальянским озерам… Куда именно, еще не знала и сама Грабовская.
Прошла еще неделя, и замок в Грабнике опустел, в последний раз открылись железные ворота, потом закрылись. Анеля Грабовская вдруг поняла, что они закрылись для нее навсегда. Это предчувствие ужаснуло ее. Она обняла Екатерину Николаевну и сказала:
— И все же судьба вновь приведет меня сюда…
В это мгновение они проезжали мимо фамильного склепа Грабовских.
11
Русские стояли на правом берегу Эльбы, если не считать небольшого по численности отряда под командованием знаменитого партизана Фигнера. Отряд Фигнера более всего тревожил французов. Правда, перемирие было объявлено и не нарушалось ни французами, ни русскими. Но отряд Фигнера увеличивался, пополняясь немцами, итальянцами, испанцами, дезертировавшими из армии Наполеона. Потому на всех дорогах, ведущих к Эльбе, были расставлены пикеты, кавалерия патрулировала дороги и лесные тропы.
Уже третью ночь пробирался Федор Волгин к месту, указанному в маршруте: шел ночами, днем отлеживался в лесной чаще, заходил только в отдаленные немецкие селения, выбирал почтенных хозяев, внушавших ему доверие. Он знал несколько десятков немецких слов, а главное — умел расположить к себе добродушной, улыбкой, веселым нравом и тем, что охотно помогал во всякой работе людям, которые давали ему пристанище.
Если бы Волгин мог понимать язык, ему стало бы понятно, почему крестьяне я простолюдины в Гамбурге охотно давали ему ночлег и пристанище.
Народ просыпался после тяжелого сна. Годы порабощения после Тильзитского мира, безжалостность и жестокость, с которой Наполеон расправился с Германией, зажигали в сердцах немцев лютую ненависть к поработителям. Русские не только изгнали Наполеона со своей земли, но вступили в пределы Германии. Проснулась надежда на скорое освобождение; это понимали простолюдины, более всего страдавшие от ига Наполеона. Завоеватель грабил купечество, унижал владетельных князей; впрочем, они к этому привыкли и считали за счастье, когда их допускали в передние его дворца. Но народ платил самый тяжкий налог — налог кровью. У немецких крестьян Наполеон взял их сыновей в свои полки, и не многие возвратились из дальних и кровопролитных походов. В немецких селениях оплакивали сыновей, погибших в нескончаемых войнах, которые вел Наполеон, но сейчас, когда брезжила заря освобождения, отцы и матери охотно отдавали юношей в те полки, которые должны были освободить Германию и вернуть ей независимость.
Русский, пробирающийся к своим, в русскую армию, был в немецких селениях дорогим гостем, — его оберегали и прятали от французских разъездов и патрулей.
Волгин называл себя матросом шлюпа «Самсон», захваченного французами в Гамбурге. Наполеоновские походы сорвали тысячи людей с родных мест; потерявшие воинский облик солдаты брели с запада на восток и с востока на запад. Это были солдаты разных наций, среди них почти не было русских, — русские были бы слишком приметны, и если бы не доброжелательность немецких крестьян, Волгину не удалось бы так быстро двигаться на восток.
Чем ближе подходил Волгин к месту назначения, тем больше попадалось ему разъездов кавалерии, и он уже не рисковал появляться к ночи в немецких селениях. Он был почти у цели.
Встреча была назначена Волгину в маленьком, чистеньком и живописном городке Виттенберге; ни русские, ни французы не занимали городок, не держали здесь гарнизона. Сюда приезжали русские и французские офицеры договариваться об условиях перемирия. Вчерашние враги мирно беседовали в гостинице «Под букетом», принадлежавшей почтеннейшей вдове Венцель, известной русским офицерам под именем Венцельши.
Здесь, на конюшне и в просторном дворе, коноводы ставили коней, — синели вальтрапы французских гусар с вензелем Наполеона и вальтрапы русских с вензелем Александра I. В низеньком, сверкающем чистотой зале гостиницы можно было увидеть французских кирасир и русских гусар, почитателей кулинарных талантов фрау Венцель, воздающих должное винному погребу гостиницы «Под букетом».
То были идиллические картинки длительного перемирия, никого не удивлявшие в те времена. Здесь же, на чистой половине, можно было увидеть и почтенных штатских особ, путешественников, ожидающих пропуска от французов, чтобы двинуться на запад, и таких же путешественников, ожидающих пропуска от русского командования, чтобы возвратиться в Бранденбургские земли или Польшу.
Гостиница «Под букетом» была гордостью городка. Вдова Венцель, свежая, румяная и живая блондинка, управлялась с хозяйством расторопно. Война и особенно перемирие поправили дела гостиницы.
Со двора был ход в половину для простонародья; там были нравы попроще, там пили пиво и крепкую тминную водку. Захмелевших бесцеремонно выставляли за двери дюжие парни в полосатых колпаках — работники вдовы Венцель. Надо сказать, что простонародье доставляло меньше хлопот хозяйке, чем «чистая половина». На «чистой половине» случались бурные ссоры, порой дело кончалось поединком, поэтому русское командование в последние дни не дозволяло офицерам без особой необходимости ездить в Виттенберг.
Под вечер, когда уже стемнело, на той половине, которая была отведена простолюдинам, появился рослый, круглолицый парень. Расположившись за столом у самого очага, он заказал себе жареной телятины и водки и тут же заплатил, разменявши английскую золотую гинею. Заплатил он и за ночлег, но предпочел спать на свежем воздухе, в саду, под вишневыми деревьями.
Прежде чем расположиться под деревом, путешественник — Федор Волгин — довольно долго сидел на скамейке у ворот, поглядывая в сторону городской заставы. Так было и на следующий день: приезжали и уезжали постояльцы, но того, кого поджидал Волгин, не было; из русских гостиницу посетил только военный лекарь, да и то не надолго — отобедал и поехал к здешнему аптекарю.
Снова наступил вечер, и как только спустили с цепи двух огромных, кудлатых псов, Волгин отправился в сад, расстелил плащ, лег на спину, но долго не мог уснуть, — все глядел на сверкающие над ним звезды и предавался своим мыслям.
Четырнадцать суток морского путешествия и одиннадцать дней по суху прошли без особых Приключений, если не считать жестокого весеннего шторма, который трепал «Святую Екатерину» в Северном море. В Гамбурге купец Рубашкин дал точный маршрут, по которому удобнее и безопаснее двигаться.
Часть пути Волгин проделал в мальпосте — почтовом дилижансе. Французские караулы, стоявшие на заставах, не утруждали себя проверкой пассажиров и доверяли проверку дотошным жандармам. А те, как говорится, смотрели больше «в руку», не вникая в суть бумаг.
Бумаги его были в порядке, был и французский пропуск, но все же Рубашкин советовал ему пореже пользоваться мальпостом.
Волгин купил на ярмарке коня и проехал часть пути верхом, подарив потом коня ошалевшему от счастья бедняку-крестьянину. Добравшись до Виттенберга, Волгин, наконец, мог спать спокойно. Верстах в десяти стояли русские аванпосты, не сегодня-завтра прибудет курьер; он вручит курьеру депеши Семена Романовича Воронцова, — и что дальше? Касаткин приказал ему отправиться к Михаилу Семеновичу и далее поступать, как тот прикажет. Оставит ли его при себе Михаил Семенович Воронцов или велит воротиться на родину?
Родина… Вся жизнь встала перед глазами Волгина.
Ему было только пятнадцать лет, когда он вместе с шестью дворовыми людьми графа Воронцова вышел на берег в Дуврском порту. Сначала он был при доме на Лэйстер-сквер вроде казачка для услуг, потом его отправили в загородный дом к морю. Он пробыл там год, пока Семену Романовичу не пришла в голову мысль отправить его учиться железоделательному ремеслу в Бирмингам.
Вспоминался ему тот холодный, дождливый вечер, когда он в почтовом дилижансе подъезжал к Бирмингаму.
Вдоль дороги чернели невысокие, разбросанные по низине дома. Все вокруг казалось серым и грязным — дома и деревья, воздух и небо; мостовые, крыши были усыпаны золой и кирпичной пылью. Копоть, слой липкой сажи покрывали все. Над городом стояло багровое зарево печей. Облака густого дыма поднимались над высокими трубами. Оглушительно грохотали тяжелые фуры, груженные железными прутьями и листовым железом.
Федя Волгин навсегда запомнил приезд в Бирмингам, гул, грохот, удары молота и множество рабочего люда, сновавшего по узким и грязным улицам. Долго он не мог привыкнуть к этому аду.
День за днем, от рассвета и до заката, он проводил в кузнице Роджерса, одетый в кожаный фартук, с головой, обмотанной мокрой тряпкой. Старичок мастер постукивал молоточком по раскаленной добела полосе железа, показывая место, куда надо ударить, и Федя со всего плеча обрушивал удар молота. Даже во сне ему чудилось постукивание молоточка и вслед за тем удары тяжелого молота. Англичане дивились его богатырской силе, щупали его грудь и руки и только щелкали языками. Ни тяжкий труд, ни жизнь в темной, сырой щели, в доме на узкой, в полторы сажени шириной, улице, где всегда было темно и сыро, не сломили богатырского здоровья Феди Волгина.
Ночью зажигали фонари, подвешенные на длинных шестах поперек улицы, и тогда освещались вывески харчевен, изображающие скачущих коней, сказочных птиц и зверей. День и ночь здесь толпился народ, пьяные мужчины и женщины собирались у дверей кабаков; лица и руки, одежда людей были покрыты копотью от вечно дымящих труб железоделательных и сталелитейных заводов.
Далеко была родина, поля и нивы, и речка, и заповедный бор, где однажды в малиннике Федя повстречал медведя. Немало лет прошло с тех пор, как крестьянского паренька привезли на Британский остров. В первые годы он был не совсем одинок в Бирмингеме. Двадцать с лишним лет прожил за границей родной дядя Феди Волгина, крепостной Воронцовых Антон Иванович Софронов. Все русские ученики работали под присмотром Антона Ивановича; он знал язык, знал все секреты английских мастеров, посмеиваясь, говорил, что они-то не знают его секретов. Мастер он был удивительный и подлинно на все руки. Семен Романович посылал его в Париж по каретному делу, посылал и в Вену, чтобы его искусством удивить русского посла графа Разумовского.
Федя любил слушать рассказы дяди о странствиях в чужих краях, о том, что тот повидал на своем веку. Старик выучил племянника грамоте, научил немного по-английски и немало по-немецки. Суровый на вид, замкнутый, Антон Иванович рассказал ему об английских порядках; с первых дней показал он Волгину горькую жизнь английских работников, хоть эти работники и были вольные люди, а не казенные, государственные крестьяне, приписанные к Тульскому или к Уральскому заводу.
Бывал он и на Урале.
Крепче всего запомнил Федя Волгин его рассказы об уральских заводчиках Демидовых.
— Богатство Демидовых пошло от крестьянина села Павшина, что близ Тулы, от Демида Григория Антуфьева. Старшему сыну его за то, что учредил на Урале чугунно-медноплавильные железоделательные заводы, пожаловано было дворянство. А потомство Демида забыло барщину и ржаной хлеб, что доставался в поте лица. У Акинфия Никитича было до тридцати тысяч крепостных, приписанных к заводам крестьян. Никита Акинфиевич ни заводских, ни приказчиков своих не баловал. Старики рассказывали, как он при всем народе честил приказчика своего: «Отчаянный двуголовый архибестия! Кыштымская блажь! Ребра в тебе не оставлю! Как рака раздавлю и навечно в навоз, каналью, ввергну!» Детей одного приказчика приказал держать в цепях, другого велел добре высечь плетьми за то, что не находил в нем должной рачительности. А уж как те старались! Еще злее были дети Никиты Демидова — особенно Евдоким Никитич… И слава про Демидовых шла по Руси худая. Купил Демидов у княгини Репниной в Обоянском уезде имение, однако крестьяне, прослышав про крутой нрав демидовский, не хотели признать новых хозяев. И было кровавое побоище. Приказчики демидовские били крестьян чугунными дубинами, на шесты насаженными, и теми дубинами убили до смерти тридцать мужиков. Мало того, солдат пригнали под командой секунд-майора Веденяпина, и тогда только пали духом крестьяне, и двести семь душ угнали на каторжные работы в демидовский завод… Был на Авзяно-Перовском заводе приказчик — тиран лютый, звали Красноглазовым, прославился неслыханным доселе мучительством горнозаводских крестьян. У самой доменной печи есть доска чугунная. И вот на той доске чугунной, раскалённой били работников кнутьями и одному пережгли руку. Тогда жалобу написали работники самой царице, писали про то, как денно и нощно мужеский так и женский пол мучают и убили до смерти шестьдесят три человека. Послали из Питера комиссию лейб-гвардии полковника Енгалычева. И тот полковник царице написал: горячая чугунная доска не есть род обыкновенного наказания, но бесчеловечного мучения. А Демидов приказал, чтобы вину на себя взял приказчик Красноглазов, и не мало денег отвалил кому надо в сенате. И пришел приказ из сената «оную комиссию отставить». Тогда не стерпели работные люди и бросили работу, и был послан для усмирения генерал-квартирмейстер князь Вяземский и дан был ему наказ от царицы: привести бунтовщиков в рабское послушание, смирить их оружием и осведомиться, не лучше ли горные работы производить вольнонаемными работниками, чтобы этим, если можно, отвратить на будущее время все причины для беспокойства…
Антон Иванович был уже в преклонных годах, временами ему изменяла память, но житие свое на Урале он помнил и рассказал племяннику страшную повесть о каторжном труде, о прозябании в жалких, топившихся по-черному избенках-шалашах. Кругом стоял дремучий лес, можно было срубить славные избы, но для чего, — не нынче-завтра погонят на другой завод и останется от поселка погост — могилки без крестов, да скоро и от могил не останется следа.
Вот от такой каторжной жизни поднялся народ, когда до Урала дошли первые вести о государе Петре Федоровиче, которого царицыны слуги называли Емельяном Пугачевым.
— В ту пору так велика была злоба на мучителей-заводчиков, что работные люди сожгли и разметали Верхотурский, Вознесенский, Богоявленский, Архангельский заводы. Грамотеи-дьячки читали народу наизусть указы Емельяна Ивановича: «в России дворянство крестьян своих великими работами и податями отягчать не будет, понеже каждый восчувствует вольность и свободу», — и заветное слово, коим кончался манифест Емельяна Ивановича: «Желаем вам спасенья душ и спокойной на свете жизни». Было это незадолго до того, как Емельян Иванович с войском вышел на берега Волги и замыслил итти через Дубовку на Дон. Тут оставили его башкиры, не пожелали итти дальше своих земель. Уральские работники, опора его, храбрейшее его войско и знатные пушечные мастера остались при заводах на Урале. А в пушках и верных людях был недостаток, и тут пришел конец Емельяну Ивановичу. Взяли его изменой и повезли в клетке в Москву. В Москве казнили на Болоте. Простой народ на площадь не пускали. Однако люди видели и рассказывали. Везли Емельяна Ивановича в телеге. В руке у него была свеча большая, желтого воску. Воск таял и руки ему залеплял. Взошел Емельян Иванович на эшафот, начал было что-то говорить, а тут забили барабаны… Кто бы он ни был, царь или не царь, господь его знает. Только за народ крепко стоял…
— …я в ту пору уже в Туле жил. Было мне двадцать шесть годов; мальчуганом на Уральских заводах тачку катал, а вырос, — заслужил почет, даже медаль повесили мне от Демидовых. В ту пору оружейные мастера в большой цене были, и ведено было семьдесят человек самых смышленых отобрать на Уральских заводах и послать в Тулу на оружейный завод. Было это в 1768 году, а в 97, при императоре Павле, работали мы ружья, поставляли для похода самому Суворову. Порядки на заводе были хуже Уральских, и дошло до того, что хотели совсем бросить работу оружейные мастера. Павел Петрович приказал генералу Шевичу смирить оружейников. Тогда голова заводских хозяев, Баташев, у которого мы, крепостные работники от Демидова, работали, писал государю, что, по случаю военной опасности, заводчики с оружейниками договорятся миром. На сие последовал государев рескрипт — «…никаких просьб от имени целых обществ мое величество не принимает и просьбу возвращает обратно с примечанием, чтоб оружейное общество жило впредь смирнее». А вслед за тем был приказ без остановки в работах отрядить двести двадцать восемь мастеров разных цехов с Тульского завода на Сестрорецкие… Вот я и побывал в самом Петербурге, а оттуда с приказчиком Николая Никитича Демидова отъехал в Лондон.
Дальше следовал рассказ о том, что крепостной Демидова стал крепостным Семена Романовича Воронцова.
… — под пятьдесят мне было, однако равного мне мастера у Роджерса не было. Случилось мне сделать пружины для кабриолета, и тут высмотрел меня Касаткин и доложил обо мне Семену Романовичу, старому графу, как о мастере на все руки. Не знаю, как они столковались с Демидовым, только приходит однажды Касаткин к Роджерсу и говорит: «Мастер Софронов отказан нынче за графом Воронцовым. Вот мол бумага от посла». А старик Роджерс и говорит: «Я не знаю ни Демидова, ни Воронцова, я знаю мастера Софронова и мне в ваши дела мешаться охоты нет». Касаткин махнул рукой и говорит: «Ну, старина, будешь ты у графа главным каретным мастером. За тебя граф отдал не малые деньги». Вот так человека, как скотину какую, купили да еще на чужой земле.
Иногда вдруг Антон Иванович заводил разговор о том, откуда к Воронцову пришло богатство, о том, что есть разница между человеком и тварью, но нет разницы между человеком и человеком…
Он был хорошо грамотным, Антон Иванович, и, взяв однажды у поручика Можайского книгу Кантемира, с удовольствием прочитал вслух племяннику сатиру «Филарет и Евгений»:
Бедных слезы пред тобой льются, пока злобно Ты смеешься нищете; каменный душою Бьешь холопа до крови, что махнул рукою Вместо правой левою (зверям лишь прилична Жадность крови; плоть в слуге твоем однолична)…— «Плоть в слуге твоем однолична»… — назидательно говорил Антон Иванович, — одна кровь, что у мужика, что у барина…
Когда Антон Иванович стал болеть, он еще смелее говорил с дворовыми Воронцова и с учениками:
— Михайло Ломоносов был сын рыбака, простого звания, в Москву пришел босиком, а всю науку постиг, громами повелевал и стал превыше всех вельмож. А иной недоросль из дворян «буки-аз-ба» связать не может, а имеет тысячу душ и над ними тиранствует.
Раньше таких слов не слыхали от Антона Ивановича. Был он почтителен и робок с господами, но, видимо, чувствуя конец своих дней, ничего уже не страшился.
— Службу свою исполняй, ежели доведется служить в солдатах. Руки, ноги — все у тебя казенное, а душа вольная, душа божья.
Когда Наполеон взял Смоленск и подходил к Москве, Антон Иванович сильно затосковал. Русский человек, проживший почти тридцать лет на чужбине, грустил о судьбе России и надеялся только на русского солдата да еще на Кутузова: «Тяжела солдатская служба, спору нет, но солдат родную землю обороняет и чужого в дом не пустит».
Умер Антон Иванович в тот самый день, когда до Британских островов дошла благая весть — Наполеон вышел из Москвы и принужден уходить по Смоленской дороге. Весть эта пришла с непостижимой быстротой, и в первое время в Англии не поверили, — так устрашил всех своими победами Наполеон. Можно было думать, что умирающий напрягал все духовные и телесные силы, чтобы дожить до этого радостного дня. Выслушав эту весть, он обнял племянника и так у него на груди и затих.
Смерть Антона Ивановича была большим горем для Феди Волгина. Самый близкий человек и учитель умер. Секреты мастерства легко давались Волгину. Он сделал трехствольное ружье, украсил его замок затейливой насечкой. Ружье отослали в Лондон, Семену Романовичу. Тоска по родине томила Федора Волгина. После смерти дяди он целыми месяцами не слыхал русской речи. Понемногу стал запоминать английские слова и уже объяснялся с мастером Джоном Уайтом и английскими работниками. Его полюбили за сообразительность, за смекалку, а главное — за богатырскую силу, которой дивились англичане. В кулачном бою, который здесь звался «бокс», Волгин свалил самого сильного в Шеффильде борца. Слух об этом дошел до Воронцова, и Семен Романович пожелал взглянуть на своего крепостного человека.
Но до Семена Романовича Волгина все же не допустили. Говорили с ним поручик Можайский, и секретарь графа Касаткин.
Разговор шел о пехотном оружии разных стран.
— Наилучшее ружье, — рассказывал Волгин, — сделано в городе Льеже, бельгийскими мастерами. В Туле, ваше высокоблагородие, делали такие в году 1806. Английское ружье тяжеловато, но в бою сподручнее шведского либо прусского. Больно тяжелы прусские ружья.
Уходя, Можайский сказал Касаткину по-английски:
— Вот, поглядите, сколько у нас спесивых барчуков, которые за человека не считают такого молодца. И только потому, что он крепостной человек…
Волгин сделал вид, что не понял, о чем идет речь.
— Что ж, Александр Платонович, — ответил Касаткин, — да ведь у англичан тоже нету равенства, богатый и знатный сторонится простолюдина, хоть тот и вольный человек.
…Волгина разбудил скрип ворот, ржание коней. Он вскочил и увидел в предрассветной мгле трех всадников и услышал зычный голос:
— А коней куда прикажете поставить, ваше высокоблагородие?
Волгин вскочил и побежал к конюшне.
Поручик в мундире гвардейской артиллерии приказывал немецким конюхам поставить коней под навес. Что-то знакомое почудилось в его голосе. Волгин подошел ближе и чуть ли не закричал:
— Батюшки! Александр Платонович!
Поручик повернулся к нему:
— Федя!
Встреча была неожиданная и радостная. Можайскому вспомнился Лондон и этот славный парень, разговор о ружьях…
— Вот где свиделись, — весело сказал Можайский, ему было приятно увидеть знакомого человека, — вот куда тебя кинуло, Федя! Надо же, чтобы ты поехал нарочным от Семена Романовича, а меня послали тебе навстречу, в Виттенберг…
Впрочем, если поразмыслить, ничего удивительного здесь не было: Михаил Семенович помнил, что Можайский состоял при его отце и знает всю челядь Воронцовых в Лондоне, — кого же и было послать навстречу курьеру!
Разбудили почтенную фрау Венцель. Разглядев русский мундир, она, рассыпаясь в извинениях за свой туалет, повела Можайского в угловые комнаты бельэтажа.
— У вас будет приятный сосед — итальянский негоциант синьор Малагамба, милейший молодой человек. Третий этаж занимает полковник Флоран, третьей бригады… Ах, эти французы, — понизив голос, зашептала фрау Венцель, — с ними одно горе! Его бригада стоит близ Дессау, но полковнику почему-то понравилось у нас. Это большая честь для меня, как для хозяйки, но если постоялец не платит, а жизнь так дорога… Вы, господа русские, куда щедрее, и это не комплимент, господин офицер, это святая правда…
Так болтала фрау Венцель, собственноручно взбивая пуховики, устраивая постель Можайскому. Он слушал ее в полудремоте. Все здесь было, как в каждой добропорядочной немецкой гостинице: пышные пуховики, фаянсовый кувшин и таз на умывальном столе, вышитая крестиками по канве картина, изображающая свидание влюбленных.
Наконец фрау Венцель ушла, оставив Волгина наедине с Можайским. Волгин стал расстегивать сюртук и достал кожаную сумочку с депешами, но Можайский сказал, зевая:
— Успеется, Федя… Теперь спать! Вечером разбуди меня. Поди к моим гусарам, скажи — пусть отсыпаются. Поедем завтра в полдень.
Можайский скинул мундир, умыл лицо и руки, разделся и через минуту свалился, как мертвый, и заснул.
Волгин пошел к гусарам. Они все еще водили вдоль улицы взмыленных коней.
— Здорóво! — сказал он гусарам.
Они стояли против Волгина и глядели на рослого человека, одетого в господское платье.
— Вы кто будете? — наконец спросил старший.
— Русский.
— Видать, что русский, — сказал молодой гусар.
— Табачок есть? — спросил Волгин.
— У нас простой… Махорка батуринская…
— Ее-то мне и надо.
Гусар отсыпал ему махорки, поглядел на большую руку, на копоть, въевшуюся в пальцы, и спросил:
— Чей ты будешь?
— Воронцовых. Крепостной человек, — ответил Волгин.
…На чистой половине гостиницы, в зале для проезжающих, ужинали два путешественника — француз, полковник гвардейской артиллерии, и светловолосый, светлоглазый молодой человек в дорожном, каштанового цвета сюртуке и высоких сапогах со шпорами.
В зале, небольшом, уютном, стоял длинный стол, накрытый скатертью голландского полотна. На стенах висели саксонского фарфора тарелки, изображающие виды Дрездена. Вдоль стен — шкафы с серебряной посудой, хрустальными бокалами и кубками. Большой пятисвечный канделябр освещал мягким светом стол и небольшой зал. Окна были открыты, ветерок слегка шевелил кружевные шторы, и тогда чувствовался запах жасмина из цветников.
Беседа, которую вели путешественники, была далека от военных тревог и бурных событий последних лет.
— Такинарди понемногу угасает, это не тот баловень успеха, каким вы его, возможно, знали, полковник… Барили по-прежнему чарует в «Тайном браке»… Ария Каролины, бог мой!..
Полковник слушал и покачивал головой.
— А Каталани? — вздыхая, спросил он.
— Божественная Анжелика! «О, дольче контенто…» — довольно приятным голосом пропел молодой человек в каштанового цвета сюртуке. — В Неаполе, в Сан-Карло, я заплатил тридцать два карлино — четырнадцать франков — за кресло в партере и не пожалел… А Банти? А Маркезе? А Пакьяроти? Где еще, кроме Милана и Неаполя, можно услышать райские голоса?
Полковник откинулся в кресло и закрыл глаза. Его худое, желтое лицо, впалые щеки, даже длинные тонкие усы, спускавшиеся к подбородку, сейчас выражали покой и блаженство. Он вспоминал шесть месяцев беззаботной жизни в Неаполе, шесть месяцев после двадцати четырех лет походов и сражений… Неаполь с горы Сант-Эльмо, Везувий и Позилиппо… Милый, веселый город, где каждый оборванец напевает арии из опер Чимарозы…
— Неаполь… Город песен… — мечтательно проговорил он. — Вы, мой друг, его увидите, а я… — полковник вздохнул. — Не будем вздыхать о будущем, надо утешаться прошлым…
Послышался топот сапог, двери широко открылись, и вошел плотный, краснолицый человек со звездой Марии-Терезии на груди. Оглядевшись, он поклонился полковнику и его собеседнику и присел к столу.
Новый гость был, по-видимому, важной особой. Он приехал под вечер в тяжелой, запряженной четверкой карете; его сопровождали камердинер, два выездных лакея, два кучера и трое слуг. Он потребовал лучшие комнаты и остался недоволен, хотя фрау Венцель уверяла, что в комнатах первого этажа останавливался обер-камергер курфюрста саксонского граф фон Валь.
— Если бы господин барон приехал утром, я бы предоставила господину барону угловые комнаты. На рассвете приехал русский офицер, полковник Флоран занимает бельэтаж. Есть еще итальянец, синьор Малагамба, неважная птица, но он занимает комнату на третьем этаже…
Фрау Венцель осмелилась спросить звание постояльца, — титул ей был известен, на дверцах кареты она приметила баронский герб.
— Барон Курт-Людвиг фон Гейсмар, владелец майората, состоящий в придворном штате его величества императора Франца…
То обстоятельство, что барон Гейсмар причислил себя к придворному штату австрийского императора, имело особые причины. Эта мысль созрела в дороге, когда у Гейсмара было много времени, чтобы раздумывать над тем, что ему предпринять и к какому берегу причалить сейчас, когда испортились отношения с Нессельроде и с полицей-президентом Вены бароном Гагер.
Как-никак французские войска стояли ближе к Виттенбергу, чем русские, и Австрия все еще была союзником Франции. Поэтому он решил явиться здесь почти что придворным императора Франца.
Важная особа сочла нужным представиться постояльцам:
— Барон Курт-Людвиг фон Гейсмар, владелец майората.
— Полковник гвардейской артиллерии Флоран.
— Пиетро Малагамба, негоциант.
— Скверные дороги, — начал барон. — У меня в дороге пали две лошади. За пять наполеондоров мне едва нашли двух тощих, еле передвигающих ноги одров… Не знаю, как они дотащат мою карету.
— Вряд ли вы купите здесь пару хороших лошадей, — заметил полковник, — вам следовало ехать в легком возке.
— Со мной десяток слуг и много поклажи… Знаете ли, когда возвращаешься на родину после долгих странствий… Вы, синьор, — сказал Гейсмар, обращаясь к Малагамбе, — если судить по произношению, миланец?
— Если вам угодно — миланец…
— Бедная Италия! — несколько мрачно сказал полковник. — Когда, наконец, мы увидим ее единой, цветущей и могущественной?
— Italia virtuosa, magnanima et una![2] Итальянцы никогда не забудут этих слов его величества императора французов! — с дрожью в голосе сказал синьор Малагамба. — Но когда это свершится?
— Император сказал: «Я скоро вернусь с армией в триста тысяч солдат. Русские дорого заплатят за свои успехи».
Гейсмар кивнул, но подумал, что полковник произнес эти слова без всякой уверенности.
— После Баутценского сражения под Вуршеном император потерял Дюрока, — продолжал полковник Флоран. — Император плакал, умирающий Дюрок утешал его. Рана причиняла Дюроку невыносимые страдания. Он просил прекратить его мученья пистолетным выстрелом. «Мне жаль вас, — сказал император, — но надо страдать до конца». Они обнялись и простились навеки после стольких лет дружбы и славы. Весь вечер император оставался в одиночестве. Отсылал всех, кто приходил к нему за приказаниями. «До завтра!» — говорил он всем. Утром он был, как всегда, спокоен и неутомим… Великий человек!
— Бог мой! — вздыхая, сказал Гейсмар. — Все мы здесь верноподданные императора, все мы желаем ему славы и счастья… Но подумать только: совершить подвиги, равные подвигам Александра Македонского и Юлия Цезаря, повелевать Европой и… и теперь искать перемирия, вместо того чтобы стоять твердой ногой на Висле… И все оттого, что мы потеряли лучшие наши батальоны в России!
— Я ничего не понимаю в военных делах, я только скромный негоциант, но мне кажется — всему была причиной ужасная русская зима… — почтительно сказал итальянец.
Полковник Флоран горько усмехнулся:
— Дорогой мой, я рад бы согласиться с вами, но мы выступили из Москвы в октябре, и когда сражались под Малоярославцем, стояла теплая погода, почти парижская осень, мои друзья… Морозы начались, когда все было кончено и дело довершили партизаны… Партизаны! Я был в Испании и доложу вам — русские партизаны страшнее испанских гверильясов.
— Этому я верю, — заметил Гейсмар.
— Даже здесь, на берегах Эльбы, появились партизаны этого… Фигнера. Еще вчера, с русским полковником, князем… Шер… Чербатовым мы договорились о том, чтобы партизаны Фигнера признали, наконец, перемирие… В самый день подписания перемирия они отбили у меня пушку. Впрочем, Фигнер вернул эту пушку с учтивым письмом… Однако я вижу, что мы толкуем здесь о грустных вещах…
— Не могу понять, — вздыхая, сказал итальянец, — народы хотят мира. Для чего нужно было заключать перемирие, если не будет мира?
— Друзья мои, — с сердцем сказал полковник, — вы верные слуги императора, но вы не военные люди! Битва под Бауценом — напрасная резня! Мы не взяли у русских ни одного пленного, ни одной пушки!.. У русских есть резервы, у нас их нет. Вот почему нам пришлось итти на перемирие… Говорят, император послал к русскому царю Коленкура, но царь не хотел его принять…
Гейсмар попросил извинения и встал из-за стола. Ему хотелось побыть одному и собраться с мыслями.
Вот он у берегов Эльбы. Завтра полковник Флоран отбывает в Дессау, в свою бригаду. Вместе с ним барон Гейсмар сможет без малейших затруднений миновать французские аванпосты. Но по-прежнему он не мог решиться на этот шаг. Полтора месяца он пробыл в русской глазной квартире. Нессельроде принял его еще раз, но сказал лишь, что не видит никакой необходимости в пребывании барона Гейсмара в главной квартире. Что оставалось делать? Ехать в Лифляндию, в разоренную усадьбу? Без денег, без надежды на милости русского двора? Он терпел одну неудачу за другой — неудачное сватовство к Анеле Грабовской, пренебрежение Нессельроде. Не повезло ему и у Витгенштейна… Он ехал в Дессау с твердым намерением предложить свои услуги французам. Но этот полупьяный полковник выболтал горькую правду о французах. Стоило ли садиться на корабль, который идет ко дну? Остается Данциг, остается герцог Вюртембергский, брат русской императрицы. Рекомендательное письмо Витгенштейна к герцогу при нем, это последняя надежда.
Гейсмар толкнул ногой дверь и вышел во двор, освещенный тусклым фонарем, мерцавшим на высоком столбе.
Он пересек двор и увидел свою карету. Из приоткрытой дверцы высовывались длинные ноги Вальтера, его камердинера. Гейсмар разбудил его, сам не зная зачем, с ненавистью посмотрел на заспанное, небритое лицо, обругал и отошел. Ему послышались тихие голоса, он различил русские слова, прислушался, шагнул вперед и увидел человека богатырского роста и двух гусар, судя по мундирам — ахтырцев.
— Пал на меня жребий, отдают меня в рекруты, — слышался молодой голос, — матушка плачет, отец плачет: «На кого покидаешь дом родительский, кто очи мне закроет в смертный мой час да кто родительское благословение примет?..» А тут Дарьюшка, невеста моя, вся изошла слезами: «Покидаешь меня ни мужней женой, ни вдовой, не дал нам повенчаться староста…» Сам стою и плачу: «Не рвите мне сердце, не всем же помирать на войне, авось приду с полком, дослужусь до чина…» Гляжу и думаю: что оставляю? Избу — четыре стены в саже, пол в щелях, печь без трубы, в оконницах — пузырь… Кадку с квасом, два-три горшка, стол, мною срубленный, свинью да теленка, что спят с нами в избе. Кабы не отец с матушкой, не Дарьюшка-невеста, не о чем было бы тужить… О господах не заплачу.
— А кто твои господа? — спросил человек богатырского роста.
— Есипово наша деревня прозывается. Родовое имение было господ Есиповых. Старый барин три года как помер, а барыня в Питер уехала, а деревню нашу и двести душ продала отставному городничему. При старом барине были мы на оброке, городничий жаден, за грош удавится, сызнова завел барщину. Посадил нас на пашню, отнял всю землю, скотину нашу купил, цену дал, какую сам захотел. Шесть дней в неделю на него работаем; чтоб не померли с голоду, положил нам месячину, выдает хлеб семейным, а у кого семейства нету — кормит на господском дворе по разу в день; в мясоед пустые щи, а в посты хлеб с квасом. Которого ленивым сочтут, дерут без жалости розгами, батожьем и кошками…
— Двадцать лет отслужил, — послышался хриплый голос, — пять лет до чистой осталось, родного лица не увидишь, разве только пригонят рекрутов, повстречаешь земляка, он тебе порасскажет, и видишь: как было двадцать лет назад — так и осталось, все та ж барщина, да подушная подать…
— Э, дядя, — вздохнул молодой гусар, — мы плохо жили, а наши соседи и того хуже. Отдал их барин с головой чужому в аренду, и дерет он кожу. На приказчика господского барину пожалуешься, а на арендатора кому пожалуешься?
Наступило молчание, слышно было, как вздыхал молодой гусар.
— Терпелив русский человек, терпит до крайности, а придет, конец терпению — ни на что не посмотрит…
— Верь — не верь, а я с охотой шел под красную шапку, — заговорил другой гусар. — Не легкая солдатская жизнь, да ведь жить у господ хуже… Госпожа наша, графиня Ротермунд — может, слышали? — чистая ведьма киевская, жестокосердая, сына родного с голоду уморила. Ведут меня в город, родичи плачут, а я говорю: «Чего плачете, радоваться надо, что умру в честном бою, а не под батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, наг и бос, при всегдашнем поругании…»
Вот и пришлось померяться лбом с ядром, понюхать из пушечной табакерки солдатского табачку.
— Что ж, дядя, годков пять еще осталось и по чистой?
— По чистой. Ступай на все четыре стороны, — да помни наказ: бороду брить, милостыни не просить. А то узнаешь, почем березовые веники на съезжей, даром что кавалер, — и он тяжело вздохнул:
— …двадцать лет служу, дважды бит палками, а с той поры, как сдали меня в Ахтырский полк, и совсем у нас в полку палки вывелись…
— Это, брат, какой полк и какой командир…
— Послушаешь вас, — сказал человек богатырского роста, — и жить не хочется. Господи, когда ж мы будем по своей воле жить!
В другое время Гейсмара рассердил бы этот разговор, может быть, он бы пожурил начальство и обругал солдат, которые смели так осуждать законные порядки, и особенно богатыря, который говорил как истый бунтовщик. Но сейчас Гейсмар задумался лишь над тем, что делают эти трое русских в Виттенберге. Однако ничего удивительного не было в том, что в Виттенберге находились русские: их аванпосты в десяти верстах и, по-видимому, гусары сопровождали русского курьера.
Медленно шагая, Гейсмар возвратился в гостиницу. Спать не хотелось, но не очень хотелось и возвращаться к собеседникам. Что мог ему еще оказать этот похожий на древнего галла усатый полковник? Однако делать нечего — он вернулся в зал и увидел, что на том месте, где он сидел раньше, расположился офицер в русском мундире. Офицер тотчас встал и уступил место Гейсмару. На миг они оба оцепенели от изумления. Перед Гейсмаром, в мундире русского офицера, стоял тот самый Франсуа де Плесси, которого месяц назад он видел в Грабнике в поместье графини Грабовской.
Должно быть, офицер тоже узнал Гейсмара, хотя и старался не показать виду. Они поклонились друг другу, и офицер сел рядом с итальянцем.
Разговор шел о прошлогоднем карнавале.
— Нынешний карнавал нельзя сравнить с прошлогодним. Сколько было веселья, сколько остроумия… Какие карнавальные песенки — canti carnavaleschi!.. — разливался соловьем синьор Малагамба.
— Мне не случилось бывать в Неаполе, — довольно непринужденно заговорил поручик, — но я бывал в Венеции, я видел волшебные празднества на Большом канале, мне нравился обычай прятать лицо под маской, когда нельзя отличить герцогиню от камеристки, патриция — от его портного…
— Не знаю, как другие, — с неприятной усмешкой сказал Гейсмар, — но этим обычаем пользуются всякие проходимцы… Месяц назад мне случилось в доме одной моей старой приятельницы встретить… — Гейсмар не сводил глаз с поручика, но поручик ничем не выдавал себя, — мне пришлось встретить одну странную личность…
— Ваше здоровье, поручик, — неожиданно прервал барона Гейсмара полковник Флоран. — Я хочу выпить за наше благородное оружие — артиллерию. Мне часто случалось видеть ваши красивые мундиры в пороховом дыму… Скажу вам чистую правду — приятнее, когда нас разделяет уставленный бутылками стол, а не изрытое траншеями поле.
Можайский поклонился и выпил свой бокал.
— Пью за то, чтобы перемирие сменилось долгим миром, — продолжал полковник.
— О, если бы примирить народы и установить вечный мир на земле! — мечтательно произнес итальянец. — Позвольте вам сказать, что я с удовольствием читал критику господина Руссо на «Проект вечного мира» достойнейшего аббата Сен-Пьера…
— Я не читал ни того, ни другого, — признался полковник. — Какой же был проект у этого аббата?
— Сен-Пьер полагал положить основой проекта вечного мира взаимное соглашение держав, — сказал Можайский. — Сколько я помню, Вольтер предлагал создать в женевской республике парламент мира, избрать первым его председателем господина Жан Жака Руссо, запретить всем правителям войны и ссоры, а нарушителей мира наказывать чтением трудов первого председателя…
Все рассмеялись, даже Гейсмар улыбнулся принужденной улыбкой.
Как ни глядел во все глаза Гейсмар на поручика, он не заметил ни тени смущения или неловкости.
— В этом споре я стал бы на сторону Руссо, — заметил итальянец. — Вечный мир полезен для народа, а то, что полезно для народа, можно ввести в жизнь только силой, интересы частных лиц всегда этому противоречат, — так говорит Руссо…
Можайский с некоторым удивлением посмотрел на итальянца. Впрочем, никто, кроме него, не обратил внимания на то, что сказал этот, видимо хорошо образованный молодой человек.
— И вы верите в вечный мир на земле? — ухмыляясь, спросил полковник.
— Dum spiro spero. Пока живу — надеюсь.
— Есть люди, которые в ожидании вечного мира довольно ловко пользуются перемирием, — вдруг заговорил Гейсмар, уставившись на Можайского, — и таких людей я бы назвал бесчестными.
— Не понимаю, — сказал полковник Флоран, — кто же эти люди?
— Придет время, и я скажу об этом.
— Есть люди, которые ищут ссоры, — как бы в задумчивости заметил Можайский, — и однажды получат жестокий урок.
Итальянец вскинул глаза на того и другого, полковник чуть повернул голову в сторону Можайского.
— Что хочет сказать этим господин поручик? — отодвинув бокал, спросил Гейсмар.
Можайский с трудом сдерживал приступ ярости. Этот краснолицый, толстый наглец во второй раз ввязывается в ссору. Он открыл рот, но едва заговорил, его перебил раскатистый хохот полковника Флорана:
— Nom de diable![3] Только что мы рассуждали о вечном мире, господа, и, кажется, сошлись на том, что вечный мир — прекрасная вещь, и тут же, за столом, двое из нас готовы лезть в драку!
— Дорогие друзья, — вмешался итальянец, — мне кажется, пришло время отдать досуг музыке… Музыка всех примиряет, она успокоит все страсти…
Он подошел к клавикордам, открыл крышку, взял несколько аккордов и очень чистым и приятным голосом запел арию из «Бронзовой головы», которой еще так недавно Галли восхитил Италию.
Музыка и мелодия арии немного успокоили Можайского, Гейсмар слушал все с тем же злым и надутым лицом. Он еще не решил, как ему поступить. Неужели выпустить из рук этого подозрительного молокососа и притом самозванца? Какая может быть для него, Гейсмара, польза от этой неожиданной встречи?
Когда Можайский встал от стола, тотчас же встал и Гейсмар.
Как только они очутились за дверями, Гейсмар сказал Можайскому:
— Я полагаю, вы меня узнали.
Можайский молча наклонил голову.
— Вы изволите стоять в этой гостинице? Я тоже.
— Так до завтрашнего утра?
— До завтрашнего утра.
И Гейсмар возвратился к своим застольным собеседникам.
Полковник Флоран и итальянец вели задушевную беседу.
— Послушайте, — вскричал полковник Флоран, — этот милый молодой человек едет по коммерческим делам — и куда бы вы думали? В Данциг. Он хочет получить по каким-то векселям у данцигских купцов! Безумец!
— Дорогой полковник, наш дом много потерял на разнице в курсе. В Неаполе за один франк дают три карлино, это составляет потери почти в полтора миллиона… На генуэзской бирже векселя нашего дома идут за три четверти номинала. Это разорение!
— Но это сумасшествие — ездить по Европе в такое тяжелое время!
— Что поделаешь, господа? Что поделаешь? — сокрушенно вздыхал итальянец.
— Господа, — с некоторой торжественностью начал Гейсмар, — мы все здесь честно служим императору Наполеону. Мой долг сказать вам: русский офицер, который сидел с нами за одним столом, — не русский по происхождению. Он эмигрант, предатель, его настоящее имя де Плесси, с такими людьми у нас нет ни мира, ни перемирия…
— И я сидел с этим предателем за одним столом! — сказал полковник Флоран и так ударил кулаком по столу, что зазвенел хрусталь в шкафах, а фрау Венцель, проснувшись, как была, в шлафроке и чепце, сбежала вниз…
Вскоре, однако, все стихло. В гостинице вдовы Венцель погасли огни. Светилось только одно окно. Оно было открыто настежь. Можайский сидел у открытого окна, заряженный пистолет лежал на столе. Встреча с Гейсмаром не обещала ничего хорошего. Он принял некоторые меры предосторожности, разбудил Волгина и своих гусар, велел им быть наготове.
На этот раз поединок был неизбежен. То был век, когда отказ от дуэли считался бесчестьем. Бреттеры, на совести у которых было много убийств, слыли почитаемыми людьми, хотя их боялись и ненавидели. О некоем кавалере Дорсан рассказывали, что он в одну неделю имел три поединка: один поединок — с негоциантом, который косо посмотрел на него, другой — с уланским офицером, который посмотрел ему прямо в глаза, третий — с англичанином, который прошел, не взглянув на него. Потому в Париже говорили, что на кавалера Дорсан опасно и смотреть и не смотреть. Император Александр считал дуэли «горькой необходимостью» и позже, в дни конгресса в Вене, был близок к тому, чтобы вызвать на поединок князя Меттерниха.
В заветной тетради, которую возил с собой Можайский, было записано: «Что такое дуэль? Варварский предрассудок, который утверждает, будто сохранить честь можно только потеряв добродетель». Однако сейчас Можайский не мог и думать о том, чтобы уклониться от поединка. Он был хорошим стрелком и отлично владел шпагой. Гейсмар не вызывал в нем добрых чувств, он решил убить или ранить своего противника. Правда, на него возложены обязанности курьера, но депеши Воронцова, в случае несчастья, может доставить Волгин прямо в походную канцелярию его величества.
Он встал и выглянул в окно.
Городок спал. Накрапывал теплый, весенний дождь, пахло жасмином, и этот запах напомнил ему ночь в Грабнике месяц назад и Катю Назимову… Опять защемило сердце и опять подступила тоска… Встреча с Гейсмаром и новые опасности вдруг показались ничтожными… Ну, пусть даже смерть. А для чего жить?
Ему почудился стук в дверь. Он не ответил. Стук повторился.
— Herein![4] — сказал Можайский.
Дверь отворилась. На пороге стоял синьор Малагамба.
— Господин поручик, — сказал он на чистейшем русском языке, — мне кажется, вы попали в беду.
Можайский вскочил с кресла и в изумлении глядел на него.
— Одевайтесь, поручик, и едем, — сказал ему ночной гость. — Я Фигнер.
12
Багряный отблеск утра горел на шпиле кирхи, когда Фигнер, Можайский и их провожатые миновали заставу Виттенберга.
Несколько времени они ехали рысью, когда же свернули с дороги и выехали на лесную тропу, пустили лошадей шагом.
В темно-зеленом сумраке, озаренном косыми золотыми лучами солнца, медленно двигались пять всадников. «Фигнер, — думал Можайский, — Фигнер, о котором сам Кутузов сказал: «Это человек необыкновенный…» Так вот каков Фигнер, чье имя сияет славой рядом с именами Сеславина, Дениса Давыдова, Дорохова… Переодетый, он проник в Кремль, чтобы убить Наполеона, и мог погибнуть, если бы не присутствие духа и не счастливая случайность… И где в нем сила? Незавидный рост, простое лицо. Однако сколько живости… Глаза светятся умом, но холодный блеск их порою страшен…»
— Вы не в обиде на меня, поручик? — заговорил, точно отвечая на мысли Можайского, Фигнер. — Я вмешался в чужое дело… — Он перешел на французский язык, чтобы их не понимали провожатые: — Вы, курьер его величества, решились выйти на поединок — и с кем? Драться можно с честным противником, а не с убийцей. Охота барону подставлять лоб под пулю! Они с полковником подослали бы к вам убийц, а ваша курьерская сумка была бы для них недурной поживой…
— Вы старше меня чином, — заговорил Можайский, — вас почитают россияне, как храбрейшего воина, но моя честь…
— Честь! Вы не прапорщик-юнец, я вам не отец-командир, но позвольте сказать — долг превыше всего. Ради воинского долга можно и унижение принять и любую обиду. Исполнить приказ и кровью смыть обиду… Я ходил в Москву, когда в древней столице нашей стояли французы. Сердце разрывалось от боли, что сделали изверги с древней русской столицей. Ходил в крестьянском платье. Чего не натерпелся! Гнали в толчки, бранили поносной бранью. Было это днем, в белый день. А ночью — ночью я был хозяин. Ночью я платил за обиды, и была им работа поутру — убирать своих покойников. Один офицер драгунский, вестфалец, ударил меня в грудь, — на Полянке это было. Я за ним неделю ходил и убил его в постели и ушел в его плаще и кивере… Вот как…
Можайский ехал рядом с Фигнером и сначала удивлялся, как он терпел этот снисходительный, чуть не презрительный тон. Было что-то в Фигнере покоряющее людей, недаром его так слушались люди из отряда — беглые солдаты из польских, итальянских, испанских полков армии Наполеона. Недаром за ним шли на смерть ярославские и тульские ратники.
— Драгун спал с любовницей, — усмехаясь, говорил Фигнер. — Я разбудил красавицу и сказал: «Прошу простить, у меня с вашим дружком счеты…» — Усмешка была нехорошая, Можайскому стало страшно, но в то же мгновение лицо Фигнера сделалось строгим и грустным. — Это я так, к слову, — потом он взглянул на Можайского и улыбнулся по-приятельски, тепло и ласково. — А ведь вы мне не назвались, поручик, не представились, хотя я и старше чином…
Можайский назвал себя.
— Вы друг Диме Слепцову? — обрадовавшись, сказал Фигнер. — Вот душа-человек! Бражник, удалец, всегда без денег, а заведутся — карман и душа нараспашку… Какой-нибудь флигель-алъютантишка с тремя тысячами душ и сиятельной теткой задирает нос…
Фигнер поднялся на стременах и огляделся, потом показал на чуть заметную тропу.
— Здесь мы с вами простимся, от сего места мне недалеко до своих… А вам — напрямик до тракта… Тут близехонько наши аванпосты.
Он посмотрел на солнце. Час был ранний.
— Расстанемся, по обычаю, по-русски, с посошком на дорожку.
Они сошли с коней и расположились на лужайке. Гусары и Волгин присели поодаль. Волгин отвязал от седла флягу и достал из вьюка что было с ним съестного.
— Это твой человек? — спросил Фигнер, поглядев на Волгина.
— Он человек Воронцовых… приставлен ко мне.
— Смышленый малый.
— Бывалый. Работал в Бирмингаме и в Шеффильде у Роджерса. Оружейник. Редкий мастер. Я его давно знаю. Ему обещана воля.
— Будь ты царем, отпустил бы ты крепостных на волю? — спросил Фигнер и сам ответил: — Я бы отпустил… В первую голову тех бы отпустил, кто с французом воевал… Вот только чувствует ли непросвещенный люд ярмо рабства?
Ни Фигнер, ни Можайский не думали о том, что их разговор от слова до слова слышали Волгин и гусары.
— Гельвеций порицал правительства за то, что оставляют народ в невежестве, — сказал, раздирая зубами гусиную ногу, Можайский. — Дать просвещение народу — и вмиг не станет рабства.
— Вот ты в Англии бывал? Бывал. Там люди равны перед законом. Счастливы ли они?
Можайский задумался.
— Что есть равенство перед законом? Один украдет часы ценой в три гинеи и на всю жизнь попадет в тюрьму, другой украдет миллион и живет, почитаемый всеми за честнейшего человека… Везде подкуп, низости, лицемерие и разврат двора…
Можайский налил до краев серебряную чарку.
— Уж не масон ли вы, сударь мой? — спросил Фигнер, усмехаясь недоброй усмешкой. — Как это поется в масонских куплетцах:
Оставьте гордость и богатство, Оставьте пышность и чины, В священном светлом храме братства, Чтят добродетели одни…Вот уж не терплю этих ханжей! Строят Соломонов храм чистой нравственности, разглагольствуют о добродетелях, о целомудрии, воздержании, а сами отлично пьют и едят и нисколько не бегут от сладострастных утех. Для чего, скажи мне, ежели ты масон, вся эта таинственность, церемонии, обряды, ритуал, эмблемы, заменяющие церковные реликвии? Почему творят благо только тем, кто по званию своему дворянскому не смеет просить милостыню? Ежели благотворительствовать, то не оставляй своей милостью людей простого звания! Ведь так?
— Так… — не слишком уверенно произнес Можайский, — однако душе человеческой свойственно искать истину… в любом обличьи… Ежели закрыть глаза на все эти молотки, циркули, эмблемы, то в поучениях масонских есть поиски веры… Есть и достойные люди в масонских ложах…
— Есть. Вот Волконский, князь Сергей Григорьевич. Я его люблю, он из худших лучший. А другие идут в ложу для того, чтобы стать ближе к своему начальнику, для того, чтобы, заняв в ложе звание брата старшей ступени, быстрее подвигаться по службе… с помощью брата-благодетеля. А розенкрейцерство? Все это обман, друг мой! Да и ты, хоть и наверное масон, и то в сомнении. Я вижу.
Действительно, Можайский был смущен. Этот человек, которого он встретил при таких странных обстоятельствах, как бы мимоходом проник в сокровенные мысли Можайского.
— Истина в том, — сказал Можайский, — в том, чтобы пробудить в душе человека дух Брута, Катона, Курция…
— Брут? Этот по мне. А Катон был ритор. Риторов — краснобаев не терплю.
— Пью за гибель тиранства! За вольность!
Фигнер покачал головой и отодвинул свою чарку.
— А чем ты добудешь вольность? — и снова на лице его явилась нехорошая, злая усмешка.
— Вольность — дочь просвещения, — сказал Можайский.
Фигнер снова покачал головой.
— Нет, не просвещением, не вольнодумством философов можно покончить с тиранством владык… — твердо сказал Фигнер.
— Тогда чем же?
— Вот этим… — Фигнер показал на поблескивающий в траве эфес сабли. — По мне — Алексей Орлов да граф Пален сделали куда больше, чем твои философы, проповедники вольности. Или барон Анкарстрем, застреливший из пистолета шведского короля Густава III на маскараде.
Можайскому стало не по себе…
— Республиканское устройство… — пробормотал он, чувствуя, что говорит бессвязно, — ради сего должна пролиться кровь, ежели того требует общественное благо…
— Республиканское устройство! — со смешком повторил Фигнер. — Не буду равнять себя с купцом или ремесленником! Не буду хотя бы потому, что я из другого теста… Моя судьба — борьба, страсть, опасности… Пролить кровь тирана? Изволь, вот моя рука…
— Для чего? Для того, чтобы на трон сел другой тиран?
И он прочитал по-русски стихи Радищева:
Вождь падет, лицо сменится, но ярем, ярем пребудет…Они снова перешли на французский язык, и Можайский был рад этому — провожатые не понимали их…
Фигнер молча осушил свою чарку.
— Говори по-русски, Можайский: мы не у Венцельши в Виттенберге, а в лесу…
Можайский понял, что Фигнер хочет переменить разговор.
— Ты женат, Можайский? — вдруг спросил он. — Не женат? Счастливый. Для чего жениться таким людям, как я? Для того, чтобы, не дожив до тридцати лет, оставить вдову и детей нищими? Кто мы? Нищие в офицерских мундирах…
Потом, когда Фигнера уже не было в живых, Можайский не раз вспоминал эти слова, сказанные с грустью и горечью.
— Да и то сказать, — продолжал Фигнер, — не рождены мы для того, чтобы дожить до старости, травить осенью зайцев, тучнеть, музицировать и играть с внучками…
— Правда, — тихо промолвил Можайский.
— Прости меня, Можайский, — вдруг по-старому насмешливо заговорил Фигнер, — не пойму, отчего ты не женат. Ты недурен собой, молод, хорошего роду…
— Оставим это, Александр Самойлович…
— Мало в Петербурге богатых дурочек с приданым?.. Ну, не хочешь жениться — поищи пожилую красавицу с мужем сановником, глядишь, через год будешь флигель-адъютантом…
Точно чёрт дергал этого человека! То он казался приятелем, ласковым, добрым другом, то говорил чуть не злобно, насмешливо, с издевкой…
— Оставь, Александр Самойлович, — сдерживая негодование, сказал Можайский. — Я не из породы шаркунов и столичных ловеласов. Я любил крепко и поплатился за любовь.
Фигнер потянулся, зевнул и вдруг, закинув голову, задумался. Он что-то силился припомнить… Как будто он что-то слышал о несчастной любви Можайского… Уж не о нем ли судачили в петербургских гостиных?..
— Да постой, — сказал он, поднимаясь с травы и стряхивая крошки, — уж не ты ли?.. Погоди, как ее звали?.. Дай бог памяти…
— Александр Самойлович, — сказал, тоже поднимаясь на ноги, Можайский, — есть раны сердца, которых не должна трогать ничья рука.
Но точно дьявол толкал Фигнера.
— Ох, уж мне эти несчастные любовники! — почти со злобой сказал Фигнер. — Мечтают о лилейной чистоте и спят с гулящими девками… Была бы еще лилейная чистота, а то, наверно, потаскуха…
У Можайского потемнело в глазах, жаркая волна ударила ему в голову, он схватился за эфес сабли, но в то же мгновение почувствовал, как две сильные руки железным кольцом обхватили его сзади.
— Пусти, — задыхаясь, сказал он, — пусти, Федя… Пусти.
Припадок ярости прошел. Волгин выпустил Можайского.
Фигнер стоял вполоборота к Можайскому, он даже не пошевелился и смотрел на Можайского холодно, но с любопытством.
— Александр Самойлович, — дрожащим от гнева голосом сказал Можайский, — ежели вам будет угодно…
— А ты, верно, ее любил… — в задумчивости проговорил Фигнер. — Прости, я не знал… Прости. Ну, хочешь, на колени стану?
— Александр Самойлович, — все еще бледный и весь дрожа, едва выговорил Можайский, — ежели бы это были не вы, ежели бы вы не были славой России…
— Ну, будет, — обнимая его, сказал Фигнер. — Виноват, прости, чего тебе еще нужно?.. Дай руку.
— Когда б вы не были Фигнер, — протягивая руку, сказал Можайский.
— Я таков, какой есть, иным быть не могу. Таким родился и таким умру.
Они пошли к коням.
— Эй, молодец, — сказал Волгину Фигнер, — ты мне пришелся по сердцу. Когда захочешь вольной жизни — иди ко мне в отряд, у бивуачного костра всегда тебе будет место. — Взяв под руку Можайского, он отвел его чуть в сторону и сказал по-французски: — Не кажется ли тебе, что мы ставим их слишком низко? Пускай они не читали Руссо и Гельвеция, но Суворов и покойный Михайло Ларионович говорили с солдатами как равный с равным, и солдаты понимали их… Мне самому случалось одной силой слова вести моих людей против вчетверо сильнейшего врага… И вот что я скажу тебе на прощанье: настоящая война есть война народная. Только боятся ее государи и наш, и прусский.
Это были последние слова, которые слышал из уст Фигнера Можайский. Он и провожатые его сели на коней и выехали на просеку. Фигнер был уже в седле и, проводив их до просеки, придержал коня. Оглядываясь назад, Можайский еще долго видел силуэт всадника в темно-зеленом сумраке лесной чащи. Потом он исчез.
Всего лишь полчаса назад Можайский, точно одержимый, бросился на Фигнера, но сейчас он благодарил Волгина за то, что тот удержал его руку. Сейчас, когда Фигнера не было с ними, Можайский жалел, что эта встреча была короткой. То добрый и ласковый товарищ, то суровый, сумрачный, насмешливый. И не он ли вчера вечером сидел за столом и с восторгом и умилением рассуждал о тембре синьоры Кампорези, о концерте для арфы и флейты Моцарта?
Что будет с ним дальше, куда направит он путь? Увидит ли когда-нибудь Можайский этого необыкновенного человека, с которым свела его судьба в городке Виттенберге?..
В восьмом часу утра Можайский был на аванпостах русской армии. Он и его провожатые сделали привал только после полудня. Путь их лежал в Силезию. По расчетам Можайского, на третий день путешествия они должны были прибыть в Петерсвальд.
На привале, у лесного озера, когда они лежали на мягком и влажном мху, Волгин спросил Можайского:
— А как вы, Александр Платонович, полагаете: оставит ли меня при себе граф Михайло Семенович или отошлет в Россию?
— Пока тебе приказано состоять при мне, — рассеянно ответил Можайский и даже не заметил, как лицо Волгина просветлело.
Весь остальной путь он был весел и потешал Можайского рассказами о своих странствиях.
Они ехали по немецким землям, и, слушая рассказы Волгина о доброжелательности поселян, о том, как те прятали его от французских разъездов, Можайский задумался над переменами, которые видел сейчас в этом народе.
Ему случилось ехать через немецкие земли в те годы, когда Тильзитский мир отдал немцев во власть Наполеону. Берлин был занят французами, французские гарнизоны стояли в больших немецких городах, французские жандармы и полиция грабили и угнетали народ. Вспомнилась Можайскому ночь, которую он провел под кровом каретного мастера, вагенмейстера, когда поломалась ось его дорожного экипажа. Это был пожилой, отлично знающий свое дело немец. Три сына помогали ему в мастерской. Пока чинили возок, Можайский толковал с вагенмейстером Людвигом Гейзе, дивясь здравому уму и образованности каретника.
И вот сейчас, на пути из Виттенберга, сильный ливень с грозой вынудил его на короткое время остановиться в знакомом городке и переждать грозу в доме вагенмейетера Гейзе.
Старик узнал Можайского, отвел в дом и усадил за стол. При нем был только младший сын Иоганн, два других сына погибли в походах. Когда старик заговорил об этом, губы его задрожали и на глазах появились слезы.
— Господин офицер, — заговорил, успокоившись, Гейзе, — не стану вам жаловаться на свои беды. Нас было четверо, мы работали на славу, городок наш стоит на перекрестке больших дорог, война повредила дороги, и кому только ни приходилось чинить экипажи в нашей мастерской!.. Два моих сына погибли на войне, где лежат их кости — в Испании или в Силезии, — об этом мне не скажет Бонапарт… Вот я не хотел плакать, а пришлось… Бонапарт разорвал на части Германию, он вынудил немцев вести братоубийственные войны, и долго еще мы были бы рабами, если бы не великий старец — князь Кутузов и его храбрые солдаты… К чему это перемирие, господин офицер? У меня дрогнуло сердце, когда его объявили. Окрестные селяне приходят толпами к городской ратуше и спрашивают, когда им позволят прогнать французов. Никогда еще не было такой силы духа в нашем народе. Правда, Иоганн?
И Гейзе посмотрел на младшего сына — рослого, голубоглазого парня, который почтительно стоял у порога.
В эту минуту под окнами застучали колеса. Тяжелая карета остановилась у ворот мастерской.
— Граф Борнгольм, — сказал вагенмейстер. — Иди, Иоганн, спроси у господина графа, спроси, что ему нужно… Вот кому жилось весело все эти черные годы! Впрочем, мы редко видели его сиятельство, он с дочерью жил в Париже и носил мундир камергера двора… А сейчас сидит в замке, сказавшись больным, и выжидает…
Гроза прошла. Живительный запах садов был так силен, что у Можайского слегка кружилась голова. Он простился с вагенмейстером у ворот мастерской.
Длиннолицый, тощий господин в синем фраке выглянул из кареты и нерешительно поклонился офицеру в русском мундире. Вероятно, это и был граф Борнгольм.
Прошел еще день. Прекрасным июньским утром Можайский и Волгин ехали по цветущей долине Силезии. Широкая пыльная дорога вела к замку Петерсвальд. Гусары-провожатые оставили Можайского, получив от него по серебряному рублю, — для солдата немалые деньги.
Все, что было в Виттенберге, — встреча с Гейсмаром, поразительное появление Фигнера, — все это здесь, вблизи главной квартиры, казалось далеким воспоминанием. Холодный блеск глаз Фигнера, его лицо, в котором в одну минуту сменялось столько выражений, его тихий и мягкий и вдруг резкий и повелительный голос.
«Странная судьба, странный характер, — не переставал думать об этом человеке Можайский, — самоотверженность и жестокость, холодный расчет и порой бессмысленный риск, хладнокровие в минуты смертельной опасности и страстность, безудержность в гневе… Точно этот человек все хотел испытать в этой жизни, все сочетать в ней. Он был женат, любил жену, но никогда не говорил о ней».
Внезапно из-за поворота появилась придворная карета с лакеями на запятках. Промелькнули алые ливреи с черными двуглавыми орлами. Эскорт гусар скакал позади. Шторы в карете были задернуты. Ничего удивительного не было в этой встрече, но скрываться за плотными шторами в такой жаркий день мог только тот, кто не хотел, чтобы его увидели и узнали.
И мысли Можайского изменили свое течение. Он был у цели, через час он вручит депеши Воронцова князю Волконскому, и о них будет доложено императору. Сколько событий произошло с того дня, как Воронцов отправил курьера, — перемирие в Плейсвице, переговоры с Наполеоном, — но австрийская армия все еще стоит наготове в Богемских горах, в тылу у русской.
Война или мир?
Пока Можайский раздумывал об этом, конь его остановился перед цепью, протянутой у ворот замка. Дежурный унтер-офицер Павловского полка осведомился, кто приехал, и, узнав, что курьер его величества, доложил начальнику караула. Можайский пошел вслед за караульным офицером к левому крылу замка, поднялся по винтовой лестнице и оказался в круглом зале угловой башни.
После летнего солнечного дня здесь казалось темно. На столе горела свеча, пахло сургучом. В углу за конторкой скрипел пером писарь. В дверях появился офицер с аксельбантом, мимоходом взглянул на Можайского и вдруг остановился:
— Александр?
Это была радостная встреча. Перед Можайским стоял друг юности — Саша Михайловский-Данилевский, бывший геттингенский студент, с которым он когда-то делил досуги в прогулках по берегам Плейсы, мечтая предаться уединению и наукам. Иная судьба ожидала их. Один странствовал по объятой пожаром войны Европе, другой был адъютантом фельдмаршала Кутузова, а затем адъютантом начальника императорского штаба — князя Волконского. Образованность, превосходное знание языков, литературные способности помогли Данилевскому сделать блестящую по тем временам карьеру. Он был на виду, был умен, осторожен, умел располагать к себе людей.
Данилевский встретил Можайского с искренней радостью и, узнав, что он и есть курьер, доставивший депеши Воронцова, тут же проводил его к Волконскому.
Можайский слышал о Волконском как о придирчивом и недалеком служаке. Плохо пришитая пуговица на мундире или покривившийся султан на гусарской шапке могли составить навеки его мнение об офицере. И с годами он не стал умнее. Явившись в мастерскую художника Орловского, стоя перед картиной, изображавшей переход Суворова через Альпы, князь Волконский заметил важный недостаток. В мундирах солдатских было одной пуговицей больше, чем в тогдашней форме узаконено. Художнику был сделан строгий выговор, а картину признали недостойной занять место в царской галерее. Едва Волконский ушел — художник взял нож и с досады изрезал картину.
Волконский стоял над столом, заваленным множеством бумаг. Можно было понять, что Волконский не спал эту ночь. Но он был свежевыбрит, мундир сидел на нем безупречно.
Можайский удивлялся выносливости царедворцев, поспевавших всюду, до поздней ночи красовавшихся на петербургских балах, встававших от сна, как вся гвардия, по барабану и в шесть утра неизменно являвшихся на развод. Таким был и сам император Александр, и брат его Константин, служившие «по-нашему, по-гатчински», как говорили при Павле Петровиче.
Волконский выслушал рапорт Можайского и, как ему показалось, небрежно принял депеши, но тут же приказал передать их в экспедицию по расшифрованию.
— Надеюсь вас еще видеть, — сказал он чуть охрипшим от бессонницы голосом.
Можайский поклонился и вышел вслед за Данилевским.
— Ты мой гость, — меж тем говорил тот, — ты всю ночь ехал, по тебе вижу. Отоспись у меня, я живу тут же, в замке. У нас тут все кипит, мы накануне великих дел, друг мой. Располагайся у меня, не сердись, я буду только к ночи. Когда б ты знал, что тут делается…
Он повел Можайского к себе и, пока тот умывался, приказал денщику приготовить постель. Он ушел лишь тогда, когда убедился, что его друг заснул крепким сном.
…Можайский проснулся от птичьего свиста и гомона. Жаркое солнце освещало всю комнату под крышей. Уставившись в дубовые балки над головой, он не сразу понял, где находится. Когда же поднял голову от подушки, то увидел согнутую над столом фигуру Данилевского.
— Тезка, — с удивлением сказал Можайский, — неужели ты не ложился?
— Мы все так… Нынче была неспокойная ночь. Но, благодарение всевышнему, все завершилось благополучным концом. Могу тебя поздравить с хорошей новостью: с нынешнего дня Австрия — наш союзник против Бонапарта.
Можайского поразила эта весть. Неужели австрийцы решились выступить против Наполеона? Император Франц отдал свою дочь за Наполеона. Австрийская империя, оплот католичества и знати, сдружилась с наполеоновской Францией, чтобы сохранить свое существование. Теперь Австрия вступает в коалицию против Наполеона, император Франц поднимает меч против своего зятя… Тут он вспомнил встреченную им у Петерсвальда придворную карету с опущенными шторами. Кто был в ней? Уж не сам ли Меттерних?
— В строжайшей тайне император Александр вел переговоры с Меттернихом. Теперь можно понять многое, что казалось странным и непонятным. Помнишь, роптали в армии: для чего государь приказал Витгенштейну (тогда он был главнокомандующим) отойти так далеко к Швейдницу? Тут цель была иная — стать поближе к границам Австрии, уже тогда видели в австрийцах будущих союзников. Недаром император ездил в Богемию, в Опочн. Там втайне решилось все. Вчерашний день Россия, Пруссия и Австрия подписали секретную конвенцию, и теперь у коалиции перевес в численности войск…
— А ведь совсем недавно даже Англия склонялась к миру с Наполеоном, шел слух о том, что австрийская миссия в Лондоне хлопотала о мире с Наполеоном, — и как все повернулось…
— Кто ж остался у Наполеона в союзниках: саксонский король да баварский…
— У него — Франция.
— Франция устала и жаждет мира.
Так беседовали они, пока Можайский одевался.
Они уже говорили о будущем мире, хотя до мира было еще очень далеко. Данилевский вспомнил о том, как опасался покойный фельдмаршал, что наследство Наполеона достанется Англии — державе, которая уже главенствует на морях, и тогда преобладание ее станет невыносимо.
— Семен Романович Воронцов считал фельдмаршала не только великим стратегом, он уважал его как великого дипломата, восхищен был тем, как удалось фельдмаршалу прекратить войну с Турцией в то время, когда Россия ожидала нашествия Наполеона.
Данилевский отложил бумаги и, вздыхая, сказал:
— Великий человек всегда велик — и в горе и в радости. Видел я, как дрожали руки Михаила Илларионовича, когда читал он строгий выговор императора за то, что осмелился принять посланца Бонапарта — Лористона. Между тем и в разговоре с Лористоном фельдмаршал показал себя тонким дипломатом. Лористон уехал от фельдмаршала смущенный и обеспокоенный, уверенный в том, что мы много сильнее, чем были тогда. Прав был фельдмаршал, когда порой посмеивался над званием своим, над почестями, его окружавшими. Почести все же были — видимое, а невидимое — наглые насмешки сэра Роберта Вильсона. Ветрогоны, картежники, собутыльники британского комиссара распускали слухи, будто фельдмаршал совсем одряхлел, почти что не в своем уме; однажды, подписывая приказ, сделал ошибку в подписи, приказал переписать приказ и вновь дать на подпись: «Бог знает, что обо мне подумают, когда увидят ошибку в подписи моей, скажут — из ума выжил…»
Данилевский умолк. Перед глазами у него встал скромный домик в Калаше, где он в последний раз видел Кутузова, и радость Кутузова, прочитавшего в письме о забавах любимой внучки…
— День-то какой! — сказал Данилевский, поглядев в окно. — Все цветет, все радуется жизни. Ласточки выводят птенцов и щебечут под крышей. Нет им дела до нас… Помнишь Державина:
О домовитая ласточка! О милосизая птичка! Грудь краснобела, касаточка, Летняя гостья, певичка!И в это мгновение он походил на прежнего Сашу Данилевского, беззаботного студента.
13
В то утро император Александр испытал радостное чувство удовлетворения. Правда, это было ненадолго. Он был честолюбцем, и честолюбие его возрастало по мере того, как он достигал успехов. Теперь он не сомневался в том, что Наполеон обречен на гибель, — коалиция сильна, против Бонапарта вся Европа, и душа коалиции — он, Александр.
Не стало Кутузова, никто не дерзнет оспаривать лавров в войне, которую ведет император. Барклай де Толли, новый главнокомандующий, не вызывал в нем ни злых, ни добрых чувств. В одном был уверен Александр — Барклай ни в чем не осмелится ему перечить.
Александр был доволен собой. Не напрасно он ездил в Опочн, в Богемские горы, для свидания с сестрой, Екатериной Павловной. Она была ему верной помощницей.
После себя, Александр Павлович считал сестру самой умной в семье.
Ее ненавидели и боялись и втайне называли «une canaille fieffé» — отъявленной канальей. Она умела представиться легкомысленной, но на самом деле была хитра, ловка, подозрительна и очень честолюбива. Ее почитал Карамзин, называл «тверской полубогиней» (по месту ее резиденции, городу Твери). Среди пустой светской болтовни она могла затеять серьезный разговор о поэзии, философии и политике. Фальшивый, «как морская пена», Александр не лгал только ей. Она была для него единственным советчиком и очень ловко воспользовалась родственными связями с австрийским двором. После долгих бесед с Екатериной Павловной Александр уверился, что Австрия будет его союзником.
Одной из причин, по которой Австрия и в этот раз избегала войны с Россией, было сочувствие славянских племен, живущих в австрийских владениях, русским.
Сейчас, когда дело завершилось к общему удовольствию, Александру нравилось показывать себя скромным и почтительным к своим союзникам, — царь салютовал, проходя на парадах впереди прусского полка, которого был шефом, прусскому королю Фридриху-Вильгельму, льстил спесивому императору Францу, любил показываться рядом с ними. Он знал, что сравнение в его пользу. Он был статен, прекрасно сидел на коне и всегда выглядел наряднее государей-союзников.
Теперь Александр уже без особого интереса прочитал расшифрованные депеши Воронцова из Лондона. Он не любил советов и считал себя умнее всех канцлеров. Ему достаточно одного Нессельроде, о Румянцеве же не стоит и вспоминать: стар и немощен. В словах о том, что Нессельроде был несдержан в своих беседах с Меттернихом в 1811 году, он увидел намек на то, что его статс-секретарь не достоин доверия, — Австрия была в союзе с Наполеоном, пуститься в откровенный разговор с Меттернихом накануне войны с Наполеоном — это можно счесть изменой. Возможно, так же как Меттерних, Нессельроде верил в то, что Наполеон еще до зимы возьмет Петербург и Москву и уничтожит русскую армию. Семену Романовичу Воронцову, при его проницательности, связях и богатстве, удалось узнать нечто бросающее тень на Нессельроде, которого он считал проходимцем и презирал. Но Нессельроде знал о любопытстве, которое проявлял к его особе Воронцов, и потому принял некоторые меры.
Он стоял перед Александром Павловичем, чуть согнувшись, как бы не смея поднять на божество своих миндалевидных глаз, и тревожно прислушивался к меланхолическому, хорошо знакомому посвистыванию.
Он попросил позволения говорить. По-прежнему посвистывая и поглядывая в окошко, Александр слегка кивнул.
— Государь, — тихим голоском начал Карл Васильевич, — соизволением вашим и мудростью вашей дело повернулось в хорошую сторону. Счастье сопутствует вашему величеству в делах политических, так же как на поле брани.
Александр, по-прежнему посвистывая, смотрел в окно.
— Ты был в большой тревоге, — наконец сказал он, — но верил в счастливый исход, и потомство оценит твои труды…
Нессельроде предпочел, чтобы эти труды оценил Александр, но царь сделал вид, что не понимает его тайных желаний. Ему нравилось поражать людей неожиданными милостями.
— Я уже счастлив тем, что сопутствую вашему величеству и исполняю вашу волю, но в этом есть и своя доля горечи…
Александр перестал свистеть и с любопытством посмотрел на Нессельроде.
— Слишком много зависти возбуждает человек, которого вы осчастливили, сделав своим статс-секретарем. Слишком много клеветы расточают мои враги… Древность рода, заслуги предков дают им право пренебрегать такими людьми, как ваш верный слуга. Но разве нас не возвеличивает доверие монарха? Разве это не выше древних хартий и привилегий знатнейшего рода?
Мысль понравилась Александру. Он протянул руку Нессельроде, и тот припал к ней губами, затем вытер платком глаза и опустился на одно колено: Александр наклонился и попробовал поднять Карла Васильевича, но оставил это… Пришлось бы слишком низко нагнуться: Нессельроде едва доходил ему до плеча.
Эта сцена казалась немного смешной, и, чтобы кончить ее, он сказал:
— Встаньте, граф. Состоя при мне недолгое время, вы, однако, могли убедиться в том, что я сам составляю свое мнение о людях и не следую советам, от кого бы они ни исходили. Все кончилось благополучно, дипломаты уступят место военным. С сегодняшнего дня мы с главнокомандующим и князем Шварценбергом, генералами Блюхером и Кнезебеком приступим к плану кампании. На вас одного я возложу иностранные дела и сношения в эти трудные для Европы дни.
Когда Нессельроде ушел, Александр взял лежавшие на столе бумаги. Немного подумав, поднес их к свече. Он подождал, пока бумага загорелась, потом бросил в камин и долго смотрел, как превращалось в пепел письмо Воронцова.
Нессельроде вышел из дверей кабинета, как всегда гордо закинув голову. Странно было видеть, как перед этим карликом склонялись великаны — придворные лакеи.
Никакой перемены нельзя было заметить в лице Карла Васильевича, — та же смесь рассеянности с высокомерием, — но все же он был встревожен. Он знал, что ласковость Александра бывает обманчивой. Обласкал же император Сперанского в тот самый день, когда министру полиции был уже отдан приказ об обыске в доме Сперанского, когда уже были решены арест и ссылка.
В ту минуту, когда Нессельроде вышел из кабинета, Можайский стоял неподалеку от дверей и ждал, что его позовут к императору. Он видел, как неслышными, торопливыми шажками прошел Нессельроде, как снова открылась дверь, и все, кто был в зале, повернули головы в сторону дверей. Флигель-адъютант кивнул Можайскому и, войдя первым в кабинет, пропустил его.
До этого Можайский видел Александра два раза.
Однажды в Петербурге, на Каменном острове, он видел царя на прогулке. Был сырой, туманный, осенний день. Царь в одном сюртуке стоял под деревом и глядел на желтые, осыпающиеся листья. Его лицо показалось Можайскому очень свежим и молодым, но вместе с тем кукольным, как бы фарфоровым. Теперь он сразу заметил перемену во внешности Александра. Не мечтательность, а угрюмость появилась во взгляде, тонкие губы были сжаты в ниточку, и только белокурые волосы, тщательно причесанные, как у римских цезарей на камеях, напоминали ему молодого царя, семь лет назад.
В другой раз он видел царя мельком в Вильно. В Виленском соборе был назначен благодарственный молебен по случаю победы над Наполеоном. Ранним утром, проходя мимо собора, Можайский увидел Александра. Александр вышел из собора, сел в карету и уехал, не взглянув на вытянувшегося перед ним офицера. Знакомый флигель-адъютант сказал Можайскому, что в соборе с раннего утра была репетиция богослужения. Царь, точно актер в театре, репетировал, где ему должно стать, как подходить к кресту. И Можайский удивился тому, как можно было тратить время на репетицию богослужения, когда решалось важнейшее для государства дело — поход русской армии за границу.
Александр был в темно-зеленом, почти черном, кавалергардском мундире с голубой лентой Андрея Первозванного. Медленно повернувшись на каблуках, он оглядел Можайского с головы до ног. Все ему показалось безукоризненным в молодом офицере, кроме взгляда, который он почел слишком смелым.
— Мне сказывали, что поездка твоя не лишена была дорожных приключений, — наклоняя чуть вправо голову, сказал Александр Павлович. — Ты в добром здравии?
От Данилевского Можайский знал, что царь глуховат на правое ухо. Это случилось с ним еще в детстве, когда бабушка, Екатерина, приказала стрелять из пушек, чтобы приучить внука к пушечному грому. Данилевский предупредил Можайского: отвечать надо громко, но не показывать виду, что знаешь о глухоте. А для того лучше становиться с левой стороны.
— Так точно, государь. Однако, ежели бы не подполковник Фигнер, навряд ли остался бы жив.
При имени Фигнера Александр выразил некоторое удивление, потом поднял брови вверх и сощурился, точно припоминая: кто бы это был? И опять стал глядеть на Можайского.
Оба они отражались в большом, до пола, зеркале, и Александр оглядел себя, мысленно сравнив свою немного отяжелевшую фигуру с сухой и стройной фигурой молодого офицера. Сравнение было не в пользу императора, и он нахмурился. Он уставился на Можайского выпуклыми голубыми глазами, точно спрашивая: «Что же тебе надобно?»
— Да, вот что, — сказал он, переходя на французский язык, — вы ведь сын полковника Платона Михайловича Можайского, что умер от ран после Аустерлица. Вы жили подолгу в Париже и Лондоне. Мне такие офицеры нужны, особенно сейчас, когда связи наши с союзниками будут все более укрепляться, — извольте же послужить при моем штабе. Не все же странствовать по большим дорогам, — он улыбнулся той «улыбкой глаз», которая сделала ему славу обольстительного собеседника, — я думаю, мы оба будем друг другом довольны.
На этом кончилась аудиенция. Можайский был немного удивлен: не было ни слова сказано о привезенных им депешах. Он приметил горящую свечу на столе и невольно взглянул на пепел жженой бумаги в камине. Может быть, в этом язычке пламени сгорело письмо Воронцова? Ему стало жаль напрасных трудов старика.
Двери кабинета закрылись за Можайским. Он быстрыми шагами пересек зал, не замечая того внимания, которое ему оказывали толпившиеся по углам придворные. Короткий разговор с царем показался им необычайно продолжительным для офицера в невысоких чинах. Это означало, что судьба офицера может счастливо сложиться.
Однако судьба Можайского сложилась иначе.
14
Редко кто мог похвастать, что видел Диму Слепцова в унынии, в грусти, в тяжелом раздумье. Разве только его слуга Григорий Кокин, который был при нем с юношеских лет. Но и Кокин, когда ему случалось видеть ротмистра в унынии, приходил в смущение.
Эскадрону Слепцова было приказано сопровождать придворную карету с неизвестным важным лицом до богемской границы. Лицо было очень важное, и проводить его вышел сам царь. Дима Слепцов лихо отсалютовал саблей. Александр, скользнув взглядом по офицеру и гусарам, с неудовольствием сказал Волконскому: «Откуда взяли этих янычар?»
«Янычары» были старослуживые гусары, почти все с георгиевскими крестами, прошедшие весь тяжкий и кровавый путь от Тарутина до Бауцена. Если не считать того, что султаны на киверах были недостаточно прямы и кони отощали немного, эскадрон выглядел отлично. Кони отощали оттого, что не хватало фуража, у союзников же, у немцев, без брани сена не выпросишь.
Александр сначала приказал посадить командира Ахтырского полка под арест, но за командира вступился Дохтуров, и дело кончилось выговором.
От такой обиды Дима Слепцов загрустил. Друзьям-приятелям было приказано говорить, что он уехал в главную квартиру, на самом же деле Дима Слепцов целыми днями лежал в палатке, с трубкой в зубах, вне себя от обиды и злости. Часто приходили ему на ум слова Ермолова: «Разве русские служат государю, а не отечеству?» Он был глубоко обижен за своих гусар, за ахтырцев, за полк, у которого была славная и не совсем обычная история.
То был полк из тех славных, постоянного войска «слободских» полков, которые сторожили Украину от набегов крымского хана. Ахтырка, Сумы, Изюм, — так назывались слободы, и от них пошли слободские полки — Ахтырский, Сумской, Изюмский. Другие были тогда времена — времена казачьих вольностей и привилегий. Полковник избирался старшинами, офицеры назывались сотниками, сотенными атаманами, есаулами, хорунжими. Войско состояло из поселенцев-землепашцев, офицер ничем не отличался от простого казака: оба они были земледельцами. При Петре было отменено избрание полковников, украинским дивизионным генералом назначили Петра Апраксина, ему было поручено командование слободскими рейтарскими полками. При Елизавете Петровне слободские полки стали набирать из русских и украинских поселенцев и дали им мундиры, отменив казачью одежду. А при Екатерине II полки стали называться гусарскими. Так родились Ахтырский, Сумской, Изюмский гусарские полки. Ахтырцев любили Кутузов и Багратион, ахтырцем был партизан, герой и поэт Денис Давыдов…
Теплый летний дождь стучал по полотнищу палатки. Пахло прибитой дождем дорожной пылью. Горнист отыграл зорю. Никогда в такой день Дима Слепцов не стал бы лежать один в палатке. Раз-другой он услышал голос приятеля, спрашивающего его, и ответ Григория Кокина:
— Уехали в главную квартиру.
«Ну и ладно, — раздумывал Слепцов, — пусть так, винюсь, не знал, что эскорт назначен австрийцу, а им надо товар лицом показать, особливо сейчас… Так отчитай, устыди, а для чего оскорблять весь славный полк… Вот под Тарутиным, когда отбили обоз Мюрата, Лешке Добрынину достался шитый золотом кафтан самого Мюрата. Он и выкинул штуку, напялил на себя кафтан и пошел куролесить по лагерю…».
Слепцов уже размышлял вслух и жаловался единственному своему слушателю, Кокину:
— Как раз это после боя у Тарутина было…
— В октябре месяце?
— В октябре месяце. Идет Лешка Добрынин по лагерю в кафтане Мюрата, вином от него разит, стоять рядом нельзя. Кругом все хохочут, офицеры и генералы — Коновницын с Кайсаровым — животы надорвали. Вдруг, откуда ни возьмись, в дрожках, сам фельдмаршал. И что он сделал с Лешкой Добрыниным? Покачал головой и только сказал: «Стыдно, господин офицер, не подобает, не прилично русскому офицеру наряжаться шутом… А вам, господа, над этим потешаться, когда враг у нас сидит в матушке-Москве и полчища его топчут нашу землю. Так и передайте всем своим, товарищи мои, что старику Кутузову в первый раз пришлось покраснеть за своих боевых товарищей»… А Добрынину что он сказал: «Поди, голубчик, к себе и сними это дурацкое платье…» Только и всего. Добрынин стоял, окаменев, как будто и капли в рот не брал, чуть со стыда не сгорел… Да, то был человек, фельдмаршал…
Кокин сидел на бурке, чинил сбрую и напевал под нос:
Разорил нашу сторонку Злодей барин, господин…— Это что за песня? — зевая, спросил Слепцов.
— Это хорошая песня, — степенно ответил Кокин.
Разорил нашу сторонку Злодей барин, господин, Как повыбрал он, злодей, Молодых наших ребят, Молодых наших ребят Во солдатушки…— Ну тебя с такой песней! — сердито сказал Слепцов. — Только и знаете, что господ срамить! Расскажи лучше сказку, что ли…
Кокин перевернул седло, откинул его в сторону и щелкнул языком.
— Что ж… Можно и сказку… — Он задумался, почесал переносицу. — Про то, как солдат чёрта обманул…
— Ладно, рассказывай… — Слепцов лег на живот и закрыл глаза, слушая сиповатый голос Кокина.
— В каком полку, не знаю, — только не в гвардии, не в гусарском, не в уланском, не в егерях, не в гренадерах, не в карабинерах, не в мушкетерах, не в пехоте, не в кавалерии, не в антиллерии, — служил солдат Яшка, мундир зеленый, желтый ворог, сам порот-перепорот, служил двадцать годов, потерял двадцать зубов, а на двадцать первом году сказал: «Больше не могу». Так-то… Взмолился солдат богу: «Господи, что за судьба такая! Всегда мучают и бьют, спокоя не дают, добра не жди, жди напасти, как бы мне не пропасти…» Не скучно, Дмитрий Петрович?
— Ничего, не скучно, рассказывай!
— Не дошла до бога солдатская молитва, и взмолился солдат: «Батюшка, чёртушка, смилуйся, заступись! Одолели напасти, как бы мне не пропасти…» А чёрт тут как тут: «Здорово, солдат! Звал меня, вот он я… Помочь помогу, отслужу за тебя срок, только уговор — отдай мне твою душу, солдат, на что тебе она? А я-то тебе помогу, сниму с тебя амуницию, тесак да ранец, будешь вольный человек…» Подумал солдат, затылок почесал, жалко душу губить, однако рассудил: душа божья, а спина-то своя, спину жалко, — и говорит солдат: «Ладно, бери мою душу, надевай ранец да тесак и всю амуницию, отслужи за меня срок». Так-то. Не скучно?
— Рассказывай! Дальше что?
— А было это при государе Павле Петровиче, кажись… Вот чёрт в казарме лежит, первый сон видит, а унтер его в ухо: «Вставай, мол, пять часов». Встал чёрт, а тут цырюльник: «Постричь, говорит, ему вихор, натереть перед мелко истолченным мелом, сделать сухую проделку, смочить, засушить!» Посадили чёрта на табурет, покрыли рогожей, чтоб мундир не пачкать, попрыскал один цырюльник артельным квасом, а другой стал муку сыпать, густо-густо, и железным гребнем чесать. Так-то… Вот на голове у чёрта стала клейстер-кора вроде. А тут привязали ему сзади железный прут для косы в восемь вершков, привязали косу да надели пукли войлочные на уши, и оглох чёрт. Так и сидел, пока не стала кора на голове, как камень. Ну вот, служит чёрт день, служит другой, отведал солдатской каши березовой, погоняли по плацу до обеда — недосчитался одного зуба, погоняли с обеда до ужина — недосчитался другого зуба, вывели в экзерциргауз — получил сто палок, вывели в другой — получил двести. Попробовал чёрт солдатской жизни и взмолился: «Солдат! А солдат! Бери свою амуницию, тесак да ранец, не нужна мне твоя душа, не хочу за тебя срок служить, нет хуже такой службы…» А солдат ему в ответ: «Нет, коли взялся, служи до конца срока, а я уж свое отгуляю…» Вот как солдат чёрта обманул.
В палатке было тихо. Кокину показалось, что ротмистр уснул, но он лежал, открыв глаза. От этой сказки стало тяжело на душе, хотя ахтырцы хвалились, что у них в полку не бьют солдат. Он вдруг вскочил на ноги и крикнул:
— Зови всех! Беги к маркитанту, возьми в долг вина! Еще удавишься с такой жизни, дьяволы!
Ночью в палатке Димы Слепцова шел пир горой. Была игра и дерзкие речи. Далеко слышался хриплый бас Завадовского. Опять спорили между собой братья Зарины, известные тем, что дня не могли прожить мирно. Туманов бранил «Русский инвалид» — газету, которая недавно стала выходить в Петербурге:
— Прямой инвалид, да к тому же не русский!
Редактором газеты был немец со странной фамилией Пезаровиус, в прежнее время он давал девицам уроки игры на клавикордах.
— Ну и пусть бы учил девиц музыке, а то затеял печатать «Инвалид». У другого инвалида рук-ног нету, а у этого головы не хватает, — сказал Туманов.
Из всех закадычных приятелей-однополчан Слепцов выделял Туманова не потому, что тот был сорви-голова, удалец и собутыльник, а потому, что Туманов на все имел собственное мнение, был отважен в бою и скромен в застольной беседе. Туманов не скрывал того, что вышел из людей простого звания. Его отец был русским поселенцем-землепашцем, командовал сотней в слободском казачьем полку, и когда при Екатерине слободской полк стал Ахтырским гусарским, Антон Иванович Туманов стал гусарским ротмистром. Сын его, Егор Антонович, тоже был офицером Ахтырского полка, и удальцы-фанфароны, вроде Завадовского, с легким пренебрежением поглядывали на гусарского штаб-ротмистра, отец которого еще ходил за сохой. Но храбрость, природный ум Егора Туманова, независимые его суждения вызывали невольно чувство уважения к этому офицеру. К тому же он был георгиевским кавалером.
Старший Зарин метал банк, понтировали два офицера третьего эскадрона и младший Зарин. Слепцов и Завадовский говорили о первом эскадроне. Совсем недавно, за смертью от ран ротмистра Ртищева, его принял Завадовский. Он не мог нахвалиться своим первым эскадроном, но тут Туманов сказал негромко, однако так, чтобы все слышали:
— А рукам воли все же давать не следует. И вахмистра за усы у нас в полку не положено хватать… Может быть, у гвардейских гусар так водится, а у нас, ахтырцев, этого в заводе нет. (Всем было известно, что Завадовский за провинность был переведен к ахтырцам из лейб-гвардии гусарского полка.)
Завадовский стоял, вытянувшись во весь рост, касаясь головой полотнища палатки. Лицо его исказилось недоброй усмешкой:
— Я уж позабыл, когда в юнкерах служил, и непрошенных учителей прошу себя не утруждать.
Туманов положил «Русский инвалид» и нехотя ответил:
— Не знаю, пожалуй, не мне вас учить… Однако даже Суворов в «Полковом учреждении» своем собственноручно писал: «…ясное и краткое истолкование погрешности более тронет честолюбивого солдата, нежели жестокость, приводящая в отчаянье…» Сказал я то, что думал. Другие то же думают о вашем поступке, но не говорят. И ежели вы сочли мои слова за обиду, я готов…
Туманов, не торопясь, поднялся с коврика.
— Однако мы в походе.
— Что ж, жив буду — ваш слуга.
Коренастый, маленький Туманов стоял против Завадовского и глядел на него холодно и строго. Он только что вернулся с рекогносцировки. Потемневшее шитье его венгерки, потускневший от дождей и непогоды белый крестик в петлице, выпачканные в глине рейтузы — все было разительной противоположностью с щегольским ментиком, красиво облегавшими ноги чекчирамя и всем видом одетого, как на бал, Завадовского.
— Граф, — сердитым басом вдруг заговорил Слепцов, — ежели на то пошло, Туманов сказал правду. Бывает, дашь волю рукам в бою, в запале. А перед строем, ветерана — этого в нашем полку не водится. В каждом полку свой обычай.
Все притихли. Оба Зарина и офицеры третьего эскадрона бросили карты и уставились на Завадовского.
— Вахмистр Глушенко со мной под Малоярославцем был, не будь его рядом — разрубил бы мне голову французский кирасир… А вы его за усы.
— Ну что ж… — скрипнув зубами, сказал Завадовский, — переучиваться мне поздно.
И он вышел из палатки, захватив плащ и шапку.
Все молчали. Туманов сел на коврик и сказал как бы про себя:
— Когда нечисть в полку заведется, ее надо с корнем вон. А то какой пример молодым офицерам! Полк — одна семья. Мы, ахтырцы, хвалились: у нас в полку гатчинского духу нет. А ежели заведется, то как гатчинцы возрадуются. Скажут: вот, мол, мы говорили, с солдатом иначе нельзя… А с каким лицом будем мы глядеть в глаза гусарам?
У всех было тяжело на душе. Завадовский был храбрый офицер, но после этого разговора каждый думал о том, что он не пришелся ко двору. Чтобы забыть о том, что случилось, Зарины заговорили о другом. Кто-то сказал, что Можайского причислили к штабу его величества и что его видели в Петерсвальде.
— Шутишь? — изумился Слепцов. — Саша Можайский?
— Будет флигель-адъютантом, посмотришь, будет!
Дима Слепцов с досадой бросил карты и встал. Карты были плохие и вести ничуть не лучше. «Хоть бы скорее в поход, — подумал он, — уж ежели Можайский пошел в штабные лакеи, значит, не осталось честных людей на земле». Он потянулся за кивером, взял саблю и вышел из палатки. Никто даже не оглянулся на него.
Было уже за полночь, несло дымком сторожевых костров. Слепцов медленно шел по линейке, поглядывая по сторонам. Гусары спали, только изредка, вспыхивали огоньки глиняных трубочек. Все вокруг было, как на бивуаках на родине, хотя они находились у Бреславля.
Слепцову вдруг послышалось гнусавое бормотание. Он прислушался. Читали псалтырь по покойнику. Он пошел в темноту, на голос, и увидел мигающий в темноте желтый огонек восковой овечки.
Покойник в солдатском мундире лежал головой к востоку, в застывших руках догорала свеча. Над ним сидел вахмистр и, положив книгу на барабан, запинаясь, читал молитвы.
Слепцов подошел поближе и перекрестился.
— Кто? — беззвучно спросил он у вахмистра.
— Лутовинов Кузьма, второго эскадрона.
Лутовинов был старый солдат, в этом году ему выходил срок службы — двадцать пять лет.
«Спросить бы у лекаря, отчего помер, — подумал Слепцов. — А впрочем, что они знают, лекаря?»
Он вздохнул и пошел в сторону своей палатки. Огонек восковой свечки скоро пропал в темноте.
15
Тяжелая, запряженная четверкой карета медленно двигалась по дороге в Данциг. Барон Гейсмар все еще не мог забыть приключение в Виттенберге. Исчезновение курьера было неприятным и неожиданным. Все как будто складывалось хорошо, полковник Флоран согласился послать своих людей и устроить засаду. Курьером занялись бы люди Гейсмара, почта попала бы в руки барона. То ли еще он проделывал в прежние годы!
Полковник Флоран отнесся к исчезновению курьера равнодушно. Как бы там ни было, хоть он и считал курьера предателем, эмигрантом, но ему, солдату и рубаке, не понравилось задуманное Гейсмаром дело, он предпочел бы честный поединок.
Полковник сердечно распрощался с простодушным миланцем:
— Если вам удастся добраться до Данцига, разыщите там полковника Моле… Мы старые друзья, скажите — я его помню и, что бы ни случилось, не забуду дела в Монтесерате.
Гейсмар из вежливости предложил итальянцу место в карете, но тот, тронутый заботливостью барона, горячо благодарил, — ему казалось, что он скорее доберется до Данцига на своем крепком коньке, чем в карете, которую с трудом тащили изнуренные лошади.
Этот разговор происходил в ту самую ночь, когда полковник Флоран, барон Гейсмар и синьор Малагамба сидели за столом и втроем справились чуть не с целым окороком, запеченным в тесте, выпив половину бочонка вина из погреба фрау Венцель.
А утром ни курьера, ни его провожатых не стало, и вся хитроумная затея — заманить курьера в лесную чащу — провалилась самым неожиданным образом.
И этой неудачи не мог простить себе Гейсмар.
Если бы у него в руках была почтовая сумка русского курьера — пожалуй, французы простили бы ему неприятности, которые он им в свое время причинил.
Путешествие в Данциг казалось бесконечным. Гейсмар выходил из себя при мысли о том, что перемирие подходит к концу. Ему чудилось, что герцог Вюртембергский смещен, точно так, как был смещен Витгенштейн, и что последняя надежда — поправить дела у русских — рухнула.
Когда осталось не более сотни верст до конца пути, он пришел в ярость, приказал отобрать двух лучших верховых коней у слуг, которые сопровождали его, и, взяв с собой камердинера Вальтера, уехал вперед. Он повеселел немного в первый же день, когда они сделали около сорока верст. Во второй день они проехали тридцать верст, до Данцига осталось совсем немного, карета, вероятно, все еще тащилась где-то далеко позади.
Корчма Липцы близ Данцига была, по его расчету, последним привалом. Приятно думать, что не позже как завтра он будет под стенами Данцига.
Корчма стояла у самой дороги, такой грязной корчмы Гейсмар, кажется, не встречал за всю свою жизнь. Здесь чувствовалась война. На дубовых лавках вдоль стен спали офицеры, ехавшие в армию, осаждавшую Данциг. По двору слонялись солдаты-фуражиры, на дороге грохотали колеса санитарных фур. Корчмарь, тощий, заморенный, испуганный насмерть, не мог найти для «его превосходительства» чистого угла и только тяжело вздыхал, выслушивая брань Гейсмара.
Дремавший в углу на дубовой лавке офицер, подняв голову, с любопытством осмотрел Гейсмара с головы до ног и спросил:
— Куда изволите ехать?
В тоне его голоса было не простое любопытство.
— Вот, изволите видеть, еду с поручением к его светлости, и нет чистого угла, где бы можно вздремнуть до рассвета.
— Не угодно ли расположиться на моем месте? Я здесь на дежурстве, устроился по-домашнему… Извольте, мне ночь не спать…
Гейсмар поблагодарил. Ничего другого не оставалось делать. Он терпеливо ждал, пока офицер натягивал сапоги, пока расчесывал рыжий хохол и бачки. Тем временем Вальтер принес кожаную подушку и попону. Брезгливо оттопырив губу, Гейсмар устроился на дубовой скамье, ожидая, пока корчмарь зажарит ему яичницу. Густой храп раздавался из всех углов, пахло мокрой кожей и сукном, перегаром, табаком.
— Не угодно ли разделить со мной сей скудный ужин? — сказал Гейсмар офицеру. — Во фляжке у меня добрая настойка…
Офицер в чине капитана поблагодарил и присел к столу. Он отлежал бока и растирал их, морщась и покряхтывая.
— Пойду поглядеть моих людей… Да успеется, пожалуй… Проклятое место, я не видел еще хуже корчмы! Что поделаешь, война, служба.
Гейсмар расспрашивал о новостях. Особых новостей не было, кроме того, что пришел восьмидесятипушечный английский фрегат, стал на якорь и изредка стрелял по осажденному городу.
— Как же так? А перемирие?..
— Так ведь и французы стреляют… Нынче, говорят, пошлют парламентера, чтобы договориться. А то друг на друга валят, и что ни день — пальба… Как же это мои люди вас проглядели?
— А что? — спросил Гейсмар, брезгливо, разглядывая яичницу.
— Так ведь застава… О каждом проезжающем положено докладывать… А нынче есть особый строжайший приказ.
— Это почему же так? — полюбопытствовал Гейсмар. — Да вы не отказывайтесь, капитан… Пригубите, — он всегда с особым щегольством выговаривал чисто русские слова, когда ему приходилось говорить по-русски. — Это почему же такие строгости?
— Приказ по военной полиции… Вот, кстати, вы изволили ехать по тракту, так не попадалась ли вам в пути карета?.. Вы изволите верхом ехать, судя по всему!
— Натурально, верхом. Вы о какой карете спрашиваете?
— Карета запряжена четверкой. На дверцах баронский герб. Челяди человек восемь.
Что-то ёкнуло в груди Гейсмара.
— Не припомню. Мало ли кого обгонишь в пути. А по какой причине… — он не договорил, опасаясь выдать волнение.
— Изволите видеть, — покряхтывая, сказал офицер, — изволите видеть, есть приказ, в карете едет некая особа, там в бумаге указана фамилия, барон фон Гейсмар…
— И вы ожидаете эту особу? — стараясь сохранить спокойствие, сказал Гейсмар. — Для какой же надобности, любопытно узнать?
— Есть приказ, — равнодушно сказал капитан, — приказано не допускать барона Гейсмара в армию, взять под стражу, выслать с жандармами в Россию и сдать в Петербурге, под расписку коменданту Петропавловской крепости.
— Стало быть, он просто злодей, — спокойно сказал Гейсмар, — туда ему и дорога.
— А все же одно беспокойство. Четвертые сутки на дежурстве.
Поговорив еще немного об осаде, о вылазках французов, о том, что под стенами крепости стало тише, с тех пор как в дозоре платовские казаки, капитан пожелал доброй ночи.
Гейсмар встал, накинул на себя короткий плащ и вышел, как бы за нуждой. Он прошел прямо в конюшню, растолкал Вальтера и тотчас приказал подтянуть подпруги у седел. Не прошло и пяти минут, как они, разобрав ветхий забор, пробирались в лесную чащу и дальше, лесными тропинками, на север, к морю.
Гейсмар был вне себя от бессильной злобы. Что могло случиться? Открылось ли нечто новое в его венских похождениях? По какой причине был послан приказ о его аресте, приказ самому главнокомандующему армии, осаждавшей Данциг? Петропавловская крепость!.. Он похолодел при этой мысли. Да, теперь нет выбора, придется итти к французам. Какое счастье, что он оставил карету и вздумал ехать верхом! Какое счастье, что ему попался этот болтливый, простоватый капитан! Если бы не это, — он весь покрылся холодным потом, — Петропавловская крепость… Что же могло открыться? История с нападением на курьеров в Австрии? Или другое, за что можно было Гейсмару угодить на долгие годы в крепость?
Ехали всю ночь, не жалея коней. На рассвете свежий морской ветер донес грохот отдаленной канонады.
— Данциг…
Они слезли с измученных коней, оставили их в лесу и, согнувшись, а где и ползком, стали пробираться в кустарниках в сторону Данцига. Шел дождь. Парило. В песчаных дюнах легла пелена тумана. Они ползли долго. Потянуло дымом костров. Слышались оклики часовых. Так они ползли от бугорка к бугорку, минутами неподвижно лежали в дюнах, потом снова ползли. Наконец миновали русские аванпосты. Оборванные, исколотые колючками, Гейсмар и Вальтер лежали в грязи перед траншеей. Было тихо…
Вдруг послышалась французская речь — капрал бранил солдата. Тогда Гейсмар поднялся с земли во весь рост и закричал. Его увидел часовой в синем мундире, в белых ремнях и белых гетрах.
— Qui vive?[5] — грозно окликнул его солдат.
— Les amis,[6] — ответил Гейсмар.
В то же утро Гейсмара и его камердинера доставили в Данциг.
16
Конвенция, заключенная Россией, Австрией и Пруссией 15 июня 1813 года, все еще хранилась в тайне. Перемирие в Плейсвице продлили еще на три недели, а тем временем в Трахенбергском замке обсуждали план будущей кампании. Наполеон по-прежнему находился в Дрездене и требовал от Австрии открытия военных действий против коалиции. Александр тоже негодовал на австрийцев, на их медлительность и требовал, чтобы Австрия немедленно объявила войну. Бездействие Наполеона казалось странным. Европа привыкла к стремительности его действий, теперь он почему-то медлил и согласился продлить перемирие, хотя это было выгодно его противникам.
Наполеон напрасно считал битву у Бауцена своей победой. Швейцарец Жомини, бывший под Бауценом начальником штаба у маршала Нея, рассказывал, что французская армия оказалась в полном расстройстве, после сражения части ее были перемешаны и понадобилось много времени, чтобы привести их в должный порядок.
Из России подходили резервные полки. Рекрутский набор дал десятки тысяч молодых воинов. Генерал Сухозанет и всеми ненавидимый за трусость и жестокость Аракчеев занимались артиллерией. Главнокомандующий Барклай де Толли со всей своей добросовестностью и обстоятельностью взялся за дело, армия почувствовала руку испытанного полководца. Александр Павлович тоже был доволен: Барклай был осторожен, ни в чем не перечил императору, но делал свое дело.
Правда, не стало Кутузова, не было в живых Багратиона, не было Тучковых, Кутайсова, павших на поле славы у Бородина, но живы были отважный, скромный и опытный Дохтуров, умный и храбрый Ермолов, бесстрашный Раевский, а главное — в полках еще остались солдаты-ветераны, герои Бородина, Малоярославца, Красного.
Австрийские генералы, одетые в штатское платье, с удивлением видели подходившие из России свежие, обученные полки. Боевая готовность русской армии, ее воинственный дух, стремление отомстить за развалины Москвы, за разорение русской земли — этого не могли не видеть австрийцы и решились объявить войну Наполеону.
Можайский несколько дней состоял при австрийской военной миссии, пребывание ее сохранялось в строжайшей тайне. Можайского злили надменность и высокомерие австрийцев. Он хорошо помнил, как подобострастны были австрийские генералы в Париже три года назад. Тогда они лебезили перед адъютантами маршала Бертье, а теперь задирали нос перед русскими боевыми генералами, разгромившими великую армию Наполеона.
Можайскому случилось присутствовать при переговорах австрийского главнокомандующего князя Шварценберга с Барклаем и прусским генералом Кнезебеком, он даже вел запись их беседы.
Впервые в жизни молодой офицер увидел собрание столь знаменитых русских полководцев. Видел он русского главнокомандующего Михаила Богдановича Барклая де Толли. Долго Можайский всматривался в его желтое, усталое лицо, лысый череп, обрамленный редкими седыми волосами. Барклай сидел по правую руку от императора Александра, изредка окидывая угрюмым взглядом австрийцев и пруссаков, временами опуская голову на впалую грудь. Вспоминались рассказы старших о том, как в день Бородинского сражения, одетый в шитый золотом мундир, при всех регалиях, в шляпе с черным плюмажем, Барклай «со светлым лицом» искал смерти. «Полководец должен умереть стоя». До этого дня Барклая обвиняли в трусости, даже в измене, питали к нему злобное недоверие. После Бородинского боя он возвращался шагом на своем белом коне с поля сражения, молчаливый и задумчивый. И войска, мимо которых он проезжал, приветствовали его громовым «ура». Это было воздаянием за несправедливые обвинения. Многие признавали опыт и достоинство этого полководца, одного только не хватало Барклаю — не знал он русского солдата, не знал могучих духовных сил русского воинства.
Не было здесь Беннигсена, которого некоторые считали соперником Барклая, когда гадали, кто будет главнокомандующим. А между тем. Можайского интересовал этот генерал, которого одни хвалили за решительность, опыт, приобретенный в сражениях, а другие бранили за низость характера, алчность, презрение к русскому солдату.
Можайскому хотелось взглянуть на одного из виновников цареубийства 11 марта, на того, кто проявил такую решимость, когда остальные заговорщики поколебались. Но Беннигсен был еще далеко, во главе резервной армии, которую с нетерпением ожидали союзники.
Был на совете воспетый Державиным
…Дохтуров, гроза врагов, К победе вождь надежный…Дмитрий Сергеевич Дохтуров за свою скромность, прямодушие и отзывчивость, за доброе сердце заслужил любовь всей армии. Вся армия помнила его слова, когда, стоя под смертоносным огнем, он ответил другу, умолявшему его покинуть это опасное место хотя бы ради жены его и детей: «Здесь жена моя — честь, войска же, вверенные мне, — мои дети».
Под Бородином он принял на себя командование левым крылом, когда смертельно ранили Багратиона; здесь же — первый на поле сражения — он смущался в толпе русских и австрийских придворных.
Наружность его никак не показывала в нем героя и полководца. Небольшого роста, плотного сложения, пожилой, с грубоватыми чертами лица, низко остриженный, с жестким хохолком и неровно подстриженными бачками. Он был невозмутим на совете так же, как невозмутим на поле боя, когда, сидя на барабане, писал приказы, не обращая ни малейшего внимания на сыпавшиеся градом пули и катящиеся ядра.
Видел Можайский и Михаила Андреевича Милорадовича, живого и шумного в торжественной тишине совета, прерываемой негромкими речами-славословиями, восхваляющими военные доблести прусских и австрийских союзников. Милорадович был в обиде, — глуповатый, но храбрый, как лев, он был оставлен в арьергарде под Бауценом и не мог этого забыть. Можайский слышал, как Ермолов и злой на язык насмешник Раевский, поминали ему какую-то мадам Филипеско из Бухареста. Потешались над тем, как русский Самсон — Милорадович — четыре года назад был острижен валашской Далилой, как задолжал из-за нее в Бухаресте более тридцати пяти тысяч рублей, бесновался, безумствовал, запустил все дела и нежился в Бухаресте, пока его не выручил из любовных сетей тогда еще живой Багратион.
Был на совете и граф Витгенштейн. Недавний главнокомандующий, окруженный толпой льстецов и приятелей, теперь он сидел одинокий и смущенный.
Но более других привлекал внимание Можайского генерал в черном артиллерийском мундире, без орденов. Это был высокий, худощавый, жилистый человек. Голова его на длинной, тонкой шее склонялась набок; большой рот, широкий нос башмаком, раздутые, с синими жилками ноздри. Серые, глубоко запавшие глаза отражали злость и лукавство.
Можайский долго глядел в изумлении на землистого цвета лицо, и странным казалось, что иные заслуженные генералы искательно глядели, ожидая хоть слова из этих, точно каменных, губ. Это был Аракчеев, «Сила Андреевич» — как его прозвали, «истинно русский дворянин», — как он сам называл себя перед императором Александром. Даже Барклай, казалось, равнодушный к славе и почестям, испытавший несправедливость судьбы и унижение, и тот прибегал к Аракчееву, когда нуждался в денежной помощи и не решался просить ее у Александра.
Участвуя в спорах на военных советах, Аракчеев проявлял редкую изворотливость, удивляя даже недругов силой доводов и в то же время низостью и лукавством.
Офицеры, состоявшие при Аракчееве, рассказывали, с каким искусством он пользовался честолюбием людей, дурными их склонностями и употреблял эти склонности себе на пользу. Его правилом было много обещать, чтобы побудить подчиненного к деятельности, и не спешить с исполнением обещания, чтобы не охладить рвения.
Ермолов приметил Можайского и, когда тот развешивал на стене карты, шепнул ему:
— Рад за тебя. Далеко пойдешь, господин поручик…
Ермолов, встречаясь с Аракчеевым, глядел на него, как на пустое место, и точно не замечал злых взглядов, которые тот изредка бросал в его сторону.
На это была особая причина.
После сражения под Лютценом Аракчеев наклеветал императору Александру, будто артиллерия худо действовала в этом сражении по вине Ермолова. Император призвал к себе Ермолова, в то время начальствовавшего артиллерией, и спросил, почему бездействовала артиллерия.
— Орудия, точно, бездействовали, ваше величество, — отвечал Ермолов, — не было лошадей.
— Вы бы потребовали лошадей у начальствующего кавалерией графа Аракчеева.
— Я несколько раз, государь. Относился к нему, но ответа никогда не было.
Тогда император призвал Аракчеева и спросил, почему артиллерии не предоставлены лошади.
— Прошу прощения, ваше величество, — ответил Аракчеев, — у меня у самого в лошадях был недостаток.
Тогда Ермолов сказал:
— Вот видите, ваше величество, что репутация честного человека иногда зависит от скотины.
Недаром Ермолова и Раевского считали самыми злыми на язык людьми во всей армии. Можайскому лестно было, что один из них с ним ласков и доброжелателен.
Поручик разглядывал и другую знаменитость — австрийского главнокомандующего князя Шварценберга. С бульдожьей головой на короткой шее, он держал себя на военном совете с такой важностью, точно австрийскую армию под его начальством не бил десять лет подряд Наполеон.
Вспомнились Можайскому рассказы отца о том, сколько претерпел мук от австрийского гофкригсрата великий Суворов, как Александр Васильевич в гневе выговаривал русскому послу в Вене: «Оставьте венские предрассудки, зрело и беспристрастно судите мои дела… Вена в воинских операциях не может никогда, как я, сведуща быть…»
В 1805 году, накануне Аустерлица, австрийцы держали себя еще наглее и высокомернее: «Мы хотим от России столько-то солдат, больше мы не хотим; разместите их там, где мы указываем, а отнюдь не в другом месте. Нам не нужно русских солдат в Италии, не посылайте нам казаков…» Даже при Павле того не было, что было при Александре.
А теперь австрийцы держали себя так, точно они первые на совете. Они вступили в коалицию, и этим создавалось превосходство сил союзников, но все еще они не могли решить, к выгоде или невыгоде для австрийского двора окончательное низвержение Наполеона.
С изумлением Можайский слушал долгие споры, видел медлительность и глупые претензии Шварценберга, его смехотворную спесь и в то же время панический страх перед Наполеоном. Аустерлиц, Ваграм все еще страшили австрийцев.
Даже тишайший Дохтуров вышел из себя, когда австрийцы стали доказывать, что двигаться надо отдельными колоннами. Он напомнил обыкновение Наполеона бить противника по частям, напомнил завет Кутузова — итти на врага «крепкой струей».
Можайский слушал, как генералы — австрийцы и немцы — приводили в пример Конде и Мальборо, Юлия Цезаря и Евгения Савойского, судили и рядили об их планах. «Кутузов и Суворов, — думал он, — не шли битыми путями, а делали планы кампаний своим умом…»
Император Александр старался примирить споры; порой в его словах был здравый смысл, дальновидные мнения, однако Можайский заметил, что у Александра не было твердой уверенности в правильности своих суждений. Он долгие годы находился среди военачальников, опытных и смелых, участвовал во многих походах и сражениях, но не умел, например, ориентироваться на местности и, глядя на карту, с трудом представлял себе места будущих сражений.
Слабость характера, двоедушие, о котором говорили втайне, сказывались и здесь, на военных советах. Никто из русских не смел на совете оспаривать его противоречивых суждений; одни прусские и австрийские военачальники были вправе возражать императору, но они более всего думали о собственной выгоде и о возможно меньшем для себя риске в случае военной неудачи. Одно только было несомненно — они готовы итти на мир с Наполеоном, Александр же соглашался на переговоры против воли. Александр упорно повторял: «Der Kerl muss herunter» («Негодника надо сбросить»). И это было по сердцу тем, кто не мог забыть нашествия Наполеона на Россию.
Не только жажда возмездия владела Александром. Наполеон умел причинять людям такие обиды, которые запоминались на всю жизнь и создавали ему таких смертельных врагов, как Александр, или Бернадотт, или генерал Моро. За унижения в Тильзите, за то, что Наполеон, после казни принца Энгиенского, на протест Александра ответил нотой, в которой почти что назвал Александра отцеубийцей, за то, что, «безродный корсиканец» осмеливался унижать «помазанника божия», за все это ненавидел Александр Наполеона.
Все, что делалось в главной квартире и в штабе его величества, было интересно и занимало мысли Можайского. Даже после роскошества, которое он видел в Париже у посла князя Куракина, удивляла Можайского многочисленность придворной челяди, сопутствовавшей императору в походе. Генерал-адъютанты — Уваров, Чернышев, Ожаровский, Трубецкой, Голенищев-Кутузов — состояли при главном штабе его величества, вернее — при особе императора; при нем же состоял обер-гофмаршал граф Николай Толстой, комендант императорской главной квартиры, затем генерал-вагенмейстер, ведавший экипажами царя и свиты, далее военно-походный шталмейстер, чины военно-походной его величества канцелярии, лейб-медик, обер-свяшенник, метрдотель, ведавший яствами и питиями, камердинер, берейтор, ведавший лошадьми, камер-лакеи и скороходы. Когда император ездил к Опочн, к Екатерине Павловне, поезд был невелик, однако потребовалось шесть экипажей для царя и свиты, две брички для берейтора и камердинера, всего пятьдесят шесть лошадей.
Таков был главный штаб его величества.
Кто посмелее, тот вспоминал времена Кутузова, когда вся военная власть была в руках главнокомандующего и все решалось в его штабе, а не как сейчас — в главном штабе его величества.
Здесь был дворцовый воздух, дворцовая атмосфера, к которой привыкла придворная челядь и пока никак не мог привыкнуть поручик Можайский, случайно очутившийся при главной квартире.
Главная квартира была как бы столицей на колесах. Она привлекала воина передовых позиций тем, что там всегда можно найти уголок, где высушишь загрязненный на бивуаке мундир, вымыть голову, выпить бутылку славного вина, узнать последние новости в политике. А главное, там не слышишь на каждом шагу: «Кто идет?» или вечные вопросы: «Где неприятель?», «Пехота или конница?», «Есть ли пушки?» Главная квартира радовала таких удальцов, как Денис Давыдов и даже Фигнер. Но состоять при ней, греться в лучах чужого величия, стать «плацпарадником», штабным шаркуном было не по душе тем, кто помнил иную, скромную главную квартиру, время блистательных побед Суворова и Кутузова. Но как горько было видеть храбреца, сражавшегося с турками, французами, истинного героя, пресмыкавшимся перед флигель-адъютантом, или того хуже — перед любимцем Аракчеева.
Он видел здесь придворных, которые умели либо грозить, либо ползать, он читал победные реляции, на которые был большой мастак Чернышев, видел рабью униженность с высшими и грубую наглость с низшими. Часами выстаивали близ императорской уборной флигель-адъютанты, чтобы поймать улыбку царя, ответить на его мимолетный вопрос. Бывало, что Александр удостоит беседой свитского офицера, а Можайский впоследствии с удивлением узнавал, что предметом этой беседы были совершенные пустяки — любовные связи какого-нибудь престарелого вельможи или дворцовые сплетни. Можайский догадался, что Александр, всегда заботившийся о том, чтобы между ним и самыми высокими людьми государства была дистанция, иногда потому снисходил к людям невысоких чинов, что слишком ничтожны они были в глазах окружающих.
Все это было не по сердцу Можайскому, и он думал, как бы найти благовидный предлог и отпроситься обратно в действующую армию.
И Данилевского он хорошо узнал за эти дни. Только изредка в нем светилось что-то прежнее. Втихомолку его теперь уже обзывали лакеем. Только в ночных беседах с Можайским он отводил душу.
Данилевский рассказал Можайскому о недовольстве Меттерниха тем, что Александр вызвал генерала Моро, считая его великим полководцем, соперником Наполеона в стратегии и тактике. Прибыл в главную квартиру Бернадотт, престолонаследник шведский; так же как Моро, он был смертельным врагом Наполеона, но отдавал ему должное как полководцу. Из маршалов почитал только Бертье, который в оперативном искусстве, как говорил, не уступает Наполеону.
Однажды ночью, вернувшись от Волконского, Данилевский с горечью говорил о непорядках в главной квартире.
— Дивлюсь, как еще до сих пор ухитрились сохранить в тайне конвенцию с Австрией, — сказал Можайский.
— Нынче у нас рай против того, что было при графе Витгенштейне. Тогда, кто хотел, тот толкался в штабе — штабные шаркуны, фуражные и шинельные воры, всякий сброд. Наполеон все наши секреты знал! Мы и сейчас чешемся, — сон разбирал Данилевского, он еле ворочал языком. — К примеру, послали приятеля твоего… Фигнера… лазутчиком в Данциг…
Можайский поднял голову от подушки.
— …послали, да без толку. Сидит у французов в цитадели. — Он приоткрыл глаза и взглянул на Можайского. — Я вижу, ты в тревоге?
— Что ж с ним будет?
— Что будет?… Дознаются французы — в двадцать четыре часа полевой суд и казнь.
Можайский уронил голову на подушку. Всю ночь он не сомкнул глаз. Он вспоминал все, что знал о Фигнере, все, что о нем слышал. Еще в Москве Наполеон дорого оценил его голову. Данилевский еще не вставал, когда Можайский отправился в главную квартиру. Данилевский рассказал правду. Французы проведали о том, что в Данциг послан лазутчик — разузнать слабые места обороны и, если удастся, поднять восстание в городе.
В десять часов утра Можайский, как обычно, докладывал Волконскому дела, требующие «важности и тайны». Он рассказал Волконскому, что обязан Фигнеру жизнью и что для него долг чести — помочь другу. В те времена сентиментальные чувства, рыцарство, дружба нравились императору Александру, и Волконский, подумав немного, сказал:
— Не знаю, как удастся вам помочь бедному Фигнеру, но чувства ваши похвальны. Мы имеем надобность послать курьера к Матвею Ивановичу Платову… Что ж, поезжайте, поручик, там видно будет. Платов примет вас радостно, вы везете ему добрую весть.
17
Атаман Войска Донского Платов стоял с казачьим войском близ Данцига.
Вал высотой в пять с лишком сажен, ров глубиной в две сажени, две цитадели — Бишофсберг и Гагельсберг, двадцать два бастиона защищали город Данциг, некогда называемый Гданск.
С верхушек высоких сосен русские дозорные видели сорокасаженную башню городской ратуши, высокие кровли узких, в три окна, домов. Те, кому случалось бывать в Данциге, рассказывали, что горожане живут богато, дома украшены красивыми, вытесанными из камня фигурами. В зрительную трубу можно было видеть старинное здание биржи — Юнкергоф, как его называли издавна.
Не первый раз Данциг в осаде. В 1733 году там был осажден Станислав Лещинский. Пятьдесят два дня осаждал Данциг генерал Лефевр, вынуждая к сдаче прусского генерала Калькрейта с гарнизоном. Теперь пришел черед французов. В городе заперся генерал Рапп, ветеран армии Наполеона, израненный во многих походах, суровый и храбрый военачальник.
Войсками, блокировавшими Данциг, командовал герцог Александр-Фридрих Вюртембергский, брат императрицы, отважный, но не слишком решительный полководец. Корпус генерала Левиза и казаки Платова составляли главную часть его войска. Не первый месяц длилась изнурительная для обеих сторон осада. Французы тревожили осаждающих вылазками и не думали сдаваться.
Матвею Ивановичу Платову было в то время за шестьдесят лет.
За победы у Гжатска, Царева Займища, Духовщины он был возведен в графское достоинство, достиг славы и почестей на родине и далеко за ее рубежами.
Победитель Нея под Дубровной, освободитель Смоленска — Матвей Иванович Платов тосковал. Осаждать Данциг, отбивать отчаянные вылазки французов, выкуривать неприятеля из-за высоких валов и бастионов было не по душе атаману. Жаловаться было некому. Благодетель Михаил Илларионович Кутузов, осененный взятыми в боях знаменами, лежал в Казанском соборе.
Сидя на военном совете и разглядывая свежее, благообразное лицо герцога Вюртембергского, Платов со скукой слушал длинную и скучную речь генерала Левиза, докладывавшего положение в Данциге:
— …лазутчики доносят, что хотя муки в городе не хватает, но мяса достаточно по причине большого количества лошадей в кавалерийских полках, а водка выдается даже сверх меры…
— А чего более солдату надо? — проворчал Платов. — Соль под седлом в тряпице, конь сослужит последнюю службу, не даст помереть с голодухи. А ежели водка есть — сто лет можно просидеть.
Матвей Иванович умел прикинуться простачком, когда это было нужно, умел и внушать к себе уважение, держать в решпекте знатнейших вельмож. Здесь он не считал нужным себя стеснять. Кроме того, его сердила кислая усмешка английского адмирала, которого посадили против него.
— Граф Матвей Иванович, — рассудительно продолжал Левиз, — изволил сказать то самое, что я имел в мыслях. Я полагаю, что без тяжелых осадных гаубиц Данцига нам не взять. Генерал Рапп искусен и в наступлении и в обороне, за стенами ему ничего не страшно, но ежели, как нам обещано, в июне доставят тяжелые гаубицы из Англии, можно надеяться на полный успех предприятия.
Тут все посмотрели на сидевшего в середине английского адмирала. Переводчик, находившийся рядом с англичанином, как неотвязный комар, жужжал у него над самым ухом, переводя на английский язык то, что говорилось по-русски.
Англичанин сделал знак рукой и одним духом проговорил длинную фразу.
— Господин адмирал говорит, — докладывал переводчик, — что корабли грузят в порту Дувр. Осадные тяжелые орудия, числом двести восемнадцать, будут доставлены не ранее августа месяца.
Платов, не скрывая неудовольствия, сказал:
— Уж не прикажет ли господин адмирал моим донцам резать коней на мясо? Кругом разорение, фуражу не достанешь, пруссаки куска хлеба не дают, — тоже союзники!.. Уж не знаю, кому хуже приходится, — французу в Данциге или нашему брату, казаку…
— Какое будет ваше предложение, граф? — спросил герцог Вюртембергский.
— Коль скоро им, — Платов показал на англичанина, — воевать не к спеху, то гаубиц, видно, мы дождемся, когда наши в Париж пожалуют. А тогда Данциг сам сдастся на капитуляцию…
— Угодно, граф, к сему еще добавить?
Герцогу очень хотелось, чтобы Платов сказал то, что из деликатности ему самому не хотелось говорить.
— Да что там, — проворчал в усы атаман, — богу весть, болтать не велено.
Англичанин наклонился к переводчику и опять одним духом произнес длинную фразу.
— Господин адмирал королевского флота изволит спрашивать Матвея Ивановича Платова: не участвовал ли граф в походе на Индию, каковой был предпринят в царствование императора Павла Петровича?
— Участвовал, — ответил Платов.
— Господин адмирал спрашивает: не обескуражены ли были казаки тем, что до Индии не дошли?
— А с чего нам кураж терять? Приказали повернуть на Дон — повернули. Приказали бы дальше итти — пошли бы. Так и скажи адмиралу.
На том и кончился военный совет. Матвей Иванович отвесил всем поклон и вышел из палатки.
День был дождливый. Казак накинул на плечи Платова бурку и дал ему в руку нагайку, которая называлась «атаманкой». С места пустив коня в галоп, Платов поехал к своим бивуакам.
Донцы стояли под Данцигом точно так, как стояли сечевики в запорожских степях. Возы были поставлены в круг, за возами жевали жвачку волы, ржали жеребята. В котелках варился кулеш.
Серая пелена дождя нависла над Данцигом, глухие раскаты орудий доносились с моря.
«Дела! — подумал Платов. — Не дают осадных орудий больших калибров. Оно и понятно: каждый снаряд — двести пятьдесят рублей на наши ассигнации… Деньги жалеют, скареды, а крови нашей не жалеют».
Он был зол на англичан еще потому, что ошибся в сэре Роберте Вильсоне, которого по простоте души счел добрым малым, истинным другом русских людей и России… Но когда армия узнала о том, как низко и злобно клеветал Вильсон на фельдмаршала Кутузова, Платов возненавидел коварного «друга» русских.
У входа в палатку он остановился и поглядел в сторону Данцига. Небо над городом окрасилось заревом.
— Так и есть, — сердито сказал он, — английские зажигательные ракеты один пустой шум делают, а наши брандкугели город зажигают… А славно стреляют сухопутные батареи под командой морских офицеров!.. Лука! — развеселившись, крикнул Платов вестовому. — Сегодня будем барашка резать. Сладкой водки гданской не надо, в рот не возьму больше. Возьмешь моей, горчишной, полбочонка у старого хрыча на возу. Нынче у меня дорогой гость.
Дорогим гостем для Платова был Можайский. Он привез приказ Платову соединиться с главными силами действующей армии. Нынче вечером герцогу Вюртембергскому будет доложено об отзыве казаков Платова из-под Данцига. Платов вообразил себе лицо герцога, когда ему доложат эту новость, и ухмыльнулся. Он знал, как высоко ставят казаков пруссаки-союзники. Прусская пехота считала себя в безопасности, когда впереди стояли казачьи посты, — эти всегда знали и предупреждали о вылазках неприятеля. «Теперь попляшут», — не без удовольствия подумал Платов.
Откинув полу палатки и согнувшись, Платов вошел и увидел за столом Можайского. Придвинув фонарь, Можайский сидел над планом города Данцига.
— Доброе дело, — сказал Платов, снимая надетую через плечо ленту, — только не ко времени, господин поручик… Накрывай на стол, Лукашка! Дела такие, что самое время напиться.
Можайский лишь мельком видел прежде Платова и теперь с любопытством разглядывал атамана… Высокий, лысеющий лоб, черные с проседью волосы, стриженные в скобку, казацкие, спускающиеся к подбородку усы. Ростом Платов был высок, упирался в полотнище палатки. Бриллиантовая звезда и георгиевский крест второй степени на шее неожиданно сверкнули на простом, подпоясанном шарфом казачьем кафтане. Он был осанист и строен. Трудно было верить, что ему пошел уже седьмой десяток.
— Так-то, друг сердечный, — усаживаясь, сказал Платов, — нынешний год и славный и несчастный для меня. Помер у меня сын от горячки, дослужился до генерал-майора и помер. А так, кажись, не на что жаловаться. Пятьдесят лет назад поступил я на службу урядником казачьего войска, и было мне от роду четырнадцать годов… Вот полвека прошло, и я — граф Платов, атаман Всевеликого Войска Донского, кавалерию через плечо имею и пожалован усадьбой.
— Заслуженная честь, — серьезно сказал Можайский.
— Возьми в расчет, кто я был — простой казак, да еще старой веры, не никонианин, не табакур, — такой чести достиг. Ты говоришь — заслуженная честь. А знаешь, в чем моя главная заслуга? В том, что под Измаилом на военном совете у самого Александра Васильевича Суворова мне, младшему в чине, указано первому иметь суждение — штурмовать Измаил или отступить. И я первый сказал: штурм. А вот тебе и дело: половина нашего войска, штурмовавшего твердыню, были мои казаки… Иному покажется — казацкая хвастовня, ан нет! Ты вот с турками не воевал, а я тебе скажу — кто янычаров видал, тому ничего не страшно. Заголосят, завоют, идут на картечь, ровно слепые, а впереди у них муллы — кружатся, верещат, руками машут: «Алла! Алла!»… А то еще стих из корана истошным голосом кричат, называется у них тридцать седьмая сурра, ее над покойником читают, значит почитай себя, мусульман, уже на том свете. А Михайло Ларионыч нас выучил — выберите стрелков самых лучших и этих сумасшедших прежде всех выбейте. Турок и посмирнеет. И правда, турок хоть не христианская душа, а свое разумение имеет, каждому жить хочется… Конница турецкая хороша, арабские кони — загляденье, но и наша донская лошадь тоже себя покажет.
— Видел я табун, когда сюда ехал. Хороши кони!
— Это с Дона приведены. Поправить надо, худы телом. С дальней дороги отощали… Вот что, выбери себе лошадь, а то твой вороной тяжел больно, и то сказать — артиллерия.
— За что мне такой подарок, Матвей Иванович?..
— Ты мне добрую весть привез. Только вот что, любезный, не говори ты «конь». Не конь это, а лошадь. Конь — что? На коне и пашут, и дрова возят. А лошадь — это друг, товарищ боевой.
Тем временем казаки разостлали чистую скатерть и поставили оловянную посуду.
— Не легкая была моя служба, — продолжал Платов, — всякое бывало. Кто надо мною только не начальствовал, с Платоном Зубовым ходил под Дербент и на Каспий… Увидел Зубов горы Кавказские — устрашился громад и разом всю амбицию потерял. Жил я в походе в калмыцкой кибитке, охота в тех местах славная, ходил на лисиц, на кабанов, на барсов. Был со мной Денисов, Адриан Карпыч, нынче он на Дону наказным атаманом, умная голова и геройской души человек, французскому языку сам обучился. Адриан Карпыч в плен Костюшко забрал и почет ему оказал — пленник знаменитый, как же иначе?.. Да, мастер Адриан Карпыч на все руки. На Каспии ходили мы с ним на охоту, убили кабана дикого, пудов двадцать весу. Выпалил я первым и промазал. Редко со мной такое бывает. Мошкара, там в камышах ее тучи, глаза слепит, вот и промазал. Прет хабанище на меня, на счастье казак со мной, Назарка, заслонил. Кабан казаку ногу перебил, клык ровно бритва. Тут Адриан Карпыч выпалил из дедовской флинты кабану прямо в глаз… А казак лежит, до кибитки моей верст восемь. Жаль казака, он со мной под Измаилом был. Раздобыл Адриан Карпыч щепок, поставил ногу казаку в лубки, рубаху на ленты разорвал, обмотал, ну что твой лекарь! Тем кончилась охота. Задние ноги у кабана отрезали — побаловаться вареным окороком. Зову повара, спрашивает Адриан Карпыч: «Как будешь варить окорок?» И начал: «Сбей с кабана щетину, опали и выскреби почище. Возьми у меня в торбе перца толченого и зернистого, тмина, лаврового листа, изрежь луковицу в ломтики, положи цибулю целиком, маринуй в окороке суток четверо. А потом вынь все, что положено внутрь, оберни окорок в чистое полотенце и опутай нитками, положи в котел с рассолом, влей туда шесть бутылок вина белого, здешнего, столько же воды и вари семь часов. Гвоздика есть у меня в седельной сумке… Стой! — говорит, — я сам все сделаю». Слушаю его и дивлюсь, откуда человек поварскую науку знает… А заговори с ним про старые годы, он тебе скажет: казаки не те стали, за чинами гоняются. И то сказать, были мы простые казаки — стали дворяне, у простых казаков землю норовим оттягать. Другой раз есаул своего земляка в палки поставит. А для чего? Он свою вину в бою с себя снимет, свою амбицию имеет…
— Правда! — вырвалось у Можайского, — русский солдат первый в свете! За что его мучить!
Платов в упор взглянул на Можайского, точно кольнул зорким взглядом.
— Служили мы тогда, когда из десяти — девять в ученьи убивали, а десятого на племя оставляли. Ничего на свете я не боялся, ни пули, ни сабли, одного покойного государя Павла Петровича страшился. Что говорить, по милости его императорского величества полгода арестантский хлеб ел в Петропавловской крепости, в каземате.
— За что же вас в крепость?
— И смех и грех, ей-богу… Сказывали, будто донос пришел на меня царю, писали, будто я хотел увести донские полки на туретчину и будто за то султан мне два города турецких обещал и в паши хотел произвесть.
Пока Можайский размышлял об этом, Платов скинул кафтан, вымыл руки и, поудобнее усевшись на кожаных подушках, налил по большой чарке, затем, взяв с блюда стебель зеленого лука, ловко свернул его жгутом и, сунув в солонку, чокнулся с гостем и выпил.
— Лук зеленый, лучше нет закуски по весне. За сорок верст ездили, еле достали. Вот и Михайло Ларионович любил под лучок зеленый… Сколько жить осталось, столько буду помнить благодетеля моего, ему всем обязан, его память чту, узнав о кончине, плакал, как дитя малое. — В глазах Платова блеснула слеза.
— Учил нас уму-разуму: приучай людей к проворному беганью, пусть умеют подпалзывать скрытными местами, скрываться в ямах и впадинах, прятаться за камни, кусты и, укрывшись, стрелять. Э, да что я, право… Лука! — закричал во весь голос Платов. — Где ж барашек? Отведай, поручик, моей горчишной, — третьего дня это было, угощал англичанина, капитана фрегата, одну чарочку выпил, загрузнел головой и заснул…
— Капитан «Буцентавра»? Сэр Джордж Симпсон?
— А ты почем знаешь?
— В Лондоне встречал.
— Вот как! Ты и в Лондоне бывал? — Платов придвинулся и, пытливо глядя в глаза, допрашивал: — Скажи мне об англичанах. На море они горазды драться, а будут они на суше воевать? Или как в 809?
— Видал я в архивах Воронцова ноту государственного канцлера Румянцева, она пример твердости и нашего прямодушия, — задумчиво отвечал Можайский; подняв глаза вверх, он прочитал на память: — «Россия дважды бралась за оружие, но не добилась содействия, Россия не просила подкреплений, она просила только произвести военную диверсию. Англия в ответ на то ограничивалась ролью хладнокровной свидетельницы и в то же время снаряжала экспедиции в Египет и Буэнос-Айрес…»
— Ну, вот видишь! А нынче где порука, что не будет того же?..
— Нынче, я полагаю, придется им воевать.
— Думаешь? — пристально глядя на Можайского, спросил Платов.
— Они французам Булонского лагеря не простят. В театрах показывали пьесы с пожаром, разрушением Лондона и вторжением на британский остров… Англичане французских гренадер к себе в гости ожидали… А теперь много войска в Англии посажено на корабли и ждет своего часа. Дело к концу идет, большая игра, на столе большие куши… Сколько ж можно тянуть да торговаться…
— А не могут они с Бонапартом сговориться? Ты возьми в расчет: они, да австрийцы, да Бонапарт — сила… Тогда мы одни с пруссаками, а чего пруссаки стоят, мы знаем…
— А ведь вы — дипломат, граф… — усмехаясь, сказал Можайский.
«Все зависит от твердости нашей. Первое дело — твердость», — вспоминал он слова Семена Романовича…
Лицо Платова временами он видел как бы в тумане. Действительно, горчишная была хороша, но малость крепка.
— Да, что я, на самом деле! — вскричал Платов. — Какой я хозяин! Подлей горилки, Лука!
— Да не дает, бисова дитына, старик!
— Как так не дает? Как не дает?
— Говорит, мало горилки осталось, пусть гданскую пьют.
— Ах он, старый сыч! — вскричал Платов. — Сидит на возу, как пес на цепи, снегу у него зимой не выпросишь. Скажи, что атаман гневается, и барашка давай, самое время! Эх, годы, годы… Пока перемирие было, затеял я лечиться на Вальдейнских целительных водах, немцы ими хвалятся. Ну, что тебе скажу, — куда слабее кавказских вод, нету той пользы. Нет, друг сердечный, здоровья не купишь и не выпросишь. Что лучше молодости? Ну, будем здоровы!
Можайский был привычен к походным пирушкам, но все же, опасаясь захмелеть, приступил к главному. Он снова заговорил с Платовым о Фигнере. О том, что случилось с Фигнером, Платов, разумеется, знал.
— Сидел он у меня до зари, вот на том самом месте, где ты сидишь. Рассказал мне свою затею… — Матвей Иванович сокрушенно покачал головой. — Говорю ему, как другу: «Слушай, Александр Самойлович, хочешь, дам тебе полк, будешь у меня под началом. Что тебе по лесам хорониться? Правда, партизанское дело — святое дело, светлейший на вас полагался. Сам слышал: «Не токмо на родной земле — партизаны на Эльбе и Одере еще пригодятся». А он, Александр Самойлович, и говорит: «Раз так, то мне ничего другого не нужно». Проводили его мои казаки. Рассказывают, вышел он к ним, едва узнали, — как нищий какой, в рубище. Довели его до аванпостов. Он им и говорит: «Ну, не поминайте лихом, атаману низкий поклон, жив буду — свидимся». И пропал, как кошка, в кустах… Лазутчики из города пришли, доложили, будто французы схватили некоего итальянца и держат в цитадели и говорят, будто тот итальянец и есть Фигнер. Не знаю, он ли, не он, но ежели бы не так было, объявился бы наш Александр Самойлович. Ведь уж третья неделя пошла. Жаль, если пропадет. Я и жену его, Ольгу Михайловну, знаю, крепко он ее любит, но отечество — более всего, для отечества не жалеет ни семьи, ни жизни… А тебе в Данциг ходить незачем. Бог поможет, воротится.
Они выпили за то, чтобы Фигнер был цел и невредим, потом за русское войско, потом за кавалерию, за казачество, за артиллерию, поскольку гость был артиллерийский офицер, потом, чтобы не обидеть пехоту, выпили и за нее, многострадальную и доблестную… Все, о чем говорилось дальше, затмилось в памяти Можайского. Откуда-то появились песенники, грянули песню, потом была лихая пляска. Еще помнил он, что палатка была полна людей, что Платов оставлял его у себя и шутя уговаривал:
— Пойдешь со мной в поход, в Вестфалию, я давно до них, мародеров, добираюсь. В самую Францию пойдем походом, там, говорят, папу римского Бонапарт держит под замком. А мы папу римского украдем, отвезем на Дон и по старой вере окрестим! Так, господа полковники? Вот обозлится Бонапарт: платовские казаки римского папу украли!
И он закатился зычным хохотом, мигнул песенникам, и снова грянула удалая, с посвистом, казачья песня.
18
Курт фон Гейсмар сидел на простом табурете под низкими сводами подземного зала цитадели Бишофсберга в Данциге.
По другую сторону грубого, необструганного стола сидел полковник Антуан Моле. Он был высок, строен. Гейсмара немного пугал его взгляд, то ласковый, то угрюмый. Поглаживая светлые шелковистые усы, полковник Моле слушал светскую болтовню барона Гейсмара:
— …Его высочество вице-король Евгений дважды приглашал меня на охоту, я много раз бывал на великолепных празднествах у князя Талейрана, однажды разделил с его светлостью партию в вист. Могу назвать среди моих высоких друзей герцога Отрантского…
Брови полковника Моле чуть дрогнули, — титул герцога Отрантского носил бывший министр полиции Жозеф Фуше, — но он не сказал ни слова и только поглаживал и завивал кончики белокурых усов. Гейсмар продолжал с таким снисходительным видом, точно беседа шла в театральном зале, но одна неотвязная мысль мучила барона: где он видел этого красивого и вежливого полковника?
— Вы тогда имели честь состоять на австрийской службе? — полюбопытствовал Моле.
— В те времена? Я состоял при посольстве для особых поручений. Князь Шварценберг иногда пользовался моими услугами, вернее — моими связями в свете.
— Но вы оказывали услуги и нам? — щурясь и потягиваясь в кресле, сказал полковник.
Он точно убаюкивал собеседника своими мягкими жестами, всем своим благодушно-счастливым видом, потом вдруг показывал зубы и когти, и это тревожило Гейсмара.
— Услуги? Да, я оказывал услуги, господин полковник… но только как личный друг герцога Отрантского.
— Почему же вы пожелали перейти на русскую службу? Вы изволили сказать на первом допросе, что из Вены направились в штаб русского главнокомандующего.
— У меня поместье в Лифляндии… Я русский подданный и вызвал неудовольствие русских властей. Чтобы сохранить поместье, я был вынужден предложить императору свои услуги. У меня не было другого выхода.
— Это досадно, — с участием проговорил Моле, — мы состоим в войне с Россией, вы подданный враждебной Франции державы, и… — он вздохнул, — к моему огорчению и досаде, я должен считать вас пленником… Но прошу верить…
— Действительно досадно, — стараясь говорить спокойно, произнес Гейсмар, — но вы не должны забывать, что я был связан с австрийской тайной службой. Барон Гагер, полицей-президент Вены, — один из моих интимных друзей…
— Вы продолжаете оказывать услуги Австрии? — любопытствовал Моле, глядя ясным и невинным взором на Гейсмара.
— Да, как доброжелатель и друг… Император Франц — тесть императора Наполеона, Австрия — друг и союзник Франции, таким образом я как бы служу Франции, я ваш союзник, мой дорогой полковник… — добродушно улыбаясь, говорил Гейсмар. Между тем по-прежнему его мучила одна мысль: «Где я видел этого человека? Он не молод, ему не меньше сорока лет… Где я мог его видеть?»
— Значит, вы состоите на тайной службе у Австрии? Давно ли вы путешествуете, барон? Не меньше двух-трех недель, я полагаю?
— Да, если не считать моего пребывания в Данциге.
Моле ласково улыбнулся и, чуть наклонившись к Гейсмару, как бы с сожалением сказал:
— Все это время вы пользуетесь нашим гостеприимством… в цитадели. Значит, вы не знаете о том, что Австрия перестала быть союзником Франции и объявила нам войну. — Он продолжал по-прежнему в духе светской, непринужденной беседы: — Вена — прекрасный город, мне не случалось там бывать, но, говорят, это второй после Парижа приятнейший город Европы. Помню, год назад произошла странная история: секретарь нашего посольства Боттон подвергся грубым оскорблениям, и эту историю связывали с именем барона Гейсмара…
Гейсмар молчал. Вот откуда шла опасность.
— Все это в прошлом, — наконец сказал он. — Я доказал свою преданность интересам Франции и императора… Я докажу ее еще раз. Я был гостем бывшего русского главнокомандующего графа Витгенштейна в главной квартире. Я имел возможность знать некоторые секреты, и я могу быть вам полезен, я могу быть полезен генералу Раппу. Я извиняю вас, полковник: есть вещи, которые не может понять человек, стоящий далеко от государственных дел…
Он замолчал, встретив яростный, полный ненависти взгляд полковника Антуана Моле.
— Это вы в 1792 жили на бульваре Мальзерб и бежали в ту самую ночь, когда за вами пришли из Комитета общественного спасения? Вы или не вы? Это вы жили на улице Риволи в доме графини Дампьер в 1810 и оказывали услуги англичанам? Вы или не вы?
Моле ударил кулаком по столу. Лоск светского человека, гвардейца-аристократа на службе Наполеона, мгновенно слетел с него. «Какой-нибудь парикмахер, портной, плебей, которого революция сделала полковником!» — подумал Гейсмар.
Он нашел в себе силы, чтобы сказать снисходительно, как бы извиняя горячность полковника:
— Вы тратите время на разговоры со мной, полковник, между тем я знаю и могу это доказать, что русские послали в Данциг одного из самых ловких своих лазутчиков, я узнал об этом в штабе Витгенштейна…
— И этими сказками вы хотите купить себе жизнь!.. Капрал!
Со скрипом открылась дверь, и Гейсмар увидел силуэт конвоира.
— В каземат!.. — и полковник Моле сделал жест, точно отбросив в сторону жалкую ветошь.
Когда Гейсмара увели, полковник Моле несколько времени неподвижно сидел в кресле, поглаживая шелковистые усы. Лицо его сразу осунулось, пожелтело и приняло выражение усталости. Он вздохнул, придвинул к себе бумаги, но у него рябило в глазах. Положив руки на стол, он склонил голову.
Дремота охватила полковника. Ему мерещилась Луара, медленно текущие прозрачные воды и маленький городок Амбуаз на берегу, и он, деревенский мальчик, стоит у ворот замка, из замка выходит человек в розовом с серебром кафтане. Он трубит в рог, и тотчас слышится лай гончих… Потом уже нет ни замка, ни рва, по полю мчится босоногий мальчуган, за ним гонятся собаки, и откуда-то издали слышится зычный хохот…
Моле вздрогнул и открыл глаза. Перед ним стоял старик в вытертом зеленом мундире. Пустой рукав был приколот к груди. Старик обошел стол, поднял опрокинутый табурет и сел на него.
— Ты говорил с его слугой? — спросил Моле.
— Никакого толку. Верный пес — и только. Я видел твоего немца. Наглая каналья, но, мне кажется, он растерян.
Моле улыбнулся — усталость прошла. Как мало ему нужно! Полчаса сна — и силы вернулись.
— Я говорил тебе, что это он. Он ушел из моих рук в 1792. И в 1810. Теперь не уйдет.
Он потянул к себе бумаги, пробежал взглядом списки арестованных.
— Малагамба… — прочел он вслух. — Негоциант из Милана.
— Ты его хотел отпустить?
Моле откинулся в кресло и задумался.
— Нет. Мы посадим его в башню якорных мастеров.
— Рапп недоволен нами, — сказал старик, — он говорит, что мы с тобой дураки, что город полон русских лазутчиков…
— Молчи, Лафон! Все идет к чёрту! В конце концов, дело в том, чтобы умереть как солдат и оставить после себя меньше врагов!
И, схватив саблю и кивер, Моле вышел.
19
Кордегардия цитадели Бишофсберга была как бы продолжением цитадели, где царствовал Моле.
В кордегардии было шумно. Солдаты пели песни, играли в карты и кости, спали на разостланных на полу дорогих коврах, вытащенных из пламени горевших домов.
Здесь провел первые дни в плену «негоциант из Милана Пиетро Малагамба» — Александр Самойлович Фигнер.
Солдаты плутовали в игре, дрались, не обращая внимания на пленника. Два раза его допрашивал безрукий сухой старик в зеленом мундире.
— Какого чёрта я вожусь с вами, синьор Малагамба, или как вас там зовут? Понимаете ли вы, что я могу расстрелять вас в крепостном рву по всем правилам, как шпиона…
— Клянусь святой Евлалией, я не шпион, господин капитан!
— Оставьте святую Евлалию… Что вам нужно было в Данциге? Какой чёрт понес вас в Данциг? Если вы итальянец и действительно купец, вам следовало пробираться на юг…
Он уставился на синьора Малагамба и долго глядел на него. Перед ним стоял бледный, дрожащий, перепуганный насмерть человек в лохмотьях.
В десятый раз он рассказывал о векселях, о девизах, о биржевом курсе лиры, о том, что фирма «Малагамба и сын» известна в Данциге, и это была правда, но негоцианты Данцига знали отца и сына лишь заглазно.
Все же Лафон не отпускал его на свободу и отсылал назад, в кордегардию. И опять была брань солдат, насекомые, бессонная, длинная ночь. Утром за мнимым синьором Малагамба пришел рослый гренадер. Он слегка толкнул его прикладом и показал на дверь. На пороге двери сидел часовой.
Стараясь не наступать на разбросанные ассигнации и монеты всех стран, Фигнер прошел мимо игроков.
— Иди, иди, аристократ, — ворчал гренадер, — тебе тут не давали скучать, я вижу…
— Я не аристократ, — ответил Фигнер.
— Тем лучше для тебя. Полковник Моле терпеть не может аристократов. Привычка старого якобинца.
— Так он якобинец? — удивился Фигнер. — Якобинцы служат Наполеону?
— Мы служим Франции, а не Наполеону, — свирепо сказал гренадер. — Мы оба были при Вальми и сражались за конвент! Если бы мы не были якобинцами — Моле был бы давно генералом, а я — капитаном.
— Куда же меня ведут? — спросил Фигнер.
Но гренадер не ответил.
…Старинная башня городской тюрьмы по старой памяти называлась башней якорных мастеров. В давние времена здесь была кузница, — до сих пор потолок и стены покрывал черный слой копоти. В башне генерал Рапп держал одиннадцать заложников — знатнейших и богатейших граждан города Данцига. Это были купцы, важно заседавшие в городской ратуше, ведавшие нуждами города. Некоторых из них подозревали в том, что они имели тайные сношения с армией, осаждавшей Данциг, других — в недоброжелательстве к французам. Данцигские патриции были запуганы деспотизмом генерала Раппа, они знали, что этот суровый воин не остановится перед тем, чтобы расстрелять половину населения, города, если жители решатся восстать. И, разумеется, он не остановится перед тем, чтобы при первом признаке возмущения расстрелять заложников. Этого больше всего страшились заложники.
План поднять восстание в осажденном Данциге (подобно тому, как это было сделано в Гамбурге) был придуман Витгенштейном. Он надеялся на ловкость и бесстрашие Фигнера, на тайные связи, которые имели осаждающие с горожанами. Но едва Александр Самойлович проник в Данциг, еще до того, как был схвачен французами, он понял безнадежность своего предприятия.
Знать боялась лишиться жизни и имущества, простолюдины: ремесленники, торговцы, моряки, бедный люд, хоть и ненавидели чужеземных угнетателей, но были безоружны, жестоко страдали от голода и болезней, у них не было сил, чтобы восстать.
Когда на пороге башни появился человек в изорванной, хотя и дорогой одежде, одиннадцать пар глаз обратились к нему. Фигнер тоже разглядывал заложников. Генерал Рапп позаботился о том, чтобы привилегированные узники не терпели лишений, из дому им доставляли пищу, белье, одежду и даже постели, они пользовались услугами парикмахеров. Словом, это было избранное общество города Данцига, волей генерала Раппа переселившееся в башню якорных мастеров.
Теперь заложники с удивлением глядели на неизвестного, — эта странная личность сначала не понравилась избранному обществу башни якорных мастеров. И данцигские патриции тотчас же дали понять, что они не расположены пускать в свой круг бог знает кого…
Но любопытство все же взяло верх. К тому же новичок держался крайне почтительно; он оказался иностранцем, жителем Милана, сыном, негоцианта Луиджи Малагамба. Кое-кто из данцигских купцов действительно имел дела с этим торговым домом. Развесив уши, сочувственно кивая головами, они слушали рассказ мнимого итальянца, — под стенами Данцига его ограбили и едва не убили казаки.
Счастье Фигнера было в том, что он говорил по-итальянски, как итальянец, и обладал удивительной памятью. Когда ему довелось быть в Милане, он действительно знал семью Малагамба и бывал в их доме, он помнил по именам всех детей почтенного негоцианта, отлично запомнил дом и обстановку дома. Если бы не крайняя подозрительность полковника Моле, его бы, разумеется, освободили. Но беда была в том, что в Данциге оказался зубодер, некий Манчини, который знал наперечет все богатые семьи в Милане, и он, тайный агент французов, усомнился в истории, которую рассказывал на допросах мнимый Пиетро Малагамба.
И тогда хитроумный Моле посадил мнимого Малагамба к заложникам, чтобы узнать, как будет вести себя с ними этот подозрительный итальянец.
Солнечные лучи проникали в башню через узкие бойницы. Пока за стенами был день, узники вели оживленную беседу, спорили, сплетничали, рассуждали о событиях и судьбах Европы. Но едва лучи солнца погасли и тюремщик зажег ржавый фонарь, покачивающийся на цепи над самой дверью, все стихло. Патриции расположились на коврах, на пуховиках, уткнулись в подушки, и скоро послышался густой храп, сопение, вздохи. Патриции уснули сном праведников, нисколько не позаботившись о том, что их сотоварищу придется спать на голых плитах каменного пола.
Фигнер не спал много ночей. Это было уже третье место заключения, которое ему приходилось сменять. Он сидел в каземате рядом с кордегардией; там были крысы, к которым этот отчаянной смелости человек чувствовал непостижимое для него отвращение и страх. Потом его перевели в кордегардию. Там тоже не было ни минуты покоя. Песни, крики солдат, брань, слова команды, лязг» оружия. Может быть, Моле его нарочно поместил здесь. Когда человек не спит, он становится более сговорчивым, воля его слабеет. Здесь, в башне якорных мастеров, была тишина, сонное царство. Раскаты канонады доносились сюда, только когда стреляли тяжелые осадные пушки. И все же Фигнер решил не спать. Он боялся выдать себя, во сне человек теряет волю. Что, если, заснув, Фигнер заговорит по-русски? Не может быть того, чтобы среди узников не было соглядатаев. Нет, спать нельзя… Чтобы не задремать, Фигнер стал ходить по кругу, считая про себя шаги. На четвертой тысяче шагов у него закружилась голова и подкосились ноги. Он едва не упал на каменный пол.
«Не спать!» — приказал он себе и стал под фонарем.
Ему показалось, что фонарь колеблется, покачиваемый ветром. Нет, это покачнулся он сам. Он повернулся лицом к стене, уперся в нее руками и с мучительным усилием широко раскрыл глаза. Ему почудились буквы, нацарапанные чем-то острым на слое копоти, покрывавшем стены башни. Он вгляделся и прочитал: «Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo».
По-латыни это означало: «Капля долбит камень не силой, но частым падением».
Он вполголоса прочел надпись, и эхо повторило латинский гекзаметр.
Среди смертельных опасностей, на грани между жизнью и смертью, Фигнер всегда сохранял ясность рассудка и твердую уверенность в том, что все кончится благополучно. Но в последние дни он стал задумываться над тем, что слишком часто искушает судьбу, что есть предел и его силам.
Подвиги его уже стали легендой; он как-то сказал, что если бы поэт сочинил о нем поэму, ее сочли бы фантастической. «Dulce rt decorum est pro patria mori», — прочел он про себя… «Да, сладко и почетно умереть за отечество», — сказал Гораций. Он не мог служить, как все, выслуживаться, ожидая наград и чинов. Даже принять под команду казачий полк у Платова было ему не понутру. Он сам выпросил у Витгенштейна эту поездку в Данциг…
Он с отвращением посмотрел на своих товарищей по заключению. Патриции храпели и сопели во сне на все голоса.
«Трусы! — подумал Фигнер. — Рабы… Втайне ненавидят французов и пресмыкаются перед угнетателями. Нет ничтожнее этих господ в несчастье! Лежат во прахе, а погляди на них, когда почувствуют силу! Сколько высокомерия, как высоко о себе судят!»
Тут мысли Фигнера стали мешаться, веки слипались. Он с силой ударил кулаком в стену, почувствовал боль, и боль прогнала дремоту…
Генерал Рапп только что вернулся после объезда бастиона. Он осматривал повреждения, причиненные ночной бомбардировкой. Сапоги его были до колен в глине. Он сбросил мокрый плащ, швырнул на стол саблю и протянул руку Моле, который ожидал его более часу.
— Я пришел к тебе как вестник победы, — сказал Моле. — Под Дрезденом четыре австрийских полка положили оружие. Изменник Моро убит или смертельно ранен. Я получил эту весть голубиной почтой.
Рапп не отвечал. Он бросился в тяжелое, черного дерева кресло, на спинке которого был выткан герб города Данцига. На столе, где еще недавно красовались реликвии города, ключи крепости, большая печать города Данцига, теперь лежали планы укреплений и карты окрестных мест.
Моле смотрел на генерала, на его суровое, пожелтевшее лицо, на потухшие глаза, красные веки… Он сильно изменился за время осады…
— Дрезден… Дрезден — падучая звезда, сверкнувшая в надвигающейся темной ночи… Никому, кроме тебя, старый товарищ, я не сказал бы этих слов…
Рапп закрыл глаза и продолжал тихо, точно в дремоте:
— Войска разбросаны по Европе, мы заперты в Данциге, Даву в Гамбурге. Где золотое правило Наполеона — всегда сосредотачивать войска в решающем месте, для решительного удара. Где искусство полководца, точный расчет стратега? Все исчезло — остались самоуверенность и упрямство. Он верил, что Австрия — его союзница — не покинет его, что австрийцы испугаются усиления России, он верил в верность саксонцев, баварцев, и все обманули его, но хуже всего то, что он обманывал сам себя! Нет Ланна, Нет Дюрока, Бесьера, нет Кирженера… Остались Ней, Макдональд, Мармон… Мюрат?
— Петух индейский в шлеме с перьями, в желтых сапогах, с рыцарскими шпорами… — проворчал Моле, — глупость осла и жестокость тирана.
— Тебе ли говорить о жестокости? — удивился Рапп.
— Я говорю о жестокости к своим солдатам. Он никогда не берег своих солдат. В бою к этому иногда принуждает необходимость. Но ты помнишь отступление из России в Вильну? В восемь часов утра двести всадников его неаполитанской гвардии выстроились у дворца и ждали его приезда. Был адский мороз. К пяти часам дня тридцать кавалеристов уже лежали мертвыми, они замерзли вместе с конями. К приезду Мюрата от эскадрона осталось в живых шестьдесят человек… Тупая, безжалостная кукла — ведь среди замерзших были герои Ваграма.
Оба долго молчали.
— Действительно глупец, — вымолвил, наконец, Рапп. — Он старается забыть милости императора, забыть того, кому обязан славой и короной неаполитанского короля. Император написал ему в Неаполь: «Лев еще жив, и не советую вам… на него. Мои дела не так плохи, как вы думаете». А я думаю, что дела очень плохи. Пусть Дрезден, — все равно дело идет к закату. Ты как-то сказал: «Русский поход погубил нас». Эти слова стоили тебе генеральских эполет…
— Не все ли равно, как меня похоронят, — усмехаясь, сказал Моле, — повезут на пушечном лафете или понесут в плаще до ямы, вырытой под вязом, у крепостного рва… Могу сказать тебе, боевой друг, мы были непобедимы, пока мы были армией свободы, пока на наших знаменах горели слова: «Свобода, равенство, братство»… А что несут теперь наши орлы на древках знамен? Неволю и рабство. Почему двадцать два казака под Герлитцем обратили в бегство конвойный отряд в пятьсот человек? Потому что армия развращена деспотизмом, в ней не стало прежней доблести, как при Иене и Маренго! Пруссаки и те поднялись на нас. Вместо того, чтобы низложить и выгнать четыреста немецких владетельных князей, император сделал их своими лакеями и по прихоти менял, как лакеев…
— Он не хотел подобно вам, якобинцам, бунтовать подданных чужой страны, поднимать народы против государей. Ах, Моле! Неисправимый якобинец! — нахмурившись, сказал Рапп. — Я до сих пор не могу понять, почему ты не гниешь в Кайенне, как многие из твоих друзей. Не болтай глупостей! Мы просто устали, мы состарились в сражениях. У нас не было радостных дней даже в Париже. Мы кружились в вихре празднеств, мучимые честолюбием, завистью, жаждой почестей и славы… Мы могли только мечтать о тихих днях в деревне на берегу Роны, о сельских удовольствиях… Труба, поход, бивуак, пороховой дым, запах трупов, гарь сожженных селений, — и так вся жизнь…
— …между передней Тюильрийского дворца и бивуаком.
Рапп погрозил ему пальцем, но не сказал ни слова. Он закрыл лицо руками, потом отнял руки, встряхнул густыми черными волосами и сказал:
— Слушай, Моле, мне нужен человек, которого я мог бы послать с донесением императору… Ловкий человек, не немец, — этим верить нельзя, они нас ненавидят, — не француз, разумеется… Манчини? Но он стар, ему за шестьдесят, и его слишком знают. Найди мне такого человека… Ты слышишь, Моле?
— Слышу… Что ж, мне кажется, я найду такого человека.
…Был летний душный вечер. Луна светила сквозь облака дыма. Небо было в зареве. Густой дым пожаров плыл над городом, сотни орудий грохотали вокруг, наступала грозная ночь еще невиданной доселе бомбардировки.
Бомбы, ядра, зажигательные ракеты падали на бастионы, на крыши домов, на улицы и площади.
Два конвоира вели Фигнера через площадь Биржи. Огненная дуга прочертила небо над их головами. Ядро ударило в скульптурную группу — фонтан на площади — и отбило голову статуе Нептуна. Безголовый Нептун продолжал грозить небу трезубцем.
Улицы были пустынны, только изредка слышался конский топот, мимо Фигнера и его конвоиров на всем скаку пролетел ординарец.
Как бы алая звезда появилась над перекрестком. Она увеличивалась, приближалась. Запахло серой, что-то круглое, вертящееся упало на мостовую.
— Ложись! — закричал капрал.
Фигнер стоял во весь рост, он видел крутящуюся на камнях бомбу, видел тлеющий фитиль и только отступил на шаг, прижавшись к стене дома. Блеснул желтый огонь, посыпались осколки стекол.
— О, чёрт! — сказал в изумлении капрал, оглядываясь на Фигнера. — Ты не из трусливых, я вижу…
Они пересекли площадь и были у ворот цитадели.
Караульный офицер повел их темным, сырым коридором. Все вокруг пропахло запахами казармы — сырой кожи, горького табака. За сожженными стенами цитадели канонада казалась отдаленным, глухим гулом. Даже гром восьмидесяти пушек фрегата «Буцентавр» почти не был слышен, и только запах гари проникал сюда, напоминая о пожарах в осажденном городе.
Они остановились перед железной решетчатой дверью. За дверью стоял часовой. Ожидали недолго. Офицер с рукой на перевязи приказал открыть решетчатую дверь.
— Пойдем, — сказал он Фигнеру.
Отворили и другую дубовую дверь, с гербом города Данцига. Фигнер переступил порог. Он был в сводчатом зале, где еще недавно собирались патриции города.
Он никогда не видел генерала Раппа, но, взглянув на суровое, мужественное лицо, черные, седеющие волосы человека, сидевшего за столом, подумал: «Это Рапп». Полковник Моле сидел в стороне, уткнувшись в бумаги.
— Как вас зовут? — спросил Рапп.
— Пиетро Малагамба, эчеленца…
— Кто вы?
— Сын негоцианта из Милана.
— Вы лжете!..
— Сжальтесь! — воскликнул Фигнер. — Ради святых, выслушайте меня, эчеленца! За что меня держат в тюрьме? Я честный человек! О я, несчастный! Я — Пиетро Малагамба, сын негоцианта, друг Франции и французов, верноподданный, почитатель великого Наполеона. Сжальтесь, во имя всего святого! — Он перешел на итальянский язык и, со слезами в голосе, восклицал: — О, Italia la bella! Апельсиновые рощи, белые дороги, руины древних храмов, милый отчий дом на виа Сан-Джузеппе, — неужели я этого больше не увижу, неужели я не услышу звон кампанилы! О, мой отец! Зачем вы послали меня в эту ужасную страну? Вы никогда больше не увидите вашего сына, вашего первенца…
Он говорил все это, ломая руки, жестикулируя, с экзальтацией южанина.
— Не кривляйтесь, — сказал Рапп, — говорите правду, от этого зависит ваша жизнь. Как вы попали в Данциг?
— Я ездил по торговым делам, эчеленца. Отец послал меня получить по векселям с нашего уважаемого клиента, мы, то есть наш дом, торгуем оливковым маслом. Клянусь святым Петром, ключарем рая, моим святым, я не знал, что Данциг в осаде… Тысячи слухов, россказней. Все говорили, что русские разбиты, что они давно сняли осаду… У проклятого места, называемого, кажется, Липцы, меня схватили, отняли коня, дорожные вещи. Мой слуга убежал… Я шел, сам не зная, куда. Вдруг стычка, стрельба. Я пролежал ночь во рву. Потом услышал французскую речь. Это были ваши солдаты, они возвращались после вылазки… Свистели пули. Не знаю, как я остался жив… Вместе с вашими солдатами я вошел в город. Меня отвели в цитадель. Безрукий офицер допросил меня… два раза… Потом меня посадили в башню.
— Помолчите, — сказал Рапп и, оглянувшись на Моле, сделал ему знак.
За спиной у Моле заскрипела дверь. Вошел маленький, сухой старичок с бельмом на глазу. Он низко поклонился генералу, потом мелкими шажками подошел к Фигнеру и, остановившись против него, сказал по-итальянски:
— Кажется, соотечественник?
— О, бог мой! — простонал Фигнер. — Dio mio! Наконец! Я не знаю, кто вы, синьор, но уже одно то, что вы говорите на одном языке со мной, уже одно то, что вы мой соотечественник…
Он говорил на миланском диалекте, и старичок с бельмом слушал этот знакомый диалект, почти не вникая в смысл слов, которые лепетал его соотечественник. Потом он взглянул на Раппа и, поклонившись, спросил по-французски:
— Вы позволите, мой генерал?
Рапп молча наклонил голову.
— Синьор… Пиетро Малагамба, — снова по-итальянски заговорил старичок, — вы миланец?
— Прирожденный миланец, дорогой синьор, прирожденный…
— Где вы живете в Милане?
— На виа Сан-Джузеппе, в собственном доме…
— Виа Сан-Джузеппе… Не помните ли вы, что именно находится на перекрестке, не доходя церкви Сан-Джузеппе?
— Остерия «Майорка», синьор. Какой миланец этого не знает!
— Не горячитесь, синьор Пиетро. Как выглядит этот дом?
— Дом с зелеными ставнями, над дверями наяда с венком в руке, — с оливковой ветвью, я хотел сказать…
— Сколько лет вашему отцу, синьору Малагамба?
— Пятьдесят два года, матери — сорок пять. Две сестры, Анжелика и Барбара, и брат Антонио.
— Антонио? — старичок с бельмом покачал головой.
— Брат Антонио, живой мальчишка, баловень матери…
— Пусть так, — подозрительно ласково сказал старичок. — Вы живете в собственном доме… в каком именно доме?
— Дом с балконом.
— На виа Сан-Джузеппе много домов с балконами. Какого цвета крыша на вашем доме?
— Обыкновенная крыша… Розовая черепица… На фронтоне мозаика. Ангел с крестом.
— Ставни?
— Обыкновенные, зеленые. Между окнами нарисованы гирлянды роз.
— Сколько ниш в знаменитом нашем соборе?
— Две тысячи ниш и столько же статуй.
— Кто живет на улице Сан-Паоло?
— Столяры и сапожники, главным образом ремесленники, синьор.
— Чем еще замечательна эта улица?
Малагамба развел руками:
— Казино Сан-Паоло. Бальная зала. Кто этого не знает…
Наступило молчание, Рапп пошевелился в кресле. Полковник Моле раскрыл было рот…
— Синьор Пиетро, — вздыхая, сказал старичок с бельмом, — не кажется ли вам странным, что я, Антонио Манчини, который знает всех и всё в Милане, который бывал в вашем доме, не помню в лицо вас, сына моего доброго знакомого…
Рапп встал и с любопытством посмотрел на Фигнера.
— Не знаю, — узник выглядел несколько смущенным, — право не знаю… Однако вот что… Когда вы были в последний раз в Милане, синьор? Когда это было?
— Двенадцать, нет, тринадцать лет назад…
— Dio mio! Мне было только тринадцать лет, а теперь мне двадцать шесть! Вы просто не узнали меня… В тот год, когда вы уехали, родился Антонио, ваш тезка.
Снова наступило молчание. Старичок с бельмом раскрыл рот и снова закрыл.
— Можете итти, Манчини, — сказал Рапп.
И старик с бельмом ушел.
Но Малагамба был склонен продолжать воспоминания:
— Моя мамаша родом из Рагузы, из Далмации. Она блондинка, она и сейчас хороша собой. Был однажды смешной случай…
— Помолчите. Отвечайте только на вопросы. Как вы, невоенный человек, решили ехать через всю Европу в военное время?
— Что делать, эчеленца… Мы почти разорены. Клиенты не платят. Отец приказал мне ехать…
— Вы, должно быть, ловкий человек, если добрались до Данцига. Как вам это удалось?
— У меня бумаги в порядке… Потом — всюду встречаешь земляков, офицеров или солдат. По правде сказать, мне повезло: в Виттенберге, в гостинице «Под букетом», я встретил одного полковника. Я немного пою, играю на флейте… Я ему понравился. Он дал мне пропуск… Полковник Флоран.
Моле встал и приблизился вплотную к Фигнеру.
— Как вы его назвали?
— Полковник Флоран, гвардейской артиллерии.
— Каков он из себя?
— Худой… Седые усы. На подбородке шрам. Он был очень добр ко мне. Он сказал: «Если вы доберетесь до Данцига, разыщите там моего приятеля, полковника… Пэлэ… И скажите, что я не забыл дело в Монтесерате…»
Снова наступило молчание.
— Синьор Малагамба, — сказал, наконец, Рапп, — ступайте и ждите. Вас позовут.
Фигнер вышел, не оглядываясь. Игра была выиграна.
— Все правда, — сказал Моле. — Только Флоран мог сказать ему о деле в монастыре Монтесерате, в Каталонии. Я получил там рану в шею, сабельный удар пришелся по воротнику.
— Мне кажется, мы нашли подходящего человека, — сказал Рапп, — займитесь им. Скажите, чтобы ему отвели квартиру…
— Хорошо. А что делать с немцем?
— Делай, что хочешь, мясник… — проворчал Рапп.
— Он осужден по декрету 1792 года.
— Можно подумать, что мы живем в дни террора. То был 1792 год, не забывай об этом.
— Я никогда не забываю об этом.
Рапп медленно поднялся. Он прошелся по залу, потом подошел к Моле и положил ему руки на плечи.
— Ты остался таким, каким был двадцать лет назад… Бог знает, что было бы с тобой, если бы не я… если бы мы не были земляки из одной деревни.
— Я никогда не забываю об этом, — сказал Моле и вышел.
…На следующий день Рапп потребовал к себе Пиетро Малагамба. Итальянец был причесан, ему дали приличную одежду, правда, не по мерке, но хорошего сукна. В этом виде он больше походил на молодого человека из богатой семьи.
— Я не полковник Флоран и равнодушен к музыке, — начал Рапп и показал ему на кресло рядом с собой. — Мы будем говорить о другом. Не о музыке.
— Но разве от этого умаляется воинская слава, эчеленца? Даже жестокий Нельсон почитал Гайдна и, посетив его в Вене, попросил великого маэстро подарить ему одно из перьев, которыми были написаны божественные симфонии. Любовь к музыке не умаляет доблести.
— Надеюсь, вы не только это знаете о Нельсоне? — с иронией спросил Рапп.
— Не только это. Я помню убийства патриотов, которые совершал адмирал Нельсон и королева Каролина.
— Скажите мне, синьор Малагамба, скажите напрямик: вы можете считать себя патриотом своего отечества? Вы желаете добра вашей родине?
— Я патриот и истинный слуга моему отечеству, — со всей искренностью сказал Фигнер.
— Долго ли вы думаете оставаться в Данциге?
— Мне тут нечего делать. Дом должника моего отца разрушен, бедные люди, вся семья погибла в огне… Ах, Нельсон! Заключить в тюрьму великого Чимарозу и преклоняться перед Гайдном…
— Оставьте Нельсона и Чимарозу. Вы мне кажетесь смелым человеком и другом Франции.
— Древние говорили: «Достойный человек предпочитает слышать от других похвалы своим деяньям, нежели самому рассказывать о них».
— Слушайте же, синьор Малагамба. Я хочу послать вас с донесением к моему императору.
Так случилось невероятное: генерал Рапп, начальник гарнизона осажденной крепости Данциг, отправил с донесением к императору Наполеону знаменитого русского партизана Александра Самойловича Фигнера, — об этом подвиге Фигнера никогда не забывают упомянуть биографы необыкновенного человека…
…Гейсмар еще жил. Он стоял в крепостном рву одного из южных бастионов крепости, привязанный к столбу. Холодный пот стекал по его лицу, обращенному к солнцу. Он, не щурясь, глядел на солнце широко раскрытыми глазами.
Тянуло утренним холодком. Гейсмар слышал печальный, глухой звон колокола. Тысячи дымков поднимались из печных труб. Жители осажденного города начинали свой новый день. У фонтана с безголовым Нептуном собирались женщины с ведрами и сокрушенно качали головами. Аккуратные домохозяева убирали с мостовой битую черепицу, осколки стекла и обломки штукатурки.
Поднималось солнце. Гейсмар видел его в последний раз.
Когда выстроились солдаты и на солнце блеснули шесть ружейных дул, Гейсмар невольно зажмурился.
Лафон завязал ему глаза и отошел в сторону. Скоро часы пробьют шесть. С шестым ударом грянет ружейный залп.
А Гейсмар все еще не верил. Он думал, что случится чудо, что Рапп отменит казнь. Он докажет, что будет верно служить французам. Ему поверят. Нет, не поверят. Не поверит Лафон, не поверит Моле. Странно, что он попал именно в руки этих людей. Скольких из них он предал, сколько якобинцев нашли свою смерть в болотах Гвианы, на галерах Тулона! Возмездие? Неужели есть на свете возмездие?
Он не раскаивался ни в чем. Он привык жить для себя, он презирал слабых и трепетал только перед сильными. И хотел быть таким, как они…
Где-то близко запел петух. Ему ответили другие петухи в городе. И на Юнкергофе стали бить часы. Первый удар, и второй, и третий… Гейсмар закричал, забился, ударился теменем о столб. Четвертый удар, пятый…
С шестым ударом грянул залп, и все было кончено.
Лафон подошел к телу и наклонился над ним. В двух шагах от столба вырыта яма. Лафон оставался на месте казни, пока не зарыли тело.
…Ночью, после полуночи, в ров у южных бастионов спустились две роты стрелков. Это отправлялись в ночную вылазку егеря капитана Ришара. С ними был человек, которого не знал даже капитан Ришар. Он знал только одно — ворваться в русские траншеи, затеять перестрелку и возвратиться, нисколько не заботясь о том, что станется с неизвестным.
Потеряв одиннадцать егерей в ночной стычке, капитан Ришар вернулся в крепость.
Неизвестный, сопровождавший роты, участвовавшие в вылазке, пропал без вести, о чем было доложено генералу Раппу.
В ту же ночь этот неизвестный, назвавший себя подполковником русской службы Фигнером, был доставлен герцогу Вюртембергскому.
— Милый Фигнер, — воскликнул герцог, — мы уже оплакивали вас!
Он оставлял Фигнера у себя, но этот неутомимый человек на рассвете выехал в глазную квартиру. Он положил перед главнокомандующим Михаилом Богдановичем Барклаем де Толли донесение генерала Раппа Наполеону. Генерал Рапп писал императору о непоправимой ошибке: лучшие, испытанные в походах войска были разбросаны по крепостям! В надежде сохранить господство в Пруссии Наполеон сам ослабил свою армию. В донесении генерала Раппа был укор и была точная картина положения в Данциге.
Из этого донесения следовало, что французский гарнизон в Данциге может долго оборонять город, что Матвей Иванович Платов прав, когда говорил о том, что держать казаков под Данцигом — значит сковать по рукам и ногам кавалерию, которая была страшной угрозой Наполеону: у Наполеона почти не оставалось конницы.
Барклай благодарил Фигнера за его подвиг. День-другой в главной квартире говорили о «штуке», которую выкинул знаменитый Фигнер, но больше говорили о том, что он не захотел оставаться при главнокомандующем, а выехал в отряд своих удальцов, который стоял где-то на Эльбе, близ города Дессау.
Адъютант Барклая Голицын, встретив на почтовой станции Можайского, передал ему поклон от Фигнера, и Можайский не мог себе простить того, что не повидал этого необыкновенного человека. Он точно чувствовал, что никогда больше его не увидит.
Уже наступила осень, обнажались леса, подкопы ко ней скользили по опавшей листве. Начались осенние Дожди, дороги стали почти непроходимыми для тяжелых экипажей и обозных фур.
Битва под Дрезденом не принесла успеха. Этого следовало ожидать. Вспоминая все то, что он видел в главной квартире — долгие бесцельные совещания союзных главнокомандующих, бесконечные пререкания с австрийцами и пруссаками. Можайский понимал, что союзники еще далеки от победы.
От Данилевского Можайский слышал не раз, что покойный фельдмаршал умышленно медлил с наступлением, чтобы «перевести дух», дать отдых войскам и дождаться резервов из России.
Мудрый и осторожный Кутузов настаивал на том, чтобы русские до прибытия резервов действовали за Эльбой только легкими отрядами, вот почему он полагался на действия партизанских отрядов. Кутузов мечтал создать в течение зимы армию, «столь же страшную числом, сколько ужасную мужеством».
Не так думали жаждущий славы интриган Беннигсен и вздорный, самонадеянный Витгенштейн. Они уверяли Александра, что армия достаточно сильна и может не только противостоять неприятелю, но и разгромить его.
Однажды после долгого и бесплодного совещания (было это уже после битвы при Бауцене), провожая Ермолова, Можайский услышал от него: «Нет хуже огульного наступления… Артиллерийские парки не поспевают за армией, нет снарядов. С чем будем наступать?»
Фельдмаршал думал сосредоточить на Дрезденском плацдарме все силы союзников, чтобы не дать Наполеону нанести поражение разъединенным войскам. Он знал повадку Наполеона — бить противника по частям. И вот сражение у Дрездена. Случилось то, что предвидел Кутузов.
Когда под проливным дождем, вместе с отступающими в порядке войсками, скакали император Александр и король прусский, французам казалось, что русские не скоро оправятся после Дрездена. Но, прибыв в действующую армию. Можайский испытал радостное чувство гордости, уверенность в силе духа русского воинства. Он увидел свежие, прибывшие из России войска. Спокойствие царило в штабах, радовали рассудительность и хладнокровие, с которыми говорили о начале кампании генералы, офицеры и солдаты. Все были проникнуты ожиданием генерального сражения.
Всезнающий, всюду поспевающий Данилевский ходил с многозначительным видом, как человек, прикосновенный к тайнам главной квартиры.
Однажды вечером за бутылкой рейнвейна важность и чинность слетели с него, и, развалившись на бурке, он рассказал много любопытного Можайскому:
— Покойный фельдмаршал всех держал в решпекте. Беннигсена выслал из армии за своеволие, великого князя Константина Павловича держал в узде. А закрыл глаза фельдмаршал — Беннигсен тут как тут, и ему дали армию. Великий князь стал дурить по-старому, и не Барклаю его осадить. Да что говорить, при Михаиле Илларионовиче императорская главная квартира, штаб его величества были с боку припеку, все делалось в штабе главнокомандующего. Теперь, друг сердечный, не то… Как же не радоваться Бонапарту? Михаил Илларионович в гробу. Император ожидал Моро, хотел поставить его главнокомандующим всеми силами. Моро поумней Шварценберга, десять раз битого, да битых Блюхера с Иорком. Так нет же! Меттерних грозил разрывом, ежели Моро будет главнокомандующим. Пришлось согласиться. А русского тем более не хотели. И вот началось дело у Дрездена. Кажется, надо атаковать всеми силами по всей линии корпус Гувиона Сен-Сира. В день 26 августа Наполеона еще не было у Дрездена, — австрийцы и немцы его пуще чёрта боятся. Мы-то его били, у нас того страха нет. Что ж ты думаешь? Начали совет. Ты бы видел рожу Шварценберга. Сидит мопс мопсом и жмурится. И ведь Моро как в воду глядел, когда говорил государю: «Этот человек все погубит». Так и было! 27 августа подоспел на подмогу Сен-Сиру сам Бонапарт с главными силами, и погубил проклятый Шварценберг пропасть людей!.. Про смерть Моро слышал?
— Слышал…
— Умер честной солдатской смертью. Даром только мучили, кромсали его хирурги. Выкурил перед смертью сигару, велел написать письмо дочери и закрыл глаза навеки. А по правде говоря, был стратег не хуже Бонапарта, только без его ума.
— Солдаты наши говорят: «Не с чего Бонапарту хвалиться, мы еще воевать не начинали», — сказал Можайский.
— И правда! После Дрездена был Кульм — первая ласточка побед! Это славное дело нашей гвардии. Ермолов нынче у нас в почете.
И эта весть тоже порадовала Можайского.
20
В конце сентября 1813 года Александр Самойлович Фигнер прибыл в главную квартиру.
Поездка к начальству никогда не радовала его; сейчас эта поездка была вызвана крайней необходимостью. Отряд его увеличился. Из наполеоновских войск к нему перебегали немцы, итальянцы. Оружия и патронов едва хватало на своих, а тут приходили безоружные, но опытные, бывалые солдаты.
Александр Самойлович поехал к Винценгероде выпрашивать у старого генерала оружие. Князь Сергей Григорьевич Волконский, молодой генерал, состоявший при Винценгероде, был расположен к Фигнеру. Александр Самойлович надеялся на его помощь. Волконский встретил ласково, угостил хорошим обедом, но с сокрушением сказал, что ничего сделать для Фигнера не может из-за неприятной истории, которая вышла между Фигнером и генералом Сухозанетом.
В прошлый свой приезд в главную квартиру Фигнер неожиданно натолкнулся на генерала Сухозанета у почтовой станции. Генерал сделал ему выговор за то, что, прибыв в главную квартиру, Александр Самойлович не явился по начальству, то есть к нему, и еще за то, что был не по форме одет.
Одет он был, как всегда в походе: артиллерийский шпензер, нанковый серого цвета чекмень, кожаный картуз. Вестовой держал под уздцы коня, во французской сбруе, чтобы при случае Фигнер мог накинуть французский плащ, прицепить французскую шпагу и проехать как ни в чем не бывало между неприятельскими дозорами. На замечание генерала Фигнер отозвался дерзостью, он и раньше немало терпел от придирок Сухозанета. На дерзость генерал ответил бранью, и тогда на глазах у остолбеневшего адъютанта Фигнер почти что толчками загнал Сухозанета в дом, и адъютант видел, как Сухозанет убежал, прикрывая руками щеки от возможной оплеухи.
Не будь при этом случае адъютанта, Сухозанет не стал бы поднимать истории, но тут он немедленно отправился к прямому начальнику Фигнера генералу Винценгероде и потребовал ареста оскорбившего его офицера.
Спасли Фигнера надвигающиеся события.
Истекал срок перемирия. Лазутчики доносили, что Наполеон замышляет наступление, армии его стоят на берегах Эльбы. Саксония должна стать ареной кровавых битв.
— Князь Сергей Григорьевич, — сказал Фигнер Волконскому, — зная меня, вы не подумаете, что я утратил мужество. Я имею приказ стоять с моими людьми у Верлитца и буду стоять там, пока жив. Но как прикажете быть, когда половина моего отряда не имеет оружия, когда французы не считают мой отряд за регулярное войско, в любой час могут атаковать нас, несмотря на перемирие? Я сам не раз ездил в разведку к французам и слышал, как они похвалялись рассеять мое войско и расстрелять меня.
— Я докладывал генералу об оружии и снаряжении, о вашем отряде и получил ответ, что прусскому уланскому полку, стоящему восточнее Верлитца, приказано поддержать вас в случае атаки.
— Ох, не верю я прусским уланам! Дали бы лучше три сотни казаков, как-нибудь отбились бы, а главное — ружей и снарядов хоть немного…
Волконский советовал Фигнеру не ждать и возвратиться. В оружии и патронах уже отказано дважды, и надеяться получить снаряжение для безоружных партизан было при нынешних обстоятельствах наивно. «Гатчинские скороспелки», как называли аракчеевцев, ненавидели Фигнера.
— Еще об одном прошу вас, Александр Самойлович: не попадайтесь, бога ради, на глаза Сухозанету, эта мстительная скотина способна на все. Дело может дойти до государя, а вечного заступника вашего, светлейшего, нет в живых.
Потом они заговорили о довольствии и фураже для партизан, и Фигнер с сердцем сказал:
— Вот пришли мы на немецкую землю, гоним французов, а рады ли нам прусские дворянчики, толстые бюргеры и ученые пасторы-тупицы? Хотел бы я увидеть, как пруссаки добились бы освобождения своей земли от ига Наполеона, если б не мы, русские, если б не было Бородина и тарутинского флангового марша… Я тут, в главной квартире, больше суток не бываю, и то нет сил видеть нахальства австрийских чинодралов, британской надменности и прусской наглости. Мы, русские, льем нашу кровь. Без нас, без русских, Европа не была бы накануне освобождения! А дождемся ли мы когда-нибудь благодарности от союзников наших? В отряде моем сотни две немцев, перебежчиков из саксонских и вюртембергских полков Наполеона. Было бы вдесятеро больше, когда б я всех брал. Спрашиваю: «Почему вы, немецкие солдаты, не идете в свои полки, а идете к партизанам?» Отвечают: «Ах, господин полковник, в наших немецких полках, кроме палок и зуботычин, солдаты ничего не видят, а у вас мы все товарищи!» И дерутся славно! А приходим на постой в город — господа бюргеры встречают как лютых врагов, ей-богу! Алексей Петрович Ермолов показывал мне рапорт командира пензенского ополчения, и писано там, что господа бюргеры хоть и считают себя нашими союзниками, но русских ненавидят, раненым не дают пищи и пристанища, без жалости смотрят на умирающих под окнами наших солдат… А вестфальские мародеры в Москве? Не было их грубее и бесчеловечнее! Вот говорят про меня, что очень я ожесточился. Ожесточился потому, что много видел горя и слез народных… Ну, спасибо вам хоть на добром слове…
Он оглядел чистенькую комнату князя, свечу у ночного столика, книги в сафьяновых переплетах и наклонился над ними.
— Книги в походе — роскошь… Я вожу с собой одну библию, — и, подметив удивленный взор Волконского, добавил, — вам странно: атеист, неверующий, и библия.
— Странно, — согласился Волконский.
— Перечитайте «Книгу Судей», князь. Куда Вальтер Скотту…
Он взял со столика книгу.
— Гельвеций… В походах нет времени прочесть книгу да пораздумать. Рассуждения этого философа о бедности и богатстве мне давно по душе. Правда, что богатство неправильно разделено между людьми: одни утопают в довольстве и роскоши, другие гибнут в нищете…
— Отнять богатство у недостойных и отдать нищим и достойным? — задумчиво проговорил Волконский. — Мечта… Мечта философа.
— Однако то хорошо, что это философия земная, терпеть не могу немецкой метафизики и мистики, туманных бредней о загробном мире… «Вертер», — прочел он название другой книги. — Не понимаю, для чего Наполеон возил в итальянский поход «Вертера»…
— Вы строгий судья, — сказал Волконский, глядя на хмурое лицо Фигнера.
— Шиллер — «Разбойники»… Petten fon tiranencetten — освободить от цепей тиранства! Вот это мне по душе! Только это одни слова.
— Почему же слова?
— Когда Наполеон вступил с войсками в Берлин, он ехал по Унтер ден Линден на двадцать шагов впереди своей свиты, ехал один. Толпы народа хранили молчание. И не нашлось смельчака с кинжалом или пистолетом под плащом! Это оттого, что прусские бюргеры охотнее других покоряются завоевателям.
— А студент в Вене? Кстати, у него, кроме кинжала, был томик Шиллера. Не знаю, что более может послужить делу свободы — кинжал убийцы или стихи поэта.
— …Война идет к концу, — продолжал Волконский, — есть предел силам человеческим, есть предел военному счастью Бонапарта.
— Счастью?
— Искусству, — согласился Волконский. — Однако с каждым днем мы становимся сильнее, мы выгоним его из Германии и станем на Рейне.
— И тогда, что же, по домам? — ненатурально улыбнулся Фигнер. — По мне, воевать бы еще лет с десяток.
— Вы шутите?
— Ни мало. Мне нет покоя… Мир, житие в усадьбе, гарнизонная служба — все это не по мне… — он показал на грудь, — вот здесь жжёт… Тянуться перед гатчинцами. Слушать грубости царева брата Константина. Правда, со мной этого не случалось. А было бы, случилось бы… — он опять криво усмехнулся. — На дуэль бы не вызывал. Зарубил бы перед фронтом!
Холод пробежал по жилам Волконского. Он не мог отвести глаз от неподвижной, неестественной улыбки, маленькой, слегка дрожащей руки, поглаживающей эфес сабли.
— Я поздно родился, князь… Мне бы жить лет триста назад, плыть на каравеллах в неведомые людям страны, завоевывать царства, как Фердинанд Кортес, Пизаро или наш Ермак… Смешно, а?
Волконский покачал головой:
— В наш век вы прославили свое имя, Александр Самойлович. Честь вашего имени дорога каждому, любящему славу русского войска.
— Что ж, так я понимаю долг воина. Но мало мне этого! Мало! — стукнув кулаком по колену, воскликнул Фигнер. — Я лелею план, вам, так и быть, скажу: пробиться с моим легионом через Альпы, войти в Италию, взбунтовать Милан, поднять Ломбардию, Тоскану, папскую область, объявить себя вице-королем… Власть! Русская власть в Италии! Вот счастье! Вот цель жизни! — вдруг он умолк и разразился смехом. — Сумасбродство! Неправда ли? — и вдруг он спросил с грустью и серьезно: — А вы, князь? В чем видите счастье?
— Я? Я не хотел бы таких походов. Судьба завоевателя не по мне… Я люблю мой народ, народ русский, вижу дивные качества, которыми одарила его природа, народ первый на свете по славе, по могуществу, по радушию, мягкосердечию, юмору… И мне тяжко видеть, как его оскорбляют, унижают низкие и подлые люди нашего сословия… С концом войны должны быть перемены… великие перемены в государственном устройстве, в управлении…
Где-то близко труба сыграла зарю.
— Вот вы о чем… — с удивлением сказал Фигнер, и на лице его появилось выражение то ли сожаления, то ли иронии.
И Фигнер глядел на Волконского, на его красивую, стройную фигуру, к которой так шел генеральский мундир и георгиевский белый крест, по праву полученный за славное дело… Что-то вроде зависти шевельнулось в душе Фигнера. Бог знает, о чем думал он в эту минуту, когда они прощались. Но, уж верно, не думал, что блестящий, храбрый молодой генерал через двенадцать лет будет лишен титула и воинского звания, закован в кандалы и сослан а Сибирь, в каторжные работы.
Александр Самойлович возвратился к своему отряду накануне окончания перемирия. Отряд был расположен в великолепных заповедных парках Верлитца. За парками, где бродили олени и лани, начинался густой лес, спускавшийся к водам Эльбы. Узкая плотина соединяла берега реки.
Прибыв в отряд, Александр Самойлович вызвал к себе своих офицеров. Он сказал им, что ни оружия, ни патронов ему не дали. Потом выслушал доклад лазутчиков, побывавших в городке Дессау. Вести были невеселые. Французская и польская конницы перехватили заставами все дороги, по всей округе идут передвижения французских войск, отряд может быть в любую минуту окружен. Позади река Эльба и узенькая полоска плотины, — по ней, возможно, придется отходить. На другом берегу стояли прусская гвардейская кавалерия и уланский полк, на который мало надеялся Фигнер.
Он лежал на разостланной под косматой елью бурке, держал в зубах погасшую фарфоровую трубочку. Большие серые глаза его рассеянно глядели в небо.
— Никто не смей снимать с коней седла, — наконец сказал он, — я сам проверю цепь и расставлю дозоры.
Когда стемнело, он приказал привести коня, расставил дозоры и спустился к водам Эльбы. Солнце было на закате, поднялся ветер, вокруг зловеще шумел лес. Он долго глядел на узкую ленту плотины.
Корнет Лихарев, почти мальчик по возрасту, спрыгнул с коня, зачерпнул рукой воду и смочил себе вихор.
— Здесь Эльба глубока, — сказал тихо Фигнер. — Ежели нам отступать, то вплавь никак нельзя… Что до меня, то я сроду плавать не умел…
— А не начать ли нам потихоньку отход? — осмелился спросить Лихарев.
— Приказа нет, мой голубчик, — ласково ответил Фигнер. — А потом не все ль равно? С тех пор как я родился и стал мыслить, я знал, что все равно придется оставить этот свет… Вот только жену жалко… — Помолчав, он добавил: — Но не в постели же умирать воину, дорогой мой? Умереть — так во славу отечества…
Лихарев молчал. Что мог сказать он, девятнадцатилетний юноша, знаменитому партизану и храбрецу?
— Что вы думаете об этом столбе пыли? — вдруг спросил Фигнер, повернувшись лицом к лесу.
— Здесь песок… Возможно, от ветра.
— Ветер утих. И пыль неспроста…
Они вернулись к отряду. Едва они проехали с полверсты, их догнал казак из дозора:
— Француз валит!.. Кавалерия, ваше высокоблагородие… Несметная рать!
Это был авангард корпуса Нея.
Фигнер приказал бить тревогу, мундштучить коней и готовиться к отходу через плотину. Он был весел, приказы отдавал шутливо и ласково. Стрелкам приказал подняться на сосны, драгунам — спешиться и лечь.
На поляне построились солдаты-испанцы, у которых не было оружия.
— Друзья, — сказал он по-испански, — у вас нет ни ружей, ни патронов, у вас есть только ненависть к врагу, который держит в ярме вашу родину. Кто хочет — пусть остается, он сможет получить оружие убитых товарищей. Кто не хочет — путь добрый, вот плотина, спасение на том берегу. Еще есть время. Спасайтесь врассыпную… Место сбора вам известно.
Он повторил эти слова по-итальянски.
Потом Фигнер поехал к гусарам. Их осталось немного, среди них были ветераны Можайска, были старики, сражавшиеся у Рущука под командой Каменского. Они стояли тихо и молча глядели на худощавого, стройного всадника в бурке; он был без фуражки, светло-русые волосы падали ему на лоб.
— Гусары, друзья гусары…
Он знал каждого из своих гусар в лицо, знал по именам, но точно в первый раз видел их сумрачные, обветренные, покрытые рубцами и морщинами лица. То были истинные воины, давно оторванные от мирной жизни, они умели только сражаться. Четверть века их жизни прошло в походах. Не зная усталости, среди нескончаемых тревог и опасностей, они прошли с ним три тысячи верст. Смерть была всегда рядом, но до сих пор она щадила их; теперь она глядела на них в упор: что он мог им сказать?
— Друзья гусары… Французы обходят нас дугой и будут жать к Эльбе. Нам не к чему надеяться на помощь союзников, да и не торопятся они нам помочь… Так будем же драться насмерть, сами ляжем костьми, но дадим уйти товарищам…
Стояла такая тишина, что слышно было, как звенели удилами кони, да еще слышался плеск реки издалека и глухой гул приближающейся конницы.
— Друзья гусары! Ни вы меня, ни я вас никогда не выдавал. Одна у нас с вами дорога — в царство небесное. Простимся же со всем дорогим, что есть у нас на свете.
Он вырвал саблю из ножен и, наклонив голову, крепко поцеловал клинок.
— Ахтырцы! Александрийцы! Пики наперевес! Марш-марш!
…Таким видел Фигнера в последний раз Лихарев.
Полвека спустя, уже дряхлым стариком, закрыв глаза, он все еще видел ночную битву в лесу, озаряемом только вспышками выстрелов. Бой шел на просеке, потом на плотине. Вопли ярости, стоны, звон клинков, храп вздыбившихся коней — все это помнил Лихарев. Он завидовал своему современнику — поэту Федору Глинке, в народной балладе воспевшему смерть Фигнера:
…это дело Из самых славных русских дел! Никто не думал об увечье: Прочь руку — сабля уж в другой! . Но где ж союзники? Ко времени и месту Теперь им быть!..Лихарев, свидетель последней битвы Фигнера, не дружил с музами, а между тем он, а не Федор Глинка, видел, как светила луна сквозь пороховой дым над Эльбой. Видел, как несколько всадников — все, что осталось от двух эскадронов ахтырских и александрийских гусар, — плыли по течению, держась за конские хвосты, как выбирались на другой берег, но течение относило их вниз.
Осталась в памяти старика плотина, по которой отходили пехотинцы — горсть людей, отбивавшаяся штыками от наседающих французов.
Остался в памяти берег реки, где стоял он и вахмистр Лукашов. Долго они стояли на берегу, всматриваясь в воды Эльбы. Все еще казалось им, что они увидят светловолосую голову плывущего к ним Александра Самойловича. Выбрались на берег еще трое гусар, из тех, что прошли с Фигнером от берегов Оки до берегов Эльбы.
Но Фигнера не было с ними. Нашли его саблю, выброшенную на берег; она лежала, обращенная лезвием к неприятелю, как знак того, что не будет мира между ним и неприятелем даже после его гибели.
В водах немецкой реки Эльбы кончились дни русского партизана Александра Самойловича Фигнера, о котором однажды писал Кутузов: «Погляди на него пристально, это человек необыкновенный, я такой высокой души еще не видал: он фанатик в храбрости и в патриотизме, и бог знает, чего он не предпримет».
Он прожил на свете всего двадцать шесть лет.
21
Прошли месяцы с тех пор, как Анна-Луиза Грабовская оставила поместье Грабник.
Племянник Казимира Грабовского — молодой Стибор-Мархоцкий оказался прав. Сплетни, пересуды, томительная жизнь вдали от парижских друзей — все это утомило Анелю. Политические застольные споры, ссоры, даже поединки сторонников Чарторыйского и сторонников Иосифа Понятовского повергали ее в меланхолию. Одна душа казалась ей близкой и родной, одной собеседнице она открывала свою душу — Катеньке Назимовой.
Катенька первая услыхала от Анели длинные рассуждения о том, что жить стоит только для того, чтобы странствовать, видеть новые города и страны, новых людей, наслаждаться созерцанием великих произведений искусства.
Катенька Назимова не очень удивилась, когда услышала от Анели-Луизы, что надо поискать в Европе уголок, где можно жить в тишине и покое, посещать библиотеки, музеи и мечтать о счастливом будущем человечества.
— Девять лет я жила на моей новой родине, — сказала однажды Анна-Луиза, — но умер Казимир, и что соединяет меня с Польшей? Правда, я люблю ее, но если меня спросят, чего я хочу, я скажу — свободы для всех и гибели тиранов. В Италии меня ждут мои старые друзья, туда стремится моя душа, но как жаль, что нельзя миновать Вены… Увы, иного пути нет!
Она точно предчувствовала, что в Вене ее ожидают неприятности.
В Грабнике Гейсмар сказал правду. В тот самый день, когда президент полиции Вены барон Гагер прочитал в списке приезжих имя графини Анны-Луизы Грабовской и вдовы полковника Катрин Лярош, он послал в гостиницу на улицу Каринтии своего адъютанта с деликатным поручением. Адъютант имел честь передать графине, что осенняя погода в Вене может расстроить ее здоровье и что самое лучшее для графини — возможно скорее оставить Вену. Грабовская ответила, что она благодарит барона за заботы о ее здоровье, что она приехала в Вену к гоф-медику Фогелю, но барон Гагер вполне заменил ей знаменитого врача.
Так случилось, что Анеля Грабовская и Катя Назимова пробыли в Вене только один день. На следующее утро они выехали в Венецию.
Навсегда осталась в памяти у Кати дорога из Вены в Венецию. Темно-лиловые ущелья над голубыми водопадами, розовые и синие вершины гор, развалины древних замков, нависшие над пропастью скалы, хрустальные горные ручьи.
Дорога спустилась в долину, где еще не чувствовалось дыхания осени, еще не пожелтела листва буковых рощ.
Поздно ночью они приближались к Венеции. Пахло сыростью, воздух был влажный, где-то во мраке угадывались водные пространства, и вместе с тем не было острого запаха моря, морских водорослей, не слышно было плеска прибоя. Пока разгружали два экипажа, Катя стояла на берегу и вглядывалась в мерцающие в темноте, медленно передвигающиеся огоньки. Большая лодка подошла к берегу, послышалась итальянская речь, окрики голосистых носильщиков. Катя ступила на шаткие мостки. Чья-то сильная рука поддержала ее. Она и Анеля Грабовская очутились на носу лодки; тотчас же гребцы вскинули весла, и лодка двинулась в темноте.
Пока они плыли, начало светать.
Постепенно бледнело небо, огоньки встречных лодок медленно таяли в розовом отблеске зари. Пели гребцы, плеск весел казался аккомпанементом грустной и нежной мелодии.
Барка плыла вдоль длинной песчаной косы, отделявшей лагуну от открытого моря. Коса называлась Лидо. Воздух был так чист и прозрачен, что можно было разглядеть вдали мачты судов, флажки на мачтах, матросов, убиравших паруса.
Солнечные лучи пронизывали и зажигали жемчужным светом гребни набегающих волн. На ста восемнадцати своих островках вырастала Венеция — колокольни соборов, громады дворцов, широкая водная улица Большого канала, горбатый мост Риальто. Фасады почерневших от времени домов поднимались прямо из воды цвета свинца. По каналу плыли длинные черные лодки-гондолы, на корме стоял гребец с одним длинным веслом; нос лодки высоко поднимался над водой, как клюв хищной птицы, а посредине возвышался балдахин со спущенными занавесями.
Уже наступало утро, и мимо проплывали к рынку на тяжелых барках, на лодочках-скорлупках щавель и томаты, бараньи туши, цветы и вино в просмоленных бочках, корзины винограда…
Катя не могла оторвать глаз от этой картины, от плавучего рынка. Но вдруг задымили факелы… Гроб и священник плыли навстречу, осененные балдахином из черного бархата с серебряной траурной бахромой. Потом проплыли три гондолы в гирляндах цветов; в одной из них девушка в венчальной фате и молодой человек в голубом фраке — венецианская свадьба…
Какой странный, призрачный, точно приснившийся во сне город! Снова лодки и лодки, плывут хлеб и розы, плывут похороны и свадьбы… И вдруг Кате показалось, что сейчас уплывет все — дворцы и соборы, почерневшие дома, горбатые мосты — и останется пустынная лагуна и барка между бледно-голубым небом и свинцовой, пахнущей гнилью и плесенью водой…
Так ей запомнилось первое утро в Венеции.
…Анна-Луиза Грабовская и Катя жили в старинном дворце, сыром и холодном. В нем множество зал, комнат, переходов, тайников, от мраморных стен шел леденящий холод, и весь он напоминал саркофаг, а не жилище венецианских вельмож. Дворец принадлежал другу Казимира Грабовского — племяннику последнего дожа Венеции Луиджи Манин.
Два десятка слуг — челядь владельцев — слонялись среди обветшалой роскоши трехсотлетнего дворца. Племянник последнего дожа был выслан австрийцами и жил на положении узника близ Вены. Управляющий сдавал дворец внаймы именитым иностранцам.
Когда Анеля Грабовская решила ехать в Венецию, она думала, что тут они будут вдали от военных тревог, и, правда, только через две недели здесь узнали о конце перемирия; через три недели сюда дошла весть о битве у Дрездена. Но напрасно она искала здесь покоя, — этот призрачный город жил прошлым, воспоминаниями о тринадцати веках независимости, славы Венецианской республики. Только семнадцать лет прошло с того дня, когда был подписан мир в Кампо-Формио и Наполеон отдал Венецию Австрии, чтобы вознаградить ее за уступки на Рейне.
Все вокруг напоминало о прежнем могуществе Венеции и о жалком ее конце. Во Дворце дожей творения Тинторетто и Тициана в симфонии ослепительных красок, в блеске порфир, мантий, драгоценных доспехов прославляли «Триумф Венеции» — триумф богатейшей купеческой республики, столетия властвовавшей на морях.
На площади святого Марка, в кофейнях, сидели в вынужденном безделье венецианские патриции, бывшие сенаторы, купцы, шпионы, которых республика держала в Морее, в Румелии, в Кандии, в Тунисе; но более всего было австрийских шпионов, которыми австрийская тайная полиция наводнила город.
Поднимая глаза к небу, венецианцы с огорчением видели портал базилики святого Марка. Столетья украшала этот портал античная скульптурная группа — четыре бронзовых коня. По приказу Наполеона кони были сняты с портала и увезены в Париж.
Бронзовые гиганты на колокольне святого Марка по-прежнему ударами молотов отбивали часы; звону часового колокола отвечал печальный перезвон колоколов церквей Санта-Мариа делла Салюта, Сан-Джорджио, Маджиоре, и этот колокольный звон звучал в ушах венецианцев погребальным звоном.
Молодежь с трепетом ожидала вестей с поля сражения. Поражение наполеоновской армии в России пробудило надежды. Прошел слух о мире между коалицией держав и Наполеоном, и надежды угасли. Но война снова разгорелась, и венецианские патриоты возмечтали об освобождении Европы, хотя бы о воссоединении Венеции с Пьемонтом, с Сардинским королевством. Австрийское иго было невыносимо, пылкая молодежь уже видела в мечтах восстановление свободы и независимости, видела Венецианскую республику возрожденной и могущественной. Народ ненавидел Австрию с ее тираническим, шпионским строем, с ханжеством и жестокостью, презрением к людям третьего сословия, алчностью и коварством. Венецианские ремесленники, искусные мастера, прославившие себя на весь мир прекраснейшими изделиями из стекла, зеркалами венецианскими, жили впроголодь, потому что их изделия австрийские власти облагали непомерными пошлинами. Особенно негодовали моряки. Их профессия была издавна в почете в Венеции. Отважнейшие из моряков готовили заговоры против австрийского владычества. «Мост вздохов», соединявший Дворец дожей с тюрьмой синьории, теперь послужил австрийским жандармам. Многие храбрые и смелые венецианцы испытали ужасы тюрьмы, из которой некогда сумел убежать авантюрист Казанова и уже этим прославил свое имя в Европе.
Над входом в судилище в давние годы была выбита надпись: «Место сие страшное. Здесь врата неба или ада».
И все же жизнь в Венеции (по крайней мере в первые дни) казалась приятной Анеле Грабовской и Кате Назимовой.
Из театра Сан-Мозе они отправлялись в кафе «Флориан» на площади Сан-Марко. К часу ночи здесь собиралось светское общество — дамы и кавалеры, много иностранцев; жизнь для них была дешевой в этом нищем городе. И Кате Назимовой было странно, что ее подруга, дочь антиквара, подражала знати и, презирая это общество, стремилась к нему. Грабовской нравилась жизнь в Венеции. Разорившиеся венецианские патриции продавали за бесценок драгоценности, картины, дворцы. За тысячу русских золотых можно было купить палаццо Вандрамин — исторический дворец, который, как говорили, стоил двадцать пять тысяч. Анеля Грабовская пропускала мимо ушей деловые разговоры и охотнее слушала рассказы о блестящей и беззаботной жизни перед концом Венецианской республики.
В кафе «Флориан» говорили о приезде Паганини — скрипача, затмившего славу знаменитых французских музыкантов, о том, что австрийский губернатор граф Черни приказал не пускать его в Венецию, и о том, что в воскресенье в соборе Сан-Марко, в трех шагах от губернатора, схватили двух молодых людей с кинжалами, и, когда их уводили, они кричали безмолвной толпе: «Да здравствует единая Италия! Да здравствует единый итальянский народ!» Но приехал «божественный» Галли, все общество устремилось в театр, и никто уже не вспоминал о судьбе двух юношей, расстрелянных на песчаной пустынной косе Лидо.
От прежней склонности к науке у Грабовской остался интерес к редчайшим книгам и древним рукописям. Едва ли не каждый день Анеля и Катя приходили во Дворец дожей, поднимались по величественной «лестнице исполинов» в библиотеку.
С 1812 года в залах дворца поместили библиотеку, одно из богатейших в Европе книгохранилищ. В одной из зал, там, где можно видеть картину Веронеза — самый большой холст в мире — находилось собрание редчайших рукописей, манускриптов, писанных рукой искуснейших каллиграфов древности. Здесь, точно в склепе, покоилась прежняя слава Венецианской республики, дипломатическая переписка с турецкими султанами, с тунисскими беями, магараджами Индии; здесь хранилась рукопись, писанная рукой великого путешественника Марко Поло, хранились протоколы допросов заговорщиков против республики, признания, вырванные рукой палача.
И странно было видеть в библиотеке двух молодых женщин, терпеливо слушающих хромого горбуна — хранителя библиотеки, отдавшего полвека жизни этим ветхим и пыльным рукописям.
Однажды среди манускриптов XVII века Кате Назимовой почудились русские буквы. Да, это была копия челобитной славян, населяющих Зантские, Бергамские, Черногорские земли. Они просили защиты у могучей покровительницы славян — России:
«…дабы по суседству нашему от Римского имперского двора и от республики Венецианской доброхотствие было оказано, а от венециан обид причинено не было».
Чернила выцвели, трудно было разобрать буквы, по-видимому, славяне жаловались на австрийский имперский двор и Венецианскую республику… «не могущие сами завладеть нашими землями турок подкупают, дабы здешний свободный народ они, варвары, покорили и российский скипетр высочайшие своея власти на нас не распространял бы. А оная республика Венецианская добра не помнит, они, венециане, не малые воспоможения в войнах с турецкими варварами получили от народа черногорского, от всего славянского общества…»
Катя несколько раз перечитала челобитную. Кому она была послана? Петру или дочери его, Елизавете? Дошел ли этот плач славянского народа до державы российской или был выкраден у гонцов, посланных в Россию, а возможно, просто переписан и доставлен ловким шпионом Совету дожей.
Трагедия славянских племен, безжалостно истребляемых турками, предаваемых на поругание и гибель Венецианской республикой и австрийским двором, открылась Кате Назимовой в этом пыльном манускрипте. Немного времени спустя она узнала, что ничто не изменилось в судьбе славянских племен через сто лет после того, как была написана эта слезная челобитная.
Однажды, осенним утром, туман окутал Венецию. В библиотеке, в тусклом, сумеречном свете, трудно было различить даже в лупу прелестные миниатюры, украшающие редкостное издание новелл Бокаччио. Анеля и Катя собирались уходить, когда молодой человек, вежливо поклонившись Грабовской, тихо сказал:
— Вы оставили это, синьора, — он протянул ей маленькую лупу и еще тише добавил: — Napoli… Primavera…[7]
Грабовская так же тихо ответила:
— Genova… Sole…[8]
Хотя в огромном зале, кроме них троих, не было ни души, неизвестный говорил очень тихо и не сводил глаз с дверей.
— Сегодня вечером. Палаццо Манин, — сказала Грабовская.
Молодой человек покачал головой:
— За вашим домом следят.
— Тогда в восемь часов будьте в Санта-Мариа Глориоза у гробницы Тициана… За вами придет верный человек.
— Я буду в другой одежде. Скажите слугам, что ожидаете ювелира или антиквара…
Он отошел, потому что послышались голоса.
Вошли монах-доминиканец и библиотекарь.
Венеция все еще была в тумане. Люди, бродившие под аркадами Дворца дожей и на Пьяццете, казались призраками. В лагуне против Дворца дожей в тумане, точно силуэт собора, рисовался английский фрегат «Нортумберлэнд». Красными, зелеными и желтыми пятнышками еле светились фонари на борту, там непрерывно звонил колокол. На Канале-Гранде чуть слышался плеск весел; крики гондольеров глухо звучали в густом тумане.
У дворца Манин, едва только причалила гондола, рядом очутилась лодка-скорлупка и в ней две тени.
— Мы скоро отсюда уедем, — сказала Грабовская. — Туман… шпионы… Это Венеция.
Впрочем, вечером подул ветер, разорвал пелену тумана, стало тепло, созвездиями разноцветных огней засияли фонарики. Слышались музыка, смех, восклицания; в этом городе никогда не раздавался грохот экипажей и звон подков.
Анеля Грабовская и Катя Назимова вышли на террасу дворца. Высоко над каналом восемь витых мавританских колонн поддерживали своды. Две женщины, прижавшись друг к другу, глядели на озаренную тысячами огней ночную Венецию.
— Ты плачешь? — вдруг спросила Анеля.
Катя не ответила. Ей было стыдно сказать, что все здесь, в этом призрачном городе, чужое, что уже много ночей ей снятся березовые рощи в золотом осеннем уборе, рассыпанные по низине избы, поля, над которыми летает паутина, бабье лето… Скоро там начнутся заморозки, и как хочется дышать прохладным воздухом раннего осеннего утра, воздухом родины…
Она промолчала, и Анеля Грабовская подумала о том, что Катя Назимова грустит все о том же человеке, с которым ее разлучила судьба.
Был девятый час, когда неизвестный, встреченный в библиотеке Дворца дожей, ступил на террасу и, внимательно оглядев все углы, молча поклонился Грабовской. Сюда, на террасу, вела узенькая лестница; на ступеньках сидел Владислав Витович, доверенный человек Грабовской.
Катя знала о тайных связях подруги с итальянскими патриотами. Италия казалась Грабовской такой же несчастной, как Польша, — точно так же разорвано на части австрийцами и французами живое тело страны.
Неизвестный, еще молодой, со странной суровостью в изможденном лице, говорил тихим, глухим голосом, не глядя на собеседницу.
Сначала разговор шел об оружии, которое было куплено в Англии и выгружено где-то вблизи Амальфи. Потом — о Венеции, и тут Катю удивило, с какой прямотой и грустью неизвестный говорил о несчастном городе.
— Республика купеческая показала пример, как владелец золотого мешка, хотя бы и купеческого звания, становится аристократом и тираном не хуже потомков рыцарей-крестоносцев. Политика Венецианской республики была коварной и деспотичной — орудием синьории служили подкуп, кинжал наемного убийцы, яд и пытка. Венецианское государство можно сравнить с разлагающимся трупом. Сенат республики, ее правительство боялись всякого движения, ибо оно могло потрясти или разрушить одряхлевшее тело государства.
— …12 мая 1797 года Большой Совет постановил распустить правительство. Дряхлые, расслабленные старцы, отравленные тщеславием, богатством, негой, безделием, забыли времена великих дожей.
А ведь было время, когда Венеция противостояла турецким завоевателям, великому турку. Двадцать четыре линейных корабля, двенадцать тысяч превосходных пехотинцев и артиллеристов защищали неприступную на своих островах столицу. Было время доблестных флотоводцев Морозини, Дандоло, Альвиани. Падение Венеции началось в 1560 году, когда олигархи отдали Морею и своих единоверцев туркам…
— Вы думаете, что Наполеон совершил благо, уничтожив Венецианскую республику? — спросила Катя.
Вопрос заставил задуматься неизвестного.
— Этот человек как никто умел сочетать благие дела с низменными и жестокими поступками. Политика вынуждала его уничтожать привилегии дворянства в Италии и Германии, конфисковывать церковные земли, провозглашать республиканские вольности, но французы налагали огромные контрибуции, разоряли народ конфискациями. Сотни грязных французских дельцов, проходимцы, спекулянты грабили несчастную Италию. Когда крестьяне сопротивлялись — французы сжигали деревни, расстреливали муниципальных советников… Италия была разорена и ограблена корсиканцем. Совершив все эти преступления, Наполеон писал Директории в Париж: «все спокойно, два миллиона золотом в пути…» Он уничтожил республику патрициев, развращенный и продажный ее сенат, он дал свободу венецианцам для того, чтобы отдать Венецию во власть австрийцам. Венеция была для него только карта в большой игре! И в сущности даже мелкая карта. Что осталось от Венецианской республики? Пятьдесят тысяч нищих?
— Вы венецианец?
— Я — славянин. Я родился в стране, где народ истекает кровью под властью султана. С детских лет я видел неслыханные злодейства, но видел и мужество, самоотверженность, презрение к смерти моих родичей. Четырежды приговоренный к смерти, я бежал из плавучей тюрьмы в Италию. Я сражался за свободу Италии, потому что свободный человек должен сражаться против поработителей всюду, где народ угнетен. Неделю назад мне довелось быть в Болонье. Только в этом городе осталось еще немного огня и энергии. Италия разорвана на части. Турин, Милан, Модена, Флоренция, Рим, Неаполь — все разделено рогатками границ. Модена и Турин во власти иезуитов. Всюду тираны в коронах и митрах! Каждый город, каждое местечко ненавидит своих соседей. Павия ненавидит Милан, Флоренция ненавидит Сиену. И потому страна во власти чужеземцев, и потому торжествует «Divide et impera!» (Разделяй и властвуй!) Англия, Австрия, Франция играют судьбами моей родины. Месяц назад я был в Неаполе. Я ехал морем до Неаполитанского королевства. В Сицилии ждет своего часа марионетка англичан — королева Мария-Каролина… Мюрат, все еще мечтающий сохранить для себя престол, — не худший исход для несчастной страны.
Он поднял голову, глаза его широко открылись и блеснули мрачным огнем.
— Я был свидетелем казней и злодейств, которые совершались в Неаполе после ухода французов… Преступная королева Мария-Каролина, родная сестра Марии-Антуанетты, казненной французским народом, мстила за сестру и за свое недолгое изгнание…
Он с содроганием продолжал:
— …под палящим солнцем, на барках, отведенных далеко на рейд, в крови и грязи умирали на моих глазах благороднейшие граждане Неаполя, их жены и дети… Они молили дать им воды — палачи бросали им тряпки, смоченные в морской воде… Адмирал Нельсон, слава Англии, и распутная леди Гамильтон после завтрака выходили на мостик и любовались казнями патриотов. Корабль Нельсона стал плавучей тюрьмой, местом казней. Реи корабля гнулись под тяжестью тел. Тысячи людей были повешены по приказу знаменитого флотоводца. И когда-нибудь этому палачу англичане поставят памятник!
Он умолк… Кате было страшно слушать этот рассказ. Вокруг была тихая ночь, в свете луны вставали мраморные фасады дворцов Гримани, Вандрамин. Точно серебряные лепестки вспыхивали в водах канала, потревоженных ударами весел. Не умолкала музыка, — наемные певцы распевали серенады под окнами дворца, где жил австрийский комендант Венеции граф Черни.
— Завидую силе вашего духа, — сказала Грабовская. — Жить так, как живете вы, — всегда в опасностях, в тревогах, не зная, где приклонить голову, — сегодня в лачуге рыбака, завтра в горной хижине пастуха, всегда между жизнью и смертью, в опасении предательства… и без веры в то, что вы увидите свет свободы. Я скажу вам правду: мне трудно верить, что мы увидим лучшие дни. Кто знает, что несет нам будущее? Боже, как коротка жизнь человека!
— Но если нет веры в победу света над тьмой, то для чего же жить? — сказал неизвестный. — Некоторые мои друзья покинули Италию, они искали мира и тишины — одни в Швейцарии, другие устремились за океан, в Америку… Быть вечным изгнанником?..
И он прочитал стихи Данте о горьком хлебе изгнания.
— Я счастлив на моей земле и не хочу иной судьбы, ибо не могу быть счастливым, когда несчастен мой народ.
На этом кончился разговор в одну венецианскую ночь, и долго еще помнила Катя Назимова тихий голос неизвестного, опущенные веки его глаз, суровое, как бы высеченное из камня, его лицо.
Все же либо это посещение не осталось тайной для графа Черни и его шпионов, либо у австрийской тайной полиции были свои счеты с Грабовской, но случилось то же, что и в Вене: адъютант графа Черни осведомился, долго ли думает графиня оставаться в Венеции.
Впрочем, она еще раньше решила уехать.
Может быть, следовало вернуться в Париж, там был дом в парке Монсо, владения вблизи Тура. Витович говорил, что расстроенное состояние следует поправить продажей этих владений. Война еще не кончена, но какой бы оборот ни приняли события, имение во Франции можно продать, а для этого надо ехать в Париж.
Рассудительный Витович советовал избрать временной резиденцией какой-нибудь город в Пруссии, не слишком отдаленный от тех мест, где решались судьбы Европы, и там ожидать окончания военных действий.
…Отечество! Любовь к отечеству, разъединенному, угнетенному отечеству — этим чувством были проникнуты речи неизвестного. Из любви к родине он ежечасно рисковал жизнью. И слушая эти страстные, пламенные речи, Катя Назимова думала о том, что ей, русской женщине, суждено странствовать на чужбине и, может быть, кончить свои дни среди чужих людей, на чужой земле. Что соединяет ее с капризной, вздорной, честолюбивой искательницей приключений Анет Лярош-Грабовской?
Катя вспоминала свой несчастный брак с Августом Лярошем. Она думала о своем печальном вдовстве и одиночестве. Неужели она. Катя Назимова, будет доживать свой век в недостойной роли компаньонки богатой дамы?
Возвратиться на родину к полусумасшедшей, алчной и жестокой старухе-тетке, видеть вокруг забитую дворню, слышать плач несчастных кружевниц в девичьей?
Меланхолический перезвон колоколов разрывал ей сердце… «Ангелюс»… Прошел еще один день. Она выглянула в окно. Все то же: черная вода канала, фасады дворцов, похожие на саркофаги, плеск весел, окрики гондольеров. Еще один день в тоске и отчаяньи.
В годы замужества, когда Лярош был в штабе вице-короля Евгения или в походах, она была предоставлена самой себе. Тогда она пристрастилась к чтению, и еще в Париже, в салонах «первых дам империи» вдруг заметили, что жена полковника Лярош, молчаливая и красивая женщина, умна и образованна. Она удивляла французов неожиданными для молодой женщины рассуждениями. Один член института провел с ней более часа в беседе о причинах упадка Римской империи и убедился в том, что мадам Лярош отлично знакома с предметом беседы.
В Грабнике, где хозяин замка собрал библиотеку, вызывавшую изумление соседей, Катя находила успокоение и забвение в те часы, когда тяжело раненый Август Лярош забывался в полусне. Там, в библиотеке, она нашла собеседника, не слишком разговорчивого, но умного, атеиста и скрытого якобинца — библиотекаря замка. Он немного удивился, когда однажды мадам Лярош попросила у него «Летописи аббата Сен Пьера». В библиотеке были и русские книги, Грабовский выписывал их из русской книжной лавки в Вильно, и однажды Катрин Лярош взяла с полки Карамзина «Письма русского путешественника».
Библиотекарь, спускаясь с лесенки, бросил взгляд на книгу, и лицо его, обычно ничего не выражавшее, кроме вежливого равнодушия, вдруг стало удивленным:
— Вы… русская?
С тех пор, когда библиотекарю доводилось беседовать с Катей, он вставлял во французскую речь русские фразы.
— Где вы научились русскому языку? — спросила Катя.
— В Сибири, — ответил он жестко.
Она в первый раз внимательно вгляделась в черты его лица, на котором лишения оставили резкие следы.
— Вы очень страдали в ссылке? — однажды спросила она.
— Нет… Не очень. Больше в Пруссии. Там пришлось возить тачку и притом не расставаться с ней.
— Почему?
— Потому что мы были прикованы к тачкам.
В другой раз он сам заговорил с Катей.
— Может быть, вы сочтете мой вопрос невежливым, даже грубым. Но как случилось, что вы, русская, соединили свою судьбу с французом?
— Однако ваш соотечественник, граф Грабовский, женился на француженке и граф Виельгорский и другие…
— Это можно понять. В кругу этих господ отдавали предпочтение всему французскому — вину, одежде, женщинам, — с усмешкой сказал библиотекарь. — Впрочем, то же было в России.
Он подождал немного, но Катя молчала. Тогда он вдруг сказал мягко и с неожиданной теплотой:
— Я не стал бы спрашивать вас о том, как вы вышли замуж за француза, если бы не выделял вас из всех женщин, которых вижу здесь. Мархоцкий сказал мне, что полковник Лярош очень плох… Какая судьба ожидает вас, если он…
— Не знаю.
— Графиня не оставит вас, но…
И он закончил, как обычно, жестко и резко:
— …вы еще не знаете ее, но скоро узнаете.
С тех пор Катя с некоторым удивлением убедилась в том, что среди всех, окружающих ее в замке, она могла говорить откровенно только с библиотекарем.
Анеля Грабовская как бы не замечала этого человека. Он жил в павильоне, в глубине парка, и очень редко появлялся на званых вечерах и обедах.
В тот день, когда произошла страшная для Кати встреча с Можайским, библиотекарь скрылся и больше она не видела его в замке.
И вот сейчас, когда она слышала гневные речи неизвестного о безжалостных угнетателях Италии, о борьбе поляков, греков, о борьбе славян за свободу, ей вспомнился библиотекарь замка.
Нет, не угаснет пламя вольности, пока есть еще в Европе такие люди!..
Еще вначале путешествия, когда полиция барона Гагера принудила Анет Грабовскую уехать из Вены, Катя Назимова почувствовала странную перемену в обращении Анет с ней. В первые дни после похорон полковника Лярош Анет была ласкова с Катей, плакала вместе с ней и клялась в вечной дружбе. Здесь, в Венеции, в обращении Анели с подругой появилось равнодушие и затем холодность. В тот вечер, когда неизвестный со всеми предосторожностями покинул палаццо Манин, Анет Грабовская посмотрела в блестящие от волнения и сочувствия неизвестному глаза Кати и вдруг сказала:
— Боже мой, как я устала!
И, приметив удивление Кати, продолжала:
— Золото… склады оружия… Итальянские заговорщики… греки и поляки… Можно состариться от всего этого!
Она бросила взгляд в зеркало и, сжимая пальцами виски, воскликнула:
— Я хочу жить, как все! Жить без соглядатаев, без страха перед казематом Шпильберга! Что делать? Где выход?
«Да, где выход?» — подумала Катя. Она думала о себе, о своем будущем и не видела ничего, кроме скитаний и унижений. И отчаянье сжало ее сердце.
22
Гондола австрийского губернатора Венеции, графа Черни, приближалась к борту английского фрегата «Нортумберлэнд».
Малиновый с золотыми кистями балдахин скрывал от любопытных взоров маленькую фигуру старичка в зеленом, шитом серебром мундире. Телохранитель, черноусый фанариот, выпрямившись во весь рост, стоял лицом к балдахину, скрестив на груди загорелые руки. Два гребца в парадных одеждах широкими взмахами весел рассекали воды лагуны. С капитанского мостика следили в зрительную трубу за гондолой. Белое облачко, и глухой удар долетел до ушей графа Черни. Салют… Он насчитал семнадцать выстрелов и приятно улыбнулся. Достойный салют в честь губернатора Венеции… Затем он разглядел на фок-мачте фрегата, рядом с британским, австрийский флаг. Положенные по статуту почести отданы. Гондола приблизилась к трапу. Покачиваясь на тоненьких ножках, граф Черни ступил на ступеньку. Ветер шевелил фалды его мундира, и сзади он был похож на бронзового жучка, ползущего по борту фрегата.
Граф Черни отдавал ответный визит сэру Чарльзу Кларку, британскому дипломату, направляющемуся в Константинополь.
Кларк и его гость сидели в адмиральской каюте, расположенной на корме фрегата. Сквозь хрустальные стекла багряные лучи солнца золотили темный полированный дуб, медные, привинченные к потолку масляные лампы и оружие — острия дротиков, стрел, топоров, симметрично развешенных на розовом индийском ковре. Русское ядро, пробившее борт фрегата три года назад в Финском заливе, было вделано в стену, как напоминание о недоброжелательной встрече в русских водах.
Граф Черни с любопытством разглядывал сэра Чарльза Кларка, его желтовато-смуглое лицо, тусклый взгляд исподлобья и ненатуральную, застывшую улыбку.
Граф Черни выразил гостю сожаление по поводу того, что дорогой гость в скором времени покидает Венецию.
— Я не первый раз в этом странном городе. Это очень удобное место для опасных людей?
Граф Черни не ожидал, что британский дипломат без всяких околичностей заговорит о том, для чего он приехал. Галантный иезуит полагал, что много времени уйдет на взаимные любезности, на пустейший разговор о прелестях Венеции.
— Кажется, вы пережили несколько неприятных минут в соборе, когда вас собирались…
И Кларк провел пальцем поперек горла.
Тогда граф Черни решил, что он имеет дело с самоуверенным и неумным господином, как многие из англичан, с которыми ему пришлось иметь дело, притом с грубияном, не способным понять тонкость и сложность политики в этих краях.
Граф Черни вздохнул и покачал головой:
— Когда его величество предложил мне ехать в Венецию, сэр Чарльз, я знал, что меня ожидает… Я прежде всего направился в Рим, преклонил колени в соборе святого Петра и облобызал стопы его святейшества…
«Ханжа и иезуит…» — подумал Кларк.
— Приехав в Венецию, я увидел то, что превзошло все мои ожидания. Итальянские, греческие заговорщики, якобинские шайки… Надо иметь много терпения, чтобы справиться с ними.
— И много денег, — сказал британский дипломат.
— И много денег, — согласился граф Черни.
— Я слушаю вас, граф, и прошу продолжать.
Впрочем, словоохотливого старика не надо было подбадривать:
— Венецианская республика оставила нам дурное наследство. Этим дряхлым вельможам легко было управлять: выследить французского или испанского шпиона, поймать авантюриста, вроде кавалера де Сенгальт, или безбожника, не верующего в святое причастие, послать наемного убийцу владетельному князю — это было не так уж трудно… Притом каждый оборванец, каждый гондольер или девчонка с Пьяцетты трепетали, когда видели сбира. О тайном совете говорили со священным трепетом, все содержатели игорных домов и шулера жили и богатели с благословения тайной полиции…
Графу Черни показалось, что его не слушают, но он приметил, как подрагивало колено Кларка и светился глаз из-под опущенного правого века.
— О, этот город! — продолжал граф Черни, — далматинцы, корфиоты, фанариоты, мальтийцы, иллирийцы, турки, греческие корсары, алжирские корсары, каталонцы, я не говорю уже о неаполитанцах и пьемонтцах, о еретиках, бежавших из области его святейшества — папы. Гнездо ос и шершней, сэр Чарльз! И даже поляки! В годы якобинского конвента здесь обосновалось тайное общество польских заговорщиков и они посылали своих эмиссаров в Литву и Галицийскую область… Вы должны мне сочувствовать, сэр Чарльз Кларк. Неправда ли?
— О да, — не совсем внятно ответил сэр Кларк, — моя служба проходила в северных странах. Левант и страны Востока для меня terra inkognita.
— Тогда вы можете постигнуть всю пагубность политики государей, которые вместо того, чтобы гасить мятежные страсти — разжигают их…
«Куда он клонит? — подумал британский дипломат. — Куда гнет болтливый старикашка, ханжа и иезуит?»
Граф Черни поучал британского дипломата ласково и снисходительно, как поучает учитель неспособного ученика из богатого родовитого дома.
— Я говорю о России. Со времен царя Петра славянские племена привыкли видеть в северном колоссе своего покровителя и заступника. Собираясь в поход на турок, он отправил посольство в Черногорию и призвал черногорцев к восстанию. И они тотчас послушались и восстали против своих турецких владык. Дочь Петра, Елизавета, взяла на свое иждивение славянские церковные школы, священники ортодоксальной православной церкви были верными слугами императрицы Елизаветы. В царствование Екатерины ее приближенный, брат фаворита, Алексей Орлов прибыл будто бы для лечения в Италию и основал здесь, в Венеции, прибежище для заговорщиков-славян…
Всё это сэр Чарльз Кларк отлично знал и без графа Черни, но он следовал золотому правилу дипломатов — делать вид, что ты не знаешь того, что тебе отлично известно, и, наоборот, всячески показывать, что тебе известно то, о чем ты не имеешь понятия. Еще Бомарше в «Женитьбе Фигаро» отметил эту привычку дипломатов. Потому британский дипломат терпеливо ждал, пока иезуит выговорится и, в конце концов, может быть расскажет нечто полезное. Но граф Черни не унимался:
— …его католическое величество мой император и его предшественник не раз были обеспокоены взрывом мятежных чувств христианских подданных султана, особенно после того, как революция во Франции воскресила надежды греков. Как бы там ни было, тайное подстрекательство славян подданных блистательной Порты, его величества султана, есть призыв к бунту против законной власти. Для чего нам терпеть незаконные стремления греков освободиться из-под власти турок? Мы находимся в дружественных отношениях с его султанским величеством. Мы не можем допустить, чтобы Венеция стала прибежищем греческих мятежников. Венецианская республика не имела сил препятствовать этим козням. Иное дело теперь, когда Венеция присоединена к австрийским владениям…
Старик, видимо, устал. В каюте было душно, он вытер кружевным платочком лоб и вдруг уставился на странный предмет, поставленный на полке и накрытый стеклянной призмой. Под стеклом виднелось нечто похожее на плод, разрисованный желтой и зеленой краской.
— Вы помните, — отдышавшись продолжал гость, — что по Бухарестскому трактату Россия добилась некоторых прав для славян, состоявших под турецким владычеством. Однако Бухарестский трактат превратился для турок в ничто, как только Наполеон вторгся в Россию в двенадцатом году. Турки учинили славянам справедливое возмездие…
Как ни был равнодушен сэр Чарльз Кларк к участи славян, ему все же показалось странным то чувство удовлетворения, которое, по-видимому, испытывал иезуит при воспоминании об этой ужасной расправе. Все-таки турки резали христиан, и доброму христианину не следовало забывать об этом. Однако британский дипломат не перебивал своего собеседника и молча следил за взглядом иезуита, а иезуит не мог оторвать глаз от странного предмета под стеклянной призмой.
— Каждый день приносит мне, коменданту Венеции, новые тревоги. Вчера утром мои люди арестовали в харчевне, вблизи церкви Санта-Мариа Глориоза, неизвестного, за которым следили уже две недели. Человек, которому он назначил свидание, был некий грек по имени Макридис, нам удалось взять и его. Он недавно прибыл из южной России… Мы узнали, что в Одессе недавно образовалась гетерия, имеющая целью освобождение подвластных Турции земель, во главе ее греческие негоцианты Скуфас и Ксантос, болгарин Афанасий Цакалов…
Сэр Чарльз Кларк несколько оживился.
— К сожалению, это всё, что нам удалось узнать от Макридиса.
— И он до сих пор упорно молчит?
— Наоборот, он был вполне откровенен… Но мы не смогли уберечь его от удара кинжалом… Он был убит прошлой ночью из мести членами гетерии. Но неизвестный, который назначил ему свидание в харчевне, попал в наши руки.
Должно быть, эта история заинтересовала британского дипломата, глаза его вдруг открылись, и черные зрачки уставились на графа Черни.
— Человек, которого мы схватили, уже тридцать шесть часов сидит в тюрьме под свинцовой кровлей, но до сих пор он не сказал ни слова. Редкий узник может выдержать сутки под свинцовой крышей, особенно в такую жару, но он молчит. В конце концов, эта история касается скорее турок, чем нас. Мы желаем одного, чтобы эти господа не устраивали своих заговоров в Венеции и не возмущали греков против законной власти.
Какая-то еще не совсем ясная мысль возникла в мозгу британского дипломата.
— Что же вы намерены сделать с этим человеком?
— С первым же кораблем мы отправим его к туркам. Эти, я думаю, заставят его говорить…
Вдруг граф Черни поднялся и, протянув сухую руку в разноцветных перстнях, указал на странный предмет под стеклом:
— Не будет с моей стороны невежливым любопытством спросить, что это за странный предмет?
Сэр Чарльз Кларк тоже встал и осторожно снял стеклянный футляр.
— Это редкая вещь… Высушенная голова полинезийского вождя. Воинственные дикари сохраняют головы убитых врагов как трофеи. Посмотрите, как искусно засушена эта голова, сохранилось даже выражение лица — свирепое и вместе с тем страдальческое.
— Великолепно! — восхитился граф Черни. — Кто бы мог подумать, что эти дикари умеют делать такие забавные вещицы.
— История, которую вы рассказали, очень интересна, — опуская стеклянный колпак, сказал Кларк, — при случае я расскажу о ней великому визирю. Это будет еще одно доказательство дружелюбия и заботы вашего превосходительства о сохранении дружбы между вашим императором и его султанским величеством. Возвратившись в Лондон, я почту своим долгом рассказать лорду Кэстльри о вашем усердии и заботах о сохранении мира между державами Европы и блистательной Портой. Британский кабинет не замедлит выразить императору Францу и князю Меттерниху чувство искренней благодарности…
Граф Черни размяк… Приложив руки к сердцу, он низко поклонился Кларку. Наконец-то этот хмурый англичанин оценил его заслуги.
— Дорогой мой… — он на мгновение замолк, как бы обдумывая то, что хотел сказать, — мне бы хотелось… мне бы хотелось оказать вам небольшую услугу. Вы сами сказали, что впервые выполняете дипломатические поручения на Востоке. Вы еще не изучили души этих варваров, надо уметь расположить их к себе с первых слов, с самых первых шагов. Мне кажется, для вас будет полезно… если вы в трюме вашего фрегата повезете в Константинополь необычный подарок… Я не сомневаюсь в том, что вы везете великому визирю всё, что пленяет этих наивных детей Востока — драгоценное оружие, бриллианты… Но я уверен в том, что великому визирю понравится, если именно вы доставите ему заговорщика, злейшего врага блистательной Порты, неизвестного, о котором я вам говорил… Мне ничего не стоит доставить его вам под надежной охраной на фрегат. Для чего мне ожидать турецкую фелуку, когда она еще придет в Венецию?..
Сэр Чарльз Кларк сразу оценил пользу, которая могла произойти от этого предложения. Однако он из приличия помедлил и пожевал губами:
— Только для того, чтобы угодить вам, граф…
— Разумеется, вы избавите меня от лишних забот… — граф Черни встал. — Да, мой друг, — сказал он, вздыхая, — и подумать только, что находятся светские дамы, которые покровительствуют заговорщикам, тайно принимают их у себя. Когда вы были в театре Сан-Мозе, вы, возможно, обратили внимание на двух красивых дам. Одна из них — графиня Грабовская — украшение Венеции.
— Они сидели в ложе, справа от меня, — с необычной для него живостью заговорил Кларк, — очаровательная особа, я даже имел намерение явиться с визитом к этой даме.
— Увы, к моему сожалению, я вынужден просить графиню покинуть Венецию, — со вздохом сказал граф Черни. — Я получил строгий приказ из Вены… Между тем, богатство и связи этой госпожи делают это поручение крайне неприятным для меня.
Разговор этот происходил уже на палубе, у трапа…
Кларк оставался на палубе, пока гондола не отчалила. Приподняв завесу балдахина, граф Черни слегка помахал рукой Кларку. Он долго смотрел в сторону фрегата. Последние лучи заката зажглись на хрустальных стеклах и бронзовых дулах пушек. Казалось, некое чудовище глядело на Венецию множеством алчных кроваво-красных глаз.
Сэр Чарльз Кларк вернулся в каюту. Он успел обдумать предложение австрийского коменданта Венеции. В самом деле, почему бы не доставить заговорщика в Константинополь, это будет лишнее доказательство дружелюбных чувств британского дипломата, питаемых им к великому визирю и блистательной Порте.
Следовало бы как-нибудь отблагодарить старичка-иезуита… Он задумался и вдруг усмехнулся. Тотчас же он приказал положить засушенную голову полинезийского вождя в красивый ларец и отправить в палаццо графа Черни. Он решил, что иезуит заслужил этот странный подарок. Затем он отправил своего секретаря в палаццо Манин к графине Грабовской с письмом, в котором почтительно просил графиню разрешить ему посетить ее, когда ей будет угодно.
…Грабовская решила покинуть Венецию. В палаццо Манин было устроено прощальное празднество. Тысячи свечей осветили большую залу, отражаясь во множестве зеркал. Дворец наполнился зваными и незваными гостями. Гремела музыка; английские офицеры с фрегата «Нортумберлэнд» пили, как лошади, лакрима-кристи, доставленное по этому случаю из папской области. Австрийские гусары танцевали с балетными танцовщицами. На другой день Витович с грустью подсчитывал, во что обошелся праздник, а его нерасчетливая хозяйка все еще не решила, куда она поедет из Венеции.
В то утро во дворец Манин пожаловал новый гость — сэр Чарльз Кларк, британский дипломат.
И когда этот пожилой, уже несколько обрюзгший человек, с сонным выражением лица, появился во дворце Манин, ни сама Анеля, ни Катя Назимова не могли предполагать, какое значение будет иметь его визит в жизни Анны-Луизы, графини Грабовской, в прошлом — девицы Анет Лярош.
23
Фрегат «Нортумберлэнд» приближался к острову Корфу.
В зрительную трубу был виден форт в розовой утренней дымке, белые домики на берегу, темно-зеленые острия кипарисов. Попутный ветер раздувал паруса и легко нес громаду фрегата по темно-синим адриатическим волнам.
Сэр Чарльз Кларк полулежал в кресле на верхней палубе. Теплый, ласковый ветер обвевал его влажное лицо, он находился в состоянии блаженного покоя — все благоприятствовало его путешествию — попутный ветер, погода, а главное — все устроилось так, как он хотел.
В Венеции, перед отплытием фрегата, он еще раз посетил Анет Грабовскую. Кажется, она поняла, что это не был обычный светский визит поклонника, очарованного ее прелестью и остроумием.
К этому времени дипломат получил сведения о состоянии вдовы Грабовской. Владения в Галичине, правда, были запущены, но достойны внимания. Замок на берегу Луары, особняк в парке Монсо, купленные покойным графом в начале революции у бежавшего в Кобленц аристократического семейства, за четырнадцать лет повысились в цене. В мужских руках это будет богатство, которое даст возможность чете Кларк блистать в любой европейской столице. Годы идут, молодость прошла, отцовское наследство прожито, настала пора остепеняться и стать членом парламента, выборы обойдутся недешево.
Британский дипломат полагал недолго задержаться в Константинополе. Поручение, которое ему доверил лорд Кэстльри, состояло в том, чтобы еще раз подтвердить султану незыблемость британской дружбы и намекнуть султану, что Британия не допустит никаких перемен на берегах Босфора.
Двадцать два года назад, в 1791 году, сэр Чарльз Кларк, тогда еще молодой дипломат, в Петербурге, в Императорском театре присутствовал на великолепном придворном спектакле. Давали пьесу-балет, которая называлась «Начальное управление Олега». Красивые танцовщицы в легких греческих туниках венчали лаврами славянских воинов-победителей. Затем появлялся князь Олег и при всеобщем восторге зрителей прибивал свой щит к одной из колонн древнего ипподрома Византии.
Автором этой пьесы-балета, «подражания Шекспиру», как было сказано в программе, была императрица Екатерина.
Наполеон как-то сказал: «Тот, кто завладеет Константинополем, будет владеть миром».
«Греческий проект» Екатерины и Потемкина все еще тревожил британский кабинет, хотя лорд Кэстльри был уверен в том, что императора Александра больше интересует, кто будет сидеть в Варшаве, в Бельведерском дворце, а не в Константинополе — древней Византии. Он, слава богу, трезвый политик.
Все же теперь, когда наполеоновская империя обречена на гибель, лорд Кэстльри пожелал уверить султана в том, что Британия считает «великого турка» законным повелителем славянских племен в турецких владениях и турки могут по-прежнему жечь живьем греков, разорять церкви и вешать греческих священников. И как живое доказательство неизменности дружественной политики Британии сэр Чарльз Кларк везет в трюме «Нортумберлэнда» опасного заговорщика.
Тут британский дипломат вспомнил о заговорщике и приказал позвать вахтенного офицера. Офицер ничего не знал об узнике, и пришлось потревожить капитана. Капитан Вильям Лесли был коротконогий, угрюмый человек со следами страшного ожога на лице — память о Трафальгарском сражении. Он не слишком торопился и заставил Кларка ждать. Наконец Вильям Лесли появился на верхней палубе, сел рядом с Кларком, на подвинутое ему кресло и тотчас занялся ручной обезьянкой, которую нес за капитаном матрос.
— Я полагал увидеть вас, сэр, за обедом… Есть что-нибудь важное?..
Как моряк и воин он все-таки немного презирал этого высокомерного джентльмена, которого считал не более как пассажиром на военном корабле.
— Я возымел желание спросить у вас, сэр, как чувствует себя наш узник. Хотелось бы доставить его туркам в добром здоровье.
Как раз в эту минуту обезьяна укусила капитана за палец, за что получила сильный щелчок по носу.
— Мне докладывали… Проклятая тварь! Кажется, я ее вышвырну за борт!.. мне докладывали, что с тех пор как его доставили на корабль, он не выпил ни глотка воды и не проглотил ни куска хлеба.
— Да? — удивился дипломат. — Чего же он хочет?
— Вероятно, свободы, — подумав ответил капитан. — Славяне — упорный народ.
— Где он содержится?
— В трюме. За решеткой. Обычное место для тех, кого я сажаю под арест.
— Вероятно, там… не слишком комфортабельно? — улыбаясь, сказал дипломат.
— Терпимо, если не считать крыс, вони и духоты. Притом его доставили в цепях.
— И он хочет свободы? Не пьет и не ест?.. До Константинополя, если ветер не переменится, еще шесть-семь суток. Он может умереть. Надо, что б он пил и ел. Надо его хоть изредка выводить на палубу, разумеется, в цепях… Сделайте это, кстати, я хочу его видеть.
И Кларк на мгновение забыл об узнике. Он снова взялся за подзорную трубу и любовался живописными зелеными берегами Корфу, розово-желтыми склонами гор. Ветер принес с берега сладостный запах магнолий. Потом сэр Чарльз любовался дельфинами, игравшими у борта фрегата. Но вдруг послышался звон железа и медленные шаги.
Кларк повернул голову.
Вдоль борта, поддерживая оковы, шел узник. Он щурил глаза от ослепительного солнечного света. Он шел медленно, глубоко вдыхая воздух. За ним шел матрос с обнаженным тесаком.
Узника поставили в трех шагах от дипломата. Но он не смотрел на Кларка. Широко раскрытыми глазами он глядел на розовые горы острова, на густую синеву моря, на дельфинов… Ветер шевелил его спутанные волосы.
— Кто вы? — спросил дипломат.
Узник не ответил. Тогда Кларк повторил вопрос по-итальянски. Узник молчал. Капитан спросил его о том же по-новогречески.
Узник не произнес ни звука. После мрака и едкой вони от гниющей в трюме воды он жадно вдыхал живительный воздух. Вдруг глаза его остановились на одной точке. Он увидел развевающийся на мачте британский флаг, и странная усмешка появилась на его изможденном лице.
— Кто вы? — еще раз спросил капитан.
И тогда узник произнес на новогреческом языке несколько слов.
Голос его звучал глухо, но сильно.
— Он сказал, — переводил капитан, — он сказал, что этот же вопрос он может задать вам. Кто вы? За что вы его держите в оковах? Он требует, чтобы с него сняли оковы. Он требует свободы.
— Забавно, — улыбаясь сказал сэр Кларк. — Скажите ему, что будет лучше для него, если он назовет себя и признается во всем.
Какой-то шорох послышался позади. Капитан оглянулся — матросы, чинившие паруса, встали и подошли ближе. Глаза их светились любопытством. Они не понимали, о чем идет речь, но человек в оковах, гордо стоявший перед капитаном и джентльменом из Лондона, привлек их внимание.
— Боцман, прогоните этих бездельников, — сказал капитан. Потом он повернулся к узнику. — Так вы признаетесь в своих преступлениях?
— В чем я должен признаться? — спросил по-итальянски узник. — Я требую, чтобы вы высадили меня на острове Корфу.
Капитан с любопытством посмотрел на узника. Должно быть, это был очень сильный человек. Воздух и солнце возвращали ему силы. Капитан отдал обезьяну и ждал, что ответит Кларк.
— Я не люблю шуток и не умею шутить, — сказал по-итальянски дипломат. — Вы отлично знаете, в чем вас обвиняют. Ваша тайная деятельность — преступление против законов гостеприимства, которое оказывает иностранцам Венеция.
— Вы называете гостеприимством тюрьму под свинцовой крышей?
— Вас заключили в тюрьму потому, что заговорщики мешают дружественным отношениям между великими державами и его величеством султаном. Я это говорю вам, как представитель миролюбивой британской нации.
— Вы называете себя представителем миролюбивой нации, но вы лжете! Когда восторжествует дух свободы — таких, как вы, ожидает позорная смерть.
— Однако… — пробормотал капитан.
Узник улыбался, он играл своими оковами, как бы взвешивая их тяжесть.
Кларк старался не показать гнева. Он только сказал капитану:
— Этот человек не понимает, что самое лучшее для него назвать себя и открыть нам все, что он знает.
— Я не пожелал отвечать австрийским палачам и не стану отвечать британским. Куда меня везут?
Кровь прилила к лицу дипломата и он закричал, уже не сдерживая ярости:
— Вы будете отвечать! Да, вы будете отвечать палачам великого визиря! Вас везут в Константинополь!
Едва сэр Чарльз Кларк произнес слово Константинополь, произошло нечто неожиданное, невероятное.
Узник бросился к борту. Подхватив оковы, он одним прыжком перепрыгнул через борт и полетел головой вниз, в воду. Все произошло так стремительно, что в первое мгновение все окаменели, потом кинулись к борту. Где-то позади за кормой, в пенистых гребнях волн, поднялась рука, за ней волочилась по воде цепь… Еще раз поднялась рука. Человек, видимо, был прекрасным пловцом, он старался удержаться на воде, и эти сверхъестественные усилия поразили даже тех, кто был на фрегате.
— Спустить шлюпку, капитан? — задыхаясь, спросил вахтенный офицер. Капитан не отвечал. Защитив глаза рукой от солнца, он вглядывался в волны. Неизвестный все еще боролся… Снова мелькнула рука, черноволосая голова появилась в волнах.
Вахтенный офицер выхватил пистолет.
— Не стрелять… Какой бы он ни был пловец… все равно оковы потащат его ко дну.
Сэр Чарльз Кларк припал к подзорной трубе. Там, далеко позади фрегата, в гребнях пены, он видел только играющих дельфинов… Ничего больше.
— Вахтенный! Прогоните матросов, — сказал капитан. — Не надо спускать шлюпку. Все кончено.
— Вы думаете? — спросил несколько оторопевший Кларк.
— Я в этом уверен, сэр. Однако он долго держался на воде.
— Все-таки, это досадно. Я не думал, что он на это решится.
— Славянская кровь, сэр.
24
В начале октября 1813 года дела складывались благоприятно для союзников.
После битвы под Дрезденом Австрия, Пруссия и Англия были готовы итти на мир с Наполеоном. Но вслед за Дрезденом последовала победа русских при Кульме, победы при Гросбеерене и Кацбахе. Чаша весов склонялась в пользу коалиции. Новые, заключенные в Теплице договоры скрепили связи между союзниками.
Можайский получил почетное поручение — поздравить Ермолова от имени императора с победой при Кульме. Стали уже известны подробности этой победы.
Несмотря на неудачу под Дрезденом, Наполеон продолжал наступление и послал в обход русским войскам тридцатитысячный корпус генерала Вандама. Первая гвардейская дивизия, Преображенский и Семеновский полки сдерживали натиск французов, отходя горными ущельями на пути от Дрездена к Теплицу. Дело завязалось в Кульмском дефиле, русские заградили оба выхода из ущелья. Войска Вандама не могли пробиться, и французский генерал был вынужден сдаться. Все славили гвардию и Ермолова. Но злые языки говорили, что победа далась бы легче, если бы Ермолов принял предложение Раевского сменить в бою его, Ермолова, корпус. Зная характер Алексея Петровича, этому можно было верить. Можно было наперед сказать, что он ни за что не допустит, чтобы в реляции о Кульмском сражении было сказано — Раевский, а не Ермолов, окончил сражение. Однако никто не умалял его военного искусства. Знали, что еще до сражения он изучил каждую пядь горной местности и мог вести войска с закрытыми глазами и привел бы к победе.
Ермолову в ту пору исполнилось тридцать семь лет. Он был в расцвете сил, богатырское сложение делало его неутомимым. Отвагой, неустрашимостью, презрением к опасности он восхищал солдат. Мастер на острое словцо, любивший смелые шутки, он вместе с тем был хитер и тонок до того, что многое сходило ему с рук. Так тонок, что часто бывал двоедушным. Товарищи его, боготворившие Кутузова, не могли простить Алексею Петровичу его двоедушия на военном совете в Филях, но и они признавали достоинства и бесстрашие генерала.
Из старых друзей Можайский встретил у Ермолова Диму Слепцова. После истории с кривыми султанами тот ушел из Ахтырского полка в адъютанты к Ермолову. Под Кульмом Слепцову на редкость повезло: ядро угодило прямо в брюхо его коня, но лишь оторвало полы сюртука у всадника.
Можайский воспользовался тем, что был послан к Ермолову с поздравлением по случаю победы под Кульмом. Он упросил Алексея Петровича оставить его при себе, и Ермолов сделал это охотно, тем более, что второй его адъютант, Сергей Мамонов, лежал с простреленной ногой.
От Мамонова Можайский узнал о смерти Фигнера. Эта весть поразила его, как громом. Он не хотел верить, расспрашивал, как погиб Александр Самойлович и где это случилось.
Но Слепцов и Мамонов видели Лихарева, говорили с ним, и после этого разговора погасла надежда. В армии многие не скрывали своего негодования, когда узнали, как произошла гибель Фигнера.
Лишь однажды в жизни свела Можайского судьба с Фигнером. Он вспоминал их беседу в лесу, разговор о вольности; вспомнил ссору и примирение… Последнее рукопожатие, гордая осанка всадника с поднятой вверх рукой в зеленом сумраке ветвей…
Время шло, наступили решающие дни, дело было накануне генерального сражения, которое могло решить судьбу Европы.
Можайскому нравилось в штабе Ермолова. Алексей Петрович держал себя запросто с офицерами, особенно с молодежью, но в дурном настроении был страшен, и те же молодые люди, с которыми он шутил, забавляясь их шалостями, трепетали перед ним, когда он был не в духе. Он многое прощал смельчакам, любил, когда его офицеры презирали смерть, и сам не раз рисковал жизнью, — такие были времена. И хотя порою распекал забияк и кутил, но адъютанты при нем все были забияки и кутилы, подобные Слепцову.
В замкнутом, молчаливом Можайском Ермолов оценил образованность и спокойное бесстрашие. Он задержал поручика у себя, сообщив Волконскому, что ему полезен будет офицер, отлично владеющий языками, для опроса пленных, среди которых, попадались не только итальянцы и немцы, но испанцы и датчане.
Так Можайский остался у Ермолова, и случилось это накануне генерального сражения у Лейпцига.
Ермолов командовал левым флангом. Дело обещало быть жарким.
Лили осенние дожди. Третий день шел военный совет в главной квартире. Ермолов воротился поздно ночью. Сапоги у Алексея Петровича, хоть и были обильно промазаны салом, промокли. Спрыгнув с коня, он крепко выругался и поднялся к себе, во второй этаж немецкого крестьянского дома.
Дом был выстроен добротно, — должно быть, хозяин был не беден. Дима Слепцов и Можайский сидели в подвале, на кухне, и прислушивались к тому, что делалось наверху. Они слышали тяжелые шаги Ермолова и его зычный голос. Он кашлял, бранил погоду, французов и денщика Ксенофонта. Ксенофонт сапогом раздувал самовар, который возил с собой всюду. Чай Ермолов любил больше горячительных напитков.
В ту самую минуту, когда Ермолов воротился из главной квартиры, Дима Слепцов развлекал Можайского песнями. Голос у него был хриплый, но приятный, и пел он с душой, но как только послышался топот шагов наверху, Дима умолк и многозначительно подмигнул Можайскому. Алексей Петрович был не в духе; в такие минуты его остерегались, не любили попадаться ему на глаза.
Вдруг послышалось сверху три гулких удара, — так Ермолов вызывал к себе Слепцова.
— Пойдем, — сказал, вздыхая, Слепцов. — Одному страшно…
Ермолов стоял, расставив ноги, наклонившись над картой. Промокшие сапоги валялись на пороге. Окно было открыто настежь, дождь шуршал по крыше, и ветер шумел в мокрой листве.
— Проиграл, чёртушка, — сердито сказал Алексей Петрович, кивнув в сторону окна. — Ты что говорил?
— Говорил, что к вечеру дождя не будет… Проиграл. Чем прикажете платить, Алексей Петрович?
Слепцов, действительно, проиграл пари. Еще утром он сказал, что к вечеру погода разгуляется.
Ермолов не ответил, но еще ниже нагнулся над картой.
— Союзники! — сказал он свирепо. — Видали?
Он показал на карте местность между реками Плейссой и Эльстером. Здесь была низменная, пересеченная местность, трудно проходимая даже летом и особенно теперь, после осенних дождей. Именно здесь князь Шварценберг, австрийский главнокомандующий, хотел развернуть корпус генерала Мерфельда, австрийские резервы, прусскую гвардию, русских гвардейцев и гренадер.
Можно было себе представить, что ожидало русскую гвардию и гренадерский корпус, если бы они оказались в этой заболоченной местности!
— Стратег! Сципион африканский! Придумал зайти в тыл к Наполеону, а того не видит, что Наполеону прямой расчет ударить в его левый фланг и отбросить к Плейссе… Выбрал плацдарм — вот он там и засядет, как кулик в болоте…
Он с силой ударил пятерней по карте, так, что отдалось во всем доме.
— Так не дали же мы погубить нашу гвардию и гренадер! Не дали австрияку своих солдат на погибель! Барклай, Михаил Богданыч, дай ему бог здоровья, уж на что скромен и терпелив, а тут не выдержал и сказал то, что у нас у всех накипело…
— А государь?
— Сделал по-нашему. «Я, говорит, согласен с моим главнокомандующим. Пусть Шварценберг делает с австрийской армией, что хочет, — русские войска двинутся на правый берег Плейссы, где они и должны находиться…»
В эту минуту отворилась дверь и появился с кипящим самоваром Ксенофонт. От этого или от другой причины Алексей Петрович заметно повеселел.
— Союзники! — усмехаясь, сказал он. — Дивишься нашему русскому долготерпению. Для чего мы сражаемся? Для того, чтобы освободить от деспота Европу. Удивительно, что они этого не хотят уразуметь. Смотри, как обернулось дело: резервная наша армия подошла из Польши. Наша Богемская армия, армия Барклая, не нынче-завтра соединится с армией Беннигсена. Силезская и Северная армии переправились через Эльбу. И все двинуты к Лейпцигу. Наполеон собрал ведь все силы, кроме корпуса Гувион Сен-Сира. Сравни: у кого сил больше? Перевес у нас, — тут бы и кончить одним ударом. Тут бы и атаковать! Так нет же, третий день спорят, а он, увидишь, завтра сам начнет атаку… Союзники! — с сердцем повторил он. — Да что говорить, завязалось дело под Кульмом, а император Франц сидит в Теплице, во дворце, и музицирует с придворными музыкантами. Когда прибыли туда после боя наши офицеры, то попросили императора Франца потесниться, — в городе нету свободного угла, всюду раненые, всюду войска. Вышел к ним император Франц со смычком в руках и говорит: «Что ж, прекрасно, мы можем продолжать наш концерт внизу…» Забрал с собой своих музыкантов и ушел в нижний этаж…
Алексей Петрович захохотал, но вдруг умолк и сердито добавил:
— Хотел бы я знать, как выглядел бы его величество, ежели бы наша гвардия не решила дела под Кульмом… Называют меня героем Кульма! А знаешь, что было мне всего труднее под Кульмом? Справиться с безумным Толстым-Остерманом! Ведь какая дикая натура! Стоит Толстой-Остерман с гвардейцами, стоит фасом-каре к Дрездену. Французы его обходят. Вижу, идут прямо в обхват каре. Приказываю: «Отойдите назад!» Он орет: «Ни шагу назад! Ни на шаг назад! Вы все трусы! Стоять и умирать на месте!» Веришь, мне его за шиворот приходилось тащить назад… Я свидетель был, когда у него руку отнимали. Пилят кость, он сидит и говорит мне через плечо: «Ведь вот какая получилась неприятность, Алексей Петрович… Дайте-ка понюхать табачку».
Можайскому случалось видеть Толстого-Остермана в главной квартире. Он прославился в жестокой битве на кладбище в Прейсиш Эйлау — с батальоном Павловского полка отбивал атаки французской кавалерии. Видел он Толстого и без руки, с пустым рукавом и поймал его презрительную усмешку, когда тот глядел на «Силу Андреевича», на Аракчеева. Можайскому понравилось загорелое лицо безрукого героя, выгоревшие на солнце брови, глаза на выкате, внезапно загорающиеся яростным огнем… Да, такого приходилось тащить за ворот: «Стоять и умирать на месте!»
— Ксенофонт, дай-ка господам офицерам рому, что им пустой чай пить! — сказал Ермолов.
Дождь лил по-прежнему. Алексей Петрович выглянул в окно, потом подошел к столу и взял за вихор Слепцова:
— Это ты, что ли, пел «Я нигде дружка не вижу» или он?
— Я, Алексей Петрович.
— С душой поешь, а пари все-таки проиграл… Что бы мне с тебя взять? Ну ладно, будет срок — я с тебя спрошу, не помилую.
Прихлебывая из кружки чай, он ходил, разутый по комнате, и пол скрипел под его могучим телом.
— Наполеон будет атаковать, — говорил он, думая вслух, — непременно будет атаковать, чтобы не дать нам соединиться с армией Беннигсена и союзниками. Сколько ни рассеял Наполеон своих солдат в безвестных могилах по всей Европе и в Египте, однако и теперь солдаты его достойные наши противники. Но вот что я вам скажу. Храбрость в сражении еще не все. Афеас, король скифов, однажды сказал Филиппу — царю Македонии: македонцы умеют побеждать, но скифы умеют побеждать не только людей, но голод и жажду… Вот о чем думал я не раз, когда глядел на наших богатырей… Завтра, с зарей, начнем. А теперь пора спать.
Можайскому не спалось. Он накинул плащ, вышел во двор и долго стоял посреди большого крестьянского двора. Под навесами в порядке были расставлены бочки с водой на случай пожара; лежали заступы и топоры. Свинцовые тучи низко неслись над селением; казалось, что дождь понемногу утихает. Внезапно в разрыве свинцовых туч появилась луна и осветила кирпичную ограду. Штык часового на мгновение блеснул в лунном сиянии.
В эти дни и ночи, в вихре событий, он почти не думал о прошлом. Но именно сегодня, накануне сражения, которое будет упорным и кровавым (он знал об этом), мысли Можайского унеслись в прошлое. «Почему ты думаешь о ней? — спрашивал он себя. — Разве нет у нее человека, который о ней заботится, который приходится ей мужем?» Все кончилось между Екатериной Николаевной и Можайским. Но он не мог забыть ее глаз в ту ночь, в Грабнике. Так не смотрят на давно позабытого человека. Нет, он все-таки был прав, когда с отчаянием в душе, холодно, как бы равнодушно говорил с ней. Как же можно было иначе говорить с той, которая уже семь лет была женой другого? На самом деле она ему далека, она ему чужая. Но почему же он не может до сих пор забыть тех дней в Васенках и редких, сорванных украдкой поцелуев в старом саду, где на них с усмешкой глазели мраморные фавны и нимфы? Он поднял глаза и тяжело вздохнул. И вдруг услышал шорох.
— Кто здесь?
— Я… Федор. Как, Александр Платонович, завтра Сулеймана седлать?
— Да, Сулеймана.
Федор помолчал.
— Большой будет завтра бой, — со вздохом сказал он.
— Почем ты знаешь?
— Солдаты говорили. Ужин был добрый — значит перед большим боем.
— Пожалуй…
Можайский знал, что у Ермолова был обычай давать солдатам двойной рацион перед боем.
— И правда, — послышался из темноты голос Федора, — чего рацион жалеть: после боя едоков-то поубавится.
«Какая черствость сердца!» — подумал Можайский, однако в словах Федора Волгина ему почудилось едкость. В последнее время он стал примечать у Волгина некую язвительность в разговоре.
В сущности, он сам был тому причиной. Слепцов с приятелями, да и он сам, не стесняясь присутствием Волгина, высмеивали порядки в штабе, потешались над «гатчинцами», с горечью рассуждали о военных неудачах. Волгина считали верным человеком и оставляли его у порога караулить, когда за столом развязывались языки.
Порой Можайскому казалось, что Волгин понимает в том, что происходит вокруг, куда больше, чем сами господа офицеры.
И это было немного обидно: все же он был только крепостной человек Воронцовых.
— Ну иди, — строго сказал Можайский. — Иди же!
Большая тень Волгина отодвинулась и исчезла.
Можайский еще долго стоял посреди крестьянского двора. Потом сделал несколько шагов, сел под навесом на опрокинутую тележку и так просидел, пока не повеяло предрассветным холодом.
Что-то потревожило воронье. Вороны с карканьем поднялись с верхушек деревьев и зашумели крыльями. Потом послышались два голоса. Можайский узнал голос Ксенофонта; другой голос, должно быть, дежурного писаря.
— Каков сам сегодня? Грозен?
— Грозен. Да оно к лучшему.
— Почему так?
— Он, когда зол, лучше воюет.
Послышался тихий смех. Потом кто-то, вздыхая, сказал:
— Воронья налетело — страсть…
— Чуют, проклятые… Одних коней сколько побьют!
— Кони чтó! Людей жалко… Ксенофонт Макарыч, скажите по совести: для чего русские на чужой земле воюют? Погнали французов со своей земли, теперь бы замириться и жить по-соседски.
— Так он с тобой и замирится, Бонапарт! Не дай бог такого соседушку.
— Вот оно что…
Потом голоса смолкли, и Можайскому стало еще грустнее.
Воронье покружилось и затихло. Наступила странная, жуткая тишина, точно Можайский был совсем один на этой земле, точно по ту и другую сторону не стояли друг против друга многие тысячи вооруженных людей, которые, может быть, поутру уснут навеки.
Когда стало светлеть на востоке, все разом поднялось, ожило, зашумело; слышалось ржание коней, топот, скрип колес и отдаленные крики команды.
Ермолов без рубахи стоял под навесом, Ксенофонт лил ему на могучий затылок холодную воду из ведра. Алексей Петрович кряхтел; вскидывая бровь, он поглядывал на небо. Дождя не было, бледно-желтая полоса зари светилась на востоке.
В шестом часу прокатился первый пушечный выстрел.
Начался день 16 октября 1813 года, первый день Лейпцигской битвы.
Битва началась в седьмом часу утра, — кирасирская бригада генерала Левашова начала наступление. «Русские нападением на Вахау имели честь первыми начать битву под Лейпцигом», — впоследствии писал историограф.
С возвышенности у сельского кладбища отлично было видно поле битвы и особенно замок Стольберг — «дом с красной крышей», ключевая позиция фланга неприятеля. Белые облачка дыма вылетали из длинных и узких окон замка, из окон каменных служб, рассыпанных вокруг него.
Замок стоял на холме; в зрительную трубу были видны синие мундиры и белые портупеи французов, перебегающих от замка к службам. Ниже, на склонах холма, виднелись распластанные фигуры, иные лежали не шевелясь, иные ползли, поднимались и падали. Белые штаны егерей резко выделялись на пожелтевшей траве, но зеленые их мундиры почти сливались с землей. То были раненые и убитые в первой же атаке.
Ермолов прохаживался у ограды кладбища по протоптанной коровами тропинке. Французы отстреливались метко, им было легко отбивать атаки огнем, достать же их за каменными стенами было мудреным делом. Пушечные ядра ударяли в каменные стены, поднимая облачка красноватой пыли, но, разумеется, не могли пробить трехаршинную толщину стены. Как всегда, когда дело уже началось, Алексей Петрович был весел и, выпрямившись во весь богатырский рост, приложив козырьком руку к глазам, глядел, как строились гвардейские егеря.
В стороне, собравшись в кружок, стояли командиры полков и та приближенная к Алексею Петровичу молодежь, которую в армии называли «ермоловцами».
Вся картина сражения показалась бы нашему современнику, военному человеку, красивой, но очень странной: строящиеся чуть не под огнем неприятеля полки, сверкающее на солнце золотое шитье мундиров, белые и черные плюмажи на шляпах генералов, блистающие штыки, развевающиеся под ветром знамена, зеленые, синие, белые мундиры, ментики гусар, их высокие шапки… Все это было величественно, красиво, видно простым глазом, и если бы не распластанные фигурки, лежавшие неподвижно на склоне холма, походило на смотр или учение.
Пороховой дым застилал подножье холма, на котором стоял «дом с красной крышей». Дима Слепцов издали глядел на Ермолова и, весь дрожа от нетерпения, ожидал приказа. В то же время он мучительно завидовал Можайскому, которого зачем-то позвал Ермолов.
— Вообрази себе, — спокойно и нисколько не торопясь, говорил Ермолов, — вообрази, что было бы, ежели бы мы держались линейного прусского строя, атаковали бы двумя тонкими цепями развернутых батальонов? Был бы второй Аустерлиц и наша погибель.
Прусские вояки видели поле сражения театральной сценой, ровным и чистым полем — плацпарадом. Когда же французы вынудили пруссаков сражаться на пересеченной местности, шеренги тотчас сломались, и в 1806 году, после Иены и Ауэрштедта, в шесть недель не стало прусской армии и самой Пруссии.
Колонны с развернутыми батальонами впереди и цепи стрелков, из состава тех же батальонов выделенные, — так нынче атакуют. И так стало после Аустерлица, волей князя Смоленского. За одну эту реформу надо его век благодарить. Барклай? — неожиданно кончил он. — Что ж, Барклай храбрый, опытный, честный… Но трудно без фельдмаршала, ох, трудно!.. — И, вдруг повернувшись к Слепцову, негромко сказал: — Гвардейским егерям — врассыпную, вперед… С богом!
Последнего слова Слепцов не расслышал, он уже был в седле и летел вниз по скользкой и мокрой скошенной траве.
Ермолов посмотрел на небо. Большое облако приблизилось к солнцу, мгновение — и солнце затмится, и не так уж будут видны атакующие цепи стрелков.
— Ну-с, господа, теперь пора!
Большими шагами он побежал вниз, где стояли развернутым строем гренадерские батальоны. Остановился перед строем и сорвал с себя шляпу с черным плюмажем:
— Барабанщики!
Громовой голос его прозвучал сквозь грохот ружейной пальбы. В то же мгновение ударили сорок барабанов. Огромная фигура Ермолова показалась впереди колонны. На шее сверкал Георгий, полученный из рук самого Суворова. Он бежал впереди с обнаженной шпагой, прижав к себе шляпу левой рукой. Черный плюмаж трепетал на осеннем ветру. Барабанщики едва поспевали за генералом. Позади он слышал грохот сапог бегущих за ним шести тысяч гренадер.
Так началась решительная атака на «дом с красной крышей» на фланге неприятеля.
С десяти утра и до часу дня на фронте в восемь верст шло сражение. Ни та, ни другая сторона не имели успеха. Около двух часов дня Наполеон сосредоточил кирасирские полки и пехоту, решив прорвать центр русской армии и отбросить армию Барклая к Плейссе. Всю силу удара предстояло вынести гренадерам генерала Раевского.
Началось самое жаркое дело этого дня — бой у деревни Госса.
Теперь все мысли Ермолова были там, Где гренадерский корпус Раевского принял на себя главный удар неприятеля.
Ермолов и Раевский почитали друг друга, но всегда между ними существовало доблестное соперничество. Ермолов немного опасался острого языка Раевского, но по-своему любил его, и сейчас Алексею Петровичу хотелось, чтобы Раевскому было трудно, и тогда, справившись с делами у себя, Ермолов предложит ему помощь, точно так, как под Кульмом это сделал Раевский. Вот почему, взяв с собой только Слепцова, Ермолов, к удивлению своего штаба, поскакал к Раевскому.
Стоило только взглянуть в ту сторону, где лежали пруды у деревни Госса, как он сразу понял, что именно здесь, а не у «дома с красной крышей», решается успех первого дня сражения.
Гренадеры только что отбили пятую бешеную атаку французов. По множеству лежавших на равнине трупов, по лицам солдат Ермолов убедился, что здесь — самое решающее дело. Глубокий, длинный овраг пересекал поле сражения в тылу у русских. Гренадеры и кавалерия могли быть опрокинуты к оврагу. Впереди же тускло блестели пруды, и за ними клубился дым горящего селения.
Ермолов спрыгнул с коня. Поперек тропинки лежала убитая лошадь, ее расседлывали коноводы. Злодей Алексея Петровича заплясал на месте, косясь налитыми кровью глазами на труп лошади.
— Где генерал? — спросил Ермолов.
Ему показали в сторону оврага. Ермолов спустился по крутой тропинке в овраг. Там он увидел Раевского. Генерал сидел на опрокинутом ведре со зрительной трубой в руках и старательно протирал стекла платком. Увидев Алексея Петровича, он встал и, благодушно улыбаясь, пошел ему навстречу. Они обнялись, поцеловались.
— Здорово, Николай Николаевич! — усмехаясь, сказал Ермолов. — Каков денек!
— Славный денек, я такие люблю! Не жарко, и солдату легче.
— Покажи мне, голубчик, что у тебя… Мне что-то невдомек, что «он» затеял.
«Он» был Наполеон, который в эту минуту стоял у деревни Вахау.
Раевский и Ермолов поднялись по тропинке, вышли на край оврага и долго глядели в ту сторону, где за тысячу с немногим шагов от них стояла французская пехота.
Ермолов отвернулся и стал глядеть на гренадер. Солдаты отдыхали. Одни сидели, другие лежали на сырой, размытой дождями, залитой кровью земле. Несмотря на прохладную погоду, многие были в поту, в расстегнутых мундирах. Немало раненых осталось в строю, их можно было приметить сразу по окровавленным повязкам. Впереди по всему полю лежали неподвижные тела убитых. Ермолов перекрестился и снова стал смотреть на живых.
Почти все были солдаты старой службы, старослуживые, седоусые воины. Не раз они слышали яростное «алла» турецких таборов, вой и пронзительный визг янычар. Уже во второй раз они совершали поход в Европу, глаза их видели пыльные белые дороги и зеленые виноградники Ломбардии, видели Суворова при Нови и Треббии.
Алексей Петрович задумался. Многое вынесли эти люда за два десятилетия военной службы — и гатчинскую муштру, и кайзер-парады, и шагистику в экзерцир-гаузах, парики, пудру, вшивые прусские букли, палки и шпицрутены. Но все качества русского солдата — выносливость, бесстрашие, сметка, отвага и страшная сила рукопашного удара — все это сохранили русские люди, сокрушившие непобедимую до сего времени армию Наполеона. Недаром сам Наполеон говорил Чернышеву, что если бы у него были его старые батальоны, которые полегли в Испании, или русские солдаты, он не испытал бы горечи поражения в битве при Асперне.
— Золотые люди, — проговорил в раздумье Ермолов и, оглянувшись, встретил внимательный, добрый взгляд Раевского.
Солдаты сидели на земле, поставив между колен ружья, и пристально глядели вперед: там, за пожелтевшими кустарниками, поднимался дым пожарищ, и уже простым глазом можно было увидеть передвигающиеся вправо колонны французов. Готовилась шестая атака неприятеля.
— А справа что ж? — спросил Ермолов.
Там что-то двигалось, поблескивая металлом на солнце.
— Я полагаю, кавалерия, кирасиры, — сказал Раевский.
В это мгновение ядро просвистело над их головами. Тотчас же второе ядро ударило влево, где стояли кони, и, ломая кустарники, зарылось глубоко в землю.
— Николай Николаевич, — лукаво прищурившись, сказал Ермолов, — надо думать, ежели мы их видим, то и они нас видят?
В подтверждение этих слов со свистом упало в тридцати шагах третье ядро.
— Натурально, видят, — сказал Раевский и рассмеялся. — Будет тебе, Алексей Петрович, мы ведь с тобой не подпоручики, нам славы не занимать, что нам перед солдатами петушиться?
Ермолов тоже рассмеялся, и они ушли за кусты, где стояли кони. Алексей Петрович взял повод, потом отдал, подошел к Раевскому и поцеловал его в губы. Простившись, он легко поднялся в седло и пустил коня в галоп.
Раевский не устрашился новой, шестой атаки. Он знал, что гренадеры устоят.
Главнокомандующий обещал ему помощь гвардейского корпуса, обещал поддержку резервных батарей. Сколько еще можно было ожидать этой помощи?
Он думал и о другом. Гусарские полки стояли за рощицей и по диспозиции уже должны оставить деревню Госса и быть готовы встретить атаку французской кавалерии. Но сколько ни глядел он в зрительную трубу, глядел до рези в глазах, он не замечал никакого движения на опушке рощи. А французскую кирасирскую дивизию он уже мог видеть простым глазом…
Однако недаром Наполеон говорил о Раевском, что он создан из материала, из которого делаются маршалы. В минуту опасности он обретал неисчерпаемые силы, «был прелестен», как вспоминал любимый адъютант его — Батюшков. Глаза Раевского сверкали, обычная язвительная усмешка исчезала, это был не тот насмешливый и желчный человек, который подшучивал сам над собой: «Превозносили меня за то, чего я не делал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича…»
Как бы помолодев, сорокалетний генерал взлетел на коня, точно юноша. Он был уверен — и шестая атака будет отбита, настолько уверен, что уже готовился к контратаке.
— Ребятушки, не пятиться, не пятиться! — ободрял он молодых солдат из последнего своего резерва.
Раевский сидел на коне без шляпы; ветер трепал рано поседевшие волосы, вытянутая рука как бы составляла одно целое со сверкающей полосой стали. Прищурившись, он глядел в сторону неприятеля.
Частый свист ядер и грохот ружейной пальбы возвестили начало шестой атаки на деревню Госса.
Ермолов возвращался к себе. Он был спокоен за свою колонну: она уже охватывала «дом с красной крышей» и, возможно, вела уже бой в самом замке. Ему было немного завидно, что теперь все зависит не от стойкости его солдат, а от стойкости гренадер Раевского. Потому он ехал немного хмурый и пустил вскачь Злодея, не оглядываясь на едва поспевавшего за ним Слепцова.
Вдруг, осадив коня, он стал всматриваться в ту сторону, где из-за оголенных деревьев чернела вышка кирхи селения Вахау.
— Алексей Петрович, назад! — побледнев, сказал Слепцов.
— Вижу, и без тебя вижу. Отлично вижу.
В самом деле, ему отлично были видны спускавшиеся в долину эскадроны французских кирасир. Это была та кавалерия, которую решил бросить в атаку Наполеон, чтобы прорвать центр русских.
Но Ермолова смутило другое. Он видел и русскую кавалерию, видел гусар, по три справа выезжавших из-за рощи у деревни Госса. Гусары не видели французов, а если бы увидели, то не успели бы перестроиться.
— А ведь наших сомнут, — подумал вслух Ермолов.
И это была правда, потому что гусары ехали тонкой линией и не могли выдержать атаки плотного строя французских кирасир.
Слепцов же думал о том, что они оба очутились между французами и нашими и при атаке их ожидает смерть или плен… Он беспокоился о Ермолове больше, чем о себе.
Между русскими и французами оставалось не более тысячи шагов.
Ермолов оглянулся, сразу увидел необычную бледность всегда румяного Слепцова и вдруг спокойно и весело сказал:
— Ну вот и самое время платить пари… Спой-ка мне, голубчик, «Я нигде дружка не вижу»…
Слепцов опешил.
— Пой! — сердито закричал Ермолов. — Слышишь, пой, раз проиграл!
Слепцов подбоченился и, поглядывая в сторону французов, не очень уверенно, но довольно громко запел. Он сам себя не слышал, вряд ли слышал его Ермолов, потому что земля гудела от топота нескольких тысяч коней.
— Нечисто поешь, — усмехаясь, бросил Ермолов, — ну, хватит…
Это была опасная шутка. Наш современник, пожалуй, не поверит, что в такую минуту русский генерал, герой Отечественной войны, мог сыграть шутку со своим адъютантом. Однако так оно было, и долго еще после боя офицеры и старослуживые солдаты хвалили за лихость своего генерала. Впрочем, возможно, это была бы его последняя шутка, если бы картина не изменилась. От глубокого оврага, перерезавшего поле боя, вдруг отделилась плотная ярко-алая масса всадников — скакали лейб-казаки, личный конвой императора Александра. И теперь было ясно, что сейчас произойдет сшибка казачьей лавы и французских кирасир.
Все это случилось на глазах Ермолова и Слепцова в течение пяти минут: оба они даже не успели сообразить — откуда здесь взялись лейб-казаки.
Как это случилось, они узнали впоследствии.
25
Едва Ермолов покинул позиции гренадерского корпуса, началась шестая атака неприятеля, и на исходе ее Раевского ранила пуля в шею. Обмотав шею платком, он, не сходя с коня, повел гренадер в контратаку. Мундир генерала был залит кровью. Разгоряченный, но в то же время внимательный ко всему, что происходило вокруг, Раевский не упускал из виду сосредоточения кавалерии неприятеля. Но тут его отвлекло новое и неожиданное для него обстоятельство.
— Император! — послышался крик адъютанта.
Повернув коня, Раевский поехал к оврагу и увидел группу всадников, поднимающихся гуськом по тропинке из оврага.
Император Александр, главнокомандующий Барклай де Толли и свита появились на передовой линии. Александр мельком взглянул на окровавленную шею Раевского. Он не выносил вида крови, но старался сохранять спокойствие, — это стоило ему немалых усилий. Он верил, что его появление воодушевит войска.
Барклай, угрюмый, как всегда, — даже более, чем всегда, — хорошо понимал, что именно сейчас здесь нужны австрийцы, но они по вине упрямого и глупого Шварценберга бессмысленно завязли в болотах между Плейссой и Эльстером.
Гренадеры оставались спокойны, они глядели не на императора и блестящую свиту всадников, а на своего раненого генерала. И Барклай, немного знавший русских солдат, подумал, что дело здесь далеко не безнадежно.
— Неприятель сосредоточил все силы у Вахау, — докладывал Раевский, — сейчас ждем его атаки…
— Кавалерия? — стараясь говорить спокойно, перебил Александр и показал перчаткой на темное, поблескивающее металлом пятно впереди.
— Кирасиры! Сейчас нас атакуют.
Барклай в зрительную трубу видел выезжавших из рощи русских гусар. Они выезжали по три справа, и он побледнел от ярости, — сейчас эти тонкие линии будут прорваны сплошной массой тяжелой французской кавалерии.
Александр оглянулся, — глубокий овраг лежал позади. Он подумал о том, что, смяв гусар, кирасиры налетят на них и они тоже могут быть смяты и опрокинуты в овраг. Но Барклай видел, что вдоль оврага красной каемкой алели мундиры конвоя лейб-казаков. Он махнул платком лейб-казакам, и девять сотен лучшей в мире кавалерии бросились навстречу кирасирам.
— Ожидаю артиллерии, — глухим и усталым голосом сказал Барклай. — Я отдал приказ генералу Сухозанету, чтобы все резервные батареи на рысях шли к Госсе.
— Тогда — ура! — воскликнул Раевский.
— Гвардейскому корпусу приказано вас поддержать, — тем же глуховатым голосом продолжал Барклай и поглядел на Александра: — Ваше величество, благоволите отъехать шагов на двадцать.
Александр отъехал на двадцать шагов, — этим он хотел показать, что здесь хозяин главнокомандующий, Барклай, и что не будь приказа, он бы остался на месте. Отъехав, он поглядел в зрительную трубу на атаку лейб-казаков.
— Они сосредоточены у Вахау, мы — у Госсы. Кому прежде подоспеют резервы — тот победит, — сказал Александр, обернулся назад и встретил искательный взгляд Волконского. — Спросите у Михаила Богдановича: где же резервная артиллерия?
Но прежде чем Волконский устремился к Барклаю, неслыханный грохот орудий потряс небо и землю. Орудия русских резервных батарей открыли огонь по неприятелю. Французы отвечали. Полтора часа на расстоянии тысячи шагов шла артиллерийская канонада, о которой участники сражения говорили, что она была ужаснее и громче, чем на Бородинском поле.
Были минуты, когда Наполеон считал центр русской армии прорванным. На самом деле это было не так, не только центр устоял, но гвардейские егеря даже заняли «дом с красной крышей».
Раевский удержал свои позиции.
Австрийские полки Шварценберта между Эльстером и Плейссой, как и следовало ожидать, потерпели неудачу. Генерал Мерфельд был взят в плен французами.
Осенний день погас. В непроницаемой темноте ночи полыхало зарево пожаров. Поднялся ветер, и сквозь его шум и свист слышались протяжные стоны раненых и умирающих.
Так кончился первый день битвы у Лейпцига. В те времена, когда дистанции ружейного и артиллерийского огня были невелики и дело часто решалось рукопашным боем, сражения протекали яростно и кровопролитно. Французы и союзные войска потеряли около тридцати тысяч человек.
Ермолов получил известие о взятии штурмом «дома с красной крышей».
Но не Можайский был вестником победы. Он лежал в беспамятстве, с простреленной головой, среди мертвых и умирающих, и казалось, ничто уже не могло его спасти.
Это случилось уже после того, как он побывал в замке Стольберг. Он был ранен на обратном пути, когда мчался, чтобы сообщить радостную весть о взятии «дома с красной крышей» и отходе в этом месте французов.
Сначала все благоприятствовало Можайскому. Горячий конь легким и быстрым галопом поднялся на возвышенность. На склонах холма ничком, на боку, в неестественных позах лежали раненые и убитые. Битва продолжалась, никто еще и не думал о том, чтобы подобрать раненых. Здесь только что прошли атакующие егеря. Подсаживая друг друга, они перелезали через железную ограду.
Обогнув ограду. Можайский увидел сорванные с петель ворота и широкий двор, живую изгородь, за которой мелькали синие мундиры французов, их белые наплечные ремни. На всем скаку он влетел в ворота замка.
Бой шел уже в самом господском доме. Какой-то солдатик, держась за окровавленное плечо, стоял у ворот, прижавшись спиной к ограде. Можайский бросил ему повод и побежал к дому. Навстречу два солдата вели раненого полковника; лицо раненого показалось знакомым, но Можайский не остановился и только крикнул:
— Где генерал?
Раненый кивнул в сторону парадной лестницы. Можайский вбежал в высокие, просторные сени и увидел перед собой мраморную с бронзовыми перилами лестницу, на которой стонали раненые и недвижимо лежали убитые. Страшный грохот ружейной и пистолетной пальбы отдавался во всем доме. Среди драгоценных гобеленов и зеркал, под расписными потолками французы и русские стреляли друг в друга, рубились и кололи. Звон разбиваемых стекол и зеркал, стоны, вопли и выстрелы оглушили Можайского. Он очутился в просторной комнате и на мгновение остановился, чтобы оглядеться и понять, где находится. Это был полукруглый театральный зал с отделанными малиновым бархатом ложами. Порванный занавес с пляшущими эльфами свисал с золоченой арки, увенчанной лирой. В оркестре лежали опрокинутые пюпитры, валялись разбросанные листы нот. Здесь было тихо, шум схватки удалялся, и, пробежав через театральный зал, Можайский очутился в портретной.
Какие-то надменные старики в париках и шитых золотом кафтанах глядели из золотых рам на страшную схватку внизу. Из портретной Можайский пробежал в полутемную овальную комнату, освещаемую вспышками пистолетных выстрелов. Должно быть, это была столовая: сверху сыпались осколки фарфоровых тарелок. Среди этого ада Можайский увидел трех офицеров и генерала, которого искал. Генерал-майор Федор Павлович Удом сидел в кресле, вытянув ногу, адъютант стаскивал с нее сапог. Сапог был разрезан сбоку ножом, шел легко, но добродушное лицо генерала искажала гримаса боли.
— Я от Алексея Петровича, — задыхаясь, сказал Можайский. — Что прикажете доложить?
— Доложи, голубчик, — морщась от боли, зарычал Удом, — доложи, что видишь… Скажи, что мы здесь ночуем.
Сапог, наконец, стащили, нога была в крови. Дальнейшего Можайский уже не увидел. Он выбрался на лестницу, шум боя еще не утихал, — видимо, дрались уже где-то в верхнем этаже. Из разбитого окна под самой крышей вывалился человек в синем мундире и, перевернувшись в воздухе, грохнулся на каменные плиты.
Раненый солдат стоял у ограды и держал за повод Сулеймана.
Он что-то закричал, показывая на остроконечный шпиль дозорной башни. Трехцветное французское знамя на флагштоке покосилось, заколыхалось в воздухе и исчезло.
Можайский карьером вынесся за ограду. Он решил сократить путь и пустил коня не по тропинке, а прямо по влажной, скошенной, но не убранной, пожелтевшей траве. Копыта Сулеймана скользили. «Пожалуй, лучше было бы по тропинке», — подумал Можайский.
Солнце уже стояло высоко в небе. Можайский оглянулся на «дом с красной крышей», показавшийся ему величественным и прекрасным. Сулейман вдруг споткнулся и бросился в сторону. Можайский протянул руку, потрепал его по шее и в это мгновение увидел француза, лежавшего в траве, на боку. Можайский успел разглядеть юное лицо, большие, расширенные синие глаза и страдальчески искривленный рот. Еще он увидел длинное дуло пистолета…
Выстрела Можайский не услышал. Он почувствовал страшный удар в голову, отдавшийся во всем теле, и вдруг солнце затмилось.
Француз выронил пистолет и засмеялся лающим, похожим на рыдание смехом, он увидел, как проскакавший мимо него офицер, будто мешок, вывалился из седла. Красавец конь, казавшийся золотым под лучами солнца, отбежал в сторону, остановился и стал ловить губами высокие, еще не скошенные стебли.
…Егеря, действительно, в ту ночь ночевали в «доме с красной крышей». К шести часам вечера в замок приехал Ермолов. Он спросил о Можайском. Раненый генерал-майор Удом сказал, что к нему в самый разгар боя приезжал от Ермолова адъютант и тут же ускакал обратно к Алексею Петровичу с донесением. Однако в штаб-квартиру Можайский не прибыл.
Из замка выносили во двор и в сад убитых. Клали отдельно французов и русских. Русских — офицеров и солдат — тоже клали врозь. Штаб-священник собирался их отпевать в отдельности.
— Отец Иона! — громовым голосом закричал из окна Ермолов. — Всех вместе отпевайте! Все вместе войдут в царствие небесное!
Этот окрик Ермолова заставил задуматься Слепцова. Он вспоминал горькие слова, сказанные ему Можайским на бивуаке: «Мы говорим об убитых только из нашей среды, как будто, кроме господ, никого не убивают в сраженьи…».
У него сжалось сердце, и он вздохнул о своем друге.
Слепцов два раза прошел мимо убитых, заглядывая в лица. Можайского не было среди них. Он почти столкнулся с высоким человеком в вольной одежде и не сразу узнал в нем Волгина.
— Федя, — горестно сказал Слепцов, — верно, нет на свете Александра Платоновича…
И он смахнул со щеки слезу.
— Дмитрий Петрович, дозвольте взять двух солдат поискать в поле, пока светло.
— И я с вами пойду, — сказал Слепцов.
Они взяли двух егерей, захватили фонари и вышли за ограду.
Спускался холодный вечер, вокруг все пропахло горьким пороховым дымом. Санитарная фура с раздирающим уши скрипом выезжала из ворот. У самой ограды ратники копали братские могилы.
Слепцов, Волгин и солдаты бродили по склону холма, пока не стемнело. Волгину было страшно глядеть на окровавленные, скрюченные, застывшие тела. Их лежало много — сотни, а может быть тысячи.
Где-то вдали мигали огненные языки факелов. Было это у оврага, где лейб-казаки отбили атаку французских кирасир. По обычаю своему казаки не оставляли на поле сражения убитых товарищей, а уносили тела, чтобы предать погребенью.
Надежда еще теплилась в сердце у Слепцова. Но вот угас багровый закат, поднялся ветер, и свист его мешался со стонами умирающих…
— Пойдем, — наконец сказал Слепцов, — скоро ночь…
Они было повернули назад, но тут послышался конский топот, кто-то шагом проехал мимо них. И вдруг Слепцов услышал яростный крик Волгина:
— Стой, стой, говорят!..
Он побежал за всадником. Это был солдат.
— Дмитрий Петрович, да это ж наш Сулейман…
— Сулейман и есть! — удивился Слепцов. — Слезай, солдат. Откуда у тебя этот конь?
Испуганный солдат рассказал, что ему приказано собирать амуницию, конь же бродил по полю.
— …А зачем коню пропадать? Такому коню цены нет. И сбруя на нем дорогая…
— Ладно, — сказал Волгин, — веди туда, где нашел коня.
Совсем стемнело. Волгин достал огниво. Зажгли фонари.
— Зачем такому коню пропадать… — бормотал солдат. — Ему цены нет…
Волгин наклонялся над распростертыми телами, заглядывая в лица мертвых. Слепцов молчал, ежился от холода и поглаживал бока Сулеймана.
— Здесь, — хриплым голосом сказал Волгин, — глядите…
Слепцов увидел белокурые волосы, знакомый высокий лоб, запекшуюся кровь в волосах. Он расстегнул мундир Можайского и припал ухом к сердцу.
— Дышит… — наконец сказал Слепцов.
Волгин поднял Можайского. Они положили его поперек седла и, придерживая тело, медленно пошли по полю. Солдат вел за повод Сулеймана.
«Тут где-то за деревней должен быть перевязочный пункт», — подумал Слепцов.
Так оно и было. Они довезли Можайского до деревни Госса и сдали на перевязочный пункт лейб-гусарам. Волгин остался при Можайском. Слепцов на том же Сулеймане вернулся в замок Стольберг. Все окна замка были освещены. Взбежав по лестнице, он очутился в ярко освещенном театральном зале. То, что он увидел, ошеломило его.
Зал был полон. Офицеры — егеря, гренадеры, гусары — сидели на полу, на барьерах лож. В аванложе, под балдахином, сидели Ермолов и генерал Удом.
На сцене два молоденьких адъютанта разыгрывали на память «Федру» Расина. Федру изображал красивый, с тонкими девичьими бровями Мансуров, Тезея играл адъютант генерала Удома Лёва Батенин. «Федру» он знал наизусть, но беда была в том, что он заикался.
— Терамен! Вот Терамен! — закричал Ермолов, показывая на Слепцова.
Не сказав ни слова, Слепцов поднялся на сцену и начал монолог Терамена.
Странные были времена, странные нравы. И это не фантазия романиста, а свидетельство современников.
Ночью Ермолов вспомнил о Можайском и приказал позвать Слепцова. Ермолов писал реляцию о взятии штурмом «дома с красной крышей». «Успехом сего дела обязаны мы доблести егерей генерал-майора Удом, овладевшего центральной позицией французов на левом фланге…»
В эту минуту он увидел перед собой Слепцова.
— Забыл тебя спросить, где бедняга Можайский? Жив?
Он выслушал рассказ Слепцова и, узнав, что Можайского сдали на перевязочный пункт к лейб-гусарам, вспомнил:
— К лейб-гусарам государь послал самого Виллие… Съезди к Якову Васильевичу, поклонись от меня и скажи, что верю в него, как в бога… Жизнь человеческая в его руках. Еще скажи, что мне дорог молодой человек, пусть сделает, что может…
В тот же час неутомимый Слепцов отправился в деревню Госса. Он помчался туда на том же Сулеймане, позади на взмыленном коне скакал неразлучный со Слепцовым его вестовой Кокин.
Чуть забрезжила заря. В дымке предутреннего тумана расстилалось перед ними поле битвы.
Слепцов торопился, он знал, что с первыми лучами солнца вновь начнется сражение. Еще не ударила первая пушка, вокруг была тишина. Издали доносился невнятный гул — то передвигались большие колонны войск.
Слепцов и Кокин примчались в деревню и у первого встречного, военного лекаря, спросили, где им искать генерал-штаб-врача гоф-хирурга Джемса Виллие, Якова Васильевича, как его величали. Имя генерала Ермолова слишком много значило, и Слепцова тотчас проводили к нему.
Слепцов застал его на крыльце дома, где разместился перевязочный пункт. Виллие, без мундира, в расстегнутой на груди сорочке, мыл руки. Вода в ведре была красной от крови. Слепцов стоял, ежась, и с опаской поглядывал на двери. Оттуда слышались стоны и похожие на вой рыдания.
— Операцию поручику Можайскому делал доктор Гинефельд, немецкий хирург, очень искусный. Погодите, господин ротмистр…
Виллие вытер руки, перебросил через плечо полотенце и, позвав с собой Слепцова, вошел в дом пастора, дверь в дверь с домом, где был перевязочный пункт.
На диване, под вышитой крестиками картиной в дубовой раме, спал пожилой немец с седыми баками. Он открыл глаза, пошарил кругом, нашел очки и с удивлением посмотрел на Виллие.
Виллие заговорил с Гинефельдом по-латыни. Слепцов хотя и учился латыни, но по лености немного успел. Потому он терпеливо ждал, пока кончится разговор.
— Поручик ранен пулей в голову, — наконец сказал Виллие Слепцову. — Доктор Гинефельд вынул раздробленные кости, а также кусок сукна от фуражки, попавший в рану…
И, поглядев в полное недоумения лицо Слепцова, добавил:
— Вряд ли будет жив… Впрочем, я сам посмотрю.
26
17 октября 1813 года Дмитрий Сергеевич Дохтуров писал в Москву о сражении под Лейпцигом:
«Мы шли без отдохновения, поспешая соединиться с главными армиями и наконец пришли к 6 октябрю и участвовали в главном деле, где, кажется, решилась участь всей Германии. Дело было жестокое, злодей везде был опрокинут в нескольких позициях; и ночь уже помешала его совершенное истребление. На другой день 7 числа мы пододвинулись к Лейпцигу и ясно увидели беспорядок его ретирады; тут усилили наши движения и по некоторой обороне вошли в город… Тут еще засевши неприятель в домах и садах защищался, но уже недолго; наши пушки тотчас очистили улицы. Представь себе, друг мой, этот спектакль: все жители в окошках кричат ура, машут платками, кидают на улицы цветы… кажется, после сего неприятель спешно ретируется к Рейну и, все пленные утверждают, в большом беспорядке…»
Только во Франкфурте Данилевский узнал о тяжелой ране Можайского. На пятый день после битвы Виллие, осматривая раненых, которых считали безнадежными, решил, что рана Можайского все же не смертельна. 18 октября, в последний день Лейпцигской битвы, когда решалась судьба Наполеона и Европы, Можайский еще лежал в беспамятстве. Когда же сознание вернулось к нему, из обрывков фраз, из слов раненых он понял, что битва кончилась отступлением войск Наполеона. Собрав все силы, превозмогая мучительную боль в висках и в затылке, он прислушивался к рассказам. Даже у умирающих не было подавленного настроения, не было равнодушия и безразличия ко всему, обычного в таких случаях. Они были возбуждены, ощущение победы не оставляло их даже на пороге смерти.
Рядом с Можайским лежал молодой поручик Апраксин, которого он встречал в главной квартире. Умирающий Апраксин точно был еще на поле битвы, в ушах его еще гремел неслыханный доселе гром множества орудий. Смертельное ранение настигло его в конце третьего дня битвы, когда упорство наполеоновских армий было уже сломлено. Юноша жил еще несколько дней, врачи надеялись сохранить ему жизнь, но признаки антонова огня заставили их отступиться. Заражение шло быстро, и, несмотря на ампутацию обеих ног, Апраксин скончался на глазах у Можайского, то выкликая слова команды, то с нежностью повторяя имя невесты. Голос его был юношески звонким до последней минуты, и румянец не сразу сошел с его мертвого лица.
Но и самому Можайскому было сейчас худо, он горел, как в огне, страдал от мучительных болей. Рана в голову оказалась опаснее и мучительнее раны, которую он получил под Фридландом.
Можайского довезли до Франкфурта. Там были неплохие немецкие лазареты, и в самом лучшем, поместившемся в городском больничном доме, Данилевский нашел Можайского.
С первого взгляда Данилевский понял, что рана серьезная, и понадеялся только на крепкое здоровье своего друга. Можайский лежал на плоской подушке, со льдом на затылке, бледный, с впалыми щеками и искусанными от боли губами. Волгин бессменно находился при нем; Данилевский знал этого молчаливого, добродушного богатыря.
Можайский улыбнулся Данилевскому горькой и грустной улыбкой. Ему было запрещено разговаривать, немецкие врачи опасались за его мозг: при таких ранах иные лишались рассудка.
— Молчи, тезка, и слушай, — заговорил Данилевский. — Вот тебе новости. Все полагают, что Лейпциг — могила Бонапарта. Подобной битвы еще не было на земле, взято пленных двадцать два генерала, тридцать семь тысяч солдат, триста пушек… Сегодня пришло известие, что французы ушли за Рейн. Герои сей неслыханной победы — мы, русские… — Он оглянулся и понизил голос: — Вот тебе презабавный анекдотец. Король прусский запоздал к началу сражения, государь послал за ним флигель-адъютанта. Король принял того раздетый и стал выговаривать: «Я должен знать, в каком мундире я буду в сражении, в русском или в своем, прусском… Не могу же я ехать без панталон…»
Данилевский рассказывал эту веселую историю, покатываясь со смеху, над ней хохотала вся гвардия. Можайский слушал его, удивляясь своему равнодушию ко всем штабным толкам и пересудам. Он только начал возвращаться к жизни, все, что было за стенами лазарета, было еще далеко от него.
— …на второй день сражения, 17 октября, подошла наша северная, резервная армия и корпус Коллоредо. У нас, стало быть, перевес сил. А главное — после конфуза Шварценберга у Плейссы и Эльстера союзники уже не имели к нему доверия. Пруссаки и австрийцы согласились с нашим планом атаки, мы, русские, были главными силами в предстоящей битве… Вюртембергские и саксонские войска, на которых полагался Наполеон, перешли на нашу сторону. Немецкие солдаты не хотели сражаться на стороне Бонапарта… Пленные рассказывали, будто Наполеон не был похож на себя накануне Лейпцигской битвы. Занимался делами Испании, писал указы в Париж, словом, был императором, а не полководцем. А Бертье не решался ничего взять на себя, потому мост через Эльстер был взорван раньше времени и много офицеров и солдат потонуло и попало в плен.
Точно железные обручи сжимали голову Можайского, норой все затмевалось у него в глазах от сверлящей боли в висках… Как в полусне, он слышал голос Данилевского:
— Нынче во Франкфурте центр политики. Союзники склонны остановиться на Рейне, опасаясь перенести войну в пределы Франции. Лорд Кэстльри склоняется к тому же, один только император хочет низвержения Наполеона: «Мир должен быть подписан в Париже». И пруссаки хотят войны до конца, чтобы отомстить за долгие годы унижения… Ты слышишь меня, тезка?
Можайский пошевелил губами.
— …а пока что парады и смотры, государь придирчив и строг, как никогда доселе… На воскресном параде егерский полк сбился с ноги, государь приказал Алексею Петровичу арестовать генерал-майора Удома на две недели. Алексей Петрович отказался взять шпагу у нашего доблестного Федора Павловича, а когда государь приказал в другой раз, то Алексей Петрович сказал, что пришлет собственную шпагу и тогда уже не будет иметь подлости взять ее обратно… Так и сказал, ей-богу!
Он вдруг умолк, увидев, что лицо Можайского исказилось, глаза расширились и блеснули гневом.
— …Тем и кончилось, друг мой… Вот таковы у нас дела… Приезжали во Франкфурт далматинцы, рассказывали о зверствах турецких над славянами. Государь их не принял, а Нессельроде вел с ними пустые разговоры, так и уехали ни с чем.
Губы Можайского шевельнулись, и он выговорил с трудом:
— Как же можно так…
— Нельзя ссориться с австрийцами, они очень ревнивы к нашим восточным связям. Да и англичанам чудится, будто мы через славянские земли устремимся к Царьграду…
— Однако как можно оставлять русскому царю славян под зверским игом турок! — чуть слышно выговорил Можайский.
— Это дела старинные. Канцлер Николай Петрович Румянцев говорил, что в союзе с Бонапартом можно добиться больше уступок на востоке, чем от австрийцев и англичан. Однако трудно было в то поверить, да и не таков Наполеон, чтобы жить с ним в ладу… Все равно он нам покою не дал бы.
— Пожалуй… — вымолвил Можайский.
— Но есть и радостные вести. Мир с Персией подписан в Гюлистане. Надеемся, что спокойствие водворится в Грузии и на Кавказе.
— Не обрадуются… — еле слышно сказал Можайский.
— Не обрадуются англичане, — продолжал Данилевский, — они-то и подстрекали шаха к войне с нами и тем самым отвели его от своих индийских владений… Союзники! Турецкие пушкари палили в нас из пушек австрийского литья, у персов находили лучшие английские ружья. Канцлер вновь просил отставки. Ежели государь согласится — один Нессельроде советником по иностранным делам останется при государе… Ну, я вижу, тебя замучил… Алексей Петрович велел тебе выздоравливать и представил тебя к кресту и к чину…
Эту радость Данилевский приберег для конца, но ничто не отразилось в лице Можайского.
— Будь здоров, голубчик… Виллие говорил, что через три месяца будешь крепче прежнего.
И, осторожно прикоснувшись губами ко лбу Можайского, он вышел. Волгин проводил Данилевского.
— Не так уж плох Александр Платонович, я думал — хуже, — сказал Данилевский.
— Это он при вас. Вчера всю ночь мучился. Немецкие доктора удивлялись: «Экое терпение! Другой бы помешался от одной боли».
— Навещают его друзья?
— Дмитрий Петрович был.
Действительно, заезжал Слепцов, поглядел на лежавшего без памяти друга, смахнул слезу и уехал, оставив Волгину десять червонцев на гроб и похороны, чтобы похоронили пристойно поручика русской службы Можайского.
Данилевский уехал немного удивленный. От немецких врачей он узнал, что Можайского хотели видеть две дамы. Они узнавали о состоянии его здоровья каждый день. Присылали слугу из гостиницы «Курфюрст Баденский». Когда же опасность миновала, обе дамы просили ничего не говорить о себе раненому и, по-видимому, уехали. Все это было интересно, но у Данилевского было слишком много хлопот в те дни, чтобы узнать поподробнее.
Волгин знал об этих незнакомых больше, чем немецкие врачи, но молчал. Молчал, потому что с него взяла слово молчать Екатерина Николаевна Назимова.
Он мог рассказать, что ту ночь, когда немецкие врачи ожидали смерти Можайского, и следующую ночь Екатерина Николаевна провела в лазаретном здании, в часовне.
В холодном, нетопленном зале, где немецкие пасторы и русские священники служили заупокойную службу по умершим. Катя Назимова просидела всю ночь на скамье.
В эту бесконечно длинную ночь она думала о своей печальной судьбе. Она вспомнила Грабник и комнату, где лежал на постели мертвый Лярош, человек, женой которого она была семь лет, а любила другого… Теперь этот другой тоже уходит от нее, и она остается одна на свете.
Семь лет она была женой француза. Она ни в чем не винила его, он был с ней всегда добр и ласков, он любил ее, должно быть потому, что в ней не было легкомыслия и ветрености; она была разумной, доброй, душевной подругой. Он догадывался о том, что она его не любит и не полюбит никогда, он знал, что она шла за него не по своей воле. Катя и не скрывала от него своей первой и единственной любви. Когда Лярош умер, она искренне плакала, но ни разу не подумала о Можайском и возможном счастье с ним. Встреча с Можайским убедила ее в том, что он к ней холоден и что она забыта.
Но во Франкфурте она узнала о его ране, о том, что почти нет надежды на его выздоровление.
Она не могла покинуть Франкфурт, не простившись с ним. Анеля Грабовская поняла ее чувства, и они задержались в этом городе, переполненном войсками, штабами, лазаретами.
Она ожидала страшной для нее минуты, когда услышит шаги Волгина и дверь откроется; он позовет ее к постели умирающего, и она примет его последний вздох и закроет ему глаза.
Застыв от холода, она сидела неподвижно, в мучительном ожидании. Под окнами звенели подковы коней — шла кавалерия. Потом проехали обозные фуры. И опять тишина. В темных провалах окон появилась белесоватая мгла. Никто не шел. Она забылась, и это не был ни сон, ни дремота, а подобие обморока, какое-то оцепенение. Потом она услышала шаги, увидела Волгина.
Она стояла у постели Можайского. Он еще жил. Немецкий доктор поклонился ей и тихо сказал:
— Этот молодой человек будет жить. Редкий случай, мадам, редкий случай…
Она взглянула на него, еще не понимая. Потом до ее сознания дошли только слова: «будет жить». Тогда она наклонилась над лежащим без сознания раненым, поцеловала его в лоб и ушла.
В тот же день Катя и Анеля Грабовская оставили Франкфурт.
…После посещения Данилевского Можайский почувствовал себя дурно. Долгая беседа утомила его. Временами он снова терял сознание. Ему казалось, что он слышит военную музыку, барабанный бой, треск фейерверка. Он приходил в сознание, и все это казалось ему видением. Но это не было видением. Это была музыка победы. Французы отошли за Рейн. Оставив разбитую армию, Наполеон поспешил в Париж. И это означало, что война еще не кончена.
27
Отец Можайского, командовавший в последние годы жизни гренадерским полком, научил сына любить походную жизнь, скорые суворовские переходы полка с места на место, одним словом, быть истинным солдатом, хоть и в офицерских эполетах.
Суворовский ветеран, отец Можайского часто повторял слова своего великого отца-командира: «…не останавливайся, гуляй, играй, песни пой, бей барабан. Десяток отломал, — первой взвод снимай вещи, ложись… За ним второй взвод и так взвод за взводом…»
Можайский любил этот солдатский отдых в полях. В золотом океане ржи синеют васильки и алые лепестки мака. Сколько верст отмахали уже эти загорелые, усатые воины! В каких краях не побывали они? Шли заповедными лесами Литвы, широкими, обсаженными кленами дорогами Пруссии. Шли берегом Рейна, мимо увитых плющом и диким виноградом развалин старинных замков… И вот теперь старинная походная песня, сложенная солдатами во славу великого полководца, раздавалась в долине французской реки Энны:
Казаки, карабинеры, Гренадеры и стрелки, Всякий на свои манеры Вьют Суворову венки…Кашеварные повозки, ящики с палатками ушли еще до рассвета вперед, и под свежей листвой платанов вырос полотняный русский городок.
Полк в походе всегда казался Можайскому движущимся городом. Среди солдат были мастера всякого ремесла. Вот на пригорке расположилась походная кузница, а там постукивают молоточки ротных сапожников, дальше сколачивают табуреты и столы для господ офицеров, ротные портные чинят мундиры. Скрежещет точильное колесо — оттачивают сабельные клинки. Цирюльники бреют солдат, пока еще светло… Кажется, попади полк на необитаемый остров — и готово целое государство. Только командирам куда себя девать, воевать на необитаемом острове не с кем. Остается лежать себе на боку да покрикивать: «Эй, печник! Сложи печку!» «Эй, шорник! Чини сбрую!» «Эй, повара! Изжарьте седло косули!» Разве что итти в школьные учители.
Можайский лежит на ковре, в палатке. Запах каши из котлов мешается со сладчайшим ароматом расцветающей сирени, белые гроздья ее свешиваются из-за каменных оград крестьянских садов. Медленно опускается солнце. В предвечерней густой синеве, точно острие копья, рисуется черный шпиль готической церкви, на серебряном изгибе реки — оранжевый треугольный парус. Положив голову на седло, лежит Можайский и слушает, как позвякивает уздечкой Сулейман и шумно отфыркивается сильный донской конь Феди Волгина. Где-то близко ротный балагур рассказывает потешную историю и слышно, как похохатывают солдаты…
Сон одолевал Можайского. После тяжелого ранения под Лейпцигом, после долгого пребывания во Франкфуртском лазарете он чувствовал, как с каждым днем возвращаются к нему силы. Долго помнил он день, когда в первый раз после ранения сел на коня. С тревогой смотрел на него Волгин, и первый десяток верст был для Можайского нелегким, несколько раз он чувствовал приступы слабости и головокружения — рана в голову давала себя знать. Немецкие врачи с удивлением узнали, что молодой русский офицер через шесть дней после того, как покинул госпиталь, отправился догонять армию. Червонцы, оставленные Слепцовым на погребение друга, оказались весьма кстати: во Франкфурте пришлось купить необходимые вещи для путешествия и лошадь для Волгина.
Он застал главную квартиру в Брюсселе, его встретили ласково, но немного удивленно. Данилевский прямо признался, что считал их свидание во Франкфурте последним, прощальным свиданием. Можайский почувствовал знакомую придворную атмосферу главной квартиры, пожалуй, в Брюсселе придворная суета была еще ощутительнее, потому что здесь было два императора — русский и австрийский, король прусский и чуть не две тысячи генералов и чинов свиты.
Главные силы союзников еще не начинали боевые действия во Франции, но уже завязались серьезные сражения передовых частей с уменьшившейся в численности, ослабленной, но все еще грозной армией Наполеона. Более всего союзники боялись, что Наполеону удастся разжечь пламя народной войны, потому склонны были вести переговоры о мире и действительно вели их тайно и явно, продолжая, однако, военные действия.
Летучие отряды под начальством Строганова, Михаила Семеновича Воронцова, Чернышева, Платова, корпус Винцегероде углубились в пределы Франции. Части силезской армии под командованием Блюхера потерпели поражения при Шамбопере, Монмирайле, Вошане. Пруссаки, привыкшие к тому, чтобы тыл и фланги были защищены — это было основой прусской военной школы, — терялись и отступали. В главную квартиру поступали донесения о неожиданных и смелых ударах, которые наносил Наполеон, австрийские военачальники снова заговорили о том, что следовало остановиться на Рейне, и упрекали русских в том, что война была перенесена в пределы Франции.
Русские командиры летучих отрядов действовали во Франции, памятуя уроки Суворова: «Идешь бить неприятеля, снимай коммуникации. Ежели быть чрезмерно опасливым, то лучше не быть солдатом». Так действовал Платов. 9 января 1813 года он писал другу, находившемуся при главной квартире:
«…Неприятельская партия из корпуса маршала Виктора, из города Вокулер, разбита моими казаками при деревне Ере… Я пишу вам из селения дон-Реми, что на реке Мезе. Селение еще известно в истории французской рождением славной девицы Жан-Дарк, избавительницы Франции. Отсюда завтрашний день с корпусом моим последую через города: Жуанвиль, Бар-сюр-Об, к городу Бар-сюр-Сен, что на Дижонской дороге, дабы отрезать неприятеля, в Дижоне находящегося, и действовать по дороге к Парижу».
В главной квартире были обрадованы удачей русского корпуса, овладевшего крепостью и городом Суассоном, в восьми-десяти верстах от Парижа. Взятие этого города произвело большое впечатление на парижан. Генерал-лейтенант Чернышев, участвовавший в деле, приписал себе взятие Суассона, точно так же, как приписал себе взятие города Касселя в Германии. На самом деле, заслуга Чернышева была только в том, что он из честолюбия завязал дело с малыми силами. Если бы не отчаянная храбрость егерей тридцать четвертого егерского полка, взобравшихся на вал, овладевших предмостным укреплением, захвативших два орудия, если бы не подвиг поручика Горского, который первым вбежал на мост и взорвал петардой ворота крепости, — дело могло обернуться худо.
Суассон защищал сильный гарнизон под командованием генерала Русско, но он был в начале штурма убит метким выстрелом русского стрелка. Потеряв начальника, гарнизон упал духом, и эскадрон Волынского гусарского полка первый ворвался в город через взорванные ворота. Дежурный генерал Сергей Волконский доложил командиру корпуса: «Город в наших руках».
Так обстояло дело в действительности, но Алексей Иванович Чернышев, великий мастак по части реляций, успел приписать себе честь взятия Суассона. Однако в главной квартире усомнились в том, чья именно это заслуга, вот почему капитан Можайский (он к тому времени за Лейпциг был пожалован капитаном) был послан в Суассон, чтобы на месте выяснить, кто именно должен получить награду за взятие укрепленного города.
Поручение было довольно деликатное и не слишком приятное. Можайский полагал, что он управится в одну неделю, к тому же у него была тайная мысль остаться в передовых действующих отрядах. Он отдаленно, по Петербургу, знал генерала Сергея Волконского и надеялся получить под команду батарею или полубатарею и, выполнив поручение, остаться при корпусе. Поэтому он взял с собой Федора Волгина, к которому привык и с которым не расставался почти год, и отправился в Суассон. Три дня они двигались вместе с двумя полками, посланными для усиления корпуса Строганова. До Суассона оставалось не более трех десятков верст, дорога считалась безопасной и была знакома Можайскому, веки его слипались, сквозь сон он слышал чей-то тихий голос:
— Под Витебском дело было… Еду это я во фланкерах и посматриваю… что-то лежит под деревом — одежа что ль какая?.. Хотел потормошить пикою, глядь женщина замерзшая, а на груди у ней дитенок, живой… Взял беднягу, младенца, стащил с покойницы сермягу, укутал и поскакал дальше…
Рассказывал казак Потапов, разведывавший нынче-утром дорогу. Выколотив трубку, он продолжал:
— Ну, так вышло, что вез я его до самой ночи, пока воротился в деревню. Там отдал дитенка хозяйке, чтоб отогрела мальчугашку, ей же будет в хозяйстве подмога.
— А он кто, француженок?
— А хоть бы и француженок… Дите малое.
Теплое чувство переполняло Можайского, его тронул рассказ казака, — «есть же в нашем сословии люди, которые не верят, что в простом человеке живут высокие чувства, истинное великодушие, человечность. И сколько доводилось мне видеть примеров истинной добродетели у простых людей…»
Тут мысли Можайского стали мешаться, и он заснул. Спать ему пришлось недолго. Было еще темно, когда его разбудил Волгин. Полки выступали в пять утра. Можайский и Волгин выехали в третьем часу ночи. В восьмом часу утра они надеялись прибыть в Суассон. Офицеры советовали Можайскому взять конвой, но он рассудил здраво: ежели наткнутся на большие силы неприятеля, — конвой не поможет. Кроме того, казаки, разведывавшие дорогу, доложили, что неприятеля на двадцать верст в округе нету, а до Суаосона осталось меньше тридцати. Ночь была темная, они ехали по каменистой тропинке, белеющей вдоль берега реки.
Можайскому вспомнилась октябрьская ночь перед боем у Лейпцига. Уже пошел пятый месяц с той ночи, однако все те же мысли тревожили его — ощущение одиночества и никчемности жизни. Вот он едет по чужой земле, над ним чужое небо, и что ожидает его, может быть на этот раз меткая пуля из-за каменной ограды. Он попытался представить себе иную жизнь, которая могла бы ожидать его, если бы судьба соединила его с Катенькой Назимовой там, в России, девять лет назад…
Есть ли хоть одна душа на свете, которой не было бы безразлично, жив или мертв капитан Можайский? Если бы даже жизнь его сложилась счастливо с Катенькой, то что это была бы за жизнь в нынешние суровые годы: походы, сражения, раны и редкие встречи с любимой. Сколько вдов оплакивают своих мужей… В такую пору лучше быть одинокому. Вот счастлив же Слепцов, довольствуется малым, в Брюсселе видели его с хорошенькой девицей — фламандкой…
Редел утренний туман; внезапно, точно поднялась завеса, открылась долина, везде, куда хватал глаз, тянулись ровные линии виноградных лоз. Но, оглянувшись назад, Можайский увидел каштановую аллею и замок с высокой кровлей на зеленом холме. Великолепный фронтон и два крыла Полумесяцем охватывали вершину холма. Но странно — солнце просвечивало сквозь фасад замка — во множество окон светила пламенеющая утренняя заря.
Родник журчал вдоль тропинки, сверкая, как серебряная лента. Можайский спрыгнул с коня и отдал повод Волгину. Разминая ноги, он пошел вдоль ограды, сложенной из дикого камня, остановился у пролома в ограде и долго любовался прелестью весеннего утра. Вдруг ему послышался стук деревянных башмаков и глухой кашель. Он обернулся и увидел спускавшегося к роднику старика-крестьянина.
— Добрый день, старина, — сказал Можайский.
Старик не ответил, но повернулся к Можайскому. Солнце било ему прямо в воспаленные, прищуренные глаза. Он поскреб седую щетину на подбородке и молча осмотрел Можайского с головы до ног. И Можайский тоже внимательно разглядывал старика, глубокие морщины на его лбу, седые космы волос, выбившиеся из-под выцветшего колпака, загорелую шею.
— Ты хозяин виноградника? — спросил Можайский по-французски.
Лицо крестьянина было неподвижно. Затем на нем появилось подобие гримасы или улыбки. Бледные губы зашевелились:
— Да. Я хозяин этой земли. Пока я еще хозяин.
Можайского обрадовало, что похожий на изваяние человек, наконец, заговорил.
— Давно ты владеешь этим виноградником?
— Четырнадцать лет, мсье.
«Четырнадцать лет, — подумал Можайский, — тысяча семьсот девяностый год. Второй год революции».
— Ты сказал: «Пока я еще хозяин». Разве ты хочешь продать эту землю? (Можайский решил хитрить. Он понимал, куда гнет старик.)
Крестьянин молчал.
— Или ты боишься потерять ее? Как ты получил эту землю?
— Как все… — ответил виноградарь. — Мы получили эту землю по закону. Я, мой отец, мой дед и прадед растили эти виноградники. Они наши по закону.
— По закону революции?
— Закон есть закон. Император оставил эту землю нам.
— Но кто владел ею раньше?
— Маркиз… Маркиз Фондэ де Монтюсен.
И крестьянин показал в ту сторону, где поднималась черная громада замка. Теперь Можайский приметил, что это только руины замка. Он понял, почему светились окна: от замка остались одни стены. Вероятно, замок сгорел давно, более десяти лет назад, потому что плющ уже густо обвивал стены.
— У тебя есть дети, старина?
— Дочери. Невестки. Внуки. Мелюзга.
— А сыновья?
— Сыновей взял император. Младшего — полгода назад.
Можайский присел на ограду. Он сделал знак крестьянину, показывая ему на придорожный камень, но старик стоял не шевелясь.
— Сколько у тебя было сыновей?
— Четверо.
— И ни один не вернулся?
— Возвращались, снова уходили и потом вовсе не вернулись.
— Вот видишь, — оживляясь, сказал Можайский, — Наполеон взял у тебя сыновей. Правда, он оставил тебе виноградник, но дорогой ценой. Ты заплатил кровью за эту землю, кровью твоих сыновей.
Старик долго молчал.
— Это дело императора, — наконец сказал он. И добавил: — При Людовике мы умирали от голода. При императоре — только на поле сражения.
— Ты предпочитаешь такую смерть?
Точно искра блеснула в тусклом, как бы безжизненном взгляде старика.
— Я — стар. Мой конец близок. Но мои внуки будут владеть этой землей, пока существует Франция.
— Но если маркиз де Монтюсен…
— Его подняли на вилы в девяносто первом году.
— А его дети?
— С ними будет то же, если они захотят взять нашу землю. Это наша земля.
Можайский не мог отвести глаз от этого неподвижного, медно-красного загорелого лица, от согбенной фигуры старика.
— Ты знаешь, кто с тобой говорит?
— Неприятель, — ответил крестьянин.
— Русский или немец?
— Это все равно.
— Это не все равно, старина, — мягко сказал Можайский. — Мы, русские, не хотим зла Франции и ее народу. Наполеон пришел в нашу страну, разорял ее, жег города и деревни, сжег нашу столицу… И это делали вы — французы, и ваши союзники. Мы пришли сюда, чтобы освободить вас от деспота, который пожирал ваших детей, старик… Мы вовсе не хотим мстить вам. Надо, чтобы наступил мир в Европе и Франции…
Виноградарь молчал. Можайскому казалось, что он говорил хорошо, что его слова убедят крестьянина.
Крестьянин глядел на небо.
— Славный денек, — сказал он. — В этом году ранняя весна… А что мсье говорит об императоре, то это дело его, императора. — И вдруг он сказал: — Это все англичане… Что до вас, русских, то вы живете далеко и мы вас не знали. Это все англичане. Зачем они спрятали каналью Бурбона?
Облако пыли появилось у ограды замка. Оно приближалось, и вдруг послышались меланхолические звуки пастушьей свирели.
— Гонят стадо, — сказал крестьянин. — Прощайте, мсье.
— Прощай, старина.
Можайский спустился к роднику и вскочил в седло. Он ехал в глубокой задумчивости. Нежный и тонкий запах фиалок кружил ему голову — в этом благодатном крае весна была ранняя и бурная. Можайский подумал о том, что сейчас только начало февраля и на родине бушуют метели и реки еще скованны льдом.
Русские шли по чужой стране, среди настороженного и враждебного населения. И хотя всю тяжесть походов Наполеона несли крестьяне. Можайский убедился в том, что именно эти люди боялись возвращения Бурбонов. Иногда на стенах домов, на оградах попадались сделанные углем надписи: «Да здравствует Франция!» «Долой союзников!» Обескровленная, истощенная в непрерывных войнах страна, потерявшая два миллиона и шестьсот тысяч сыновей, страшилась зловещей перемены, которую несли ей чужеземные войска. Только роялисты, сторонники Бурбонов, открыто ликуют и бросают чужеземцам букетики из лилий.
Строжайшие приказы запрещали русским солдатам обижать население, да они и не обижали побежденных, только вестфальцы, пруссаки и баварцы из союзной армии срывали злобу на ни в чем неповинных людях.
Можайский посмотрел на солнце, оно поднялось довольно высоко и озаряло зеленеющую равнину. Достав из седельной кобуры карту, он убедился в том, что блеснувшая на горизонте река — Энна, а две высокие готические башни вдали — знаменитый, двенадцатого века собор города Суассона.
До сих пор они ехали по узкой тропе. Это была дорога для мулов, сохранившаяся от времен Генриха IV. Пробираясь сквозь кусты орешника, они выехали, наконец, на широкую дорогу, которую в те времена называли королевской. Дороги Франции расширили при Людовиках XIV и XV, до того времени предпочитали ездить на мулах, затем появились огромные поместительные кареты и экипажи — понадобились широкие, новые дороги.
Пока Можайский размышлял, сравнивал дороги Франции с бельгийскими и немецкими, город Суассон явился перед ним как на ладони. Он различал уже крепостной вал и башенки предмостного укрепления, невысокие дома с крутыми кровлями и над ними возвышающиеся темно-серые массы — одна была аббатством Сан-Жан де Винь. Можайский ехал не торопясь, ему хотелось продлить ощущение покоя и очарования наступающего утра. Птичий свист, дальний перезвон колоколов располагал к мечтательности, и чем ближе он подвигался к Суассону, тем радостнее становилось у него на душе. С некоторого времени Можайский заметил, что одни только картины природы, полные тихой, умиротворяющей прелести, прогоняли его грустные мысли.
Навстречу всадникам двигалась груженная дровами телега, Можайскому показалось, что возница с изумлением глядит на него и Волгина. Впрочем, незнакомый мундир русского офицера должен привлекать внимание французов, и, улыбнувшись вознице, Можайский объехал телегу.
Ему показалось странным, что у предмостного укрепления не было часовых и крепостные ворота были открыты. Мысленно он пожурил командующего гарнизоном Суассона и направил коня под арку. Но едва только он придержал коня в полумраке арки крепостных ворот, какие-то силуэты возникли справа и слева, десяток рук протянулись к нему, солдаты в незнакомых мундирах схватили коня под уздцы, он не успел шевельнуться, как почувствовал, что его стаскивают с коня. Не понимая, что с ним случилось, он пытался выхватить пистолет, но чья-то сильная рука сжала его кисть, и через мгновение он уже стоял на земле, окруженный солдатами. Солдаты говорили весело, возбужденно посмеиваясь, и более всего удивило Можайского то, что они говорили по-польски…
Нужно было немного времени, чтобы Можайский, наконец, понял, что Суассон снова в руках у наполеоновских войск, что он и Волгин в плену у польских легионеров, занимающих город. Но каким образом это произошло, почему русские оставили Суассон, это Можайский узнал много позже.
28
Суассон был взят штурмом русскими 2 февраля 1814 года.
Однако когда командовавший русским корпусом генерал получил известие о том, что Наполеон разбил отдельные части силезской армии Блюхера под Сезаном и Монмирайлем, — русские выступили из Суассона на выручку Блюхеру. Переправившись через реку Энну, русские шли берегом реки по направлению к Реймсу. Корпус шел трое суток, по пути он был усилен отрядами Строганова и Михаила Воронцова. Параллельно русским войскам двигался корпус прусских войск под командованием Бюлова. Русские и пруссаки стремились соединиться с сильно расстроенными в боях с Наполеоном частями силезской армии Блюхера, а вслед затем уже вместе с прусскими частями присоединиться к главным силам большой действующей армии союзников.
План же Наполеона заключался в том, чтобы, захватив оставленный русскими Суассон, овладеть единственным мостом через реку Энну и отрезать пути отступления силезской армии. Отряды польских войск из корпуса Мортье под командованием генерала Моро (однофамильца убитого под Дрезденом) легко выполнили приказ и заняли Суассон, в котором русские оставили только казачий пост. Таким образом, армия Блюхера оказалась в опаснейшем положении. Французы теснили ее расстроенные части к реке Энне, а единственный мост был в руках у отряда генерала Моро, вновь овладевшего Суассоном.
Все это случилось в те дни, когда Можайский, разумеется, не зная о том, что произошло за время его путешествия, спешил в Суассон.
Можно вообразить его изумление и досаду, когда он вместе с Волгиным оказался в плену у неприятеля, накануне овладевшего городом. Особенно разозлило его то обстоятельство, что офицеры польского полка, первого вступившего в Суассон, хладнокровно выслеживали его в зрительную трубу с одной из башен собора и устроили ему засаду в арке крепостных ворот.
Разговор с командиром полка шел на польском языке и то, что Можайский объяснялся по-польски, расположило к нему командира. Ему даже предложили вернуть шпагу, если он даст слово больше не принимать участия в военных действиях и не покидать Суассона, но Можайский отклонил эту любезность. Тогда его доставили вместе с Волгиным в аббатство Сан-Жан де Винь, временно превращенное в казарму и гауптвахту.
Когда Можайского и Волгина вели через огромный двор аббатства, из окон на него, ухмыляясь, глядели неприятельские солдаты и офицеры, это еще более огорчало Можайского.
— Попали мы с вами, Александр Платонович, впросак, — невесело сказал Волгин.
Их привели в большую, полутемную залу, видимо бывшую трапезную аббатства, заваленную всякой рухлядью, обломками штукатурки, дубовыми скамьями. Волгин прежде всего обследовал дверь — дверь была железная, ржавая и запиралась с наружной стороны засовом.
Можайский разглядывал отсыревшие, стертые от времени фрески, изображавшие муки святой Женевьевы. Под самым потолком сквозь краску проступали буквы. Прочесть их было нелегко, но все-таки Можайский прочитал удивившую его надпись: «Libertè, égalité, frêternité» — «Свобода, равенство, братство».
Откуда в трапезной аббатства взялась эта крамольная надпись?
Пока Можайский раздумывал над этим, открылась дверь, и два солдата внесли большую вязанку соломы и два одеяла. Унтер-офицер сказал, что по приказанию начальника караула дверь остается открытой, но внизу, у выхода, караульному дан приказ не выпускать пленников. Едва он ушел, снова послышались шаги и голоса. На этот раз шли медленно, точно несли что-то тяжелое. Показались носилки, на носилках лежал молодой человек в мундире прусских черных гусар. Голова и правая рука его были в повязках, обагренных запекшейся кровью.
Солдаты довольно грубо поставили носилки на каменные плиты пола и помогли раненому лечь на связку соломы.
— Ну теперь господин капитан не будет скучать, — сказал унтер Можайскому, как старому знакомому.
Можайский тотчас же подошел к раненому.
— Чем я могу служить собрату по оружию? — спросил он по-немецки. Гусар поднял голову, и Можайский увидел затуманенные страданием голубые глаза, распухшие губы. Пряди белокурых волос в крови и пыли выбивались из-под повязки.
— Кто вы? — спросил раненый.
— Русский. Капитан гвардейской артиллерии. Вы можете это видеть по моему мундиру.
— Франц Венцель. Корнет гусарского полка.
И, сдерживая стоны, он добавил:
— Я довольно сильно ранен… Шесть штыковых ран.
Можайский позвал Волгина. Они покрыли солому одеялом, положили на него раненого. Волгин, научившийся во Франкфурте обращению с ранами, достал из сумки чистые полотняные бинты.
— Я был в авангарде Блюхера. Ранен вчера ночью… Попал в руки к полякам…
— Помолчите. Успокойтесь. Расскажете потом.
Но юноша был слишком возбужден, чтобы молчать. Он говорил безумолку.
— Нельзя сказать, чтобы поляки отнеслись к прусскому гусару великодушно… Я всю ночь шел в обозе. Только под утро надо мной сжалился какой-то майор и приказал посадить на телегу с трубами и барабанами. Но когда сражаешься за отечество, надо уметь терпеть… Надо быть терпеливым, неправда ли?
Губы юноши дрожали. Он говорил, как в бреду:
— Когда мы, студенты Гейдельберга, охваченные патриотическим порывом, покидали аудитории, война нам представлялась великолепной… Грохот пушек, клубы дыма и ты сам на коне с саблей в руке мчишься, сея смерть, в атаку… Пусть даже ты гибнешь, но гибнешь за свободу отечества… Кто бы мог подумать, что тебя ранят в разведке, что ты по глупости начальника нарвешься на вражеский секрет… истекая кровью, еле передвигая ноги, будешь итти у стремени вражеского солдата и потом тебя свалят, как мешок, на каменный пол… Но я рад, что встретил товарища по несчастью.
— Вы учились в Гейдельберге? — спросил Можайский.
— Да, в Гейдельберге.
— А я в Гетингене.
— Боже мой, мы почти коллеги… У меня были друзья в Гетингене.
Юноша вздохнул и, опустив глаза, с грустью смотрел на окровавленные тряпки, которые, смачивая водой, осторожно снимал с кровоточащих ран Волгин.
— Вы учились в Гетингенском университете и, должно быть, так же, как мы, читали вслух: «…этот перстень я снял с пальца одного министра, которого замертво положил на охоте к ногам моего государя… Он черной лестью достиг степени любимца…»
— «Слезы сирот возвысили его…» — продолжал на память Можайский.
— «…этот алмаз я снял с одного коммерции советника, продававшего почетные места и должности тем, кто больше давал… и отгонявшего от своих дверей скорбящего патриота…»
Раненый читал «Разбойники» Шиллера с каким-то самозабвением и страстью, должно быть, это помогало ему терпеть боль. Временами он слабел, голос его затихал, — как ни бережно перевязывал его раны Волгин, он все же причинял ему боль.
— «…этот агат ношу я в честь одного попа… которого я повесил своими руками за то, что… он на кафедре перед всем приходом плакался об упадке инквизиции…»
Наконец раны были перевязаны, и юноша чуть слышно продолжал:
— …в наших тайных, ночных бдениях я всегда играл Карла Моора, пока наши университетские педели не накрыли нас и донесли инквизитору-декану… И все это было так недавно, только полгода назад…
Он попробовал приподняться и воскликнул:
— Но свершилось! Германия освобождена от деспотизма Наполеона, Германия свободна, и это сделали ее дети, а не король и четыреста князей! In tiranos! Против тиранов, против всех тиранов, кто бы они ни были!.. свои или чужеземцы!
Можайскому показалось, что раненый бредит, но взор его был ясен и, помолчав немного, он заговорил твердо и спокойно:
— Не знаю, доживу ли я до дня освобождения… In tiranos! Против тиранов! — и он протянул левую, здоровую руку Можайскому.
— Против тиранов! — дрогнувшим голосом повторил Можайский.
Некоторое время они молчали.
— Блюхер, по обыкновению, занесся, — с закрытыми глазами, тихо произнес юноша… — занесся и получил несколько жестоких оплеух от Налолеона… Блюхер… жертвует жизнью тысячи людей ради еще одной звезды, которую он получит из королевских рук… Никаких королей! — оживляясь, продолжал он, — состояние просвещения в наше время ведет к республике… Придет время, когда Германия, Франция, Россия будут республиками, не угрожающими миру и безопасности народов, а радующими человечество великими открытиями науки. Будет такое время! Но, увы, мы…
В эту минуту со скрежетом отворилась железная дверь.
Вошел унтер-офицер и, остановившись перед Можайским, сказал:
— Господин майор просит к себе господина русского капитана.
29
— Вы не узнаете меня, сударь?
Можайский не сразу увидел говорившего. Когда глаза его, наконец, привыкли к свету, он разглядел лицо человека, сидевшего у стола: высокий, изрезанный морщинами лоб, седые виски, особенно знакомы ему были нависшие, почти черные брови.
— Пекарский! — наконец воскликнул он, — Стефан Пекарский!
— А я думал, вы забыли того, кто был спасен вами от казематов Шпильберга…
— Так это действительно вы? — изумился Можайский. — Никогда не мог бы подумать, что встречу вас здесь, притом… — он взглянул на мундир и шпагу Пекарского, — притом в этом виде… Я все еще помню наш разговор при прощанье…
— Вас это удивляет? — сказал Пекарский, дотронувшись до эфеса шпаги. Он встал, взял об руку Можайского, и они сели рядом на деревянную резную скамью.
— Вы восхищались Тадеушем Костюшко, не пожелавшим служить Наполеону. Вы с такой скорбью говорили о бедствиях вашего народа и считали виновником его страданий Наполеона…
Пекарский молчал.
— Что же заставило вас изменить ваши взгляды?
В открытое окно долетели звуки трубы и барабанная дробь. На гауптвахте сменялся караул. Пекарский встал, подошел к окну и плотно прикрыл его. Потом он снова сел против Можайского и, глубоко вздохнув, сказал:
— Люди часто бывают непоследовательны в своих поступках. Но мне кажется, я не из таких… Видите ли, друг мой, я позволю себе вас так называть, — видите ли, если бы войска коалиции не перешли Рейн, я бы не взял в руки саблю и не надел бы этот мундир.
— Но вообразите, что тиран Европы восторжествует! — с горячностью воскликнул Можайский. — Неужели после того, что пережила Польша, польский народ, вы снова хотите соединить судьбу вашей отчизны с судьбами иноплеменной страны? Наполеону нужен мир во что бы то ни стало, и ради этого мира он поступится судьбой Польши, как это было уже однажды. Вспомните судьбу польских легионов и гибель поляков на острове Сан-Доминго, вспомните гибель польских полков в снегах России! Что привело вас в армию Наполеона?
— Я вижу здесь много моих старых боевых товарищей, сражавшихся в Рацлавицах под знаменами Костюшко, — тихо сказал Пекарский.
— Однако Костюшко не предложил свою шпагу Наполеону даже сейчас, когда войска коалиции в пределах Франции!
— Тадеуш в преклонных летах…
— Преклонные лета? Нет, не это причина бездействия Костюшко! Он не хочет освятить своим именем гибель сынов Польши во имя спасения империи Наполеона.
— Я не сражаюсь за империю Наполеона! — почти закричал Пекарский. — Поймите, что сорок тысяч эмигрантов ждут падения империи, и эти сорок тысяч озверевших аристократов зальют народной кровью Францию! Я думал, что мы сумеем вернуть ей республику…
Теперь настал черед размышлять Можайскому:
— Не думайте, что я враг Франции, враг ее народу. Мы любим гений Франции, ее литературу, мы восхищались мужеством ее сынов в битве при Вальми… Мы хотим видеть Францию верной принципам 1789 года… Более того — мы хотим видеть Францию республикой!
— И это даст французам коалиция? Нет, мой друг, не будьте младенцем. Можете ли вы сказать мне открыто и честно — ваш император хочет дать французам тот образ правления, который они сами изберут? Отвечайте!
Пекарский встал и подошел вплотную к Можайскому. Он положил ему руки на плечи и посмотрел в глаза долгим испытующим взором.
Перед Можайским вдруг возникло лицо Александра, пленяющая его улыбка и стеклянный блеск глаз «северного сфинкса», таким он видел царя в Петерсвальде.
— Не знаю, что будет во Франции… но во Франкфурт приезжала делегация поляков. Они ожидали худшего после поражения Наполеона. Однако государь уверил поляков, что они будут иметь свои государственные учреждения…
— Нам не надо даров данайцев! — сердито сказал Пекарский. — Один деспот отнимет то, что дал другой. Я вижу мою отчизну республикой, не республикой патрициев, а истинной страной свободы и независимости. Я вижу весь народ, участвующий в управлении через своих представителей.
— Истинная республика среди самодержавных монархий? Истинная республика в стране, где на семь крестьян приходится один шляхтич! А не будет ли второй Тарговицы? Польские магнаты согласны быть под пятой Пруссии, Австрии, Александра, только бы сохранить свои богатства! Нет, только мы, русские, можем помочь вам. Есть же среди нас люди, которые высоко чтут имена великих сынов польского народа: Костюшко, Колонтая, Малаховского. Верю, Польша, получившая независимость из рук россиян, будет другом и союзником соплеменного народа!.. — Ну, а теперь простимся, — сказал, сдерживая себя Можайский, — все же я ваш пленник.
— Подождите, — улыбнулся Пекарский. — Я ваш должник неоплатный. Генерал Моро согласен вас отпустить на честное слово.
— Это для меня невозможно… Правда, война идет к концу, но нечестно уйти из строя, тюка она не кончена.
— Вы жаждете видеть развалины Парижа?
— О, нет. С меня достаточно видеть наши знамена, развевающиеся на улицах Парижа.
— Республиканец, сражающийся под знаменами царя?
— Я могу ответить: республиканец, сражающийся под знаменами врага республики, ее погубителя. Нет, мы должны быть в Париже, хотя бы для того, чтобы сказать Европе — вот, что будет с теми, кто посягнет на нашу землю… Я остаюсь вашим пленником. Но у меня есть просьба… Там, в трапезной монастыря, находится тяжело раненый офицер прусской гвардии. Прикажите перенести его в городской госпиталь. Пусть о нем позаботятся…
— Пруссак? — нахмурился Пекарский.
— Да. Он — немец. Но он мыслит, как мы… In tiranos!
— Хорошо. Я это сделаю…
Он немного помедлил, потом вдруг снял с пальца перстень и надел на указательный палец Можайского.
Когда они расстались, Можайский рассмотрел перстень. Он был кованый, из железа. Корона, пронзенная кинжалом, и латинская надпись: «Si todias in venies» — «Если пронзишь, то найдешь».
30
Четвертый день Можайский и Волгин были пленниками. Стефан Пекарский сделал все, чтобы они не чувствовали тягость плена. Можайскому было дозволено, когда заблагорассудится, находиться во дворе аббатства; ему даже принесли томик Горация из библиотеки епископа Суассонского. Раненый немецкий юноша Франц Венцель был сейчас же переведен в городской госпиталь. Он был в забытьи, когда его уносили, и уже не узнавал Можайского. На следующий день Можайскому сказали, что он скончался в приступе жесточайшей горячки.
Опечаленный этой смертью. Можайский в тот день не выходил из трапезной, но потом тоска от того, что он находился с Волгиным в четырех стенах, стала еще острее, и он спустился во двор аббатства. Это был четырехугольник, имевший только один выход — ворота, охраняемые часовым. Четырехугольник составляли круглые и стрельчатые аркады, опирающиеся на столбы из гранита. Аркады поддерживали огромный запущенный фасад аббатства, удивлявший Можайского смешением стилей — романского и готики. Но Можайского не так интересовали капризы древней архитектуры, сколько польские уланы, превратившие старинное аббатство в казарму. Они охотно беседовали с пленным, знающим их язык. Тут были ветераны польских легионов, прославившиеся атакой в конном строю у Сомосиеры, горного хребта, преграждавшего путь в Мадрид, и участники похода на Рим, были и необстрелянные юноши из Литвы, студенты Виленского университета, тайком переплывшие Неман, чтобы стать под золотые орлы армии Наполеона.
Серебряный польский орел и золотой наполеоновский были вышиты руками варшавянок на знамени полка. Но, как заметил Можайский, в почете было и другое знамя. На нем Можайский прочитал:
«Пресветлейший и державнеший князь-государь Станислав-Август, божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, жмудский, мазовецкий, волынский, подольский, подляшский…»
Это был признанный Екатериной полный титул польского короля.
Титул этот возбудил некоторую досаду Можайского, — если сама Екатерина признала Станислава-Августа великим князем литовским, подольским, волынским, князем Червонной Руси, то почему же панам Друцким-Соколинским и ксендзам не считать украинцев и литовцев подданными польского короля? Ведь хлопов никто не опрашивает, чьими подданными они желают быть.
Знакомый унтер-офицер рассказал Можайскому, что это знамя было спасено знаменщиком во время битвы за Варшаву и вместе с польскими легионами побывало во многих походах и сражениях.
— Посмотрите, господин капитан, — следы русских пуль…
Можайский с грустью думал о судьбе этих мужественных людей, лишенных родины, вынужденных проливать кровь ради чужой славы… Он хорошо знал, что заносчивость, оскорбительная надменность и жестокость фельдмаршала Николая Васильевича Репнина породила тысячи непримиримых врагов России на польской земле. А между тем, если бы Репнин и подобные ему вельможи, которым русские самодержцы доверили русскую политику в Польше, были осмотрительнее, нашли бы путь к сердцу истинных польских патриотов, не пролилась бы кровь и не было бы непреодолимых преград между единоплеменными народами. Впрочем, фельдмаршал Репнин был также жесток и к русским, когда усмирял восставших против тирана-помещика крестьян в Орловской губернии.
Можайский вспомнил рассказы отца о том, как грубо и вызывающе держал себя Репнин, когда был русским послом в Варшаве, как приказывал не начинать спектаклей в театре до своего приезда в театр, как заставлял короля Станислава-Августа и первых сановников Польши по два часа ожидать приема. Пусть король и не заслужил уважения подданных, говорил отец Можайского, но неуважение к нему есть неуважение к государству. А самое печальное было в том, что приближенные Репнина перенимали его надменность и высокомерие и озлобляли не только шляхту, но и трудолюбивый и покорный народ… Русские солдаты были понуждаемы сжигать жалкие крестьянские хаты и уничтожать скарб во время мятежей, поднимаемых шляхтой.
«Много ошибок непростительных и, увы, все еще непоправимых», — думал Можайский, когда замечал косой взгляд, брошенный на русский мундир, или слышал вырвавшееся сквозь зубы ругательство. Правда, он временами чувствовал, что он, пленный русский офицер, все же ближе этим солдатам и офицерам, чем наглые и развязные адъютанты генерала Моро, снисходительно похлопывавшие по плечу польских ветеранов.
Он возвращался в трапезную и заставал томящегося от скуки и безделия Волгина. Однажды Федор разворошил гору рухляди в углу трапезной, и среди обломков мебели, железного лома, разбитых в куски изваяний оказалась груда запыленных бумаг. Отряхнув пыль, Можайский поднял желтый, изъеденный сыростью лист: «Именем французского народа. — Свобода. Равенство. Революционный трибунал города Суассона…»
Это был приговор, вынесенный революционным трибуналом города некоему неприсягнувшему священнику Антуану Сен-Роберу.
Так вот отчего под потолком трапезной была надпись: «Свобода, равенство, братство». Так вот отчего над входом можно было разглядеть эмблему революции — фригийскую шапку и два факела. Здесь, в этом зале, в 1793 году заседал революционный трибунал. Здесь плотники, токари, булочники взвешивали на весах правосудия преступления против народа и совести…
С этого часа Можайский перестал уходить на прогулку во двор аббатства: он, почти не отрываясь, читал архивные документы трибунала, вернее то, что сохранилось от документов… Он складывал и читал изорванные листы — многое было уничтожено монахами в годы консульства и империи, остальное брошено в старой трапезной и по счастливой случайности сохранилось среди рухляди. Девяносто третий год, грозный и беспощадный год, вставал перед Можайским. Он видел все, что происходило в небольшом провинциальном городе, в восьмидесяти верстах от Парижа, когда Франции угрожала опасность вторжения неприятельских войск и эмигрантов.
А Волгин тем временем пропадал во дворе аббатства.
Еще раньше Можайский замечал, что солдаты-поляки, не из шляхты, а из хлопов, охотно разговаривали с Волгиным, не знавшим польского языка, и они, как видно, понимали друг друга. Он спросил у Волгина, о чем он говорит с поляками.
— Про разное говорим, — ответил Волгин, — они ведь тоже из мужиков. Есть которые из шляхты, только и они, как говорится, серые люди. Деревня шляхетская, он сам шляхтич, а сам и пашет, и сеет, и за скотиной ходит. Одна честь, что шляхтичем называется. С родичами солдат в разлуке, воюет чуть не двенадцать лет, а для чего и за кого воюет? Сам не знает…
— Однако же есть у солдата своя честь, — неуверенно сказал Можайский, — вот семеновцы, государева рота, все как один георгиевские кавалеры. У музыкантов — серебряные трубы. Как их в Германии народ встречал, как встречали нашу гвардию! Когда играли наши на площади, — весь город собирался слушать, немецкие принцы и генералы рукоплескали нашим песенникам и рожечникам. А кем он был в деревне? — пастухом или дворовым у помещика. Ведь правда?
— Правда, — согласился Волгин и почему-то горько усмехнулся.
— Ты чего?
— Про бомбардира Минаева, ваша милость, слышали? Главный рожечник был, его сам царь знал и хвалил.
— Минаев… Гвардейской артиллерии. Слышал.
— Так вот какой он чести удостоился, Александр Платонович… Во Франкфурте, когда вы еще были в госпитале, русская гвардия давала обед прусской и австрийской гвардии. На том обеде императоры — наш, австрийский — и король прусский слушали песенников. Рожечники играли русские песни — государям иностранным очень понравилось. Приказали Минаеву без конца повторять «соло»… И угодил он государям, так угодил, что получил две медали — золотую от австрийского императора и серебряную от прусского короля с надписью «За усердие»… Только пришли эти медали, когда Минаева не было уже на свете. Умер от истощения груди через месяц после того, как угодил государям… Кровью горла изошел… Вот оно «усердие» и солдатская честь.
Можайский молчал.
— Александр Платонович, — вдруг снова заговорил Волгин, — отчего это меня нынче часовой внизу не пропустил? Поставил ружья поперек и не пропустил. Я за водой к фонтану ходил.
— Не знаю… — в недоумении ответил Можайский.
Волгин подставил скамью к стене и ухватился за решетки окна. С трудом он подтянул свое большое тело и примостился на узком подоконнике. Можайский с интересом следил за Волгиным.
— Слушай, Александр Платонович… Ну-ка, слушай…
Ему послышался странный шум, звуки труб, флейты и барабаны.
— Александр Платонович, а ведь во дворе никого нет! Ей богу!
Действительно, двор был пуст. Место под аркадами, где под охраной часового стояли знамена, опустело. Только один караульный с обнаженной саблей ходил у ворот.
Не раз Можайский говорил с Волгиным о бегстве. Допустим, им бы удалось, обезоружив часового, выйти из ворот аббатства. Незнакомый город, лабиринт узеньких улиц, русский мундир Можайского, рост и мощная фигура Волгина, непривычная для глаз французов, — все это были неодолимые препятствия. Потом, если бы они добрались до городского вала, несомненно, городские ворота и самый вал охраняются дозорами. Но оставаться в плену стало невыносимо, и, в конце концов, им бы пришлось бежать. Поэтому необычная картина во дворе аббатства так взволновала Можайского. И особенно странный шум, доносившийся из города.
Спускался вечерний сумрак. Стало еще темней от дождевой тучи. Тяжелые капли дождя скатились по зеленоватым, запыленным стеклам. Хлынул дождь, первый весенний ливень этого года. Никто не принес зажженную свечу в медном подсвечнике, как это бывало раньше. Волгин подошел к двери, толкнул ее. Обычно открытая дверь была заперта снаружи на засов. Все это было очень странно, никто не отозвался на стук.
Решили ждать рассвета. Можайский задремал под мерный шум дождя, но тотчас же проснулся. Явственно слышалась ружейная пальба, отдаленный гул орудий… Где-то вблизи шел бой.
В ту же минуту Волгин, ухватив дубовую скамью, ударил ею в железную дверь раз и другой раз. Грохот и гул наполнили коридоры аббатства. После третьего удара скамья разлетелась в щепы. Но старая железная дверь не поддалась, хотя листы погнулись. Засов был крепкий. Волгин кинулся к куче рухляди. Не сразу он отыскал заржавленную железную полосу. Теперь он принялся за петли, на которых висела железная дверь. Он просунул железную полосу под дверь. Можайский помогал ему, хотя при богатырской силе Волгина его усилия не слишком были заметны. Временами они прислушивались к тому, что происходило за стенами. Выстрелов и орудийной пальбы они уже не слышали. По-прежнему хлестал дождь. До рассвета Волгин возился с петлями, он расшатал нижнюю петлю, и ему удалось выломать два кирпича.
На рассвете Можайский услышал барабанный бой.
— Федя! — окликнул он Волгина. — Слушай! Как будто… песня…
Волгин прислушался:
— Поют… А ведь наши поют, ей богу!
И тут он с такой яростью принялся за дверь, что ему удалось выломать из гнезда петлю и отогнуть нижнюю половину железной двери. Можайский пролез в щель и тотчас отодвинул засов. Дверь отворилась, и они сбежали по каменной лестнице.
Во дворе не было ни души. Даже часовой, которого совсем недавно видел из окна Волгин, куда-то исчез. Они, озираясь, вышли из ворот. Волгин сжимал в руке железную полосу. На случай встречи с врагом в его руках это было страшное оружие. Но узенькие улички, примыкавшие к аббатству, были пустынны, ставни на окнах за-парты, хотя уже совсем светало. Только зловеще и монотонно звонили колокола собора.
Волгин и Можайский не сразу увидели в просвете улиц выход на площадь. Оттуда, с площади, доносился барабанный бой и конский топот. Первый, кого увидел Можайский на площади, был трубач Волынского гусарского полка и коновод, водивший вокруг фонтана взмыленных коней. Трубач вытянулся, увидев мундир Можайского. Можайский было устремился к нему, но вдруг гром барабанов и музыка послышались совсем близко, Можайский и Волгин остановились, как вкопанные.
Шествие открывал огромного роста тамбур-мажор с длинной золоченой тростью. За тамбур-мажором шли музыканты в мундирах французских егерей, яростно дувшие в трубы. А за музыкантами двигалась группа всадников во французских и польских мундирах. Впереди ехал генерал в треугольной шляпе со звездой Почетного легиона на груди. Его сопровождали два полковника и адъютанты. За всадниками двигалась пехота с распущенными знаменами. Пехотинцы шли нестройно, вразброд. Уже не в первый раз Можайский видел, что вражеские солдаты не имели настоящего воинского вида, в основном это были еще очень молодые, безусые новобранцы. Прошла пехота и появилась кавалерия — польский уланский полк. Кони сильно отощали, но всадники выглядели отлично. Два знамени — королевское и знамя легионов — развевались над уланами. Никто не обращал никакого внимания на Можайского в его русском мундире, точно его здесь и не было. Можайский видел лица улан, некоторые ехали с опущенными головами, потупив взоры. Затем по булыжникам загрохотали колеса, проехали пушки и зарядные ящики. Артиллеристы шли у пушек, с дымящимися фитилями в руке. Шествие замыкал взвод польских кавалеристов. Впереди взвода ехал Стефан Пекарский в поношенном мундире времен Костюшко. Должно быть, он заметил Можайского, потому что горькая усмешка вдруг появилась на его лице и он поднес руку к козырьку конфедератки.
Музыка затихла где-то вдали. Проехало несколько обозных фургонов и повозки с ранеными. Потом все стихло.
Можайский в недоумении все еще стоял на площади.
— Господин капитан! — вдруг окликнул его чей-то голос.
Он обернулся и увидел двух всадников — русского генерала с георгиевским крестом и прусского полковника. У обоих были белые повязки на руке. Несколько поодаль стоял трубач и гусар-коновод.
Лицо генерала показалось Можайскому знакомым.
— Почему вы здесь, капитан?
Можайский назвал себя и объяснил, как он попал в Суассон.
— Поздравляю с освобождением, — улыбнувшись, сказал генерал. — С десяти утра сегодняшнего дня город Суассон снова в наших руках. Французы согласились на почетную сдачу.
31
Молодой генерал, которого увидел на площади в Суассоне Можайский, был Сергей Григорьевич Волконский, дежурный генерал того корпуса, который уже однажды овладел городом 2 февраля 1814 года. 19 февраля того же года русские вновь взяли город, на этот раз без боя — французы оставили Суассон. Генерал Моро согласился на почетную капитуляцию, и марш, который наблюдал Можайский, это и было выступление гарнизона с развернутыми знаменами и оружием в руках. Гарнизон оставил в крепости только артиллерийские снаряды. Крепостные склады были переполнены, и это оказалось весьма кстати, потому что в снарядах у союзников ощущалась острая нужда.
Едва только последний вражеский солдат покинул город, — произошло го, что и потом не раз вызывало удивление Можайского. Тотчас открылись все двери и ставни, улицы наполнились народом. Можно было подумать, что суассонцы ликуют по случаю победы войск союзников. Они действительно радовались тому, что не будет уличной битвы и что город не подвергнется разрушению. Откуда-то появились шумные торговцы и торговки, суассонские дамы устремились на бульвар, где уже прогуливались русские офицеры. Продавцы духов и всяких безделушек атаковали Можайского, на площади у собора открылись кафе, словом, в городе поднялась обычная, нет, не обычная, а какая-то праздничная толкотня, поразившая Можайского. Вечером, пробираясь в оживленной, шумной толпе, он подумал о том, как устали от походов и войн французы, если они могли радоваться тому, что сегодня все кончилось для города благополучно и нынешнюю и будущую ночь они могут не думать о войне, пожарах и разрушениях.
Еще в полдень Волконский представил Можайского командующему корпусом, но старик, измученный быстрыми переходами и взволнованный событиями минувшей ночи, еле стоял на ногах. «Князь выслушает вас», — сказал он, показав на Волконского, и тотчас задремал в кресле, пока ему готовили ночлег в доме, откуда только что уехал генерал Моро.
Волконский позвал Можайского к себе: «Там вдоволь наговоримся. Нынче вы ночуете у меня, хотя спать нам не придется».
Когда Можайский вошел к Волконскому, общество было уже в сборе: на диванах, на стульях теснились гости, молодежь нисколько не чинилась в присутствии молодого генерала. Офицеры были возбуждены удачей, напряжение минувшей ночи разрешилось безудержным весельем. Отдали должное подарку виноторговца — хозяина дома, где остановился Волконский, пожелавшего удивить русских офицеров своим искусством. Опасность миновала, суассонский гарнизон удалился из города, и всем хотелось узнать от Волконского подробности переговоров с генералом Моро.
— Вы, капитан, — обращаясь к Можайскому, начал Волконский, — разумеется, не могли знать событий, которые предшествовали нашей нынешней удаче, поэтому я начну сначала… Генерал Моро получил от самого Наполеона приказ защищать Суассон до последнего человека. А нам город и крепость были нужны потому, что здесь решалась участь силезской армии Блюхера. Наполеон теснил ее, готовясь прижать к реке Энне, а единственный мост у Суассона был в руках Моро… Ночью пошел ливень, наши гренадеры, воспользовавшись непогодой, с налета захватили предмостное укрепление. Дело решалось минутами. К семи часам утра к нам подоспела подмога — с севера подошел прусский корпус Бюлова. Мы приказали нашим песенникам петь, музыкантам играть…
— Мы слышали песни и музыку, — вырвалось у Можайского.
— Пели, играли для того, чтобы заглушить гром пушек наполеоновской армии, она была близко и теснила Блюхера. В девять утра я с полковником прусских войск прибыл к генералу Моро для переговоров: «Генерал, к чему проливать кровь, вас окружает многочисленное войско генералов Строганова, Воронцова, Винцегероде и Бюлова. Судьба Суассона решена. Мы предлагаем вам почетную сдачу. Ваши войска оставят Суассон с развернутыми знаменами, музыкой и в строю…» — «А мои пушки?» — Полковник, что был со мной, было уперся: о пушках не было речи. «Чёрт возьми, — говорю я ему по-немецки, — мы дадим еще шесть французских пушек в придачу, лишь бы он убирался поскорее». Затем я говорю генералу Моро: «Мы получили приказ в случае вашего отказа начать штурм. Ваш ответ, генерал?» — «А пушки?» — Тут мы с пруссаком делаем вид, что советуемся, и, наконец, я говорю: «Разумеется, пушки сопутствуют храброму гарнизону». И через двадцать минут отряд генерала Моро с музыкой, знаменами, пушками выступает из Суассона, наши гусары входят в город, егеря занимают мост через реку Энн, а казаки устремляются навстречу отступающей армии Блюхера с радостной вестью, что мост в наших руках и расстроенная армия Блюхера может переправляться через Энн. Так западня, ловко придуманная Бонапартом, расстроилась, и все это не стоило жизни ни одному нашему солдату!
Тут все единодушно выпили за удачу парламентера.
— Не хотел бы я быть на месте генерала Моро — погубить отлично задуманный план императора, ему это будет стоить эполет! — Волконский понизил голос, отчего все притихли. — Все устроилось не только благодаря удаче парламентеров и глупости Моро, выручил нас поистине суворовский марш наших богатырей, которые, повернув от Реймса, меньше чем в три дня воротились к Суассону и подоспели, прежде чем здесь появились расстроенные части армии Блюхера… А «благодарные» союзники наши — пруссаки — опять будут говорить, что все устроилось бы превосходно и без нас, русских, и что мы помешали им наголову разбить Наполеона.
Тут раздался такой хохот, что задрожали стекла. Затем разговор пошел о другом, о штабных новостях, о том, что творится в главной квартире. Можайского заставили на память прочитать язвительную басню поэта-воина Дениса Давыдова «Река и зеркало», кончающуюся такой моралью:
…Монарха речь сия так сильно убедила, Что он велел ему и жизнь и волю дать… Постойте, виноват! — велел в Сибирь сослать, А то бы баснь сия на сказку походила.Вся суть была не в басне, а в последних двух строках, которые были встречены не очень лестным для «монарха» смехом. Но вино в бутылках иссякло, и гостеприимный хозяин Волконский вдруг стал серьезен и напомнил, что вряд ли кому придется спать нынче ночью в ожидании переправы отступающих частей армии Блюхера. Все поднялись, Волконский снова предупредил Можайского, что он ночует у него и им предстоит разговор, касающийся поездки капитана в Суассон. Но когда они остались наедине, разговор начался не с поручения, возложенного в главной квартире на Можайского.
— Нам случалось встречаться в Петербурге, в великой ложе Астреи… вам вручали диплом в ложу «избранного Михаила». Я участвовал в этой церемонии. Однако после того мне не приходилось видеть вас на сборищах… — Волконский наклонился и посмотрел в глаза Можайскому, — вы уехали из Петербурга или были другие причины, отчего вы не бывали на собраниях ложи?..
Можайский не ожидал вопроса и отвечал не сразу.
— Я не вынуждаю вас к ответу, хотя главный мастер ложи называл мне ваше имя в числе тех, которые охладели к своим обязанностям и как бы отпали от ложи. Льщу себя надеждой, что вы удостоите меня своим доверием.
Двадцатишестилетний генерал обращался к двадцативосьмилетнему капитану, стараясь дать понять, что разговор идет не между генералом и капитаном, а между двумя членами масонской ложи «избранного Михаила». Расстояние между князем Волконским, генералом, близким человеком князя Петра Михайловича Волконского, — начальником штаба его величества (жена которого приходилась сестрой Сергею Волконскому), и капитаном Можайским было очень велико. Но сейчас оно как бы исчезло, и Можайский отвечал без стеснения, отвечал то, что было на душе и что он давно хотел сказать «братьям старших степеней» — масонам.
— Может быть, то, что я скажу вам, заставит вас дурно думать обо мне, но скрывать правду я считаю бесчестным. Позвольте начать с того, что привело меня в ложу…
Волконский усадил Можайского рядом с собой на диван и приготовился слушать.
— Начну с отдаленного времени. Отец мой, хоть и не был масоном, но считал себя другом всеми уважаемых масонов московских. Особенно близок он был к Максиму Ивановичу Невзорову, которого многие называли светочем справедливости. Отец почитал его за гражданское мужество в перенесенных Невзоровым испытаниях. От отца я слышал подробности допроса Невзорова извергом Шешковским. Я был внимательным читателем его журнала «Друг юношества». Читал я и размышления Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова. Он поразил меня дерзновенными мыслями о государстве. Однажды о трактате, написанном одной высокой духовной особой, он сказал так: «Мне надоело читать трактаты, написанные ради того, чтобы доказать существование бога! Берутся объяснять предвечные тайны, а на самом деле оправдывают существование зла!»… Такие речи находили отклик в моем сердце, и я думал, ежели Мамонов — масон, то для меня великая честь быть с ним в одной ложе. Вот отчего я вступил в ложу Астреи, но, пробыв в ней более года, откровенно скажу, испытал смущение… Я не нашел у масонов того, чего искал. Первое, что услыхал я из уст ритора, было: «Масон должен быть покорным и верным подданным своему государю». А ежели государь тиран? Для чего же проповедывать покорность венценосцу, недостойному управлять отечеством? Можно ли говорить о добродетелях, призывать к целомудрию и великодушным поступкам и лобызать стопы тирана? Да могут ли быть добродетельными действительные тайные советники — «братья старших степеней», нажившие дворцы и поместья казнокрадством и взятками?
Волконский молчал… Не то, чтобы его смутили дерзкие речи Можайского, вернее всего, что он сам не раз размышлял о том же.
— В ваших словах много правды, — наконец сказал он, — я и сам вижу, что наша ложа Астрея стала прибежищем многих недостойных людей. Но не все ложи таковы. Наши собратья франкмасоны в «исповеданьи веры» призывают людей, одаренных храбростью и чувством чести, вооружиться и восстать против недостойных узурпаторов, а если понадобится, то… умертвить их…
Была тишина. Чуть слышно дребезжали стекла, откуда-то издали слышался грохот колес, двигались обозы, слышалось понукание, фырканье коней и порой рев ослов.
— Однако франкмасоны ни слова не говорят о простолюдинах, о работниках, о крепостных людях. Они считают, что государь просвещенный должен повелевать своими подданными. Руссо думал иначе… Да не один Руссо. Истинные республиканцы открыто говорят, что короли не нужны, что гражданские добродетели, вольность, процветание наук и искусств могут быть только в республике.
— Не стану с вами спорить… — тихо произнес Волконский, — но не потому, что я мыслю так же, как вы… Вижу, что все сказанное вами есть твердое ваше убеждение и поколебать его я не в силах. Но вот что удивительно, — мы начинаем с масонства, а кончаем проповедью революции. Так и безумный Мамонов, который нынче носится с мыслью о тайном политическом обществе. И странно, с ним заодно такой достойный человек, как Михаил Федорович Орлов. Но оставим это…
Волконский встал, подошел к окну. Несколько мгновений он стоял неподвижно, потом вдруг повернулся к Можайскому.
— Благоволите рассказать мне, в чем состоит данное вам поручение.
Выслушав Можайского, Волконский с некоторым раздражением покачал головой:
— Генерал-лейтенант Чернышев имеет намерение и здесь присвоить себе чужие лавры. Если судить по чести, истинный герой, взорвавший под огнем неприятеля ворота крепости, — капитан Горский, ныне командир десятой артиллерийской бригады. Он заслужил георгиевский крест и производство в следующий чин. Я вручу вам рапорт командира корпуса Петру Михайловичу Волконскому для доклада его величеству и прошу от себя рассказать Петру Михайловичу, как было дело. Ежели есть на земле правда, — капитан Горский получит крест и производство… Но каковы нравы, каковы нравы в главной квартире! — с негодованием продолжал Волконский. — Посылать вас, боевого офицера, в Суассон ради того, чтобы дать незаслуженную награду подлецу Чернышеву!
— Князь Сергей Григорьевич, — голос Можайского дрогнул. — Открою вам сокровенное мое желание. Не сочтете ли вы возможным послать с рапортом в штаб его величества одного из ваших офицеров? Я думаю, есть немало таких, которым лестно появиться в главной квартире. Что до меня, то я прошу откомандировать меня на время в артиллерию. Я всегда предпочитал походную жизнь службе в штабе. Воротиться в главную квартиру я успею спустя неделю, другую…
— Не шутите с главной квартирой, — посмеялся Волконский. — Там вас будут считать пропавшим без вести. Я напишу о вас Петру Михайловичу, чтобы он не очень пенял вам за опоздание. Оставайтесь с нами, капитан.
Можайский остался при корпусе. Три недели, проведенные им в передовых частях, были наполнены немаловажными событиями.
Армия Блюхера переправилась через реку Энн и получила возможность привести в порядок расстроенные части.
Однако Блюхер, принявший командование русскими войсками, приказал русским перейти с правого фланга на левый. Расчет его состоял в том, чтобы первый натиск неприятеля приняла на себя не силезская армия, а русские.
Наполеон, разбив отряд под командованием французского эмигранта Сен-При у Реймса, перешел через реку и атаковал корпус Воронцова. Эта небольшая стычка предшествовала сражению у Краона.
Старый знакомый Можайского Михаил Семенович Воронцов оказался в трудном положении, однако на его счастье подоспела подмога — два резервных полка. Атаки французов разбились об упорство русских, занимавших удобную позицию между рекой Энн и глубокими оврагами, не позволявшими французам обойти русские войска.
Можайский участвовал в этом сражении. Обе стороны понесли большие потери. В бою погибли генералы Ланской и Ушаков. Погиб и единственный сын генерала Павла Александровича Строганова. Потрясенный гибелью сына, отец передал командование Воронцову. Так случилось, что Михаил Семенович Воронцов до конца своих дней считался победителем Наполеона у Краона.
Можайский возвратился в главную квартиру, где его не надеялись уже увидеть в живых. Явившись в штаб его величества, он представился Волконскому, но Петру Михайловичу было не до опоздавшего почти на месяц офицера. Именно в те дни решался марш на Париж, который предопределял судьбу Наполеона.
32
Из позднейших собственноручных записок Александра Можайского
«…не знаю, для чего я начал писать собственноручные мои записки. Иные пишут мемуары в назидание потомству, я не военачальник, не государственный деятель, не оказал я неоценимых услуг отечеству, — что я могу оставить грядущим поколениям? Только то, что видел своими глазами в достопамятных 1813 и 1814 годах. Государственный муж или военачальник, приступая к описанию мемуаров, заботится о том, чтобы представить себя в достойном свете потомкам. Я этим не обольщаюсь, славы не ищу и хочу писать правду, как она есть. Более сорока лет прошло с тех пор, но не изменила мне память, и вижу я утро 31 марта 1814 года, точно это было только вчера.
Был тихий рассвет над замком Бельвиль, здесь стояла наша штаб-квартира. Батарея из 24 орудий, повернув жерла орудий к Парижу, расположилась на высотах Бельвиля. Но орудия молчали.
Сколько событий протекло с тех пор, как, едва передвигая ноги, поднялся я со своего ложа в военном гошпитале города Франкфурта-на-Майне. Сколько крови было пролито нашими доблестными войсками, сколько чернил извели господа дипломаты! И вот, преодолев нерешительность австрийцев, бездействие их главнокомандующего Шварценберга, его страх перед военным искусством Наполеона, пришли мы к победоносному концу кампании. Чем более склонялись австрийцы и англичане к миру с Наполеоном, тем более самонадеян и упорен становился император французов и медлил с мирными переговорами, желая только одного — выиграть время. Четырежды разбил он хваленого Блюхера и пруссаков, нещадно бил и главнокомандующего австрийского — князя Шварценберга. Каждые три дня «Монитёр» извещал французов о новых победах императора Наполеона, но судьба его была решена. Наполеон имел намерение приблизиться к крепостям на границе Франции, чтобы, имея опору в их гарнизонах, усилить свою армию. Тем самым полагал он увлечь за собой главные силы союзников и, угрожая их тылу, заставить отступить к Шомону. Но случилось иначе. Русская армия не стала преследовать Наполеона, а устремилась к сердцу Франции — Парижу, хотя прусский генерал Кнезебек сравнивал поход на Париж с походом Наполеона на Москву и считал сей маневр гибельным. Русские пошли на Париж, и здесь решилась судьба долгих и кровопролитных войн, столько лет потрясавших Европу. Пришел день, когда мы, русские, взглянули на Париж с Бельвильских высот глазами победителей. Давно ль смотрел Наполеон на Москву с Поклонной горы?
Париж просыпался за золотой завесой наступающего утра.
Кровли его домов, шпили соборов, тихая река загорались пламенем зари. Офицеры наши глядели в зрительную трубу и показывали один другому купол Дома инвалидов. Он отливал чистым золотом, — Наполеон, восхищенный сиянием куполов московских, приказал его вызолотить.
Величав и прекрасен был в то утро город, дерзнувший двадцать пять лет назад провозгласить свободу, равенство и братство, а потом склонившийся под железный скипетр диктатора. Ныне этот город с трепетом ждал часа, когда в него войдут русские полки.
Странное зрелище представлял наш бивуак. Из замка на лужайку, где ночевал полк, вынесли золоченую мебель. На обитых шелком софах и стульях крепким сном спали гренадеры. Но вот послышался звук трубы, и все пробудилось. Там солдат чистит мелом свою амуницию, здесь полковой цирульник бреет унтер-офицера и фабрит ему усы. Из ранцев достают аршинные гренадерские султаны. Полк входит в Париж в новой парадной форме, только вчера утвержденной императором Александром.
Но где же тот дерзкий, кто ныне взял на себя труд описать события того дня?
Вот он, в синем фраке со светлыми узорчатыми пуговицами, в пестром жилете и узких серых панталонах, готовится к своему скромному въезду в Париж.
Не слуга, а друг мой и спаситель — Федя Волгин — был мне спутником в этом тяжком и порой опасном походе. Снарядились мы славно — вьючное седло, казацкий вьюк, бурка, мягкий чемодан, смазные сапоги, походные фляги. В тех местах, где бродили вооруженные шайки, ехали только ночью. Печально выглядели поля и селения Франции, печально выглядели дороги: по обочинам брошенные сломанные обозные телеги, поломанные пушечные лафеты, битая посуда, бочки, солома, угли и пепел там, где были бивуаки.
Где бы ни странствовал я, куда бы ни бросала меня судьба, в походах и в сражениях не оставляла меня мысль о той, с которой расстался навечно. Сердце человеческое! Напрасно мы не хотим покоряться твоим велениям, напрасно хотим заглушить твой голос, — ты говоришь нам о милой, ты будишь в нас счастливые воспоминания. Хорошо тому, кто любит и любим, у кого есть светлое утешение — семья и подруга. Александр Фигнер, все отдавший отечеству, нежно любил жену, в походах и сражениях помнил о ней и с ее именем на устах стоял на пороге смерти, как о том рассказывал мне Лихарев. Где справедливость?
…30 марта началась битва за Париж. К вечеру французы утратили все укрепленные позиции, кроме Монмартрского холма. Французы яростно защищали эту последнюю твердыню. Граф Ланжерон приказал взять штурмом Монмартр. Прямой удар стоил жизни шести тысячам русских воинов. Французский эмигрант на русской службе, что ему жалеть русскую кровь?.. Меж тем жертвы были напрасны: генерал Михаил Федорович Орлов, граф Нессельрод и адъютант Шварценберга граф Пар уже вели переговоры о капитуляции Парижа. Император Александр Павлович поздравил расположенные близ Бельвиля и Шомона войска с победой, обнял Барклая и пожаловал его фельдмаршалом.
В третьем часу ночи была подписана капитуляция Парижа.
Первая статья капитуляции гласила: «Французские войска, состоявшие под начальством маршалов Тревизского и Рагузского, оставят город Париж 19 (31) марта в 7 часов утра».
Нессельрод, сопровождаемый одним казаком, отправился в Париж для свидания с Талейраном. Там же было решено, что государь остановится в Париже, в доме князя Талейрана, на улице Флорантин, будто бы ради безопасности, — сказывали, что под Елисейским дворцом заложены мины. (Как потом говорили, пребывание государя в доме Талейрана скорее всего послужило для его, Талейрана, безопасности. Воротившиеся в Париж мстительные эмигранты не забыли его дружбы с якобинцами.)
…Я прибыл в замок Бонди вечером 31 марта и в большой зале увидел Сашу Данилевского. Обрадовавшись встрече, он сказал мне, что уже с месяц с ведома государя вышло мне назначение: состоять при главном штабе его величества для «производства исследований по предметам, заключающим важность и тайну». Здоровье мое после лейпцигской раны не позволяло мне нести службу в строю. В ту же ночь я был вызван к князю Петру Михайловичу Волконскому.
— Вы Париж знаете не хуже парижан, — сказал он мне, — вам надлежит через одну из застав, где будет поспособнее, проникнуть в город. Вам будет пропуск от французских властей, как бы для того, чтобы вы присмотрели дом, пригодный под походную канцелярию штаба его величества. На самом деле вам должно прислушиваться ко всем толкам и слухам, что говорят в кофейных и чего ожидают, обо всем напишите докладную записку. Поедете, натурально, не в мундире, а в статской одежде.
В тот же час послал я Федю Волгина к Митеньке Слепцову: у него в обозе был мой чемодан со статским платьем от лучшего в Москве портного, синьора Флорико. К утру я кое-как принарядился и был готов в дорогу.
Меня ожидал кабриолет с кучером-французом. Спутником моим был тоже француз, офицер национальной гвардии, мсье Симон. Он был грустен и молчалив. Оно и понятно — нелегко было видеть неприятельские войска у ворот Парижа. Пока мы ехали, он разговорился; я, как мог, утешил его, сказав, что и нам нелегко было видеть наполеоновских солдат у стен Кремля.
Мы въехали в Париж через Порт д’Анфер — Адские ворота — в восьмом часу утра. Сержант и три солдата национальной гвардии хмуро глядели на меня. Мундиры их были в лохмотьях. Старые двуствольные ружья и ржавые тесаки — вот все их оружие. Офицер, вышедший к нам, был в старом синем кафтане и шапке, подбитой мехом.
— Только вчера, — сказал мне с горькой усмешкой мсье Симон, — через заставы ехали господа, оставлявшие Париж с криками: «Да здравствует император Наполеон!» А завтра они возвратятся в Париж, вопя: «Да здравствует король Людовик XVIII!»
И точно, не прошло и одного дня, как я увидел кареты, переполненные баулами и чемоданами, и в них господ с белыми бантами в петлицах, оглашавших улицы криками: «Да здравствует король!»
Случалось мне в мусорных ящиках видеть знаки Почетного легиона… Сколько старался кавалер получить эти знаки, и как легко расстался с ними господин оборотень!
Но буду описывать все по порядку.
Нас пропустили через палисады, на мостовой лежали щебень и штукатурка — след ядра, угодившего в мансарду углового дома. Ставни домов плотно прикрыты; кое-где у домов стояли привратники, но улицы предместья были пустынны.
Так я воротился в Париж спустя три года…
…У ворот святого Мартина в одежде, которая не отличала меня от уличных зевак, среди несметной толпы, я ожидал, когда появится идущая в голове войска наша легкая гвардейская и прусская кавалерия. Все бульвары — от рвов разрушенной народом Бастилии до бульвара Магдалины — были заполнены парижанами.
Я стоял, размышляя о событии, коего был свидетелем. Пятнадцати месяцев не прошло с того дня, когда Наполеон стоял на Поклонной горе, окидывая взглядом древнюю столицу нашу; пятнадцати месяцев не прошло с тех пор, как он ступил на священную землю Кремля, а ныне, 19 нашего марта, русские воины вступают в столицу Франции.
И за развалины Кремля Парижу мзда — спасенье!Так спустя немного скажет об этой минуте славный русский поэт…
Парижане ожидали разорения города, лютой мести русских, а вместо того было приказано открыть рынки и лавки, давать спектакли в театрах и жить, как до сего жили, не тревожась за участь столицы.
Вокруг шумели толпы. Знал я ветреность и легкомыслие парижан, но все же дивился разряженным господам, с любопытством встречающим чужеземные войска.
Монтескье говорил, что Париж имеет самое выгодное положение для безопасности своей. Две линии крепостей, неприступные горы и море преграждают дорогу к Парижу. «Но где храбрые войска, перед которыми трепетала Европа? Где их вождь, которого равняли с Ганнибалом и Юлием Цезарем? Вот к чему приводит непомерное честолюбие!», — так размышлял я, пока не увидел рядом с собой статного человека немолодых лет с военной, гордой осанкой. Он стоял, опираясь на плечо мальчика, и слезы катились по его щекам.
Двести лет война не приближалась к стенам Парижа; гром пушек поражал слух парижан только на торжественных смотрах и парадах. Лишь у одного я приметил на глазах слезы, а вокруг шумела нарядная толпа, — она стекалась сюда, точно на праздник.
Казалось мне, что в такой день приличествуют парижанам темные одежды, но вокруг я видел розовые и голубые платья, кашемировые шали, синие и светло-оливковые фраки мужчин, белые повязки на рукаве и белые лилии в петлице. Приметил я одного старца, — лицо его сияло счастьем и радостью. Он был в платье, которое носили сорок лет назад наши деды, в васильковом, шитом золотом камзоле, белых шелковых чулках и туфлях с огромными золотыми пряжками. Волосы старца были напудрены и причесаны по моде Людовика XV, á l’aile de pigeon — крыло голубя. Он точно поднялся из могилы, как призрак прошлых лет, чтобы увидеть конец монархии Наполеона и возвращение Бурбонов, о котором уже говорили в толпе, одни — с радостью, другие — с тревогой.
Тщетно я искал в этой толпе простолюдинов-ремесленников, работников из Сент-Антуанского или Сен-Марсельского предместья, — глаз мой их не приметил.
Вдруг толпа заволновалась, издали послышался гром музыки. Далеко впереди я различил пики и красные мундиры лейб-казаков. «Les cosaques!» «Les cosaques!» «Les enfants des steppes!»[9] — послышалось вокруг, и толпа невольно подалась — такой страх внушали парижанам наши храбрые казаки.
На остриях казацких пик, на саблях, на крестах и медалях горел отблеск вешнего солнца. Ветерок шевелил белые султаны на казацких шапках. Побольше всего дивились парижане русым бородам, украшавшим мужественные лица лейб-казаков. Борода была редкостью в этой стране, где и крестьяне брили бороды, а при Бур-бонах даже пудрили мукой головы. Не знали того парижане, что лейб-казаки были старой веры, бороды не брили и табаку не курили.
Мне странно было видеть на левом рукаве у казаков белые повязки. У нас говорили, что белые повязки означали только примету, по которой можно было отличить войска коалиции от неприятельских войск. Но белый цвет был цветом Бурбонов, об этом надлежало бы подумать раньше, чем украсить русскую армию белыми повязками. Повязки эти внушали особенную радость щеголям с белыми лилиями в петлицах.
Дети Дона ехали по парижским бульварам. С любопытством глядели они на высокие, в четыре и пять этажей, дома, на несметные толпы на улицах. Не так глядели на Париж прусские гвардейские гусары: глаза их светились злобным торжеством, они бросали на парижан мстительные взгляды, ничего доброго не сулили их насупленные брови и злобно сжатые губы. Здесь, в Париже, думали пруссаки заплатить французам за тиранство маршала Даву в Гамбурге, за долгие годы унижения. Русские не жаждали кровавого возмездия. Для чего же было отдавать Париж и Францию на разграбление пруссакам и тем самым сверх меры усилить их?
Но вот снова заволновалась толпа. Вслед за полусотней казаков, георгиевских кавалеров, ехали три всадника, а чуть поодаль от них — едва ли не тысяча генералов, осыпанных звездами и крестами.
Император Александр Павлович ехал на светло-сером коне, по правую руку от него — король прусский, по левую — князь Шварцейберг.
Государь был в темно-зеленом кавалергардском мундире. Только боевые награды — георгиевский крест и шведский орден меча — украшали его грудь. Он беспрестанно улыбался, прикладывал руку к шляпе и часто поглядывал на Алексея Петровича Ермолова, который ехал ближе других. Император ехал на лошади арабских кровей, которую звали Эклипс… О насмешка судьбы! Лошадь сия была подарена ему Коленкуром, герцогом Виченцским, в бытность Коленкура послом Наполеона при русском дворе. Ныне император Александр совершал свой торжественный въезд в Париж на лошади, подаренной французским послом.
Увидел я Беннигсена на огромном мекленбургском коне, высоченного роста всадника с орлиным профилем. Губы его кривились недоброй усмешкой, и взор равнодушно скользил по балконам и кровлям, по бульварам, усеянным народом.
Довелось мне его видеть и раньше на балу в Брюссельской ратуше. Вошел подобно статуе командора, головой возвышаясь над всеми. Вежливо, но холодно беседовал с дамами, легко вальсировал, несмотря на свой огромный рост. Странную привлекательность имел для меня этот человек, сыгравший роковую роль в ночь на 11 марта. Он, чье имя должно вызывать ненависть государя, он — убийца отца государя, получил от Александра графский титул, знаки Георгия первой степени — награду, которой был удостоен спаситель отечества — Кутузов. Ермолов, Раевский, Дохтуров, заслужившие уважение всей армии, не могли и помыслить о таких наградах. Скромнейший Дохтуров с гневом и презрением говорил Алексею Петровичу Ермолову о Беннигсене: «Из него сделался самый ловкий и льстивый придворный, он даже не смеет писать государю о самых важнейших вещах… Мы, которые по несчастью служим под командой его, терпим. Что делать, друг мой… Хотя при отставке нечем жить, а служить не буду более, предпочитаю жить в нужде, чем быть подверженным с подобными начальниками потерять репутацию».
Таков был новоявленный граф Беннигсен.
Увидел я и Матвея Ивановича Платова, с лицом, исполненным важности, в простом казацком кафтане. Две бриллиантовые звезды, бриллиантами украшенная сабля и атаманское перо на казацкой шапке привлекали к нему все взоры.
Я слышал раздававшиеся вокруг крики: «Да здравствует Александр!» «Да здравствуют русские!» Угрюмый король прусский, хмурый Шварценберг ехали рядом с Александром.
Еще слышались в толпе крики: «Да здравствует король!» Но не во славу короля прусского раздались эти крики, а во славу Бурбона. Чем дальше продвигались войска, тем меньше было таких возгласов. На бульваре Капуцинов, на бульваре Магдалины все больше встречалось людей в черном поношенном платье и женщин в глубоком трауре. И только крик: «Да здравствует мир!» — исторгали их бледные уста.
Вот прошли австрийские гренадеры в их белых мундирах. За ними наши гренадеры — славный корпус Ермолова, Павловский полк, кирасиры в латах из кованого железа и конная гвардейская артиллерия…
Я глядел на славное российское воинство, и веселье и гордость переполняли мое сердце. Отчизна послала на ратные подвиги истинных богатырей. Рослые, статные, с мужественными чертами лица, в красивых гвардейских мундирах они входили в покоренную столицу с величавым спокойствием и уверенностью в своей правоте. Нет! Не одно долготерпение, выносливость, покорность были в этих русских витязях, и вечный позор тому, кто не считает их за людей, а за неких бездушных кукол, способных без мысли и чувства исполнять приказы своего начальника.
Да, то был день великого торжества храбрых россиян! Увы, не дожили до того дня спаситель отечества нашего Кутузов, храбрейший из храбрых Багратион, два брата Тучковых, Кутайсов, славный наш партизан Фигнер и тысячи, тысячи верных сынов России. Одни нашли свою смерть на Бородинском поле, другие — под стенами Дрездена, у Лейпцига и в водах Эльбы… Мир праху их и вечная им память!
До сей поры Париж видел надменных русских вельмож — князя Куракина, богача Демидова, ловкого лазутчика Чернышева. Парижане слышали о просвещенных русских, о Дмитрии Петровиче Бутурлине, владельце погибшей при пожаре Москвы драгоценной библиотеки, о Бутурлине, отыскавшем пять ошибок в издании «Телемака» Фенелона. Издатель обещал заплатить по сто червонцев за каждую найденную ошибку — Бутурлин нашел их пять и пожертвовал деньги издателя бедным города Парижа. Шувалов, сын государственного деятеля, известного в царствование Елизаветы Петровны, сочинил «Послание к Ниноне», и эти превосходные стихи приписывали Вольтеру.
Ныне Париж увидит тысячи русских людей, от рядового до полководца, увидит цвет нации, отстоявшей свою независимость, и Европа постигнет достоинства народа, которого до сей поры не знала.
Уже давно чувствовал я усталость от приятных волнений этого дня и еле добрел до дома на улице Вожирар, где нашел желанный приют.
Описывая события 31 марта 1814 года, я не сказал еще ни слова о том, как по приезде, еще на рассвете, нашел я пристанище в Париже.
Домохозяин господин Бюрден и его семья были подняты на ноги моим ранним появлением. Парижане дурно спали в ту ночь, когда двухсоттысячная союзная армия стояла у ворот столицы, и мое появление в доме на улице Вожирар посеяло тревогу среди его обитателей. Да оно и понятно: неизвестный стучал в двери дома. Открывались окна в соседних домах; наконец появился и мсье Бюрден и, увидев меня, тотчас узнал.
— Антуанетта! — воскликнул он. — Дети! Взгляните, это наш добрый господин Можайский, наш милый жилец! Какая радость! Но, боже мой, как вы изменились!
Тут прибежала мадам Бюрден, и две милые дочки, и привратник Анри, и его жена, повариха Люси. Все удивлялись моему возвращению и обрадовались мне. Причиной были не только добрые чувства ко мне, старому их жильцу. Семья Бюрден верила, что появление в их доме русского офицера в столь тревожные дни капитуляции Парижа избавит их от бедствий. «Что, ежели русские отплатят французам тою же монетой за разорение Москвы?» — думали они.
— Вот ваши комнаты, господин Можайский. Все здесь так, как вы оставили три года назад, — и книги ваши, и одежда… Ах, что пережили мы здесь, господин Александр, когда б вы знали!..
…Я снова в моем скромном жилище. Вот бронзовые часы на камине, вот клавикорды, бюсты великих мужей — Вольтера, Лафонтена, Монтескье, Жан Жака Руссо… Софа, обитая темно-зеленым сукном, медная лампа, ширмы с сельским пейзажем… И вы здесь, мои друзья-книги — Расин, Мольер, Буало, Лесаж, наши Кантемир, Державин, Ломоносов, Сумароков, Фонвизин… О Денис, сочинитель «Недоросля», сочинитель «Рассуждения о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления»… Вот драгоценный список, сделанный с твоей рукописи, хранившейся у Петра Ивановича Панина. Еще раз перечитал я драгоценные для истинного сына отечества строки:
«Сила и право совершенно различны в существе своем, так и в образе действия. Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железа, топоры. Совсем излишне входить в толки о разностях форм правления и разыскивать, где государь самовластнее и где ограниченнее. Тиран, где бы он ни был, есть тиран, и право народа спасать свое бытие пребывает вечно и везде непоколебимо».
Достал я из баула заветную тетрадь, прочитал изречение на первой странице «Salus populi suprema lex esto» — «Благо народа да будет высшим законам», перелистал мои записи. Подобно пчеле, собирающей цветочную пыльцу, с молодых лет записывал я в эту тетрадь мудрость, собранную в манускриптах и книгах.
«Достигай собственного счастья только создавая счастье других».
«Настоящая цель политики — это сделать жизнь удобной, народы счастливыми».
«Любовь к человеческому роду, желание заслужить его признательность, служение всеобщему благу — вот побуждения, которые должны одушевлять честного человека».
Следовал ли я сим благородным побуждениям, достиг ли высшего счастья… Увы, нет. А между тем мне двадцать восемь лет было в те годы, когда я решил служить всеобщему благу. И теперь, сорок лет спустя, после сибирской ссылки, я стал не ближе к цели моей жизни, чем в молодые годы. Но вернемся к дням моей молодости. Сколько ночей провел я в Париже, за маленьким бюро, погрузившись в книжную мудрость, силясь прогнать мысли о той, которая все еще владела моим сердцем… Знать, что она в Париже, что она жена другого! Какое мученье! Только вы были моими утешителями — достойные учители мои, мудрые мои друзья — книги.
Пока я разглядывал мое старое жилище, в котором прожил три года, внизу послышались голоса: кто-то, стуча тростью и задыхаясь, шел по лестнице. Дверь отворилась, я увидел на пороге моего старого друга, доктора Гюстава Вадона, и раскрыл ему объятья…
Старик обнял меня и, отступив на шаг, сказал:
— Что с вами? Вы больны? Вы ранены? — он указал на черную повязку, которая прикрывала шрам над ухом.
Я не ответил и усадил его в кресло у клавикордов, где он любил сидеть, слушая мои музыкальные шалости… Но прежде я должен рассказать читателю моих записок о моем старом парижском друге.
Доктор Гюстав Луи Вадон, всеми почитаемый врач и парижский старожил, был моим соседом и частым гостем три года назад. Он был из редких собеседников, которых французы называют «charmeur» — чаровник. Часами я мог слушать его рассказы о Париже Людовика XVI, о днях революции. Ярый республиканец, он бывал в доме Марата, был другом Жильберта Ромма, наложившего на себя руки, когда ему грозила казнь. Доктор Вадон был якобинцем, и многие его друзья кончили свою жизнь в дни термидора, другие погибли на галерах. Когда Наполеон начал расправу с республиканцами, Гюстава Вадона спасла слава искуснейшего медика. Теперь ему было за шестьдесят, ум его был светел. Позабыв усталость, я слушал его рассказы о том, что пережил Париж накануне 31 марта 1814 года.
Три года назад, когда Наполеон был в сиянии славы и могущества, Вадон все же не забывал 18 брюмера и того, что Наполеон надругался над республикой, лишил французский народ свободы и гражданства.
— Я не был склонен, подобно парижским зевакам, глазеть на торжества и парады, — рассказывал Вадон, — однако мне случилось видеть триумф Наполеона после итальянского похода, в ту пору, когда народ видел в нем генерала республики, а не узурпатора. Он разгромил гордую австрийскую империю, защитил Францию, терпевшую неудачи на Рейке; итальянский поход спас нас от вторжения врага… Но мне довелось видеть его и 18 декабря 1813 года, когда несчастный русский поход был позади. Он посетил сенат и возвращался во дворец. Хотя тот день был ненастный, тысячи зевак собрались на террасе Тюильрийского дворца… Показалась торжественная процессия. Сначала эскорт императорской гвардии в красных мундирах и медвежьих шапках… Шел дождь, вся картина выглядела весьма жалкой, мой друг… Он сидел один в раззолоченной карете, перья его шляпы намокли от дождя, так же как и горностаевая мантия… Лицо его показалось мне обрюзгшим, совсем не таким, как на портретах. Но что было самое важное — ни одного приветствия не слышалось из толпы. Люди с равнодушным любопытством глазели на ливреи лакеев, стоявших на запятках, на императрицу в мокрой малиновой мантии — она ехала во второй карете… Лил дождь, гремели барабаны, и Наполеон тоже равнодушно глядел на толпу, собравшуюся на террасе Тюильри, на людей, дрожавших от холода и сырости. Это походило на похороны, мой добрый друг, и в самом деле это было началом конца… Не прошло четырех месяцев — и неприятель у ворот Парижа…
— 24 января Наполеон покинул Тюильри. Отправляясь в армию, он указал маршалам и придворным на своего сына и сказал: «Я вверяю вам этого ребенка, надежду Франции»… Слезы умиления, умилительная картина. Но те же люди, которые лили слезы 24 января, — 31 марта махали вам белыми платками. Эти господа пойдут на любое унижение, на любую подлость, чтобы сохранить свои дворцы, драгоценности, экипажи и лошадей. Еще неделю назад, — продолжал Вадон, — Париж почитал себя в полной безопасности. Правительство и сам Наполеон поддерживали эту беспечность в народе. Неприятель был у ворот столицы, а бюллетени главной квартиры твердили о победах. Глаза наши открылись только 28 марта… Я видел ужасные сцены на бульварах. Там, где щеголи и светские львицы привыкли появляться в своих роскошных экипажах, мы увидели множество раненых солдат, толпы несчастных поселян. Оставив свои жилища, они несли на плечах жалкие пожитки. На площади, где мчались придворные кареты, я увидел бедную телегу, — на соломе поместилось целое семейство: мать, грудной ребенок, старик и старуха; на тощем ослике позади ехала крестьянка; пастух гнал частичку спасенного им стада, голодные овцы блеяли и тянулись к соломе, торчащей из телеги… Их окружали парижане. Я видел трогательные примеры великодушия, но видел и бессердечие и корысть. Я не покидал лазарета, устроенного в фойе театра «Водевиль», — не правда ли, странный приют для страждущих? Днем через Париж шли свежие войска, везли снаряды, — это подняло дух парижан; говорили, что опасность не так уж велика. И вот легковерие народа! На площадях появились уличные фигляры, фокусники и забавляли парижан до позднего вечера. Потомки не поверят тому, что двухсоттысячная армия неприятеля стояла в двух милях от Парижа, а парижане узнали об этом только на рассвете 30 марта, в четыре часа утра, когда раздались пушечные выстрелы и барабанщики во всех концах города забили тревогу. Ужас достиг высшей степени. Барабаны призывали национальную гвардию защищать столицу, вооруженные граждане шли к Монмартру, за ними бежали плачущие жены и дети… Как могли мы противостоять завоевателям? Что было у нас? Несколько пушек, у которых встали мальчики из Политехнической школы, пять тысяч линейного войска и пятнадцать тысяч национальных гвардейцев, без офицеров… вооруженные охотничьими ружьями…
Я ответил старому доктору, что капитуляция спасла Париж от разрушения, что, кроме двухсот тысяч, стоящих у ворот столицы, по всем дорогам идут к Парижу колонны пехоты, несметная кавалерия и шестьсот пушек, готовых громить город с окрестных высот.
— Знаете ли вы, — говорил Вадон, — что правительство убедило граждан Парижа в том, что им предстоит отразить только слабый отряд неприятельской армии? Двенадцать часов длилась оборона, а затем последовала капитуляция… Вы знаете меня, мой друг, я никогда не мог простить узурпатору смертельный удар, который он нанес правам человека и гражданина, уничтожив республику. Я знаю, как унижал национальную честь и достоинство народов Европы Наполеон. Вы, русские, имеете право требовать возмездия… Но я люблю Францию и народ французский и плачу, ибо это день скорби моего народа. Спартанцы хвалились тем, что женщины Спарты никогда не видели огней неприятельского лагеря. Женщины Парижа гордились бы тем же самым, если бы Париж защищали герои битвы при Вальми, перед которыми трепетали тираны…
Наполеон стал чуждым народу. Мог ли он вызвать в сердцах французов энтузиазм 1792 года, энтузиазм, который бы спас Париж? Еще в феврале месяце он больше всего заботился о себе: чем я стану для французов, если подпишу унижение Франции? Что я скажу сенаторам-республиканцам, если они потребуют от меня барьера на Рейне? Истребив непримиримых истинных республиканцев, казнив и сослав якобинцев, он боялся нас, чудом оставшихся на свободе, более, чем коалиции. Он всегда боялся идей больше, чем штыков. Однажды он так и сказал: «Лучше несколько поражений, чем власть народа». Помните вы наши беседы здесь, у камина, о Фурье, о труде, который не будет ни унизительным, ни тягостным для человека, о том, что близкое будущее человечества — это свободные объединения тружеников… Знал я Гракха Бабефа и слышал горькие слова его о судьбе работников: «Работайте много и ешьте мало, или сам больше никогда не придется есть. Таков варварский закон капиталистов». Этот мученик говорил нам: «Революция — это война между патрициями и плебеями, между богатыми и бедными…» Может быть, смерть на гильотине была для него счастьем, он не увидит того, что вижу я спустя двадцать пять лет после 1789 года — белые лилии, белые повязки аристократов… Вот к чему привел Наполеон Францию, истребив самый дух 1789 года… Он превратил своих чиновников в машину, подписывающую четыреста бумаг в день. Самое ничтожное, мелкое дело решалось в Париже, хотя бы ответ из Парижа пришлось ждать целый год. Он создал пять полиций, полицию Фуше, агентуру главного инспектора жандармерии, префекта полиции, начальника почты, ведавшего перлюстрацией, и тайную полицию императора. Он боялся сочинителей, запрещал невинную комедию за то, что в ней были насмешки над двором Людовика XV, он приказал автору трагедии «Венецианцы» казнить неприятного ему героя трагедии. Он уничтожил общественное мнение и угасил дух свободы…
Так говорил мой старый друг доктор Вадон в тот самый час, когда к заставе Пасси подходил с развернутым знаменем Семеновский полк и парижане впервые увидели на улицах Парижа грозных и усатых богатырей наших… Герои-победители входили в столицу Франции, древнейший и славный город Европы.
…Итак, я в Париже. Воспоминания, печаль о минувшем. Но не следует забывать о том, для чего я послан сюда, — говорил я себе. Что думают парижане о перемене, о судьбе, ожидающей Францию? Не ярые республиканцы, как доктор Вадон, а благонамеренные негоцианты, опора империи Наполеона. Не слишком много узнал я в эти два дня.
Случай помог мне. Мой беспутный друг Дима Слепцов пожелал купить у знаменитого парижского часовщика, господина Брегета, часы для себя и еще часы — подарок престарелому отцу. Итак, на третий день пребывания моего в Париже отправились мы на площадь Дофина в ля Ситэ.
Господин Брегет, славный часовщик, член Института, жил в старом и ветхом трехэтажном доме. В первом этаже была его мастерская, во втором — его комнаты. Здесь он принимал достойнейших из покупателей. Мебель, картины, бронза — все говорило о богатстве владельца сего дома. Но самым драгоценным в доме были изделия самого господина Брегета — часы, которые можно было видеть и у нас в России, в пензенской глуши, и в Бостоне, за океаном, и в Лондоне, в руках у первых людей государства. Хозяин дома был еще не стар, вернее — моложав, лысину его прикрывала лиловая шелковая шапочка. Меня он немного знал и принял нас обоих ласково, но с тайной, как мне показалось, тревогой. Застал я у Брегета еще двух парижских негоциантов — мебельщика и винодела; они были весьма опечалены слухами, которые разносили по Парижу неугомонные вестовщики…
Сначала говорили, что Париж будет разорен, что русские и пруссаки сожгут, столицу. Однако сего не было, — рынки и лавки открыты и бойко торгуют своими товарами, рента повысилась на бирже. Друзья господина Брегета, узнав, что я добрый его знакомый, спрашивали меня о намерениях императора Александра, на что я, разумеется, ответил, что мне эти намерения неизвестны. Тут мебельщик стал жаловаться на Наполеона, на его своеволие, на то, что он погубил цвет молодежи французской… Господин Брегет, однако, сказал, что ремесла и торговля при императоре процветали и тем укрепили благосостояние Франции.
— Ничего хорошего, — сказал господин Брегет, — нельзя ждать от возвращения эмигрантов. Они хотят вернуть себе отнятые у них земли и обездолить землепашцев, владеющих этими землями уже более двадцати лет…
Винодел и мебельщик согласились с ним, но опасались, что союзники разорят Париж, ежели народ не примет Людовика XVIII. Говорили о молодчиках с белыми кокардами, ненавистными народу, о том, что офицеры и особенно солдаты хоть и устали от войны и походов, но псе же склонны видеть на престоле малолетнего сына Наполеона, лишь бы не Бурбона. Говорили и о том, что русский император живет во дворце князя Талейрана:
— Князь Талейран умудрен опытом, он человек государства, и мы надеемся на него. Он был всегда благосклонен к нам, хотя сам происходит из древнего рода…
Диме Слепцову наскучили эти разговоры. Он выбрал часы с крышкой, усыпанной жемчугом, с портретом-миниатюрой графини Дюбарри — возлюбленной Людовика XV, и часы с репетицией для отца. Он стал торопить меня, и мы простились…
…Каждое утро, открывая глаза, оглядывая свою комнату, не сразу я понимал, что нахожусь не на бивуаке, не на постое в немецком селении.
Вот, думалось мне тогда, дожил я до двадцати восьми лет и одинок более, чем был в юные годы. Гонимый роком, скитался по чужим странам. В туманах лондонских и под платанами Парижа знал любовь и ревность, знал холодных, бесчувственных красавиц и простодушных красоток театральных кулис. Но странно, — разочарованный в чувствах, я летел мыслью в родные края, и вспоминались мне Васенки, юная девушка и первая наша любовь… Я легко оставил и легко позабыл Катеньку; текли годы, и чем более удалялся я от дней юности, тем милее были воспоминания… Где она? Ни в Пруссии, ни в Париже я ничего не слышал более о полковнике Лярош… Но что я? Предаваться воспоминаниям о прошлом в такие дни? Мы — в Париже! Меня ждут друзья, Дима Слепцов заждался у Тортони. Мы званы к царскосельским гусарам в Нейи. Когда б она была жива, Катенька, то в Париже, среди офицеров Наполеона, могли найтись люди, которые знавали полковника Лярош и могли знать о ней… В «Водевиле» я повстречал мадам Балли. Она еще хороша и встретила меня криком радости. Все оглянулись на нас. Мы возвращались вместе в извозчичьей карете.
Мадемуазель Балли позвала меня к себе обедать: «В среду, — сказала она, — нет, в четверг». Причем улыбнулась обольстительно, прижала мою руку к сердцу, что значило: «Все, как три года назад». Она указала мне особняк поблизости Оперы и похвасталась тем, что этот особняк подарил ей богач, поставщик на армию. По бриллиантам в ушах и перстням на пальцах я еще раньше догадался о счастливой перемене в ее жизни. А три года назад я знал ее юной фигуранткой в опере, и как она тогда радовалась моему скромному подарку — колечку с аквамарином. Я дал ей слово, что буду в четверг, в семь вечера, у нее к обеду.
Счастье мне не было суждено с моей прежней подругой, но стоит вспомнить об этом приключении, чтобы рассказать о неожиданной и весьма забавной встрече, которая у меня была в гнездышке мадемуазель Балли.
Я прибыл в четверг в особняк де Балли (бог весть откуда взялась дворянская частица «де» в фамилии дочери чулочницы). Мне отворила дверь молоденькая миловидная горничная, похожая на мою приятельницу три года назад. Она привела меня в туалетную комнату. Здесь меня встретила мадемуазель де Балли. Она показала мне свои владения от туалетной комнаты, обитой белым атласом, до спальной с огромной постелью, увенчанной голубым балдахином с дворянской короной. Потом мы отправились в столовую, где были приготовлены два прибора. Все доказывало мне богатство ее покровителя, запустившего глубоко в казну свою лапу. Затем начался обед.
— Здесь твое любимое пуи к устрицам и бургундское к дичи, — видишь, я не забыла твои вкусы, мой милый, — щебетала мадемуазель де Балли. — Кстати, знай, меня теперь зовут не Мари, а Аврора, неправда ли, так лучше? — Она болтала, не умолкая, как в те годы, Когда ее спускали на шнурах, увитых гирляндами роз, в виде амура с театрального небосклона на авансцену Большой оперы. Я слушал и пробовал быть милым собеседником, однако от нее не укрылось мое раздумье и то, что мыслями я был далеко от ее гнездышка.
— Милый мой, — сказала она, — я вижу, что прошлого не вернешь. Ты, должно быть, влюблен не на шутку. Ты стал мрачен и задумчив, это к тебе идет, но я предпочитаю прежнего веселого друга. Кто же она?
Я попробовал рассмеяться, но в эту минуту в моих мыслях явилась та, которую я видел такой прекрасной и печальной в Грабнике. «Зачем я здесь? — подумал я, — в этом гнезде, устроенном наглым грабителем, обворовывавшим несчастных солдат ради своей любовницы…»
— Ты спешишь? — надув губки, сказала мадемуазель де Балли. — Или тебе со мной скучно?
От необходимости солгать меня избавил чей-то громкий голос, затем голоса горничной и лакея. Мадемуазель Балли смутилась, потом с гневом воскликнула:
— Я ведь приказала отвечать всем, что меня нет дома!
Но в эту минуту дверь в столовую отворилась, и на пороге предстал… Не поставщик на армию, нет, и не другой какой-либо смелый поклонник мадемуазель де Балли, а сам Александр Иванович Чернышев, un ami intime de l’empazeur Alexandre — «интимный» друг императора Александра, генерал-адъютант Чернышев собственной персоной…
И притом с огромным букетом роз!
Я едва сдержал улыбку, когда увидел его удивленное лицо.
Он был во фраке и, надо сказать, казался куда менее представительным, чем в генерал-адъютантском мундире.
Я тотчас встал.
— Мы, кажется, знакомы, — сказал, немного запинаясь, Чернышев. Мне сразу же представился домик войта в пуще и сам Александр Иванович за туалетом. Мадемуазель де Балли, однако, ничуть не смутилась и тотчас приказала поставить третий прибор.
Александр Иванович, облобызав ее ручки, как ни в чем не бывало продолжал:
— Я, может быть, некстати, но разве вы, прелестная Аврора, не разрешили мне являться к вам без доклада?
— Но сегодня четверг, дорогой генерал, и вы должны быть на дежурстве во дворце.
— Государь уехал к императрице Жозефине, и у меня выдался свободный вечер. Я отправился к тебе, но не предполагал, что встречу соперника, — с недоброй улыбкой сказал Чернышев, и его блестящие, живые глазки скользнули по мне.
— Генерал, к сожалению моему, я принужден сознаться, — начал я скромно, — что не я ваш соперник, а вы разбили мое сердце… Вы — мой счастливый соперник.
— Да! — воскликнула мадемуазель Балли, — помните, мой дорогой генерал, я вам рассказывала о моей первой любви три года назад. Так это он — предмет моей любви. Но, коварный, он только что почти признался мне, что забыл меня и покорен другой…
Хоть я и не признавался ни; в чем мадемуазель Балли, но оценил ее изворотливость. Да и Александр Иванович, видимо, был доволен, что оказался счастливым соперником, и, захохотав, потрепал меня по плечу.
— Ты не сердишься на меня? Ничего, за тобой молодость…
Вскоре я откланялся и покинул особняк мадемуазель де Балли, довольный внезапным появлением интимного друга государя. Несколько дней спустя, в Елисейском дворце, он проследовал мимо меня и на мой поклон ответил таким легким кивком, что его можно было и не заметить. И кто бы подумал, глядя на этого надменного, увешанного крестами и прочими регалиями генерал-адъютанта, что он так недостойно вел себя вне дворца.
В тот же день я видел его на молебствии по случаю тезоименитства императрицы, и постное лицо его и истовые земные поклоны навели меня на мысль, что Александр Иванович большой подлец, ханжа и негодник.
…Видел графа Нессельрода. В прежнее время не раз встречал он меня у Бутягина, секретаря нашего посольства, и на раутах у князя Куракина. Мы, молодые люди при посольстве, знали его привычки: он был склонен к чревоугодию, хвалился, что у него лучший повар в Париже, любил цветы и сам заботился о цветниках в доме, где жил, но более всего любил деньги. Русских не любил и боготворил немцев.
Волконский вручил графу мою записку о помыслах парижан, и мне было приказано явиться к нему после полудня. Еще за дверями я услышал его хриплый голос; он не то что вышел, а выбежал ко мне, держа в руках записку, и, уставившись на меня маленькими, недобрыми глазками, сказал:
— Записка ваша, капитан, написана толково, но не надлежало вам так с ней торопиться. Что вы могли узнать в неделю срока?
Я ответил, что прибыл в Париж в день вступления наших войск, прибыл бы раньше, не моя в том вина, что запоздал. Он поднял на меня дьявольские свои глаза и спросил:
— Помнится, я встречал вас здесь четыре года назад?
Получив ответ, он приблизился ко мне и сказал:
— Мы были сослуживцы, и ежели у вас будет просьба, обращайтесь прямо ко мне. Способности ваши мне известны.
И, кивнув мне, он удалился так скоро и бесшумно, что я даже не услышал его шагов.
Долго я потом размышлял: о каких способностях моих говорил Нессельрод?
В Елисейском дворце увидел я Данилевского. Услыхав о беседе моей с Нессельродом, он сказал, что это хороший знак: мол Нессельрод ищет людей, которые бы служили ему.
Тут Данилевский запер на ключ дверь, достал из стола бумагу, дал мне и сказал:
— Читай…
У меня в руках было письмо дочерей светлейшего князя Кутузова-Смоленского императору Александру. Помню его почти что наизусть:
«…Одни беспрерывные подвиги твои, Государь, помешали тебе обратить взор твой на детей Кутузова-Смоленского! Имение, доставшееся нам, обременено долгами, и тогда только можем мы надеяться иметь хоть малое состояние, ежели всемилостивейший Государь прикажет купить оное в казну».
Ниже чьей-то твердой рукой было выведено: «Оставить без ответа».
— Чья рука? — спросил я.
— Аракчеева, — был ответ.
Я взглянул на Данилевского.
— Вот, — сказал он, — вот какую цену у нас имеет безмерный подвиг опасения отечества! Рука гатчинского капрала начертала: оставить без ответа письмо дочерей спасителя отечества… Не одни близкие фельдмаршалу люди знали о его нужде в деньгах, повседневной нужде. А придворному льстецу-лакею из немцев государь иной раз не пожалеет и сорока тысяч, золотом, не ассигнациями… Далеко ходить не надо — хоть тому же Нессельроду.
В тот день в последний раз я видел горесть и досаду на лице друга моей юности. Время шло, привыкал он к неблагодарности царей, низости царедворцев, и лицо его уже не выражало ни досады, ни гнева.
Что до моей записки, то в руках у Нессельрода она пользы не принесла. Францию не спрашивали, желает ли она видеть на престоле Людовика XVIII. Народ безмолвствовал, дух 1789 года погас в сердцах французов. Кровью погасили пламя свободы, и нечего было бояться восстания народного.
В доме Талейрана решалась судьба Франции. Аристократы ликовали, негоцианты, наподобие друзей господина Брегета, рады были уже тому, что торговле не будет причинен ущерб. Что до жителей предместий Сент-Антуанского и Сен-Марсельского, туда были посланы разъезды австрийских гусар.
Народ ожидал многих бедствий от нашествия тридцати тысяч дворян — воротившихся эмигрантов.
— Они хотят жить в роскоши, ничего не делая, как было двадцать пять лет назад, — говорил мой старый друг доктор Вадон. — Герцог Беррийский, герцог Ангулемский и злая ведьма герцогиня жаждут возмездия. Народ французский не хочет Бурбонов, которых привезли в своем обозе союзники…
Двадцать первого апреля Наполеон прощался в Фонтенебло со своей старой гвардией. Сказывали, солдаты плакали, как малые дети, и даже он, жестокосердный, с влажными глазами сел в карету и покинул дворец. Так завершились бури, потрясавшие Европу столько лет.
…Прошел месяц… Я не переставал дивиться легкомыслию парижан, особенно тому, сколь легко они переносили пребывание иноплеменников в своей столице.
При полном безмолвии народа снимали на блоках статую Наполеона с Вандомской колонны. В карауле был батальон Семеновского полка, впрочем, порядок не был нарушен, хватило бы и взвода семеновцев.
Встретился мне в кофейной Тортони, на Итальянском бульваре, знакомый по прежним парижским дням, мсье Лабиль, журналист. Едва что не бросился мне в объятия, чем, признаться, нимало меня не обрадовал. Вадон рассказывал мне о нем, что накануне 18 брюмера, когда Наполеон провозгласил себя первым консулом, сей Лабиль сочинил два воззвания — одно в пользу Бонапарта, а другое в пользу Директории, буде она возьмет верх. Так и теперь он ликовал по случаю въезда Людовика XVIII в Тюильрийский дворец, позабыв о том, что чуть не пятнадцать лет проливал слезы умиления при виде Наполеона, возвращающегося в Тюильри из походов с победой. Художники французские неустанно рисовали картины, в коих изображали вступление союзных войск в Париж, поэты сочиняли оды во славу императора Александра, обивая пороги Елисейского дворца, а знаменитый Лаис пел своим божественным тенором:
Да здравствует Александр! Да здравствует король королей! Ничего не требующий, Не диктующий нам законов…Не так было у нас в России, когда Наполеон был в Москве, — гнев и скорбь были в сердцах русских, и никто не осмелился прославлять победителя.
Дивился я и тому, что парижские ведомости более писали об Итальянской опере, о танцовщице Бриготине и теноре Манвиель, о двойном убийстве на улице Брей, чем о судьбе Франции.
— Есть люди, — говорил мне Вадон, — которым к лицу шутовская роль…
И показал мне глупость, написанную в одном листке: «Прославленный Веллингтон, главнокомандующий английских войск, сказал, что революции невозможны там, где король хорошо ездит верхом. Посему предлагаю избрать королем нашим знаменитого берейтора Франкони».
— Вот для чего дана свобода мыслей господину Лабиль, — сказал Вадон, — все же сейчас журналы имеют более свободы, чем при Наполеоне. Но для чего господам Лабиль сия свобода?
Из любопытства я много гулял по бульварам и видел, как сумрачно глядел простой народ на торжественный въезд короля.
Король, в мундире национальной гвардии, со звездой, ехал в открытом экипаже. Рядом сидела тощая, как скелет, дама со злой улыбкой на длинном желтом лице — герцогиня Ангулемская, дочь казненного короля Людовика XVI. Впереди королевского экипажа — жандармы и два взвода кавалеристов бывшей наполеоновской гвардии. Шествие открывали двадцать четыре девицы высшего света в белых одеяниях с распущенными волосами, точно двадцать четыре привидения. Когда же вслед за коляской короля увидели свиту — наполеоновских маршалов и генералов, — раздались крики: «Да здравствует императорская гвардия!»
Маршалы угрюмо отвечали: «Да здравствует Франция!» «Да здравствует король!» — вопили одни переодетые полицейские, да щеголи из кофейных и игорных домов Пале-Рояля, да зеваки уличные, которым нет числа.
Много говорили о том, что, покидая берега Англии, Людовик XVIII сказал, будто своим возвращением на трон предков он обязан божественному промыслу, советам принца-регента и неколебимому постоянству британцев. По моему разумению, он более всего обязан храбрости наших войск и крови, пролитой ими в битвах с Наполеоном. И как это обернулась на пользу Бурбонам дьявольская хитрость Талейрана!
…Нынче утром под окнами моими послышался звон копыт и голоса. Причиной шума был прусский ротмистр-улан, которому полюбился дом Бюрдена. Напрасно мой домохозяин говорил, что у него на постое русский офицер. Улан грубо оттолкнул старика и ворвался в дом, напугав до смерти Денизу и Жанну. Пришлось мне опуститься вниз и, назвав себя, сказать, что сей дом занят мной и что офицеру придется поискать себе другого пристанища. Ворча, он удалился, однако на улице денщики его стали ломиться в калитку сада. Но там их быстро угомонил Федя Волгин. Я было снова сел за бюро, как вдруг послышался смех, и зычный голос Димы Слепцова оторвал меня от моих занятий.
Он жил в гостинице «Эспань» на улице Ришелье и, узнав у Данилевского, где я обитаю, явился ко мне, с тем чтобы я снова был его Виргилием в парижском аду. Тотчас же он поднял превеликий шум, игру на клавикордах; послав за вином и сластями, принялся угощать дочек Бюрдена — Денизу и Жанну. Вздохнув, я отложил бумаги и отдался на волю моего неугомонного друга.
В прежние годы не раз я был его спутником, проводил ночи у цыган, а то и за картежным столом. Дважды был его секундантом на дуэлях, много раз привозил его, бесчувственного, домой. Он бывал буен во хмелю, денег никогда не считал ни своих, ни чужих, но сколь ни безрасчетно, безрассудно жил он — все же ни разу не унизился душой, не изменил товариществу и дружбе.
Среди пороков, в кругу повес, игроков сохранил он ясный ум, добродушие, любознательность к наукам и любовь к поэзии… Не терпел он гатчинцев-аракчеевцев, не терпел штабных шаркунов и тем был любезен мне и всем честным людям.
Назвав меня своим Виргилием, сей Дант осушил с утра три бутылки шампанского, пустился танцевать с Денизой, потом вздумал меряться силой с Федей Волгиным и, умаявшись, повлек меня на прогулку.
В Париже одевались, мы в статское платье; сия мера была весьма разумной: наполеоновские офицеры бродили по улицам, искали с нами ссоры, и в первые дни было много дуэлей. А нам в статском было свободно бродить среди народа и избегать пытливых взоров тайной военной полиции нашей.
Отправились мы на Елисейские Поля. Чудную картину представляли эти знакомые мне места прогулок парижской знати.
Под деревьями были разбиты шалаши; сухие ветви, солома держались на казацких пиках. Казацкий бивуак в Париже! Сено, бочки, ведра, коновязи… Бородатый казак чистит коня скребницей; другой, на радость парижанам, показывает, как слушается его конь, ложится и встает по его слову, ходит за ним, как собачка; третий забавляется с полковой дворняжкой… Господа парижане во фраках, дамы в белых платьях, в честь Бурбонов, окружают казацкий бивуак.
Как сейчас вижу я эти давно минувшие дни и вспоминаю стихи соратника-стихотворца Батюшкова:
Вы помните: кипел бульвар Народа праздными толпами. Когда по нем летал с нагайкою казак Иль северный амур с колчаном и стрелами…Башкиры порядком дивили парижан своими луками и стрелами; даже сам Вальтер Скотт, прославленный английский сочинитель, посетивший в те дни Париж, отдал им дань в своих путевых картинках, правда, как курьезу.
Мне, отставному артиллеристу, понравилось суждение сего надменного англичанина об артиллерии нашей, которую он называл отличнейшей и совершенной… Видел он артиллерию нашу на параде, когда более двух часов перед союзными полководцами шли наши храбрые полки через площадь Людовика XV.
Герцог Веллингтон, прибывший в Париж после всех, на вопрос государя, что ему понравилось в Париже, ответил:
— Русские гренадеры.
После стольких кровавых сражений, после кампании 1812 года и пятнадцати месяцев заграничного похода явилась в Париже наша армия во всей грозной мощи своей, удивляя и радуя друзей и устрашая сердца врагов. Многие тысячи парижан глядели с любопытством на наших воинов. Но не было видно в этой толпе офицеров войска Наполеона; они сидели в кофейных домах, хмуро поглядывая на чужеземцев в статском платье, угадывая в них победителей.
В кофейном доме Манури, у Нового моста, за длинными орехового дерева столами, на скамьях с мягкими подушками сидели доморощенные политики, читали «Journal de Débats», слушали болтуна-вестовщика, рассказывавшего последние сплетни о герцогине Ангулемской, о новом устройстве национальной гвардии, о новой привязанности мадемуазель Жорж. Занятие этих господ — в один день побывать в кофейных у Прокопа, у Тортони, у Манури, переносить сплетни и докладывать начальнику тайной полиции, что о сих сплетнях думают господа парижане.
Было время, когда здесь говорили о казни Людовика XVI, о войне в Вандее, о битве при Вальми. Сам Дантон здесь громовым голосом своим оглушал собеседников, прежде чем умолкнуть навеки. Было и такое время, когда здесь толковали о вступлении великой армии в Москву, о последнем бюллетене главной квартиры Наполеона. А теперь повторяют слова Талейрана: «Республика — невозможность, Бернадотт — интрига, одни Бурбоны — принцип…»
Итак, через двадцать пять лет Бурбоны сызнова «принцип»!
У Нового моста, который так зовется, несмотря на свою древность, стоял прусский военный караул с двумя пушками, заряженными картечью. Фитили дымились в руках у пушкарей. Излишняя предосторожность.
«Французы устали воевать», — сказал каретник в Сент-Антуанском предместье и отвернулся, чтобы не видеть австрийских гусар, поивших коней из уличного фонтана.
Уже явились с острова своего англичане. Поистине, вся Европа была в те дни на постое в столице Франции — пруссаки, вестфальцы, баварцы, вюртембержцы, шведы, поляки, австрийцы, англичане и мы — русские.
В прежние времена любил я смотреть с моста Художеств на прекрасную панораму Парижа. Отсюда виден Луврский дворец, Монетный двор и остров Ла Ситэ. В годы революции убрали конную статую короля Генриха IV; теперь поговаривали о том, что статую вернут на прежнее место. Мост Художеств соединяет Пале-Рояль и шоссе д’Антен с Сен-Жерменским предместьем. При переходе через мост взимают небольшую пошлину, и потому здесь можно встретить избранное общество, кареты с лакеями в ливреях на запятках, богатых бездельников, разглядывающих в лорнет плывущие по реке барки с углем, плоты из бревен.
Я привел Диму Слепцова в музей Лувра. Не торопясь, мы прошли по залам, где ученики школы живописи срисовывали творения Рафаэля, Тинторетто, Тициана. Понравилась моему другу девушка, искусно срисовывающая головы младенца и Мадонны Веронеза. Мы заговорили с ней.
— Произведения искусства, которые вы видите, — сказала она, — взяты были Наполеоном в Италии как военная добыча. Говорят, их снова отдадут герцогу Моденскому, и они снова станут недоступными для глаз простых смертных.
По залам музея бродили англичане, офицеры шотландских войск в своих клетчатых юбках, высокомерные офицеры королевской конной гвардии в красных мундирах; попадались и наши — военные лекари, артиллеристы.
Мы ушли из Лувра, когда настал час завтрака. Дима Слепцов тотчас повел меня в ресторан «Роше де Канкаль», где он успел побывать один и заплатил за обед 150 франков. Я осмелился сказать, что можно было пообедать и подешевле, что жалованье штаб-офицеру положено 24 тысячи франков в год, мы же с ним не штаб-, а обер-офицеры.
— А не станет денег — будем обедать в гингете за франк, — сказал мой беззаботный Дима и тотчас заказал три бутылки шампанского, рассуждая, что хорошее вино веселит сердце человека, о чем говорили еще и римляне.
Заказал рейнского карпа, женевскую лососину, вестфальскую ветчину, суп из черепахи. Из французской кухни отдал он честь только руанской утке, вин твердо держался французских, однако разума не терял и был отменным собеседником. С любопытством слушал я его рассказы о том, как один достойный его друг склонял его стать масоном и уже все было готово, чтобы посвятить его в «рыцари храма».
— Спрашиваю: в чем обязанности рыцаря храма, а он в ответ: «Бодрствуй, когда хочется спать, утомляй себя, когда хочешь отдыхать, не ешь, когда голоден, не пей, когда мучит жажда…» Я сказал, что все правила рыцарей храма по мне, и ежели последнее имеет касательство только к воде, а вино дозволено пить, то я и это правило приемлю. Мой друг счел эти слова за обиду, на том и кончилось.
Обед наш приходил к концу. Все, кто находился в «Роше де Канкаль», глядели на Диму Слепцова. Выпив в пять раз более меня, он потребовал еще бутылку коньяку вместо кофе, осушил ее и после сего, твердо держась на ногах, покинул ресторан, провожаемый рукоплесканиями посетителей…
Здесь мы расстались. Дима Слепцов в извозчичьем экипаже отправился в гостиницу на улице Ришелье, я же после такого завтрака решил навестить Тюильрийский сад.
В прежнее время я любил, заплатив два су за стул, сидеть под платанами сада и глядеть на игравших детей. Дети играли в войну, и, глядя на их сабли, барабаны, пушечки, я думал о том, что еще долго эти малютки не будут знать иных игр и иных игрушек. Вот плоды военного воспитания эпохи бонапартовой…
Взгляд мой остановился на Тюильрийском дворце; невольно подумал я обо всех тех, кто обитал в его стенах за четверть века: Людовик XVI, Комитет общественного спасения, Директория, Наполеон Бонапарт, а ныне Людовик XVIII. Какая участь ждет короля, призванного на трон против воли народа?..
Вдруг заиграла музыка, весь праздный, гуляющий в саду люд побежал на трубный звук, и я увидел на деревянном помосте музыкантов Семеновского полка. Французы с удовольствием слушали нашу полковую музыку…
Думал ли год назад Наполеон, что русские музыканты лейб-гвардии Семеновского полка будут играть против окон Тюильрийского дворца?.. И, вспомнив дерзкую надменность французов, тамбур-мажоров великой армии, шествовавших по улицам сожженной ими Москвы, порадовался я за наших гвардейских музыкантов, игравших наши славные походные марши в Тюильри. Слава русскому оружию, не только изгнавшему неприятеля из России, но и освободившему Европу от власти железного скипетра Наполеона! Жаль только, ежели победа сия не даст облегчения народам Европы. Жаль, ежели победа сия поведет к тому, что дух вольности угаснет от ледяного дыхания ее заклятых врагов…
Пока я размышлял, силясь проникнуть за завесу будущего, рядом уселся человек в зеленом сюртуке военного покроя, в светло-серых, обтягивающих ноги панталонах, в сапогах с желтыми отворотами. Усевшись в кресло и заплативши два су, он сумрачно уставился в землю. С первого взгляда я угадал в нем ветерана наполеоновской армии. Долго он сидел неподвижно, похлопывая тростью по сапогу, но вдруг лицо его оживилось. Мимо проходил солдат-инвалид, собиравший милостыню… Пустой рукав был приколот к груди изношенного мундира. Незнакомец сделал знак солдату, и тот приблизился.
— Какого полка?
— Двадцать четвертого гренадерского, герцога Невшательского, линейного…
— Где потерял руку?
— В сражении под Ауэрштэдтом.
Отставной офицер пошарил в кармане и горько усмехнулся. Должно быть, у него не было ничего, кроме двух су, заплаченных за стул. Тогда он снял с руки золотой перстень и положил в руку инвалида.
— Иди, старина… — сказал он и строго повторил: — Иди.
Пожалуй, таким людям ничего не осталось делать во Франции. Разве только ждать новой войны.
Подумал я и о себе. Что ожидает меня? Порадовался тому, что служба моя в Париже дает мне много свободы. Хорошо и то, что я вижу чужие земли не с казачьего седла или этапного маршрута, но и это для меня не радость… Когда я увижу родные земли? — думал я. Не так уж долго осталось ждать!..
Однако не то ожидало меня…
Поиски истины, душевные тревоги, разочарования ожидали меня в Париже, прежде чем на долгие годы я покинул столицу Франции.
Одна встреча запечатлелась в моей памяти, мне как бы блеснул свет в ночи. Пусть это была не путеводная звезда, но все же мне осветилась тропа, которая впоследствии привела меня к истинной цели всей моей жизни — служению человечеству и свободе.
…Однажды, воротившись домой, я застал письмо, запечатанное масонским знаком. В том письме человек, знакомый мне по моим московским досугам, назначал мне встречу в масонской ложе Великого Востока близ церкви сан Филипп дю Руль. Давно я не бывал в подобных собраниях, хотя Данилевский, член ложи и даже ритор, звал меня, расхваливая устройство Парижской ложи и приятное препровождение времени. Там, по словам Данилевского, можно было повидать важных особ — генералов и наших придворных. Завсегдатаем в ложе был генерал Михаил Федорович Орлов, известный по участию в переговорах о капитуляции Парижа, князь Сергей Волконский, кавалергард Лунин и другие достойные люди. Однако я не склонен был посетить ложу, если бы не письмо Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова, «бешеного Мамонова», как окрестили его в Москве. Встреча эта обещала не пустую беседу, а нечто важное «из чего может произойти общая польза», — писал мне Мамонов.
Взойдя в просторный вестибюль, я назвал имя Мамонова, и тотчас был введен в большой круглый зал, стены которого были расписаны наподобие сада. Потолок представлял полушарие, обитое синим бархатом, на бархате блестели стеклянные звезды, образуя Большую Медведицу и прочие созвездия северного полушария. На возвышении стояло высокое, золоченое кресло для мастера ложи, над высокой спинкой был подвешен стеклянный шар-солнце, от него расходились золотые лучи. Перед креслом стоял стол, на трех углах его горели три высокие восковые свечи. В середине стола лежали евангелие и меч ложи Великого Востока с золотой рукояткой, в голубых бархатных ножнах. На полу был разостлан ковер с вытканными на нем клейнодами масонского ритуала.
У меня было время разглядеть все это убранство, и, хотя Петербургская ложа была убрана в том же духе, Парижская мне показалась убранной с большей роскошью. В зале находились не знакомые мне молодые и пожилые люди; со свойственной французам живостью они громко беседовали, посмеивались, переходили с места на место. Были и наши русские, приметил я Демидова и одного знакомого мне флигель-адъютанта. Пока я разглядывал их, кто-то положил мне руку на локоть, и, обернувшись, я увидел Мамонова и не сразу узнал — так возмужал он и вместе с тем осунулся. Волосы его были, как всегда, в беспорядке, светлые, на выкате глаза горели лихорадочным блеском, лицо чуть припухлое, желтое, язвительная усмешка — все говорило о страстях и глубоких, мучительных думах. Он выглядел старше своих двадцати пяти лет. Отец его, фаворит Екатерины, был красавец собой, Мамонов не унаследовал красоты отца, но унаследовал его огромные богатства. В двенадцатом году он на свои средства поставил конный казачий полк, который прозвали Мамоновским. Полк прославился более вольными нравами, чем ратными подвигами, однако сам Мамонов отличался храбростью и заслужил золотую шпагу за храбрость.
Я было приподнялся, думая, что нам следует тут же удалиться, но Матвей Александрович мне шепнул:
— Погоди, послушаем, что скажет сей толстячок…
И он показал на ритора, который, трижды стукнув молоточком, заговорил в обычном масонском духе, призывая братьев-масонов обогащать себя нравственными добродетелями, возвышающими душу и сердце, а ум — познанием наук, ибо это есть необходимое средство для того, чтобы помочь человечеству соорудить Соломонов храм.
— Пойдем, — сказал Мамонов, — найдем укромное местечко для беседы.
Укромное местечко мы отыскали в нижней галерее, в нише. Усевшись, Мамонов торопливо, по своей привычке, сказал мне, что Михаил Федорович Орлов сегодня сопровождает государя в Сен-Жермен и потому его сегодня нет в ложе, но что он сам назвал мое имя для сокровенной беседы.
— Вы состояли в великой ложе Астреи «избранного Михаила» и, как мне стало известно, отпали от нее. Окажите мне доверие, скажите, отчего вы вышли из ложи.
Я ответил, что мне, при зрелом размышлении, стали чужды ритуал и суесловие масонов, что я не видел в среде братьев-масонов тех добродетелей, о которых говорится в масонских заповедях, и не думаю, что это учение облагодетельствует человечество.
— Вы сказали то, о чем думаем мы уже не первый год. Господа, которых мы видели здесь, сошлись для того, чтобы выслушать рассуждения о нравственности, о добродетелях, приятно поужинать, потом будут петь застольные игривые куплетцы, потом отправятся к Тортони или Флориану и будут сыпать каламбурами за рюмкой ликера. Нет, не то и я мыслю себе, не такое единение избранных людей. Люди, желающие добра человечеству, должны одинаково мыслить, участвовать в политике государства, а не рассуждать о возрождении Соломонова храма. Нам не нужны собрания людей, заменяющих иконостасы и паникадила клейнодами масонства и священнослужителей — риторами. Нужен орден — содружество людей, сражающихся со злом мерами политическими, мерами, вынужденными обстоятельствами. Тиранство, деспотизм можно уничтожить только силой оружия и единением людей, одинаково мыслящих. В политике меры, вынужденные обстоятельствами, есть единственно верные. Уставу сего ордена должно повиноваться под страхом смерти.
Глаза Мамонова горели, губы дрожали, он говорил страстно, с фанатическим пылом.
— Я составил присягу для членов будущего ордена, который решено назвать Орденом русских рыцарей…
Он протянул вперед руку:
— Присягаю поражать Тарквиниев, Неронов, Домицианов, Каллигул и Гелиогобалов! Присягаю чтить и лобызать кинжал, коим поразится похититель прав, чести и свободы отечества!
Он умолк и потом заговорил уже спокойнее, рассудительнее:
— Не одно только уничтожение тиранов будет предметом наших действий. Михаил Орлов сейчас размышляет над созидательными мерами, над реформами, которые сделают нашу отчизну самой могущественной на земле. Когда устав наш будет обдуман до конца, соберем избранных и примем присягу как незыблемый закон нашего ордена.
Из залы до нас донесся стук перстней о стол, троекратный знак одобрения, затем пение. Там шло обычное веселье, которым завершались собрания Великого Востока.
Презрительная усмешка появилась на лице Мамонова:
— Эти господа, особенно французы, достойны презрения. Пировать, когда неприятель занял столицу твоего государства, когда Франции навязывают хитрую и алчную каналью Бурбона… Я счел поход на Париж ради тирана прусского и австрийской пиявки недостойным для себя и вышел в отставку. Впрочем, это развяжет мне руки, я смогу отдать себя общему делу.
Внезапно он встал и крепко сжал мою руку.
Так кончилось наше свидание в Париже.
Помню, вернувшись из ложи Великого Востока, я дал себе слово не посещать подобных собраний. Разыскал передник и эмблемы масонские и приказал Волгину бросить в Сену. Взгляд мой упал на кольцо, подаренное мне в дни суассонского плена Пекарским. Я долго глядел на корону, пронзенную кинжалом, и девиз: — «Если пронзишь, то найдешь». Поразило меня сходство с присягой, сочиненной Матвеем Мамоновым. Русские и поляки мыслят одинаково.
Кольцо я сохранил, как память о друге-единоплеменнике, подобно мне ищущем путеводной звезды во имя вольности и счастья человеческого…»
На этом кончается первая тетрадь «собственноручных записок Можайского».
Как видит читатель, записки эти были написаны через сорок с немногим лет после того, как «Европа ночевала в Париже».
На полях тетради были пометки, которые говорили о том, что, перечитывая свои записи, Можайский делал некоторые добавления.
33
Среди всех бурных событий парижской весны 1814 года Можайский не забывал о судьбе Феди Волгина.
Как только из Англии пришла первая почта и первый курьер отправился в Лондон, Можайский написал пространное письмо Семену Романовичу Воронцову. Он писал Воронцову о верности долгу, смелости, сметке Федора Волгина, о том, что он, Можайский, обязан ему жизнью, напомнил, что Семен Романович обещал Федору вольную. В ожидании ответа из Лондона Волгин продолжал жить у Можайского, в доме на улице Вожирар. Он стал своим человеком у Бюрдена, дочери Дениза и Жанна называли его уважительно «мсье Теодор» и не чаяли в нем души, особенно после того, как он вытолкал в шею прусского фельдфебеля, ломившегося в садовую калитку.
Странствуя по Франции вместе с Можайским, Волгин видел войну во всей ее жестокости, видел разоренные селения, невозделанные поля, изломанные колесами лозы виноградников. Он видел, как прусские гренадеры ломали и жгли на кострах золоченые рамы картин и драгоценную мебель. Как человек, знающий ремесло, Волгин умел ценить работу искусных мастеров и жалел гибнущие в огне редкостные вещи, взятые пруссаками из замка в Монморанси. Можайский говорил, что этого следовало ожидать после прокламаций Блюхера.
— Однако в чем провинились дивные картины, гобелены, бронза и мебель? Чем виноваты землепашцы и виноградари, в поте лица собирающие плоды своего труда? Мы же не мстим народу сему за развалины нашей Москвы…
Тяжко было видеть, как срывали злобу на невинных людях прусские военачальники, мстившие за долгое свое унижение.
Даже французам казалось удивительным доброе отношение к ним русских солдат; крестьяне приглашали к столу русских солдат, сажали их на почетное место. Усатые преображенцы, стоявшие на постое в деревне, приглядывали за ребятишками, в то время как их отцы и матери работали в поле. Вспоминая деревенское житье-бытье, старослужилые солдаты с радостью помогали крестьянам в полевых работах. Покуривая легкий французский табачок, с тоской вспоминая батуринскую махорку, солдат разводил очаг. Тут же хлопотала хозяйка-хохотушка, а дети играли кивером и солдатской амуницией. Не так было в деревнях, где стояли пруссаки, австрийцы и особенно баварцы, которых подстрекали к насилиям их жестокие начальники, — недаром французы просили дать им на постой десять русских вместо одного офицера прусских или баварских войск.
Великодушие русских солдат, вежливость, доброжелательность удивляли их офицеров и генералов — из тех, кто привык смотреть на солдата как на тупое, покорное, немыслящее существо.
После первых дней отдыха для солдат настали прежние тяжелые дни. Опять началась шагистика, муштра, экзерциции, учения. Со вздохом сожаления солдаты вспоминали походную жизнь. И офицерам было нелегко. Военному коменданту Парижа Остен-Сакену приказали подтянуть офицерский корпус. Наступил великий пост; на все семь недель поста офицерам было запрещено посещать театры. Потянулись дни, которые живо напомнили многим Петербург, Михайловский экзерциргауз. То объявлялось в приказе, что его императорское величество «повелеть соизволили, чтобы господа полковые адъютанты имели при себе секундомеры, дабы музыканты играли при тихом марше не более 75 и не менее 72 шагов в минуту, а при скором не более 110 и не менее 107 шагов; наблюдение сего будет оставаться на обязанности полковых адъютантов»; то император приказывал арестовать «за дурной парад» трех заслуженных боевых командиров полков, да еще сажал на английскую гауптвахту «за то, что полки дурно прошли».
Алексей Петрович Ермолов вступился было за полковых командиров и просил хотя бы не арестовывать их на гауптвахте, занятой караулом иностранных войск, но это лишь вызвало неудовольствие Александра. Алексею Петровичу была показана собственноручная записка Волконского, который писал: «Отчего по сие время не посланы на гауптвахту полковые командиры; кончится, я думаю, тем, что меня самого пошлют, ибо государь непрестанно спрашивает о них…»
Из уст в уста передавались смелые слова Ермолова: «Государь властен посадить в крепость, сослать в Сибирь, но не должен ронять армию русскую в глазах чужеземцев. Гренадеры пришли сюда не для парадов, но для спасения отечества и Европы».
«Все солдаты должны ходить с грацией, с глазами, обращенными вправо. На ходу туловище держать прямо, колена вытянуты; ногу должны подымать все разом и разом же опускать ее на землю, носок держать вниз с выворотом кнаружи». Так было сказано в прусском уставе — евангелии гатчинцев. Такими способами прусский устав предлагал сделать «из подлого и неловкого мужика» солдата.
Александр старался найти единомышленника экзерцирмейстерства в Веллингтоне, но старый солдат, как отрезал:
— Техническая часть учений и эволюции — в этом я плохой знаток, это дело моих подчиненных.
Так вновь началось «акробатство с носками и коленками», которого не терпел Кутузов и от которого гибли под палками храбрые русские солдаты. «Экзерцирмейстерство снова захватывало все», — писал об этом времени даже такой ревностный служака, как Паскевич, будущий преемник Ермолова на посту наместника Кавказа.
Можайский был доволен уже тем, что рана избавляла его от обязанностей экзерцирмейстера. Он исполнял свои обязанности для «производства исследований» по важнейшим и секретным делам.
…Александр искал уединения, он тосковал о «верном друге» Аракчееве.
Он нашел себе собеседника — неумного, упрямого, но отличавшегося от других тем, что не нуждался в милостях Александра. То был герцог Веллингтон, он же барон Дуэро, виконт Талавера, князь Сиудад Родриго, князь Виттория. В минуты откровенности Александр говорил ему: «Меня окружают эгоисты, они пренебрегают добром и интересами государства, они хотят только почестей…» Но и эти минутные разочарования в своих приближенных были игрой, он любил разыгрывать роль разочарованного повелителя и однажды сказал мадам де Сталь о русских крестьянах: «Мои бородачи лучше нас».
Редко приходилось ему гулять по дорожкам дворцового сада, кормить лебедей в пруду. Он представлял великую, могущественную страну, его порывались видеть, к нему стремились, ему писали жалостные письма. Это нравилось Александру. Иные письма читал он сам, иногда даже отвечал на них, — это были письма известных в Париже женщин, к тому же молодых и красивых. Другие письма он отдавал в канцелярию, и в обязанности Можайского входило отвечать художникам, жаждущим запечатлеть лик русского царя, благодарить от лица императора поэтов, посвящавших ему оды, отвечать изобретателям, предлагающим русской армии «пули, наверняка попадающие в цель». Количество важных бумаг, которые должны быть доложены императору, было так велико, что Александр иногда бросал их на пол и, топая ногами, кричал:
— Все брошу и уеду в Россию!
2 апреля 1814 года в Елисейском дворце увидели необычных посетителей.
В мундирах польского войска, украшенных знаками Почетного легиона, в большом зале дворца ожидали выхода Александра штаб-офицеры — поляки, сражавшиеся на стороне Наполеона.
Первыми оправа стояли генерал Сокольницкий и полковник Шимановский. Александр, с приветливой улыбкой, протянул руку генералу и некоторым заслуженным офицерам. Они не ожидали такого ласкового приема, смутило их только присутствие великого князя Константина Павловича. Он стоял, как деревянный, сдвинув мохнатые брови, и угрюмо глядел в пол.
Александр обнадежил поляков:
— Армия польская сохраняется и возвращается в Польшу. Командовать польской армией будет мой брат…
На поляков точно повеяло холодом. Они слышали о сумасбродстве и неукротимом характере Константина, он не мог ужиться ни с Суворовым, ни с Кутузовым, даже податливый Барклай удалил его из Витебска под благовидным предлогом, а Растопчин не задумался удалить его из Москвы.
Генерал Сокольницкий и офицеры в тяжелом раздумье покинули дворец, они предвидели немалые беды от этого назначения.
9 апреля того же года Тадеуш Костюшко писал Александру и просил дать всеобщую амнистию полякам, даровать свободную конституцию, учредить в Польше народную школу для крестьян, где воспитанники содержались бы на счет правительства, и уничтожить крепостное право с наделением крестьян землей. Крепостное право Костюшко полагал уничтожить не сразу, а в течение десяти лет.
В ту парижскую весну Александр был уверен, что польские дела устроятся в лучшем виде, и 3 мая 1814 года он ответил Тадеушу Костюшко:
«…я надеюсь осуществить возрождение храброй и почтенной нации, к которой вы принадлежите… Как я буду удовлетворен, генерал, если увижу в вас моего помощника в этих спасительных трудах. Ваше имя, ваш характер, ваши способности будут мне лучшей опорой».
Но помощником в «возрождении» польской нации оказался Константин Павлович.
В день 2 апреля Можайский был на дежурстве в Елисейском дворце. Он видел возвращавшихся после приема во дворце польских офицеров. Стефана Пекарского не было среди них, да Можайский и не ожидал видеть его здесь, на приеме у Александра. Стефан Пекарский, видимо, искал других путей, чтобы служить своей отчизне.
…Александра Павловича интересовало все, что о его особе писали иностранные газеты и журналы; Можайскому было приказано составлять для царя выписки. Не только политические статьи интересовали Александра, но и, казалось, маловажные сведения, например — как описывали парижские журналисты внешность и прическу царя. Его очень раздосадовала статейка в одном английском журнале, в которой было написано, что у царя редкие белокурые волосы, иными словами — лысина. Лысина у Александра была ранняя, так же как у брата его Константина. Братья стали лысеть еще в молодые годы, при отце Павле Петровиче, когда военные смазывали салом и обильно пудрили волосы.
Другая газета писала о царе, что он, рисуясь перед подчиненными своим бесстрашием, любил появляться в опасных местах на поле битвы только для того, чтобы его просили удалиться.
Можайскому не нравилась такая служба, он с охотой бы ушел к Ермолову, но его по-прежнему мучили головные боли — последствие раны. Волгин призывал к нему доктора Вадона, но тот не столько лечил его лекарствами, сколько беседами о делах политических.
Федя Волгин был свободен чуть ли не весь день и целыми часами бродил по городу.
Париж того времени, особенно в центральной части, выглядел совсем иначе, чем в наши времена, после того как Гаусман проложил через центр широкие улицы.
В те времена центр Парижа был лабиринтом узеньких, извилистых улиц и закоулков. Местами улицы походили на ущелья; верхние этажи выдавались над нижними, от дома к дому тянулись веревки, на которых сушилось белье. Великолепные новые здания чередовались со старинными, невзрачными, покосившимися домами, помнившими времена Генриха IV. Грязь никогда не просыхала на улицах, по утрам здесь пастух гнал своих коз, тут же доил и продавал козье молоко хозяйкам.
Тысячи лавчонок гнездились в этих улицах, и что это были за лавчонки — стул, жаровня с углями, кусок коричневой парусины или огромный зонт вместо крыши! Тут торговали телячьими легкими, рыбой, овощами, чернилами, крысиным ядом и устрицами, кремнями для огнива и для ружей. Здесь ютились штопальщицы, уличные портные, чистильщики обуви, которым было много работы, особенно после дождя. О парижских мостовых хорошо было сказано в народной поговорке: «Париж — рай для женщин, чистилище для мужчин и ад для лошадей».
К вечеру на улицах появлялась армия фонарщиков с лестницами за плечами; масляные фонари с рефлекторами бросали тусклый свет на праздную, гуляющую публику, теснившуюся у гостеприимно раскрытых дверей кабачков. Тут же расхаживали, зорко вглядываясь в посетителей, дюжие полицейские.
В годы революции, когда народ поднимался на аристократов, здесь с легкостью сооружались неприступные баррикады. Их невозможно было ни взять штурмом, ни разгромить орудийным огнем. Пушкари находились под обстрелом из окон домов, с кровель; узкие, кривые улицы не позволяли поставить орудия на приличную дистанцию от баррикады.
В две недели Волгин узнал Париж; он бродил по бульварам, заходил в ярмарочные балаганы, где за один франк показывали ученую собаку Минуто, калейдоскоп-гигант, цирк блох и прочие редкости. Народ не впал в уныние от того, что в Париже стояло иностранное войско. О короле говорили с презрением, но и Наполеона бранили, считая, однако, что из двух зол Наполеон был меньшим.
На главном рынке Волгин повстречал одноногого инвалида Кузьму Марченкова. Он попал в плен к французам под Аустерлицом, остался во Франции, женился и жил в деревне, верстах в восьми от Парижа. Марченков пребойко болтал по-французски и помогал своим русским землякам, солдатам, казакам, которые толкались на рынке среди телег, фургонов, лошадей, мулов и ослов.
Толстенная баба-торговка в белоснежном чепце, в шести юбках, надетых одна поверх другой, и в деревянных башмаках торговала кровяной колбасой и на пальцах показывала красавцу-казаку, сколько ему полагается платить; бородатый ратник, с крестом на ополченской шапке, приценивался к огромной живой рыбине, дивясь тому, что французы едят улиток. Лейб-гусар, покручивая ус, переглядывался с глазастой смуглянкой в пестром платочке, кокетливо наброшенном на плечи.
Тут же на казенных весах взвешивали длинные, в два аршина, хлебы; шотландский солдат в клетчатой юбке бранился с прусским гренадером, не поделив с ним кварты вина. Солдаты разных наций, дворецкие богатых домов, повара и поварята, служанки, лакеи, полицейские сыщики — все кипело, спорило, бранилось на всех языках. Кабриолет опрокинул корзину с яйцами, и здоровенная торговка вцепилась в загривок кучеру под громовой хохот толпы, а франт, восседающий в кабриолете, напрасно взывал к воинскому караулу, который никак не мог пробиться сквозь толпу па помощь.
Проголодавшись, Федя Волгин заходил в харчевни, где за грош можно получить угря, похожего на копченую змею, где кормят из тарелок, прикованных медными цепями к столу, и поят кислым, как уксус, винцом. Приходилось бывать ему под праздник и в предместье Сент-Антуанском, где на лугу плясали тысячи девушек и парней под музыку трех скрипок. Сыграв танец, музыканты обходили с шапкой танцующих, а потом вновь принимались играть.
В одно воскресенье денщик Слепцова Кокин, Федор Волгин и одноногий Кузьма Марченков отправились на луг, на гулянье.
Было уже под вечер, солнце садилось, в облаке пыли плясали и распевали песни девушки и парни. В сторонке, на траве, под платанами сидели пожилые люди, парами и целыми семьями, закусывали и попивали кисленькое, легкое вино. Вокруг шныряли бродячие торговцы — продавали сласти, козий сыр, вино, землянику. Федор Волгин, Кокин и Кузьма Марченков нашли себе место под деревом. Рядом расположилось целое семейство: мамаша с дочками, отец-блузник, краснолицый, с седыми кудрями, сын — парень лет восемнадцати. Семейство потеснилось и дало место трем русским. Марченков бойко завязал разговор с двумя красивыми черноволосыми вострушками-девицами. Узнав, что все трое — русские, отец семейства полюбопытствовал, отчего только один Кокин в солдатской форме. Марченков ответил, что он сам — инвалид, а Волгин — рабочий человек, едет в Лондон, а работает в Бирмингаме.
Седовласый блузник поглядел на руки Волгина и сказал, что по рукам можно узнать кузнеца, а он сам — краснодеревщик, мебельщик, работает в мастерской, что по дороге к Версалю.
— Спрашивает, — обратился Марченков к Волгину, — отчего работаешь на чужбине, а не у себя на родине.
— Скажи ему, что я человек крепостной, пошлет меня мой барин, граф, на родину — буду работать там, однако должен я воротиться к нему в Лондон. А там уж его воля.
Француз пожал плечами и быстро-быстро заговорил, так быстро, что Марченков даже попросил его говорить реже.
— Спрашивает, — переводил Марченков, — как это так граф тебе может указывать, где тебе работать. Вот он работает по красному дереву у мосье Пэти, так ежели он с мосье Пэти не поладит, то уйдет от него к другому хозяину. Спрашивает — разве ты от своего графа уйти не можешь?
— Не может он наших порядков понимать, — вмешался Кокин, — ты его лучше спроси, он сам из каких, из крестьян или городской, из мещан, из вольных…
Марченков тотчас залопотал и получил ответ:
— Он сам из города Парижа и отец его, и дед — все цеховые с давних лет, а супруга его из крестьянства.
— Тогда спроси его, когда выходила за него, выкупил он ее у барина и много ли тот взял.
Тут ответил сам Марченков.
— Крепостных у них в законе нет лет пятнадцать. Супруга его была привезена в Париж как дворовая девушка, из господского поместья.
— Это что же королевская такая воля была? — полюбопытствовал Кокин.
Марченков поговорил с французом, закивал головой и тотчас перевел:
— У них тут народ поднялся на господ, многих жизни лишили, другие убегли. Крестьянство землю отобрало. Потом Бонапарт пришел, стал заместо короля, однако земля за крестьянами осталась.
— Ты спроси его, — сказал Волгин, — какая у него жизнь, много ли работы, хватает ли хлеба, дочери замужние или девицы, где он живет — при хозяине или как?
Марченков старательно переводил быструю горячую речь француза: живет в старом сыром домишке, на берегу реки Сены, домохозяину платит чуть не половину заработка, когда работы хватает, живут ничего. Дочери его — кружевницы, одна вдова — мужа убили в Испании, есть детки — трое, другая на выданьи — вот посватайся, — неожиданно посмеялся Марченков.
— Начальство не обижает? — поинтересовался Волгин.
Тут начался длинный разговор. Краснодеревщик рассказал, что тринадцать лет назад была им дана большая воля, и тогда дворянство их очень боялось. Дворянам головы рубили прямо на площади. А потом пришел Бонапарт, и отобрали у работников пики и сабли, из пушек по ним палили и конями топтали, многих побили, а многих услали на далекие острова и на галеры. Теперь начальство что хочет, то и делает. А хозяева требуют работать чуть не шестнадцать часов в сутки.
Тут пожилой француз вздохнул, взъерошил седые волосы, постучал пальцем по бутыли, разлил вино по кружкам, все выпили. Кокин (которому Слепцов подарил с выигрыша золотой), позвал торговку, накупил сластей девице и вдовушке, бутыль вина, и начался пир горой. У Волгина, которого вино, да еще легонькое, кислое, никак не брало, чуть зашумело в голове, Кокин присел к младшей дочке краснодеревщика, которую звали Жанеттой, и до того рассмешил ее, перевирая французские слова, что она расцеловала его в обе щеки. Марченков солидно толковал с мадамой — женой краснодеревщика, пока глава семьи во весь голос пел песни. Все чуть-чуть захмелели и благодушествовали, потому что уже осушили две большущие бутыли, как вдруг случилось такое, отчего у всех хмель вылетел из головы.
Шагах в десяти от них поднялся шум, крики, женский плач, все вскочили, сразу народ вокруг загудел и задвигался. Волгин был головой выше других и увидел, что в сгрудившейся толпе началась драка. Но кто и с кем дерется, это он понял не сразу.
Вдруг Марченков закричал: «Вестфальцы буянят! Идолы проклятые! Не дают народу под праздник гулять!» И тут Волгин ясно увидел, что десятка два вестфальцев, пьяные, в расстегнутых мундирах, разбивают сапогами бутылки, топчут снедь, гонят и бьют народ. Люди вокруг зубами скрежещут, а жмутся, боятся вестфальцев тронуть: они — победители. И злость взяла Волгина, кровь ударила в голову: «Вот проклятые! Чистые Мамаи! Над простым людом тешатся!»
И случилось то, чего сразу никто не понял.
Детина богатырского роста растолкал народ и один кинулся на вестфальцев. «Они от него летят, как чурки, а он их лупит, чешет, трое уже на земле валяются и охают, а он не унимается. Народ кругом радуется, хохочет, в ладоши бьет. Я сразу и не признал, что это наш Федя, совсем другое лицо стало, злой, как чёрт, красный, глазищи горят, так он их и молотит, так и молотит…» — рассказывал потом Кокин Слепцову, к полному удовольствию последнего. «Так мол и надо, они с Бонапартом Москву жгли и грабили».
Но этот подвиг Волгина мог обернуться худо, потому что к месту «мамаева побоища» уже спешил патруль Семеновского полка, и тут же Волгина с Кожиным взяли под караул. Когда их уводили, французы чуть не плакали, объясняли прапорщику, как было дело, рассказывали, что вестфальцы буянили, обижали народ, а русский заступился. Но прапорщик велел солдатам взять ружья на руку, и повели рабов божьих Федора Волгина и Кокина через весь луг на гауптвахту.
Но, должно быть, солдатский бог ворожил Кокину, иначе не избежать бы им обоим жестокого наказания (Марченков в суете успел затеряться в толпе). Вели Волгина и Кокина мимо бульваров, вели долго, тем временем разъезд был из театра, и конвоиры остановились. Вдруг два каких-то барина поглядели на Кокина и один говорит другому по-русски: «Да это как будто Димы Слепцова денщик. Кокин, ты?» Подходят они к прапорщику и спрашивают его: «Что случилось? За что взяли под караул этих людей?» Прапорщик оказался знакомый, а господа эти были знаменитые кутилы, приятели Слепцова — братья Зарины. Отошли они в сторону с прапорщиком, поговорили по-французски. Прапорщик только рукой махнул: «Проваливайте мол, черти, ваше счастье, что за вас вступились. Другой раз вам спуску не будет».
После этой истории Волгин вернулся поздно, рассказал все, как было, Можайскому. Тот, как всегда, весь в своих мыслях, промолчал, только утром, вспомнив, сказал:
— Хорошо, если не дойдет до государя. Он не простит, что русские вестфальцев побили.
Но, видимо, вестфальцы об этой истории не заикались: уж очень неловко было, что один русский их всех проучил. Так все и забылось. Но Волгина ожидала другая беда, и от нее его не могли уберечь ни Можайский, ни его приятели. Случилось это нежданно и негаданно.
В воскресенье Волгин отпросился съездить в Версаль. В Версале стоял лейб-гвардии егерский полк, там служили земляки Феди Волгина.
— Что тебе за охота ходить в гости к егерям? — удивился Можайский. — У них только и разговоров, что про шаг по кадансу, да артельные деньги…
— Вот и не так, — серьезно ответил Волгин. — Между солдатами есть люди весьма умные, знающие грамоту. Есть из духовного звания, семинаристы, сданные в солдаты, из дворовых попадаются толковые люди. Иные даже газеты читают…
«Как мало знаем мы наш народ», — в который раз подумал Можайский и отпустил Волгина. Волгина тянуло в Версаль еще и потому, что в Версале по воскресеньям били фонтаны, горели фейерверки. Земляк-инвалид Кузьма Марченков говорил, что нет краше на свете версальских фонтанов и потешных огней. На площади Людовика XIV, которая когда-то называлась площадью Революции, Волгин сел в безрессорный экипаж, запряженный одной лошадью; такие экипажи назывались «куку», Волгин взобрался на верхотурье — империал. «Куку» покатил по правому берегу Сены.
С высоты империала Волгин видел обгонявших его всадников на отличных лошадях, нарядные кабриолеты, придворные золоченые восьмистекольные кареты, — все это стремилось в Версаль.
Дорога оказалась неблизкой, к тому же «куку» медленно подвигался среди подобных же неприхотливых экипажей. Уже под вечер тряский и скрипучий экипаж, наконец, остановился у ограды почетного двора Версальского дворца.
Волгин подумал, что в казармы егерского полка он попадет лишь после вечерней зори. Однако до фейерверка оставалось много времени, и он пошел бродить по широким улицам-аллеям, мимо тихих особняков с закрытыми наглухо решетчатыми ставнями. Так он дошел до казарм, где в давние годы стояла швейцарская наемная гвардия, и остановился, увидев на плацу всадников и две придворные кареты.
На зеленом лугу, по кругу, на длинном поводу бежала кровная вороная лошадь. Человек в голубой, шитой золотом куртке и длинных оленьих панталонах легко взлетал ей на спину и, описав половину круга, спрыгивал на землю. Затем вновь нагонял лошадь и проделывал то же с такой легкостью, точно он не бегал по земле, а летал по воздуху. Господа, сидевшие в каретах, и всадники, окружавшие кареты, били в ладоши.
Человек в голубой куртке был знаменитый наездник Франкони, удивлявший искусством вольтижировки весь Париж, всадники — офицеры кирасирского имени цесаревича Константина полка.
Наглядевшись на это зрелище, Волгин решил повернуть к королевскому дворцу, — итти к землякам было уже поздно. Он остановился у ограды казарм; там собралась парижская голытьба, ожидавшая остатков от солдатского ужина; такой установился обычай в Париже — кормить из полковых котлов бедняков. Обойдя ограду, Волгин шел к Версальскому дворцу, и тут с ним приключилась история, которой он никак не мог ожидать. Трое всадников в кирасирских колетах и касках выехали из ворот казармы. Один из них, курносый, белокурый, с перекошенным, злым лицом, вдруг придержал коня, оглядел с головы до ног рослую богатырскую фигуру Волгина и что-то сказал. Волгин снял шапку и пошел своей дорогой. Однако рядом с ним послышался конский топот, и молодой офицерик, по видимости адъютант, окликнул Волгина:
— Эй, постой!.. Ты чей человек?
— Капитана Можайского, ваше высокоблагородие…
— Какого полка?
— Штаба его величества…
— Ступай…
И адъютант поскакал в сторону.
В тот вечер как-то особенно легко было на душе у Феди Волгина. Служба у Можайского не тяготила его. Можайский был одинок, кроме Слепцова, ни с кем не дружил. Иногда вечером Можайский сажал против себя Волгина, расспрашивал его о житье на родине, потом в Лондоне и втайне удивлялся тому, сколько чуткости и великодушия было у крепостного, удивлялся веселому лукавству его ума, беззаветной любви к родине, которую сохранил на чужбине русский человек. Между тем судьба его зависит от Воронцова, от ответа из Лондона на письмо Можайского…
Вечер выдался теплый и ясный — ни облачка. Розово-синее, цвета сирени, небо светилось ровным лучезарным светом. С террасы дворца открывалась широкая аллея; две зеленые стены уходили далеко во мглу и завершились вековыми высокими тополями, тремя террасами сбегал вниз парк. Спускаясь по ступеням, Волгин подошел к фонтану Нептуна. Вокруг слышался смех, говорили на чужом языке, но шаги тысячи людей и голоса заглушал рокот водометов, поднимавших в высоту тяжелые, как бы хрустальные, струи; заходящее солнце зажигало их золотым сиянием, струи падали вниз, рассыпаясь миллионами брызг.
Когда стемнело, версальские фонтаны еще долго мерцали в вечерней мгле, и вдруг с оглушительным треском взлетели вверх три огненных шара, осветив тысячную толпу вокруг, фонтаны и мраморные статуи, белеющие в темно-зеленой чаще парка.
Начался фейерверк. Припомнилась Феде Волгину сказка про жар-птицу, и показалось, будто сказочная жар-птица золотым сиянием своих перьев озарила ночь.
…А через два дня пришла беда.
Можайский вернулся из штаба и позвал к себе Волгина.
— Сидел бы ты дома, Федор, — хмуро сказал он. — Как это тебя угораздило попасться ему на глаза?
— Кому, Александр Платонович?
— Великому князю Константину Павловичу. Он приказал передать, что будет доволен, если капитан Можайский отдаст своего человека в кирасирский полк… Ростом и по всем статьям, видишь ли, ты подходишь… Я доложил его высочеству, что ты человек Семена Романовича Воронцова и ожидаешь оказии, чтобы воротиться к нему.
— Что ж теперь будет, Александр Платонович? — упавшим голосом спросил Волгин.
— А будет то, что великий князь обратится к Семену Романовичу, — отказать в просьбе государю-наследнику невозможно…
Можайский лег на софу и задумался. Отдать человека под красную шапку, на двадцать пять лет, да еще в кирасирский полк… Командир полка — известный во всей армии мучитель, тиран гатчинский! Вот от чего иногда зависит судьба человеческая.
Он взглянул на внезапно осунувшееся лицо Феди Волгина, на его потухший взгляд. Было у этого человека свое достоинство; он заслужил уважение и храбростью и умом, ему Можайский был обязан жизнью. Не вынесет он обид и палочных порядков, пропадет, и ничем ему не поможешь…
— Федя, — дрогнувшим голосом сказал Можайский, — что ежели ты…
Он не договорил, но Федор понял, что он хотел сказать. И тут явился перед ним образ Кузьмы Марченкова, человека без родины, оставшегося навеки на чужбине…
— Александр Платонович… Птица, тварь неразумная, и то своих полей и лесов держится. А я — человек… Могу ли навеки забыть свое отечество, места, где я родился и рос…
«Вот оно, чувство высокое, вот сердце истинного патриота в этом крепостном человеке… А сколько есть дворян и знатных, которые легко променяли свое отечество на чужие края…», — думал Можайский.
С тяжелым чувством Волгин ушел от Можайского. Он вышел в сад и сел на каменную скамью. Богатырь телом, он чувствовал свое бессилие перед обрушившейся на него бедой.
Только в действующей армии он увидел солдатскую жизнь, она показалась ему мукой, — не поход, не сраженья, а учения. Люди охотнее шли на вражеские штыки, чем на плац, где изощрялись фрунтовые «профессоры». Правда, были полки, где командир и офицеры вывели палки и розги, вывели телесные наказания, но Волгин знал, что кирасирский имени Константина полк — не из их числа.
От какой ничтожной случайности зависела жизнь человека! Для чего он поехал в Версаль, для чего попался на глаза Константину? Не будь этой поездки в Версаль — дождался бы он обещанной вольной… Отчаяние овладело им. Хоть топись в реке!.. Он вспомнил, как на прогулке с Можайским они зашли из любопытства в «смертную палату» — морг, как называли это мрачное место французы. Там были выставлены смертные останки тех, кто нашел насильственную смерть на парижских улицах. За стеклами, на каменных плитах лежали мертвые тела удавленников, утопленников, висели их одежды, чтобы легче было узнать, кто они… Может быть, и ему лучше лежать там, на каменной плите, чем умереть под палками?.. И вдруг ярость охватила его, такая ярость, что даже крохотная Дениза, его любимица, с которой он любил играть, не рассеяла его отчаяния.
За что народ терпит такие муки от дворянства и помещиков?
Маленькой Денизе не нравилось, что ее приятель сегодня не так приветлив, как всегда, она трепала его за вихор и капризно лепетала:
— Мсье Теодор… Мсье Теодор…
«Здесь всякий человек «мсье» — и мужик, и торговец, и полковник, все «мсье», и жена мужика «мадам», и генеральша «мадам»…», — думал Волгин.
Вот Слепцов, Дмитрий Петрович, душевный барин, и тот вчера бранился, что ему в кофейне лакей-француз нагрубил. А рукам воли дать не посмел. А что бы он с Кокиным сделал? Прибил в сердцах, а потом дал бы рубль и отпустил гулять.
Он осторожно спустил с колен Денизу и прошел в комнату Можайского.
Можайский уехал со Слепцовым. На столе лежал пакет, а на нем рукой Можайского было написано:
«Его сиятельству графу Михаилу Семеновичу Воронцову в собственные руки».
34
Можайский и Слепцов уехали на скачки на Марсово Поле. Здесь, на плацу военной школы, скакали французские и английские кровные лошади.
Поле это было знакомо Можайскому по рассказам доктора Вадона. В дни революции жители Парижа за восемь дней воздвигли здесь огромный амфитеатр. В годовщину взятия Бастилии, 14 июля 1790 года, народ праздновал на этом поле праздник Федерации.
Князь Талейран, тогда еще епископ Оттенский, в епископском облачении служил молебен у алтаря… И, глядя на вереницы карет, на два разукрашенных павильона для иностранных гостей, Можайский невольно подумал о том, что двадцать четыре года назад на этом месте раздавались клики свободы и песня марсельских волонтеров, за которую теперь платятся тюрьмой и ссылкой.
Но Дима Слепцов об этом не думал; он досадовал на то, что скачки были не так уж нарядны, что лошади оседланы по-разному — одна по-гусарски, на другой был чепрак из алого бархата, у третьей для чего-то бант на хвосте и седло английское… Соскучившись, Слепцов увлек Можайского на другой берег реки. Они проскакали через великолепный Иенский мост; его и теперь продолжали так называть, назло пруссакам, потерпевшим страшный разгром у Иены.
В пятом часу дня они были уже на Итальянском бульваре в кафе Тортони. Окна кафе открыли настежь, и парижские мальчуганы — гамены — забавляли русских офицеров куплетами, в которых они вышучивали то Людовика XVIII, то Наполеона.
Вечер приятели провели в маленьком театрике на бульваре Тампль, где пьесы разыгрывались на сцене и в самом зале и артисты вовлекали в свою игру публику. Они рукоплескали знаменитому комику Жокрису, разыгрывавшему не очень пристойный фарс. Можайский давно собирался домой, но никак не мог совладать со Слепцовым, и этот неугомонный увлек его в кафе Фраскати, а там вдруг решил попробовать счастья в игорных домах Пале-Рояля.
Сначала они заглянули в игорный дом под номером сто девять. В «зале иностранцев» играли в «крепс». В танцевальном зале ночные девицы плясали с игроками, которым уже нечего было терять. Слепцову этот игорный дом показался скучным, и они перешли по соседству в дом номер сто тринадцать, где не было ни буфета, ни музыки. Можайский с любопытством глядел на завсегдатаев, иные пропадали здесь круглые сутки и, проигравшись дочиста, дремали на вытертых плюшевых диванах. Завистливыми глазами они глядели на счастливых игроков, которым удалось сорвать банк. Дюжие полицейские похаживали из одного зала в другой, пристально поглядывая на завсегдатаев игорного дома. Можайский подумал, что для многих игроков прямой путь отсюда — в тюрьму, а то и на эшафот. Здесь были и простолюдины; иной держал в руках горсть медяков — все, что осталось у него от недельного заработка. Тут же дородный откупщик раскладывал столбиками свое золото, столбики таяли, и пот струями бежал по лицу проигравшегося, дрожащими пальцами пересчитывавшего золотые монеты.
Дима Слепцов играл то счастливо, то несчастливо. Проиграл все, что было у него и у Можайского, но потом, заложив оценщику купленные у Брегета часы, отыграл весь проигрыш. Он затеял ссору с каким-то полупьяным англичанином. Поединка не произошло потому, что противники потеряли в толпе друг друга.
Возвращались они на рассвете в наемном фиакре. На улице Ришелье их обогнала карета; четыре жандарма с обнаженными саблями конвоировали ее. Это увозили из игорных домов казну — чистую прибыль государственного управления, ведающего игорными домами. Золото откупщика и медь труженика покоились в кожаных мешках, принадлежавших единственному банкомету Парижа, который никогда не знал проигрыша.
— Чем хорош Париж, — говорил Слепцов: — ходишь в статском платье, и никто не знает, кто ты — флигель-адъютант или приказчик из модной лавки…
— Ну, друг мой, на то есть тайная полиция; здесь пропасть «мушаров», всюду «мушары» — и в университете, и в театрах, и в игорных домах… Что посеяно при Наполеоне, то осталось. За русский золотой рады служить и пруссакам, и нам, и австрийцам… — зевая, ответил Можайский.
— Однако это не Петербург, где ложишься под барабан и встаешь под барабан… Полюбил я ходить в сады. Руджиери, Фоли-Божон, сад Принцев… Фейерверки, разноцветные фонарики, музыка… — сквозь дремоту бормотал Слепцов.
— Ну что в них хорошего, в садах, — одни англичане да эмигранты… По мне, лучше ходить туда, где простонародье, — там веселее. Были мы с Федором в загородном трактире ла Куртиль. Ремесленники, субретки, парикмахеры, — играют четыре музыканта, а тысяча людей пляшет…
— Беспечный народ, хоть в несчастье, а веселится…
Так, в этих разговорах, они доехали до дома, где жил Можайский, улеглись как попало и проснулись от стука в дверь.
Федя Волгин принес письмо. Письмо было от Михаила Семеновича Воронцова, ответ на письмо Можайского, посланное вчера.
Генерал журил Можайского за то, что тот не дал о себе знать раньше: «…Вы были моим приятнейшим собеседником в Лондоне и заслужили добрые чувства моего отца. Я хочу вас видеть в среду, в моей ложе, в Большой опере».
35
Перед театром в два ряда стояли придворные кареты. Скороходы в широкополых шляпах с черными и белыми страусовыми перьями освещали факелами дорогу. В трепетном отсвете факелов сверкало шитье мундиров, алмазы звезд и орденов; всеми цветами радуги отливали шелка бальных платьев. Широкая красная полоса ковра растянулась от середины площади до ступеней вестибюля; тут же справа стояли бочки, пожарные насосы, лестницы. Пожарные в их медных шлемах казались, средневековыми рыцарями.
Все это зрелище было знакомым для Можайского, посещавшего оперу в дни, когда звезда Наполеона была в зените. Он с трудом пересек бульвар, — национальные гвардейцы едва сдерживали толпы бесчисленных зевак. Слышались окрики кучеров. Золотая восьмистекольная карета, провожаемая эскортом гусар, обогнала Можайского. За стеклом кареты колыхалось чье-то тучное тело с лентой и звездой. Можайский приметил желтое, одутловатое лицо с крючковатым носом — это был король Людовик XVIII. Можайскому загородили дорогу еще две придворные кареты с лакеями в пудреных париках, но казачий офицер на поджаром донском иноходце, стоявший, как монумент, у въезда на площадь, остановил кареты и пропустил вперед наемный фиакр Можайского.
В театре держали караул солдаты Семеновского полка. Дежурный офицер указал Можайскому ложу Воронцова; адъютант Михаила Семеновича с поклоном открыл ему дверь, и Можайский вошел в ложу, немного смущаясь, ожидая там встретить незнакомых ему людей.
В ложе сидели трое в военных мундирах, четвертый был во фраке. Один из них крепко обнял Можайского, другой поднялся ему навстречу. Можайский узнал братьев Тургеневых — Николая и Сергея. Оба учились в Геттингене, с Сергеем Можайский дружил в то время; старшего, Николая Ивановича, Можайский знал по одной запомнившейся ему встрече.
Однажды они встретились на почтовой станции по пути из Аахена в Кельн. Была гроза. Весь вечер они провели в долгой беседе. Разговор шел о родине, о России. Глядя на карту России, которую Можайский возил с собой, Николай Иванович с глубоким волнением говорил:
— Необъемлемое пространство… Как управлять им? Как сделать свободными многие миллионы земледельцев-рабов?
Они долго беседовали, а когда гроза прошла, расстались, пообещав друг другу встретиться. Один ехал в Париж, другой — в Варшаву и Петербург.
Двадцативосьмилетнего Николая Тургенева считали достойным занять место Сперанского. Была в нем серьезность не по возрасту, строгость и властность, впрочем, не обидная для окружающих. Многие считали, что достоинства его, знания и ум дают ему право быть таким.
Теперь он сразу узнал Можайского, и суровое лицо его осветилось приветливой улыбкой.
Совсем иным был его брат Сергей; в характере его и в образе жизни было много схожего с Димой Слепцовым.
Вслед за Можайским вошло еще трое, двое из них тоже чуть не бросились обнимать Можайского, хотя дело было в ложе, на виду у всего зала. Это были постоянные спутники Воронцова — Дунаев и Казначеев. После долгой разлуки оба показались Можайскому милыми, особенно добряк Казначеев. О нем шутили, что он вошел в историю, после того как в день Бородина писал на барабане под диктовку Кутузова донесение Александру о сражении.
— Раевский, — назвал себя третий.
Артиллериста Владимира Федосеевича Раевского Можайский тоже немного знал. Он не был ни в родстве, ни в свойстве с прославленным генералом, своим однофамильцем, однако имел золотую шпагу за Бородинский бой. О нем говорили, как о молодом человеке необузданного нрава, но умном и просвещенном, хотя ему в ту пору было едва двадцать лет. Дунаев, Казначеев, Дмитрий Нарышкин, барон Франк, Сергей Тургенев… Увидев их всех, Можайский подумал, что он так и не уходил из дивизии Михаила Воронцова, а между тем сколько воды утекло…
Самого Воронцова еще не было в ложе, — он был в фойе с корпусными и дивизионными командирами, ожидавшими императора Александра.
Заговорили о Наполеоне, и странно было, что говорили о нем так, точно он уже умер, — между тем только недавно Наполеон был у ворот Парижа, в Фонтенебло. Все здесь напоминало о нем — вензеля с императорской короной над аванложей, мундиры маршалов и генералов, изменивших ему и не сводивших глаз с ложи, где должен был появиться император Александр.
От гарусных эполет простого солдата иные из них дошли до маршальского жезла и теперь, утратив своего благодетеля, в трепете ожидали новых хозяев.
Как полагалось, в театре, где должен присутствовать император, русские офицеры стояли, обратив лицо к императорской ложе. Николай Иванович Тургенев сидел в глубине ложи, прикрывшись занавесью, и глядел сквозь щелочку в зал, где уже зажигались свечи у пюпитров музыкантов. Хрустальная, в тысячу огней, люстра слепила глаза, но первое, что он увидел, были два солдата Павловского полка в высоких медных шапках. Они стояли на сцене, по сторонам занавеса. Многое означало присутствие двух русских гвардейцев-часовых в зале Парижской оперы.
Они стояли, осененные славой кровопролитной битвы у кладбища Прейсиш-Эйлау. В тот памятный день Павловский гренадерский полк построился в три шеренги. Первая шеренга дала залп в упор французам, потом стала на одно колено, упирая ружья в землю и стеной штыков встречая атаку французов. Средняя и задняя шеренги отразили атаку французской кавалерии… Честь и хвала Павловскому полку и за битву под Пултуском! Эти молодцы защищали батарею у предместья города и выдержали картечь и сильнейший ружейный огонь неприятеля. Медные шапки павловцев сохранили пробоины, полученные в этом жарком бою, — знаки огненного крещения доблестного полка.
Павловцы стояли на сцене по сторонам занавеса. Но в ложах мало кто задумывался над этим символом русской славы.
Дородный старик, известный богач и парижский старожил Николай Никитич Демидов, сидевший в соседней ложе, ответил на поклон Можайского, разумеется, не узнав его, и продолжал шумно, точно у себя дома, рассуждать о музыке; он помнил придворные спектакли в Версале и со вздохом вспоминал Люлли и Рамо…
Это был сын Никиты Акинфиевича Демидова, известного своим крутым нравом и жестокостью к заводским рабочим — крепостным крестьянам. Николай Никитич имел при своих уральских заводах до двенадцати тысяч душ. Следуя примеру отца, учредившего медаль «За успехи в механике», он отправлял своих крепостных изучать горнозаводское дело в Швецию и Австрию; следуя примеру отца, он был ценителем искусств и особенно музыки.
Можайский внимательно глядел на него, и невольно вспоминались ему страшные рассказы об его отце, слышанные от Феди Волгина.
— Музыка не имеет иного назначения, кроме того, чтобы быть красивой, — сказал Нарышкин, и Демидов ласково улыбнулся ему.
Услыхав эти слова, Тургенев-старший повернул голову к Можайскому.
— Музыка — это разум, воплощенный в прекрасных звуках, — тихо проговорил он. — Я отдам все, что создали Люлли и Рамо, за хорал Баха, за сонату Бетховена… Тут я во всем схожусь с Андреем Кирилловичем Разумовским, покровителем этого несчастливого гения…
— Бетховен? — повторил Демидов, повернувшись к Тургеневу.
— Это венский композитор… Пока его знают только немногие ценители. Музыка его напоминает Моцарта, но глубже и серьезнее.
— Я слышал это имя от Лунина, кавалергарда, — вмешался Нарышкин. — Он в восхищении…
— Разумеется, его не поймут любители комической оперы и легкой музыки, — продолжал Тургенев, — какая глубина, какое богатство замысла, и, думаю, он ближе всего нам, людям севера.
Можайский промолчал, он немного понимал в музыке; кроме того, он глядел в зал. Зрелище, которое представлялось его взору, было привлекательным и поучительным. Весь партер сверкал бриллиантовой россыпью звезд, невиданной пестротой мундиров всех наций и всех служб. Порой казалось, что партер был сценой. Выпрямившись, обратившись лицом к императорской ложе, стояли русские, увешанные боевыми наградами; англичане сидели, развалясь в креслах; пруссаки и австрийцы еще не занимали своих мест: они ждали, пока в ложе появятся король прусский и император Франц. И весь театр глядел на русских.
Страна, которую почитали дикой, варварской, называли бессильным колоссом, поразила Европу своей мощью, горячим чувством патриотизма, непреклонностью воли, свергнувшей тиранию Наполеона, привлекала внимание первых умов Европы. Одни любопытствовали, другие трепетали, третьи ненавидели…
Николай Иванович Тургенев называл Можайскому знаменитых людей, которые уже появились в зале. Некоторых из них Можайский знал в лицо. Знал Поццо ди Борго — будущего русского посла в Париже, корсиканца, родившегося в один день с Наполеоном, обучавшегося вместе с ним в военном училище в Бриенне и ненавидевшего Наполеона еще и потому, что между его родом и родом Бонапарта была кровь.
Граф Каподистрия выделялся среди блеска мундиров своим черным фраком. Бледное лицо его, казалось, было одного цвета с белоснежным кружевным жабо и муслиновым галстуком. Рядом с ним появилась маленькая фигурка Нессельроде; они поклонились друг другу — один с подчеркнутой учтивостью, другой — Каподистрия — холодно, почти презрительно.
— Не странно ли, — тихо сказал Тургенев, — не странно ли, что только знание языка помогло Нессельроду занять пост статс-секретаря русского императора. Александр предпочел немца, но Россия предпочла бы русского…
Смелость его суждений могла бы удивить Можайского, если бы он забыл ночную беседу на пути из Аахена в Кельн. Но вдруг все находившиеся в ложе, даже разглядывавшие дам Сергей Тургенев и Нарышкин, обратили взгляды в первый ряд. По проходу, сильно хромая, почти падая при каждом шаге, опираясь на позолоченный костыль, шел человек в алом с золотом мундире, с лентой Андрея Первозванного через плечо. Но не тонкие, крепко сжатые губы, не глаза, в которых светилась проницательность, холодная презрительность, и при этом некоторая женственность во всем облике привлекали общее любопытство к этому старому человеку, а его хитрость, ловкость и бесчестность, его долгая, преступная, безнравственная жизнь.
Шёпот прошел по театральному залу. Русские дивились наглости «письмоводителя тирана», вдохновителя многих жестоких и тиранических поступков Наполеона. В день торжественного спектакля в Большой опере он осмелился украсить свою грудь лентой и орденом Андрея Первозванного. Он точно напоминал всем, что имеет право именно в этот день украсить себя лентой, — разве русский император не жил первые двенадцать дней в Париже в его доме, на улице Флорантин?
Он был здесь по праву. Разве не он посадил на трон Бурбона? Он привык всю жизнь интриговать на тысячу ладов, лгать, изворачиваться, убеждать, заклинать, клясться, он сумел заставить забыть свое епископство, потом дружбу с Дантоном, потом спекуляции в Америке, наконец, службу Наполеону, у которого он был лучшим из министров и великим камергером двора (хотя именно его Наполеон грозил повесить на решетке площади Карусель)… В те времена люди не знали всех тайников его низменной, продажной души. Знали только то, что когда понадобился француз, который бы назвал ничтожнейшим сенаторам имя будущего короля Франции, имя всеми презираемого Людовика Бурбона, — этим французом оказался все тот же князь Шарль Морис Талейран-Перигор.
И теперь, когда в Тюильрийском дворце поселился трусливый, но в то же время своенравный, надменный Людовик XVIII, мстительный, глупый граф Артуа и вся свора Бурбонов, Талейрану уже не было нужды удерживать у себя в доме могущественного гостя — императора Александра, прятаться за широкой спиной русских кавалергардов. Теперь вся банда ликующих аристократов признавала заслуги этого хитроумного оборотня.
Можайскому вспомнились слова Ермолова о «чернильной войне», сказанные Алексеем Петровичем на бивуаке близ Рейхенбаха.
У него на глазах меркла слава героев Отечественной войны и заграничного похода. Немало их было в этом зале, здесь были освободители Европы — Барклай, Ермолов, Дохтуров, Раевский. Были здесь и пруссаки Блюхер и Гнейзенау, австриец Шварценберг, победитель при Виттории Веллингтон. Наконец, здесь были маршалы Наполеона: увенчанный славой герой — маршал Ней, изменник Мармон, Бернадотт — наследник престола шведских королей, — но не о них шептались господа и дамы, переполнившие зал Большой оперы… Они не сводили глаз с Меттерниха в зеленом бархатном фраке, с орденом Золотого Руна, как змея охватывающим его длинную шею; смотрели на бледное и пухлое лицо Талейрана, на Каподистрию, на Поццо ди Борго, на карлика Нессельроде, почти теряющегося рядом с богатырской фигурой Ермолова. Даже Матвей Иванович Платов в своем казацком атаманском кафтане, стриженный в скобку, даже невозмутимый Платов, вызывавший страх и любопытство парижан, остался в тени рядом с господами дипломатами…
Дверь ложи открылась, и вошел Михаил Семенович Воронцов.
Более десяти месяцев не видел его Можайский и удивился перемене. Живость взгляда, приветливая улыбка исчезли; глаза смотрели холодно и бесстрастно. Он улыбнулся мгновенной, рассеянной улыбкой, встретившись взглядом с Можайским, первый поздоровался с Николаем Ивановичем Тургеневым, кивнул всем остальным и повернулся лицом к ложе императора.
Оркестр заиграл песнь о Генрихе IV, она заменяла в ту пору королевский гимн.
По залу снова прошел шёпот: Александр, прусский король, австрийский император в одно время появились в ложе. И тотчас музыка заиграла увертюру и притушили свет.
В тот вечер давали «Le seigneur du village» — оперу, не примечательную ни музыкой, ни увлекательным либретто. Это был так называемый grand spectacle — большой спектакль, с ослепительными декорациями, пышно разодетым хором и большим балетом. Никого не удивляло, что внутри бедной крестьянской хижины на сцене помещалось чуть не триста человек, что на пастушке были надеты бриллианты и жемчуга богаче, чем на герцогине, что тенор, объясняясь в чувствах пастушке, пел, обращаясь лицом к императорской ложе. К тому надо добавить, что тенор Теодор Манвиель был Федор Памфилов, русский человек из певчих придворной капеллы, вывезенный в Париж из Петербурга и сделавший неслыханную карьеру.
С первых тактов увертюры Можайский перестал глядеть на сцену, — он глядел в зал, где когда-то бушевали страсти, где сторонники Глюка спорили со сторонниками забытого Пуччини. Сейчас здесь было чинно и скучно, и музыка убаюкивала благозвучием и нестерпимой сладостностью…
Но вдруг что-то случилось. Зал дрогнул, все повскакали с мест, хор и оркестр умолкли, солисты и балет столпились на авансцене. Все обратилось к одной ложе.
Всю эту суматоху произвел певец, пропев слова:
Quand Alexandre entra a Babylon…[10]И хотя слова оперной арии относились к Александру Македонскому, они прозвучали для всей публики как хвала русскому императору… Двойственное чувство овладело Можайским: смешно было видеть французов, которые сравнивали свой Париж с развращенным Вавилоном, а победителя Наполеона — с Александром Македонским. Однако то был триумф русской армии, освободившей Европу от тирании, то было признание могущества народа, который разгромил самонадеянных завоевателей, вторгшихся в его отечество.
Эти мгновения были отрадой для Александра.
Замкнутый, всегда умевший скрывать свои чувства, двоедушный и коварный властолюбец чувствовал, что он стоит лицом к лицу со всей Европой, собравшейся в этом великолепном зале, и Европа склонилась перед ним, королем королей, как его называли парижские газеты. Россия была вершительницей судеб в эти дни, и он был главой владык освобожденной Европы. Глаза Александра сияли счастьем. Слегка склонившись, он стоял перед простирающими к нему руки, славящими его людьми и, конечно, не думал о русских воинах, которые освободили Европу. Он, только он один достоин славы! Вечный лицедей в жизни испытывал нечто вроде чувства актера, сыгравшего первую роль и венчаемого лаврами перед лицом всего мира.
Его считали слабым и безвольным себялюбцем, но разве не он поднял дух прусского короля и австрийского императора после Дрездена? Австрийцы и пруссаки хотели остановиться на Рейне, они боялись новой революционной войны, повторения 1790 года, они хотели оставить Наполеону Францию в пределах 1792 года. Даже англичане, страшась усиления России, готовы были оставить Наполеона на троне, — только он, Александр, осмелился требовать войны до конца и дождался свержения Наполеона.
«Восстание Европы» — так называли эту войну. Но разве без него восстала бы Европа?..
Ни на мгновение он не подумал о том, что славы и триумфа достойна Россия и народ. Не подумал он о том, что русский полководец, тот, кто нанес смертельную рану врагу, покоился в Казанском соборе, в Петербурге. Не с кем ему делить славу победителя Наполеона, никто не будет бежать за коляской Кутузова, бросать ему цветы, как было недавно. Ему одному слава, почет и бессмертие, ему — Александру.
Можайский оглянулся на Михаила Семеновича Воронцова; его офицеры что-то кричали, протягивая руки к императорской ложе, хотя их не было слышно, все тонуло в громе рукоплесканий и криков.
Тенор дважды повторил арию, и каждый раз, когда он доходил до слов об Александре, вступившем в Вавилон, поднималась буря рукоплесканий.
— Посмотрите… — вдруг сказал, сжимая руку Можайского, Тургенев. Он показал ему глазами на ложу у правой кулисы.
Два наполеоновских генерала, прославившихся у Маренго и Иены, стояли, обратив лица к Александру, и вопили, вытянув вперед правые руки…
— Что будет с ними, если он вернется? — скорее угадал, чем услышал, Можайский.
Оба улыбнулись, им показалась смешной эта мысль: в эти часы Наполеон уже совершал свой путь к острову Эльбе.
В антракте все вышли в маленькую гостиную позади ложи. Воронцов взял об руку Можайского и сказал по-английски:
— Я очень состарился, друг мой?
— Немного… Это вам к лицу, генерал…
— Я все-таки сержусь на вас. Почему вы не давали о себе знать? Мне всегда приятно вас видеть.
— Я не хотел быть назойливым. Если позволите…
— Конечно. Вы завтракаете у меня. И не позже чем завтра…
«Кажется, все идет хорошо, — подумал Можайский. — Это ради Феди Волгина».
Он слушал непринужденную беседу офицеров маленькой свиты Воронцова. Здесь была принята некоторая вольность в обращении друг с другом и с самим Воронцовым. Должно быть, сам Михаил Семенович внушил им этот тон; он умел быть привлекательным и приятным, когда хотел. Впрочем, нужно было много такта, чтобы в вольном обращении с ним не перейти границ. Он привык быть обожаемым, был злопамятен и не прощал малейшей обиды. Можайский это знал не хуже молодых офицеров, окружавших Воронцова. Они очень смело судили обо всем, либеральничали, впрочем — до известных пределов.
— Приятно, что мы здесь вершители судеб!
— Да, пока у нас в Париже сто тысяч войска…
— У австрийцев и англичан вдвое меньше.
— Какая наглость! Красавец Рошешуар — во французском мундире. Служить Александру — и так легко перейти к Людовику!..
— Змея меняет кожу.
— Это ему даром не пройдет…
— А по мне — хоть бы все французы убрались из России…
— И немцы, — добавил Сергей Тургенев и захохотал.
Можайский с любопытством слушал болтовню офицеров. В маленьких кружках, которые собирали вокруг себя вельможи, можно было понять направление высокой политики России и ее союзников. О Людовике XVIII здесь говорили насмешливо, его называли «старым брюзгой», «старым невежей». Его считали чем-то вроде разорившегося родственника, которому дали место управляющего большим и богатым имением. Бедный родственник возомнил себя хозяином, он осмелился платить неблагодарностью за благодеяние. Как будто не Александр вернул ему престол, а наоборот — русский император получил от него корону.
— …благодарить принца-регента и англичан!..
— Вы слышали шутку: «Англичане откормили свинью и продали ее за восемнадцать луидоров французам — pour dix-huit louis, — но она не стоит одного наполеондора…»
Все смеялись, Воронцов слегка погрозил Владимиру Раевскому.
— Вообразите огромный и мрачный замок в Митаве на берегу заросшей камышами реки, хмурое небо, из окон виден город, лютеранские готические церкви. Амфилада запущенных замковых комнат, грязные штофные обои, закопченный потолок, жалкий Митавский двор и при всем том версальский придворный этикет и вечные вздохи: «Когда б вы видели меня в Версале…» Вечные интриги и зависть, искательство королевских милостей, грызня и раздоры придворных и при всем том манеры вельмож «короля-солнца». Но на месте Людовика XIV — ворчливый толстяк с большим брюхом и вечными жалобами на подагрические боли… Сидел в Митаве, ел наш хлеб и до страсти любил писать жалостливые письма высочайшим особам, сочинять дипломатические мемории, декларации, ноты, притом с претензией на ученость и литературный талант, с цитатами из древних философов и поэтов. Более всего огорчало его, что кухня в Митаве была не вполне хороша, а его величество любил много и хорошо покушать.
— Англичане кормили его объедками из кухни принца-регента.
— И вдруг, в один ужасный день, грубый приказ императора Павла Петровича в двадцать четыре часа выехать из Митавы. И начались мытарства и скитания, путешествие инкогнито в Польшу, потом в Пруссию, и отовсюду его гнала тяжелая рука Наполеона.
— Мы выжили его из Митавы, он этого не забудет… Но благодарить англичан! Какая бестактность!
— Возможно, это жест вежливости, — заметил Воронцов.
— Мне кажется, это больше, чем жест, — негромко сказал Николай Тургенев, — это — политика… Политика Бурбонов. Наконец, ему есть за что благодарить англичан, они приняли его охотно. Вернее, Георг III, тот даже писал Людовику, чтобы он не обращал внимания на нападки британского кабинета и палаты, мол он, Людовик, гость верховного правителя нации…
— И все же, какая неблагодарность! Государь показывал Волконскому письмо Людовика, и в том письме были такие слова: будьте уверены, что сердце мое полно тем, что вы для меня сделали. Придет время, когда я буду в состоянии доказать вашему величеству, что одолжения свои вы сделали не для неблагодарного…
— Это время пришло.
Тургенев пожал плечами:
— Бог мой, можно ли было верить в благодарность Бурбонов?
— Вы так думаете? — быстро спросил Воронцов. — Однако хотят этого или не хотят, мы первая скрипка в квартете.
Потом тема разговора изменилась, заговорили о театре:
— Со вчерашнего дня «Французская комедия» опять стала «Королевской комедией»… Подписан указ о переименовании.
— Все равно она останется французской.
Это опять сказал Раевский. Решительно, этот юноша нравился Можайскому. Он был на восемь лет старше Раевского. В те годы молодые люди развивались невиданно быстро. Юноши порой говорили — мне семнадцать лет, для меня все уже в прошлом. В двадцать восемь лет рядом с Владимиром Раевским Можайский чувствовал себя почти стариком. Девятнадцати лет он принимал участие в битве под Аустерлицом, двадцати одного года в первый раз ранен под Фридландом. Раевский в то время был еще отроком. А теперь Можайский с удивлением слушал, как его собеседник горячо и убежденно говорил о долге гражданина в республике, о несовершенстве республиканского строя древней Спарты, где сохранялось рабство, наконец, вышучивал чувствительность Карамзина и его «Бедной Лизы». «Быть может, эта молодая поросль совершит то, что не дано совершить нам», — думал Можайский.
— Что, очень постарел Тальма? — спросил Воронцов. — Я помню Нерона в «Британике»… точно античная статуя. Никто не умеет так носить тогу.
— Какое благородство, какая естественность! — сказал Тургенев. — Никаких эффектов, ни выкриков, ни завываний…
— Правда ли, что мадемуазель Сен-Марс пятьдесят лет?
— Пятьдесят два вы хотели сказать.
— И в эти годы играть инженю! Это чудо!
— А мадемуазель Жорж? Величие и торжественность в каждом жесте… И как мила в обращении!
— Лучше всех это знает мой друг Бенкендорф…
— И мой кузен Нарышкин…
— Господа, не будем злословить… Последняя петербургская новость… Славный наш актер Яковлев на днях был посажен под караул для вытрезвления. Представьте, он не мог перенесть унижения и чуть было не зарезался…
— Быть не может!
— …однако не допустили. Поранил себе шею и два месяца не будет играть в театре.
— Как это можно! — возмущенно сказал Николай Тургенев. — Первый наш актер под караулом! Я видел его в «Дмитрии Донском», он был велик, поистине велик! Помните:
В крови врагов омыть прошедших лет позор И начертать мечом свободы договор…И он наложил на себя руки от обиды! Могло ли это случиться с Тальма? Он живет здесь, окруженный почетом и славой…
— Вы говорите, Тальма, как можно сравнить! — сказал Нарышкин, — он и в жизни человек замечательный.
Тургенев даже привстал, голос его дрожал от негодования:
— Вы говорили о мадемуазель Жорж, а по мне — наша Семенова лучше, она заставляет плакать искренними слезами, а не удивляться переливам голоса и плавным жестам. Нет, не умеем мы ценить наши таланты… Тот же Яковлев!.. И его, Дмитрия Донского, волокут будошники на съезжую…
— Не будем спорить, господа, — принужденно улыбаясь, сказал Воронцов. — Николай Иванович, я тоже не поставлю Семенову рядом с мадемуазель Жорж… Но, кажется, начинают?
Все возвратились в ложу. Можайский и не думал о том, что в этот вечер в театре произойдет знаменательная для него встреча, встреча, которая поднимет в его душе все, что он так тщетно старался забыть.
Можайского давно перестал интересовать спектакль; то, что происходило в зале, было для него привлекательнее. Здесь в льстивых улыбках, в поклонах, в кажущемся пустословии разыгрывалась хорошо знакомая ему комедия. Здесь искали знакомств и связей, здесь предавали прежних покровителей. Он видел борьбу самолюбий, видел вчерашних вельмож и вельмож будущих, видел эмигрантов, жаждущих золота и доходных мест. Он рассеянно скользил взглядом вдоль лож и вдруг заметил, что ему кланяется молодой человек в мундире польского офицера. Он узнал Стибор-Мархоцкого, племянника Анели Грабовской, знакомого ему по встрече в Грабнике. Мархоцкий, улыбаясь, глядел на него; их разделяли только три ложи.
Первой мыслью Можайского было уйти из ложи и заговорить с молодым человеком об Анеле Грабовской и Катеньке Назимовой. Он нетерпеливо ждал, когда упадет занавес; действие, казалось, не имело конца.
Как только упал занавес и послышались рукоплескания, Можайский вышел из ложи. Пробежав по коридору, он увидел Мархоцкого и сжал его руку в своих руках.
— Вы узнали меня?
— Конечно, — усмехнувшись, сказал Мархоцкий. — Вам к лицу русский мундир…
Они спустились в фойе.
— Неужели прошел год?
— Да, почти год.
— Вы были ранены? — Мархоцкий показал глазами на черную повязку.
Можайскому не терпелось спросить об Анеле Грабовской:
— Я надеялся увидеть здесь вашу тетушку…
— Ее нет в Париже… Разве вы не слышали — она вышла замуж, живет в Лондоне… Ее муж — сэр Чарльз Кларк, дипломат, старый ее знакомый…
Можайский немного знал этого человека.
— Он вдвое старше ее…
— Да, это очень странный брак, — согласился Мархоцкий, — но, мне кажется, этого следовало ожидать, — добавил он, улыбаясь.
— Припоминаю, в Грабнике вы не сомневались в том, что польский патриотизм вашей тетушки — только временное увлечение.
Мархоцкий наклонил голову:
— Я помню ваши слова, сказанные мне тот же день в Грабнике, — он слегка понизил голос, — вы говорили о том, что будет такое время, когда не вельможи, а русские и польские патриоты будут решать судьбу своего народа и отечества… Вот мы в Париже — и всё осталось по-прежнему.
— Но мечты живут. И пока они живут, я верю в грядущее единение двух славянских народов… во имя вольности, равенства…
— …братства, — добавил Мархоцкий.
— Вы ничего не слышали о чете Лярош? — стараясь говорить спокойно, спросил Можайский. — Вернее, о бывшей моей соотечественнице, жене полковника Лярош?
— О вдове Лярош?
— Вдове? Разве Лярош умер?
— Он умер от ран. И это было счастьем для него, он бы слишком страдал, если бы увидел все это… — и Мархоцкий поглядел в сторону зала.
Можайский с трудом находил слова.
— Не случилось ли вам… не слышали ли вы, какая судьба постигла его вдову?
— Я ничего не слыхал о ней, — немного удивленно ответил Мархоцкий. — Я думаю, что Анеля не оставила ее. Они были вместе в Вене и, кажется, в Венеции. Они были во Франкфурте… Вот все, что я знаю.
На этом кончился разговор.
С этой минуты Можайскому стало мучительно оставаться в театре.
Он глубоко вздохнул и вдруг почувствовал, что кто-то ищет его руку. Он оглянулся и увидел добрые и умные глаза старшего Тургенева.
— Что с вами? — шёпотом спросил тот.
Можайский не ответил и только крепко сжал руку Тургенева.
В это мгновение упал занавес и парадный спектакль кончился.
36
Он не помнил, как вышел из театра, как кончился театральный разъезд, сколько времени бродил по опустевшим бульварам, он забыл, что его ожидал фиакр, и собрался с мыслями только, когда очутился перед храмом Мадлен, и долго стоял у античной колоннады. В годы революции здесь был «Храм разума», но уже более двадцати лет парижан заставляли забыть о том.
Была теплая, весенняя ночь; бульвары полны ротозеев, глядевших на театральный разъезд, отпускавших довольно колкие шуточки господам и дамам в каретах.
Можайский шел медленно, весь отдавшись своим грустным мыслям.
Пока Катенька была женой Ляроша, пока он знал, что рядом с ней ненавистный ему человек, он еще мог бороться со своей любовью… Теперь же он чувствовал непреодолимое желание покинуть Париж, желание увидеть Катю, говорить с ней, не оставлять ее. Но куда мчаться, где ее искать? Быть может, она потеряна навеки…
Можайский подумал о Диме Слепцове. Поехать к нему, на улицу Ришелье, разыскать его, — хоть один близкий человек будет рядом… Да, ищи его… Вернее всего, он в Пале-Рояле или у Фраскатти. Вот человек, который не раздумывает над чувствами, не терзает себя сомнениями, — хорошо быть таким…
Он шел еще долго, потом утомился, взял наемный фиакр и поехал на улицу Вожирар.
Можайский проспал тяжелым сном почти до полудня. В полдень встал, отдал себя в руки парикмахера, переоделся и поехал в Сен-Жермен.
Воронцов жил во дворце маркиза де Люссак, сгоревшем в годы революции и восстановленном в годы Директории богатым откупщиком. Воронцову не понравилась мебель, он не одобрил вкуса прежнего владельца, и для него была куплена вышитая серебром и золотом березовая мебель времен Людовика XVI.
За завтраком у Воронцова были почти все те же — Казначеев, Дунаев, барон Франк; не было только старшего Тургенева и Владимира Раевского. За столом еще вольнее шутили. Сергей Тургенев разыгрывал бульварные фарсы, подражая комику Жокрису. Но вместе с шутками временами шла интересная беседа: рассуждали о том, как скажется победа России на ассигнационном рубле, — ежели в 1812 году за серебряный рубль давали четыре бумажных рубля с мелочью, то теперь надо ждать, что курс рубля повысится и скоро серебро станет в одну цену с ассигнациями. Воронцов прислушивался к этим разговорам со вниманием; он всегда интересовался коммерцией, читал книги по политической экономии, и это многим, знавшим богатство Воронцовых, казалось недостойным вельможи.
Долго говорили о контрибуции, о непомерных аппетитах пруссаков и великодушии Александра. Наконец кончился завтрак, и Воронцов позвал Можайского к себе в кабинет; закурив сигару, он спросил его:
— Сколько я могу судить по вашему письму, у вас есть ко мне дело?
Можайский обстоятельно рассказал историю Феди Волгина, историю крепостного человека Воронцовых, отданного в учебу на железоделательный завод в Англии.
— Уж не тот ли это богатырь, что бился на кулачках с англичанином и победил?
Не храбрость, не спасение жизни офицеру вызвали любопытство Михаила Семеновича, а только то, что он как-то видел кулачный бой Волгина с англичанином.
Впрочем, Воронцов слушал внимательно, но когда узнал о прихоти великого князя Константина, усмехнулся и сказал:
— Великий князь — чудак. Что ему взбредет в голову, того непременно добьется… Но и отец мой, вы сами знаете, упрям… Имущество наше раздельное, Волгин — крепостной человек отца, его дворовый. Я мог бы его выпросить себе, да ведь великий князь меня в покое не оставит, а ссориться мне с ним нельзя. Уж право не знаю, как тут быть. Впрочем, ежели отец обещал ему вольную, он свое слово сдержит…
Затем он встал, давая понять, что об этом разговор окончен, и по-английски заговорил о другом:
— Сегодня советовался со мной Петр Михайлович Волконский. Государь приказал послать толкового офицера в Лондон. Скажу вам под строжайшим секретом: государь в будущем месяце поедет туда, пришло приглашение от принца-регента. Прием будет достойный победителей. Только, на беду, император задумал привезти в Лондон и показать на смотру в Гайд-парке Семеновский полк. Англичанам это не понравилось, и они, по своему обычаю, тянут с ответом. — Он перешел на русский язык: — Ты повезешь письмо государя и заодно повидаешь отца, будут тебе еще поручения от князя Петра Михайловича и Нессельрода… Ты жил в Лондоне, знаешь англичан и, я думаю, поймешь, что скрывает их гостеприимство.
Воронцов был англоманом, и Можайскому было странно слушать эти слова, но он подумал, что, вернее всего, Михаил Семенович повторяет слова Александра.
— Нехорошо забывать старых друзей, — продолжал Воронцов снова по-английски. — Это все от гордости. Я старше вас и не понимаю, что делается с молодежью. Воображаю, как думает о нынешних молодых людях мой отец… Вот взять хотя бы Раевского: что за язык… А ведь нет и двадцати лет!.. Экое дерзостное, необузданное вольнодумство! Это Миша Орлов их всех распустил.
Или вот Ермолов, Алексей Петрович… Был у него третьего дня в гостях, он так и режет при адъютанте: «Проклятая немецкая шайка! Когда избавлюсь от наглых и беспрерывных обид!» и пошел, и пошел про Беннигсена и его Аптов, Штейнгелей, Боков, которым сыпят награды куда щедрее, чем своим. Обозвал Беннигсена казнокрадом — «такому-де казнокраду пожаловал государь графский титул и сто тысяч рублей, а Раевскому и Дохтурову — шиш с маслом». После остались мы с глазу на глаз, я и говорю ему: как ты не бережешь себя, помалкивал бы при адъютанте. А он в ответ: «Скажи я ему, что б он с Ивана Великого прыгнул — прыгнет, не мигнув».
Они вернулись в столовую. Воронцов вскоре отпустил Можайского, сказав на прощание:
— Я дам тебе письмо к отцу, да ты сам расскажешь ему про этого дворового человека. Как отец решит, так тому и быть. Отцу и Константин Павлович не указ. Старик милостей не ждет и немилости не боится… Желаю тебе попутного ветра, — сейчас в Ламанше славная погода.
Вернувшись от Воронцова, Можайский пробовал утешить Волгина. Однако он сам хорошо понимал, что редко можно без проступка и наказания прослужить двадцать пять лет, а один проступок влечет за собой перевод в штрафованные, иначе — вечную службу без малейшей надежды. «Девять убить, десятого выучить!» — не так ли говорили гатчинцы? Бьют за то, что ремень не вычищен, за то, что усы не нафабрены. Уж на что сдержан был в суждениях своих Барклай и тот говорил о закоренелом обыкновении всю науку военную строить на телесном наказании и бесчеловечном обращении с солдатами.
— Нет уж, видно такая моя судьба, — сказал Волгин. Вдруг глаза его загорелись. — Одно я скажу вам, Александр Платонович: первой же обиды не стерплю. Все равно головы мне не сносить!
И по тому, как Волгин это сказал, Можайский понял: так оно и будет.
В тот же день Можайский побывал у Волконского. Петр Михайлович, как обычно неразговорчивый, сказал только, что государь обещал написать к завтрашнему дню письмо принцу-регенту, а Нессельроде пишет князю Ливену, русскому послу в Лондоне. Можайскому был дан приказ оставаться в Лондоне до распоряжения, бывать в свете, в палате лордов и палате общин, читать газеты и журналы и представить записку о настроениях общества и его чувствах к императору Александру: будет ли встреча, оказанная ему, сердечной или его приезд примут как визит вежливости.
Еще было сказано Можайскому, что он может получить пятьсот гиней и письмо банкиру на случай, если денег не хватит.
Можайский ехал в Лондон с охотой. У него была надежда спасти Волгина, он решил не оставлять его в Париже, — как-никак тот был дворовым человеком Семена Романовича, и от Воронцова зависела судьба Феди. Он велел Волгину собираться в дорогу и увидел, что тот немного повеселел. В английском посольстве и в штабе Веллингтона он постарался узнать, где находится Чарльз Кларк. Кто говорил, что он в Вене, кто говорил — в Стокгольме; так для Можайского был потерян след Анели Грабовской.
За день до отъезда Можайский решил устроить прощальный завтрак, позвать близких ему людей — братьев Тургеневых, Слепцова, Владимира Раевского. Слепцов советовал устроить проводы в ресторане Бовилье или у «Провансальских братьев», но Можайский предпочел завтрак у себя дома. Он знал, что беседа будет откровенной, а в ресторане, даже в отдельных комнатах, есть уши, и все, о чем говорили, будут знать сыщики Видока, а от него русская тайная политическая полиция.
Итак, он ждал к себе гостей; завтрак был накрыт в саду, в беседке, увитой плющом, под вековым каштаном. В те времена в Париже было еще много садов при домах и притом в самом сердце Парижа.
Юный Владимир Раевский привлекал Можайского. Семнадцати лет он участвовал в Бородинском сражении, на двадцатом году стал адъютантом генерала Михаила Федоровича Орлова, ведшего переговоры о капитуляции Парижа и подписавшего условия капитуляции. Орлов, один из храбрейших генералов, расположил к себе даже императора Александра, не склонного верить людям. Он был близким другом Николая Тургенева, вместе с Дмитриевым-Мамоновым мечтал о создании тайного общества, которое называлось бы «Орденом русских рыцарей». Об этом слышал Можайский и потому рад был видеть у себя и старшего Тургенева и юного Раевского, по слухам — любимца Орлова.
Первым приехал Николай Иванович Тургенев и тем обрадовал Можайского. Он знал, что Николай Иванович не охотник ездить в гости, что он редко покидал свою квартиру близ Булонского леса. Сергей Тургенев не обнадежил Можайского, все знали, что Николай Иванович много работает, на него были возложены переговоры и расчеты по уплате контрибуции, которую полагалось взыскать с французов. Кроме того, Николай Иванович был хром и избегал выездов, даже если того требовало дело. Можайский встретил Тургенева внизу, и, зная, что тому трудно подниматься по ступеням, пригласил остаться внизу, в гостиной.
Они сидели у окна, выходящего в сад; отсюда было видно, как вся семья Бюрден хлопотала в беседке, накрывая завтрак.
— Простите, что приехал первым, — начал Тургенев, — но вам не придется занимать меня беседой. Нынче жарко, и я немного устал… Я вижу у вас здесь не одни французские, но и русские книги… Вы их возите с собой?
— Я жил здесь три года назад, и домохозяин сохранил мою библиотеку. Вижу, что вы устали, Николай Иванович, и не стану вас затруднять, хотя при случае я хотел потолковать с вами о немецких делах.
— Говорите, — ласково улыбаясь, сказал Тургенев. — Я устал от прогулки в экипаже, а не от работы.
— Тогда позвольте спросить вас… В походную канцелярию его величества приходят жалобы прусских помещиков, что их обсчитали за фураж для нашей кавалерии, что им причинили убытки от постоя наших войск. Требуют деньги от освободителей их от ига Наполеона! Как мириться с такой неблагодарностью? Откармливали до отвала отступавших французов! Драли деньги с французов и с нас — и смеют вопить о своем патриотизме! Мне говорили, что истинные патриоты более страшились шпионов немецких государей, чем французской пули…
— Патриотизм… — в задумчивости произнес Тургенев. — Откуда его взять прусскому помещику или владетельному князю? Отец его, курфюрст, продавал своих солдат англичанам, а эти посылали их воевать с колонистами Нового Света… Наполеон хорошо знал королей и князей немецких земель. Он умел натравить их друг на друга, умел вовремя бросить лакомый кусок, и они все гурьбой бросались за подачками. Барон Штейн, правда — он патриот, говорил мне, что прусский король и немецкие владетельные князья ненавидят его более, чем Наполеона. Да, патриотизм есть, но его надо искать у немецких ремесленников, которые страдали от грабительских налогов Наполеона, у крестьян, которые принуждены были отдавать своих сыновей, тысячами погибавших в походах, добывая Наполеону новые земли и славу полководца…
…патриотизм был и у майора Шилля! Немецкие юноши не забудут попытку его поднять народ против ига Наполеона. Шилль был истинный патриот и отдал жизнь свою во имя отечества.
— Однако почему же прусский король стал во главе Тугенбунда и первый поднял свои войска против Наполеона?
— Да просто потому, что понял — русские сильнее! Вот откуда его храбрость. Впрочем, сколько раз он терял ее в этом походе. Я часто думаю: если бы французы принесли немецкому народу только освобождение крестьян от рабства, уничтожение варварских средневековых законов, если бы не было угнетения и оскорбления национального чувства, если бы восторжествовал дух конвента… — Он умолк и глубоко вздохнул. Потом заговорил о другом: — Наша встреча по пути из Аахена в Кельн запомнилась мне… Сожалею, что вы еще не нашли душевного покоя. Я заговорил с вами об этом, потому что вчера, в театре, мне показалось, вы были в глубоком горе… Сколько бед, сколько несчастий мы видели в эти годы, — с грустью продолжал Тургенев, — но свое горе, однако, ближе к сердцу, преодолеть его трудно, не правда ли, мой друг?..
— Я дважды потерял единственно близкое мне существо, и во второй раз — по своей вине.
Вошел Федор и сказал, что стол накрыт в беседке, но небо хмурится и как бы не было дождя.
— Как же быть? В комнатах душно.
— Тогда лучше в беседке. Авось пронесет грозу.
Когда Федор ушел, Тургенев спросил:
— Это ваш человек? Видно, что смышленый малый и что ему у вас хорошо. — Не дожидаясь ответа, Тургенев продолжал: — Вот мы говорим «мой человек», точно о вещи какой, точно у дворового человека нет души и он не страдает, не мыслит. Добрый и умный русский человек, в котором более благородных чувств, чем в двадцати дворянах, может быть продан, обменен, сдан в солдаты, избит палками за самую малую провинность. Как можно оправдать это? Сколько благородных речей было сказано в туалетной комнате императора, когда там собиралась «партия молодых» — Павел Строганов, Чарторыйский, Виктор Кочубей, Новосильцев! Сам государь горячо и пылко говорил о горькой участи крепостных. Сколько было планов, а чем все кончилось? Некоторыми льготами для дворовых, запретом продавать крестьян без земли, да и тут за взятку всегда найдут обход закону. Война кончилась, кто больше всех страдает? Народ, крестьяне. Поля не засеяны, в закромах ни зернышка, хлебом для крестьян никто не озаботился, помещики из казны заимствуют, а крестьяне?
Можайский рассказал Николаю Ивановичу о беде, постигшей Федора Волгина.
— Уже на пороге освобождения ему грозит участь солдата в кирасирском полку, в полку, который прозван солдатской каторгой! — с горечью сказал Можайский. — Да еще попасть в руки изверга и сумасброда, труса, который в начале кампании двенадцатого года уверял Карамзина, что противодействовать Наполеону бессмысленно, что Россия будет покорена. Другого за такие изменнические речи расстреляли бы перед фронтом, но он — цесаревич, брат государя… В Елисейском дворце, показал себя дураком и безобразником. Собрал генералов — русских, поляков, французов, построил их и показывает фронтовые кунштюки, командует по-французски и по-русски. А дипломаты смеются: русский престолонаследник. Не дай бог такому олуху престол!
На этом их разговор прервался. Послышался стук колес — приехали Сергей Тургенев и Раевский, затем верхом с вестовым примчался Дима Слепцов. Можайский попросил всех в сад. Дочери хозяина встретили Слепцова как старого знакомого. Сергей Тургенев им показался таким же веселым, как Слепцов, только Николая Ивановича и Раевского они дичились, особенно Раевского с его насмешливой улыбкой и мрачным огнем во взоре.
В саду было тихо, цвели розы, и над розами летали стрекозы и пчелы. Пахло жасмином, желтые сережки акаций свисали над посыпанными песком дорожками. Вокруг беседки стоял зеленой стеной дикий шиповник. Густой плющ оплел античные руины, сооруженные в саду по моде того времени. Николай Иванович загляделся на эти руины.
— Здесь, во Франции, — сказал он, — может быть, и кстати эти греческие портики, павильоны Флоры… А у нас, в наших садах подмосковных, уж строили бы лучше старинные терема.
— Терема? — Да вы шутите! — воскликнул Слепцов. — Ну как можно нашим дамам в туалете от Миненгуа войти в русский терем?
— А разве русское платье, сарафан и кокошник не лучше парижских модных платьев? Не на худосочных девах, воспитанных французскими танцмейстерами, но на наших русских красавицах!.. Вот поглядите, — и Тургенев показал на Волгина, — оденьте этого молодца вместо немецкого платья в русский кафтан — красавец, истинный богатырь!
Начался завтрак и шел своим чередом. Мадам Бюрден и ее повариха постарались угодить гостям.
Говорили по-русски и по-французски. Волгин сидел на скамье поодаль.
— Государь приказал выбить мемориальную медаль в память Отечественной войны. На медали изображены наши сословия — дворянин, купец, крестьянин и священник, благословляющий всех троих, и под сей аллегорией надпись: «Мы все в одну сольемся душу». Я спросил у Павла Александровича Строганова: «Ежели все души слились в одну, то как же дворяне могут продавать крестьянские души?» — рассказывал Тургенев.
— Какой же был его ответ? — полюбопытствовал Раевский.
— После того, что сделал русский народ, освобождение крестьян мне кажется легким.
— Но это ответ Строганова, а Строганов не государь.
— От зятя Кутузова, ныне покойного князя Кудашева, я слыхал, как высоко ставил фельдмаршал поведение наших войск за границей. Князь Смоленский полагал, что высокая нравственность наших солдат — главная причина того, что в Европе народ был за нас.
Тургенев говорил по-русски, ему отвечали по-французски, потому не все понимал Волгин и жалел, что до него доходили только отрывки застольной беседы.
Можайский и Слепцов не раз говорили при Волгине о несправедливости, царящей в мире, о беззаконии, о бессовестных и жестоких помещиках, о свободе.
С любопытством Волгин глядел на самого молодого из гостей — черноволосого, стройного, со злой усмешкой на губах, не свойственной его молодым годам.
— Дворянство! — восклицал он. — Разве не было таких дворян, которые говорили: «Мне все равно, кто будет править Россией — Александр или Бонапарт, ежели у меня три тысячи душ…» А крестьяне его вооружались, чем попало, и шли бить неприятеля! Как же мне не стыдиться своего сословия! Указ о вольности дворянства позволяет нам служить за границей иностранным государям, получать от них ленты и ордена, даже чины. Послы русские стареют при иностранных дворах, женятся на иностранках, покупают имения, тратят миллионы… Эти миллионы выколачивают бурмистры из русских крестьян. Когда же их господа окончательно запутаются в долгах, — они не считают зазорным получать подачки из рук иностранных государей. Так как же не стыдиться мне сословия, к которому я принадлежу?
Ему наперебой отвечали Слепцов и младший Тургенев, отвечали по-французски, но вдруг старший Тургенев оборвал их:
— Когда мы будем говорить и писать по-русски?! Давайте же хоть здесь, среди своих, говорить на родном языке. Я видел русских царедворцев, которые хвалились тем, что король Людовик пожаловал им орден лилий. Барклай, не русский по происхождению, дал урок этим господам, сказав: грамоты на сей орден предназначены для французов — в них говорится только о верности королю и об услугах, оказанных королю Франции. А ведь иные из нынешних французоманов в 1812 году свистели французским актерам в «Федре» только за то, что они французы. Не вступись Михаил Ларионович Кутузов за французских актеров и за творение Расина, пожалуй, запретили бы давать «Федру». И кто свистел «Федре» — господа, которые с детских лет предпочитали французский язык и пренебрегали языком родины! Когда, наконец, они станут русскими!
— Радостно мне сие слышать, — сказал Раевский. — Не люблю Карамзина, однако запали мне в душу его слова: «Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужой славою… Хорошо и должно учиться, но горе человеку и народу, который будет всегдашним учеником».
Заспорили об университетах Геттингенском, Страсбургском и Московском, где учился Раевский.
— Истинный рассадник просвещения — наш Московский университет, — горячо заговорил Раевский, — взять хоть бы диспуты, есть о чем поспорить и кого послушать! Писали мне, что недавно был диспут о монархическом правлении. Сущность спора — «Монархическое правление есть самое превосходное из всех других правлений». И что же? Студенты открыли диспут восторженными речами во славу греческих республик и свободного Рима до порабощения его кесарем.
— Отрадно слушать такие вести из Москвы, — отозвался Николай Иванович Тургенев. — Молодости свойственны вольнолюбивые мечты, однако не все сохраняют вольные мысли в зрелые годы. Государь наш в молодые годы тоже отдал дань вольнодумству.
Все притихли, прислушиваясь к тому, что рассказывал старший Тургенев:
— Воспитатель государя Лагарп рассказывал мне о письме Александра, писанном в годы, когда он был наследником: «…верховную власть должна даровать не случайность рождения, а голосование народа, который сумеет избрать наиболее способного к управлению государством…» «Когда придет мой черед, тогда нужно будет образовать постепенно народное представительство, которое, должным образом руководимое, и составило бы свободную конституцию…»
Все слушали затаив дыхание.
— «…Constitution libre, после чего моя власть совершенно бы прекратилась…» Писано в 97 году… Но прошло семнадцать лет, и, показывая мне письмо своего державного ученика, Лагарп просил сохранять его в строжайшей тайне… о чем я прошу и вас, господа.
— Начать с «Constitution libre», а спустя семнадцать лет, в Париже, громко с угрозой произнести: «Внешние враги разбиты надолго, будем сражаться с врагами внутренними».
— Кого разумеет государь? — спросил Можайский. Ответа не было. Раевский вдруг нарушил молчание:
— Мой генерал Михаил Федорович Орлов и Матвей Мамонов составили проект конституции тайного Ордена русских рыцарей. У государя отнимается право издавать законы, объявлять войну, заключать мир… Сенат — основа государства… Двести наследственных пэров, магнатов или вельмож государства, четыреста представителей дворянства и четыреста представителей народа…
— Подобие английской конституции, — заметил Можайский. — Только, кто бывал в Англии, тот не видит там благоденствия народного. Английский кабинет — это зловредная олигархия, применяющая для страданий всего мира и для порабощения людей все силы и знания своей нации… Это не мои слова, а одного француза. И он не якобинец и не наполеонист! Но продолжайте, Владимир…
— Далее, — продолжал Раевский, — упраздняется рабство, упраздняется навеки — вот что главное…
— Михаил Федорович предлагает и разные экономические меры, — сказал Николай Иванович: — препятствование английской торговле в Средиземном море, учреждение торговых компаний для торговли с Китаем, также план канала, соединяющего Волгу с Доном…
Госпожа Бюрден не могла надивиться на гостей своего постояльца. Ни искусство ее поварихи, ни отличное вино не могли отвлечь их от непонятных споров, в особенности когда они стали говорить по-русски.
Был чудесный теплый день, гроза прошла мимо, но принесла с собой прохладу. В кустах жасмина пели птицы, а эти молодые люди, из которых самому старшему было только двадцать восемь лет, говорили о «constitution libre», о политике, и, что странно, даже русский слуга Теодор слушал их, забыв обо всем.
— Как жалки мне царедворцы, вместе с государем мечтавшие о конституции, а теперь гоняющие солдат на плацу, сменившие библиотеку на экзерциргауз! — покраснев от гнева, говорил Раевский. — Вот хотя бы Дмитрий Голицын — в Париже в 1789 году с любопытством глядел, как народ разрушал Бастилию, а нынче быстро шествует по пути почестей и чинов…
— То было время, когда из Парижа дул ветер свободы, то было время республики.
— Верю, что республиканское правление — идеал всего человеческого, — сказал старший Тургенев. — Но лучший образец революции, когда она плод просвещения народного, когда она творится народом, приобщенным к наукам, к знанию…
— Откуда же придет просвещение, когда народ наш держат в невежестве и темноте? — спросил Можайский.
— Просвещение нужно и тем, кто хочет посвятить себя служению отечеству и народу. Я убедился в нравственной пользе изучения политических и экономических наук, — со страстью говорил Тургенев, — но в основе этих наук должна лежать свобода… Сейчас еще не рассеялся дым пожарищ, в полях и нивах еще пахнет пороховым дымом, но позже, может быть лет через пять, мы создадим общество и назовем его «обществом девятнадцатого века», и цель наша будет — распространение знаний и политических идей… Станем печатать книги, собираться, читать друг другу наши первые опыты. В Европе и в России боятся свободы книгопечатания, но, увы, друзья, сколько человек в нашем государстве читают?..
Неожиданно Николай Иванович обернулся и поглядел на Волгина.
— Ты грамотен? — спросил он.
— Грамотен, — ответил, вставая со скамьи, Федор.
— И книги читаешь?
— Читаю, только русских книг у нас маловато, сударь.
— А что ж ты читаешь?
— Державина, Крылова…
— Чего же у час боятся? — продолжал Тургенев, обращаясь к собеседникам. — Народ может взбунтоваться не от брошюр и книг, а от долговременного угнетения, которое он чувствует сильнее, чем доводы писателей.
Наступила тишина. Неугомонный Раевский не проронил ни слова, только, подперев рукой голову, ерошил непокорные волосы.
— Однако, друзья, — вдруг вспомнил Слепцов, — у нас нынче проводы, а хозяин совсем забыл про шампанское… Пожалуй, и лед растаял.
Но еще до шампанского первым поднялся старший Тургенев.
— Дадим отдых хозяину, — сказал он, — ему чуть свет выезжать…
Однако перед тем как уехали гости, Можайский позвал своих хозяев, дочь их Денизу и повариху и возгласил тост за Францию, просвещенную, мирную, дружественную Францию, не угрожающую другим народам, за французский народ, его мир и благоденствие.
После этого тоста уехали Сергей Тургенев и Раевский. Остался один Дима Слепцов. Он прикончил шампанское и попробовал было увлечь Можайского к Фраскатти, но у того не было охоты бродить по увеселительным местам. Слепцов уехал один, они обнялись на прощанье, и, оставшись в одиночестве. Можайский долго сидел в саду, в опустевшей беседке.
Вечерело. Становилось прохладнее. Все то, о чем говорили сегодня, взволновало его; запомнился полуденный час, увитая плюшем беседка, сверкающая на солнце крылышки стрекоз и Париж за каменной оградой сада на улице Вожирар. Когда еще доведется встретиться и, не страшась, говорить о самом сокровенном? Какая ждет их всех судьба?
… Итак, я здесь, — под стражей я. Дойдут ли звуки из темницы Моей расстроенной цевницы Туда, где вы, мои друзья? —так, не пройдет восьми лет, напишет Раевский из крепости в Тирасполе… И осторожнее и рассудительнее станет действительный статский советник Николай Тургенев.
Если и не было тяжелых предчувствий у Можайского, то все же проводы оказались невеселые…
Он зашел проститься к доктору Вадону. Старик был нездоров и принял его в постели.
— Вы уезжаете вовремя… Что могут ожидать французы от Бурбонов? Старый негодяй Людовик XVIII подписывает указы девятнадцатым годом царствования, у него претензия считать началом своего царствования 1795 год… Одним взмахом пера зачеркнуть четыре года консульства, пять лет директории и десять лет империи Наполеона! Я не люблю узурпатора, но он был прав, когда называл Бурбонов наследственными ослами. Кстати, каналья Талейран получал при Наполеоне жалованье полмиллиона франков в месяц, на такое жалованье могли бы прожить пятьсот семей тружеников парижских. А воровал он вдесятеро больше. Ну что ж, добрый путь вам, мой друг, и не сердитесь на ворчливого старика. Я искренне полюбил вас и прежде, когда вы были нашим гостем, а не завоевателем. Но даже и теперь, когда вы пришли в Париж с оружием в руках, — я не чувствую зла к вашему народу. Русские — молодой народ, не иссушенный скептицизмом. Там хорошая почва для нового учения, учения о развитии промышленности почтенного друга моего Сен-Симона… Прощайте и добрый путь.
Можайский покидал Париж на рассвете ясного майского дня.
Открывались окна в мансардах, белая девичья ручка поливала из лейки герань. Огромные груженные мясными тушами фуры двигались к главному рынку. В кабриолете ехала парочка — молодой человек и девушка с рассыпавшимися по плечам волосами, — они целовались, забыв обо всем на свете. Утреннее солнце освещало кровли высоких домов, но внизу, в узких уличках старых кварталов, было темно и сыро. Блузники, осушив в кабачке стакан кислого вина, закинув за спину ящик с инструментами, шли на работу. У фонтанов стояли изможденные женщины и провожали угрюмыми взглядами нарядный экипаж.
Но скоро Можайский и Волгин миновали заставу Пасси. Таможенные приставы долго разглядывали подорожную Можайского. Тем временем Волгин с любопытством глядел, как досмотрщики железным щупом ворошили крестьянские фуры с овощами, разыскивая контрабанду.
Наконец французский сержант вынес подорожную, кучер ударил по лошадям, и карета выехала на дорогу, ведущую к Бове, а оттуда в Кале.
Спустя полчаса Париж был позади, и Можайский в последний раз оглянулся на синюю дымку на горизонте. В Париже он был точно на родине, — там русская армия, друзья…
Ехать в карете было жарко. В Бове оба пересели на верховых лошадей и отправили багаж в Кале с почтовым дилижансом.
Не торопясь, они ехали по дороге, похожей на аллею старых вязов. Когда солнце поднялось высоко, расположились отдохнуть на лужайке, в тени каштана, и молча глядели на зеленеющие лозы виноградников. Вдруг они услышали звонкий женский голос… Можайский приподнялся на локте и прислушался.
Звонкий и чистый голос звучал в тишине. Он узнал мелодию, — то была песня, которую создал Руже де Лилль, офицер Марсельского отряда волонтеров. То была «Марсельеза». Раздвигая орешник, на дорогу вышла рослая, загорелая девушка. Рука ее придерживала на голове корзину, полную свежих листьев салата. Она шла по тропинке не оглядываясь.
И Можайскому почудилось, что сама Франция, свободная, непреклонная Франция, прошла мимо него…
37
Весной 1814 года Семен Романович Воронцов не уезжал из Лондона. Он не любил покидать свой старый дом, даже когда лето было особенно жарким, а сейчас хотел уехать весной и не мог. Это его огорчало и выводило из обычного благодушного и ровного настроения. Он не мог уехать из Лондона, потому что в начале июня здесь ожидали императора Александра и короля прусского с их свитой.
В свите Александра более всех возбуждал любопытство англичан атаман Матвей Иванович Платов.
В один из последних дней месяца мая Семен Романович сидел у себя в кабинете и с неудовольствием читал «Таймс». Рядом с сообщением о том, что леди Лейгфут, оставив мужа, сбежала со своим возлюбленным, он прочитал, будто легендарный атаман Платов в начале войны с Наполеоном обещал выдать свою дочь замуж за того, кто доставит ему живым или мертвым Бонапарта. Семен Романович, нахмурившись, отложил «Таймс». Он не любил, когда англичане представляли русских людей чудаками.
Поскучав немного, он решил позвать Касаткина, хотя никакого дела к тому у него не было. Письмо к сыну Михаилу было написано, визит супруге посла Дарье Христофоровне Ливен, сославшись на нездоровье, он перенес на будущую неделю, и об этом Дарья Христофоровна уже уведомлена. Он терпеливо ожидал Касаткина, когда вдруг послышались голоса в большой гостиной. Удивило его, что он услышал сиплый голос обычно неразговорчивого Касаткина и еще чей-то молодой и как будто знакомый голос. Потом послышались быстрые шаги по ступеням, дверь открылась…
— Уж не во сне ли я! — поднимаясь с кресла, сказал Семен Романович. — Саша. Александр Платоныч…
Можайский шагнул к Семену Романовичу и прижал его руки к груди. Старик поцеловал его в лоб. В стороне стоял умиленный Касаткин.
Можайского усадили в кресло, в то самое кресло, где он сидел три года назад, выслушивая напутственные слова Воронцова. Все вокруг было по-прежнему в этом кабинете — те же кресло и стол, сделанные руками искуснейших крепостных мастеров; эту работу англичане считали совершеннее своих Чиппинделей и Хеплуайтов.
— Какими судьбами? Надолго ли? — расспрашивал Воронцов.
Слегка запинаясь от волнения, Можайский рассказал о своей миссии. Когда он дошел до причуды Александра, рассказал о Семеновском полку, который царь пожелал показать лондонцам на параде в Гайд-парке, Касаткин поклонился и деликатно ушел, оставив Можайского наедине с Воронцовым.
— Ливен говорил мне об этой причуде. Я советовал отписать его величеству, что у англичан нет большой охоты видеть чужеземный полк на своем острове. Но Ливен не осмелился. Что ж, придется мне писать… Милостей от его величества не ожидаю, а в немилости был не раз.
Можайский вспомнил, что почти теми же словами говорил ему об отце младший Воронцов, и улыбнулся.
Семен Романович прохаживался по кабинету, заложив руки за спину, несмотря на ранний час, уже в сюртуке, причесанный, точно собирался выезжать. Он был статен, несмотря на годы, и порой глаза его, как бывало прежде, зажигались юношеским блеском.
— Это что у тебя? — осведомился он, показывая на черную повязку на лбу.
— Лейпцигская памятка.
— Ты где остановился?
— На Стрэнде. Отель «Рига».
— Мог бы и у меня… Или ты у меня теперь не служишь… Поди, будешь искать благоволения у Ливена и Ливенши?
— Я у посла еще не был, а прямо к вам.
— Ну посол-то тебя простит, а вот Дарья Христофоровна — перец. Будь с ней почтителен. Умна, ловка и зло помнит… Ну, каково же было в Париже? Кажется мне, мой благодетель более занимается чужими делами, надо бы подумать о своей стране. Россия сейчас вознеслась высоко, ее право — быть вознагражденной за принесенные ею жертвы…
«Благодетелем» Воронцов называл Александра, вернувшего ему конфискованные Павлом имения.
— Посадили на трон Людовика. Что ж, его право, как его обойдешь… Только ведь он неблагодарная скотина, весь в долгах у английских банкиров, ведь продаст нас, если уже не продал, ей-богу.
«Зол на язык, старина, по-прежнему», — подумал Можайский.
— Благодарности в политике не бывает, — продолжал Воронцов уже без усмешки, а с горечью. — Давно ли сожженная французами Москва была для англичан предметом удивления и восхищения? Память у них коротка, они двенадцатый год и Москву уже не вспоминают. Один раз они устрашились за свой остров — когда Наполеон затеял лагерь в Булони и высадку, а как Наполеон повернул на нас и на Австрию — успокоились и с неприступного острова своего смотрели, как на битву гладиаторов… И еще об заклад бились, кто победит, ей-богу… Ты немного узнал их, а я здесь скоро четверть века живу и знаю почти как себя. Вот тебе пример — господа англичане затеяли военную экспедицию на континент, во Францию. Высадили на Кибероне эмигрантские полки. Гош разбил их наголову, ни один не вернулся в Англию. Нашелся чудак в парламенте, спросил Вильяма Питта, для чего была затеяна экспедиция, стоившая жизни тысячам. «Английская кровь не пролилась». Вот истинно английский ответ. Ничего плохого не видят ни во лжи, ни в бесчестных поступках, лишь бы им польза была. Нация лавочников, про них так их единоплеменник сказал, Адам Смит… Что говорить, ежели на монументе Питта-старшего начертано: «Под его управлением торговля была соединена с войной и ею процветала…» Ну как же дела парижские?
— Государь огорчен парижскими делами. Ждет дня и часа, когда сможет оставить Париж. Слышали, как он говорил вздыхая: «Все дело испорчено…» Да и можно ли установить прочный порядок на развалинах революции?.. А тем более при Бурбонах?
Семен Романович насторожился:
— Говоришь, нельзя?.. А ежели конституционный порядок?
Как он ни старался уговорить себя, что ничто не изменилось в мире, но с каждым днем понемногу убеждался в том, что прежняя беззаботная жизнь кончилась. Вот и Бурбоны вернулись в Тюильри, но покоя нет и не будет.
— Не случалось ли вам, Семен Романович, слыхать про некоего сэра Чарльза Кларка, отец его состоял при Уитворте, когда тот был послом в Петербурге?
Семен Романович удивился внезапной перемене разговора, но, подумав, ответил:
— Сэр Чарльз Кларк… Он, кажется мне, нынче в Вене при английском после или был там при лорде Каткэрте.
Память у Семена Романовича на такие дела была удивительная.
— А зачем он тебе?
— Так, есть надобность.
— Ну что ж… Он человек уже в летах. В молодые годы благонравием не радовал, жил, как все денди: вставал в три часа дня, потом ехал в Лонг-акр покупать новую дорожную карету сверх трех своих, заодно покупал двух гончих. В семь садился за стол и пил с приятелями до одиннадцати. Потом Воксал, потом рауты — и так до четырех утра. Выкурит трубку да спать… А в тридцать лет пошел служить, он Каткэрту родственник, вот тебе и новоиспеченный дипломат. Теперь, говорят, постарел и женился на вдове, красавице… В молодости пожил…
— Что за жизнь — полдня на конюшне… Знавал я таких. Конюшня — дворец, стойла и балясины из красного дерева. А в Бирмингаме и Шеффильде люди спят на каменном полу, скрюченные от ревматизмов.
— А ты все такой же, — сощурившись, сказал Воронцов. — Ох, поберег бы себя! Одна надежда: женишься — переменишься, страху наберешься. Время витийствовать и либеральничать прошло. Да и благодетель этого уже не любит. Ты не так уж молод, тебе нора флигель-адъютантом быть. Да и этого мало для тебя, ты старинного рода, не из выскочек, не из немецких проходимцев. Образован, умен, таких при дворе немного… Постой, — вдруг забеспокоился Семен Романович, — ты завтракал? — и потянулся к ленте звонка.
— Спасибо, Семен Романович…
— Не забыл, когда мы обедаем? У нас нынче пельмени. Это в Лондоне-то пельмени! Где еще найдешь, небось, давно не ел?
— Спасибо! Одно еще словечко! Помните, я писал вам о Волгине? О крепостном вашем…
— Это о Федьке? Помню, писал… Мне про него еще и великий князь писал. Ответил я великому князю.
Сердце упало у Можайского.
— Как же, ответил, — лукавая искорка сверкнула в глазах старика, но лицо оставалось серьезным, — ответил, что никак не могу выполнить священного для меня приказания его высочества, ибо давно уже подписал вольную Федору Васильевичу Волгину и он теперь вольный человек и сам себе хозяин.
Можайский онемел от изумления.
— Господи! — наконец вымолвил он. — Да неужели же это так?
— А ты как думал! — как ни в чем не бывало продолжал Воронцов. — Мое слово свято, я обещал дать вольную — так тому и быть…
Вдруг все лицо его покрылось множеством мельчайших морщинок, он беззвучно засмеялся, потирая маленькие руки:
— Уж не знаю, как утешить великого князя, — не будет в его кирасирском полку правофлангового в сажень ростом. Может, ему карлу для потехи подарить, так не держу я при себе шутов и никогда не держал… — вдруг нахмурился и презрительно сказал: — Характер безрассудный, одно беспутство и тиранство на уме. В восемьсот первом году нашли тело одной француженки, звали ее Араджо, мадам Араджо. Было высочайшее повеление расследовать, кто убийца. Убийцу, сам разумеешь, не нашли… Однако все втихомолку называли убийцу… Константина Павловича. Характер необузданный, весь в отца. На фронтовом ученьи у кадет выехал на пугливой лошади. Лошадь шарахнулась, от злобы обезумел, выхватил палаш, стал рубить пугливую лошадь. Потом соскочил, велел принести бичей и приказал наказать лошадь… Подумать только — какое скотство!
Федор Волгин сидел в то время в прихожей и думал о том, что сейчас решается его судьба. Уже более часа Можайский был у Воронцова. Прошел Касаткин, но его бесстрастное лицо ничего не выражало. Наконец сверху сбежал лакей и позвал Волгина к Семену Романовичу.
Воронцов встретил Волгина стоя, лицо его было строго, и во всем облике торжественность и особая значительность.
Он слегка кивнул на поклон и сказал:
— Ну, Федор, ты службу свою исполнил, не мне одному был ты верным слугой, а послужил отечеству. Пришло время и мне свое слово сдержать…
Он взял со стола лист бумаги с печатью и начал читать вслух тихим, старческим голосом:
— Отпускная запись… Тысяча восемьсот четырнадцатого года мая девятого дня я, нижеподписавшийся, действительный тайный советник и кавалер граф Семен Романович Воронцов, отпустил навечно на волю крепостного моего человека…
Он закашлялся и отпил глоток чаю из чашечки.
— …Федора Васильевича Волгина, записанного по ревизии Орловской губернии, Трубчевского уезда, в селе Алексеевка, до которого человека мне, Воронцову, и наследникам моим никакого дела нет, и ни во что не вступаться, и волен он, Волгин, избрать себе род жизни, какой пожелает…
Он помолчал немного, строго посмотрел на Волгина и продолжал:
— К сей отпускной действительный тайный советник и кавалер граф Семен Воронцов руку приложил… Свидетельствую подпись руки и отпускную запись генерал-адъютант, посол его императорского величества Христофор Андреев Ливен.
Волгин молчал. Немного больше года прошло с тех пор, как он стоял в этой комнате перед Воронцовым. Сколько событий прошло за этот год! Сколько раз видел он смерть глаза в глаза! И устрашился только однажды, когда на него упал взгляд выпуклых светло-голубых глаз Константина. Он глядел на бумагу, чуть дрожащую в руках Воронцова, и подумал о том, что в этих маленьких старческих руках судьба не одного его, Федора Волгина, но судьба тридцати тысяч крепостных людей. То, что сейчас даровал ему Воронцов, о чем думал он много дней и ночей, теперь стало явью, но он не мог не думать о судьбе родичей, близких, всего народа, который так доблестно защитил свою родину и после того все же остался в крепостном состоянии, в рабстве у помещиков.
Волгин взял бумагу, — она дрожала в его руках, — поклонился и ждал, пока его отпустят.
— Александр Платоныч сказывал мне, что обязан тебе жизнью, что ты выходил его, раненого, — за это я тебя отблагодарю особо… Ну, вольный человек, скажи мне по совести: останешься на чужбине или поедешь на родину?
— Поеду на родину, — твердо произнес Волгин.
— Славный ответ, достойный русского, — с чуть заметным смущением сказал Воронцов.
Видимо, он ждал такого ответа, но слова Волгина почудились укором русскому вельможе, навсегда поселившемуся на чужбине.
— Ну, иди, Волгин… — сказал он, не находя больше слов.
Можайский подметил смущение Семена Романовича, и тогда тот, чтобы забылась эта заминка, вдруг заговорил с укоризной:
— Ну вот, господа, вы все толкуете про волю для крепостного люда, а нужна ли им воля? Вот стоял передо мной Волгин, на глазах у нас стал вольным человеком и в такую священную минуту не выразил даже своих чувств, не умел выразить, потому что не знает, для чего ему воля… Нет, добрый, рачительный хозяин для крепостного человека все равно, что отец… Светлая голова — Александр Сергеевич Строганов — бывало говорил — излишняя потачка есть слабость, а не человеколюбие, а излишняя строгость есть безрассудство, а иногда и злобное тиранство. Первое — слепота, а второе — подлость и скотство. А вы, молодежь, считаете крепостное право злом и браните нас рабовладельцами…
Он хотел напомнить Можайскому его записку о крепостном состоянии, но устыдился сказать, что читал оставленные им бумаги, и продолжал:
— И все с легкой руки Радищева! Умнейший человек, а надежду полагал на мужиков, нет у меня с ним согласия… И не будет того, чего он хотел.
— Однакоже в Париже из уст в уста переходили слова государя: «Крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование».
Воронцов пожал плечами:
— Не все то, что сказано в салоне мадам де Сталь, станет законом, подписанным рукой самодержца. Ведь и бабка его писала в наказе: мы должны избегать случаев делать людей рабами, разве только к этому принудит крайняя необходимость. А сама прикрепила украинцев к земле, а сама одному только Платону Зубову — деспоту и мздоимцу — отдала на разорение тридцать тысяч крестьян западных губерний, а что до других, которые были в фаворе, тем раздала столько душ — не сочтешь… Толковать о вольности, о равенстве со Строгановым, говорить об уничтожении крепостного права с мадам де Сталь, лобызать Аракчеева и тиранить учениями солдат — вот весь Александр. А ведь сам приказывал, чтобы не обращались дурно с солдатами, не били их за ошибки в строю. Своей рукой написал: «Это изо всех средств самое дурное, и вы знаете, что я всегда ненавидел телесные наказания».
Как часто вспоминал эти слова старика Воронцова Можайский и особенно в тот год, когда произошло восстание в Семеновском полку. Александр, пообещав Васильчикову, что никто из оказавших неповиновение солдат не будет тронут пальцем, не будет расстрелян или прогнан сквозь строй, — спокойно подписал сентенцию, по которой десятки солдат — ветеранов государевой роты — были прогнаны по шесть раз через тысячу человек. Это означало казнь, равную которой по мучительству и жестокости не придумали даже инквизиторы.
38
Можайский еще с той минуты, как ступил на борт пакетбота «Дженни Блосс», почувствовал себя уже в Англии. Баранья котлета за завтраком, красный сыр, полбутылки мадеры за табльдотом — все было английское, совсем отличное от того, что было во Франции.
Шкипер ожидал попутного ветра, и на этот раз плаванье через пролив шириной в тридцать две мили отняло не три дня, как однажды было с Можайским. На рассвете следующего дня он увидел белые меловые скалы Дувра, укрепления на берегу, форты, сооруженные несколько лет назад для защиты от вторжения наполеоновских войск. Снова назойливые таможенные досмотрщики, от которых легко откупиться подачкой, снова почтовая карета, — и вечером он был уже в Лондоне.
Он ехал берегом Темзы, видел знакомые кирпичные, закопченные дома, зелень газонов, строящийся новый мост через Темзу, о котором говорили, что это будет чудо строительного искусства. Широкие улицы нового Лондона совсем не походили на узкие и кривые улицы старого Парижа. Старый Лондон часто уничтожали пожары, город строился и рос год от года, и в те времена в нем было уже более миллиона жителей. Все вокруг говорило о фабричном, промышленном городе — трубы множества фабрик, небо в каменноугольном дыму (таким был Лондон уже сто тридцать пять лет назад). Париж со своими уличными торговцами, небольшими мебельными и каретными мастерскими, с разбросанными по бульварам модными лавками казался городом из другого века.
Парижанина, приехавшего в Лондон, удивляло, что лавки примыкали плотно одна к другой. На Стрэнде, за сплошными цельными стеклами, дорого стоившими в те времена, соблазнительно разложены драгоценности ювелиров, брюссельские кружева, бронза, саксонский и севрский фарфор, тюльпаны, вывезенные из оранжерей Голландии. На Кингсвэй находились лавки книгопродавцев, в прежнее время их часто посещал Можайский. Прохожие в Лондоне ничем не походили на беспечную и шумную парижскую толпу. То были высохшие, желтолицые клерки из торговых и банкирских домов, бездельники-лакеи в ливреях всех цветов радуги, наглые, одетые по последней моде приказчики модных лавок. У Вестминстерской площади можно было видеть всадников на дорогих лошадях, кареты и кабриолеты, без всякой цели разъезжающие по площади.
Но не здесь, не на Стрэнде, не в Вестэнде, где обитали «люди хорошего тона», билось сердце города.
Оно билось на набережных Темзы, в гавани, где день и ночь грохотали окованные железом колеса огромных фургонов. Могучие кони-тяжеловозы катили платформы с бочками. Запахи оливкового масла, смолы, пряностей, кофе, корицы, сандалового дерева перемешивались с запахами гнилой рыбы и табачного дыма. Тысячи людей сновали в гавани — моряки с обветренными и загорелыми лицами; тощие, угрюмые работники канатных и парусных фабрик; якорные мастера-кузнецы в своих кожаных фартуках. Тут были и левантинцы, и негры, и креолы. Вербовщики в королевский флот искали себе жертв среди армии матросов; готовых итти внаймы на любой корабль, будь то даже гнилая посудина, которой грозит неминуемая гибель в первый же шторм в Бискайском заливе.
И над всем этим кипящим, как в котле, людом разного цвета кожи, разных наций поднимались к небу мачты множества судов со всех концов мира…
Можайский примечал и корабли работорговцев, перевозившие свой страшный груз из Африки в Рио-де-Жанейро. Борт одного невольничьего корабля был поврежден штормом, его чинили в доке. В проломе видны были клетки, похожие на соты. В каждой клетке лежа помещался невольник. В таком положении, как бы в гробу, он совершал долгий путь от родных берегов к месту своей неволи.
С презрением Можайский думал о том, что гордая Британия отказалась признать невольничий торг незаконным делом и некоторые из просвещенных англичан участвовали своим состоянием в торговле рабами и обогащались этим бесчеловечным торгом…
Можайского когда-то влекло сюда; этот мир казался ему таинственным и привлекательным. Ветер Индийского океана надувал эти коричневые, покрытые заплатами паруса; золоченая голова наяды на бугшприте глядела пять месяцев назад в воды Ганга.
Сейчас ничто не влекло его, равнодушно глядел он вокруг, — ему опостылели странствия и чужие люди. Он чувствовал себя маленьким и слабым созданием, — огромная, тяжелая рука бросала его из конца в конец Европы. Теперь волею судьбы он снова в Лондоне, где все уже знакомо — улицы, дома, люди. С тех пор, как кончилась война в Европе, его снова неудержимо тянуло на родину.
Прямо от Воронцова Можайский отправился в русское посольство.
Про русского посла, генерал-адъютанта Христофора Андреевича Ливена, он слыхал, что это опытный, пожилой, довольно умный и осторожный дипломат. При Павле I он пожалован в генерал-адъютанты. Безрассудства и крайности характера Павла ставили Ливена в трудное положение не только потому, что расположение к нему Павла могло в любую минуту смениться опалой, но и потому, что Ливену приходилось от имени императора объявлять опалу высокопоставленным лицам и выговоры великим князьям — сыновьям императора.
Когда Аракчеева постигла опала, Ливену пришлось подписывать высочайшие приказы вместо отосланного Павлом временщика. Однако Ливен сумел сохранить добрые отношения с людьми, которым ему приходилось объявлять волю полусумасшедшего Павла.
До Англии Ливен был послом в Пруссии; он первый обратил внимание императора Александра на подъем патриотических чувств в немецком народе и внушил Александру мысль о военном союзе с Пруссией, стремившейся к освобождению от французского ига.
Но сам русский посол не так интересовал любителей светских сплетен, как его супруга Дарья Христофоровна, рожденная Бенкендорф. В ту пору ей еще не было тридцати лет. Знали о ее близости к Меттерниху, о страсти к политической деятельности. Только два года она жила в Лондоне, но ее салон стал местом, где охотно собирались политические деятели.
Сердцевед и умница Воронцов считал ее умной, но не слишком образованной, обладающей редким искусством привлекать к себе людей. Дарья — или, как она себя называла, Доротея — Христофоровна умела очаровывать, но и сама была склонна увлекаться. Впрочем, особой сердечности и страстности в ее привязанностях никогда не было. Сентиментальность уживалась в ней с практичностью и осмотрительностью; она приходилась родной сестрой Александру Христофоровичу Бенкендорфу, будущему шефу жандармов.
В те времена успехи дипломата часто зависели от его личности, от умения находить друзей, привлекать к себе симпатии придворных, — Дарья Христофоровна была верной помощницей мужу. Злые языки говорили, что она ищет среди английских вельмож того, кто будет первым министром, чтобы подарить его интимной близостью, и будто бы остановилась на лорде Грее.
Особу короля представлял принц-регент, будущий король Георг IV. Дарья Христофоровна старалась обворожить близких к нему людей — первого министра лорда Ливерпуля и надменно-хмурого лорда Кэстльри. В то же время она была в дружеских отношениях с сэром Фрэнсисом Бэрдетом — лидером оппозиции в парламенте. Сэр Роберт Вильсон, состоявший английским комиссаром при русской армии в дни Отечественной войны, был членом парламента и принадлежал к оппозиции. Он немного говорил по-русски, имел приятелей в свите Александра, называл себя другом России и тоже иногда украшал своим присутствием салон Дарьи Христофоровны.
В первые годы пребывания в Лондоне чета Ливен часто обращалась к Семену Романовичу Воронцову, — его знание людей, опыт помогали послу и его супруге. Воронцов был близок с английской аристократией, дружил с лордом Пемброк, породнился с Пемброками. Семен Романович немного косился на заигрывания Дарьи Христофоровны с господами из оппозиции. Он не терпел сэра Роберта Вильсона, помня его глупые и наглые выходки против фельдмаршала Кутузова, и был несколько холоден с этим «другом России».
Переступив порог посольства, Можайский сразу ощутил ту придворную атмосферу, которую он хорошо узнал в главном штабе императора.
В сущности, это была копия двора, — все вращалось вокруг Дарьи Христофоровны. Второй особой после нее был ее супруг — посол.
Ливен принял Можайского ласково, с тем оттенком снисходительной фамильярности, которая считалась для молодого дипломата высшим благоволением, но миссия, которую выполнял Можайский, была ему не слишком приятна. Ливен уже дважды писал Нессельроде, что англичане не склонны видеть у себя на смотру в Гайд-парке семеновцев. Сейчас в письме императора, которое привез Можайский, ему предлагали проявить настойчивость в этом вопросе.
Было еще одно обстоятельство, доставлявшее некоторое беспокойство Ливену. В Англии в то время находилась Екатерина Павловна, сестра императора, влияние которой англичане считали опасным для своей политики. В их тайных донесениях из Петербурга Екатерина Павловна именовалась «умной и опасной бестией», ей приписывали характер леди Макбет.
Она не могла забыть о том, что граф Михаил Огинский в беседе с ее державным братом об устройстве Литвы предназначал ей, русской великой княжне, титул герцогини Литовской, Киевской, Подольской и Волынской. Только опасения, как примут название литовцев жители Киевщины, Подолии, Волыни, опасение возмущения украинцев помешали Александру осуществить проект Огинского. И все кончилось прозябанием в Твери между Москвой и Петербургом. Титул «тверской полубогини», поднесенный Екатерине Павловне Карамзиным, не утешал ее в тверском уединении. А между тем ей хотелось властвовать, плести политические интриги, ей хотелось власти хотя бы над Литвой и Украиной.
И вот «тверская полубогиня», оправдывая опасения лорда Ливерпуля и Кэстльри, довольно ясно показывала свои симпатии лидерам оппозиции и вызывала недовольство принца-регента и его министров. Но смел ли русский посол объяснять сестре императора, что ей не следует высказывать резких суждений о британском кабинете?
В тот день, когда появился Можайский, Ливен принужден был согласиться позвать к обеду лидеров оппозиции, понимая, что это вызовет раздражение принца-регента и его министров.
В эпоху придворной дипломатии завтраку, обеду, рауту, балу, партии в вист придавалось важнейшее значение. Именно за карточным столом первый игрок в вист во всей Европе — Талейран изобретал хитроумные политические интриги. Бал в Вене, который давал Меттерних, приобретал особое значение, — здесь иногда решались судьбы владетельных князей и княжеств, возникали и разрушались военные союзы.
Было множество примет, тончайших черточек в отношениях высоких особ к послам и друг к другу, по которым старались угадать будущую политику держав. Где именно, в какой ложе, сидит король Вюртембергский, как посмотрел император Александр на короля Саксонского, с какой дамой открыл придворный бал император Франц, — все это считалось необыкновенно важным и значительным, об этом писали подробнейшие донесения послы министрам иностранных дел. То был век, когда иностранная политика считалась личным делом монарха, делом его двора, — недаром Меттерних именовался придворным канцлером. И только самые дальновидные дипломаты начинали понимать, что не прихоть самодержца — его антипатия к Наполеону или симпатия к Бурбонам — решает судьбы страны, войну или мир. Они стали интересоваться тем, как отзовется политическая новость на курсе ренты, что думает о политическом событии банкир или негоциант из Сити. Иные свою осведомленность в делах государственных использовали и для того, чтобы удачно играть на бирже.
Семен Романович Воронцов, Андрей Кириллович Разумовский и сам государственный канцлер Румянцев были дипломатами старой школы, — они презирали Талейрана не только за то, что он был продажным по натуре и легко менял хозяев, но и за то, что он унизился до игры на бирже.
В Лондоне, казалось, все оставалось по-старому; сумасшедший король, отстраненный по своему безумию от дел, о котором говорили, что он лишился к старости рассудка, которым не обладал и в молодости, принц-регент и его кружок, алчность и продажность аристократии, продажность парламента — все это прикрывалось кажущимся величием, веками, освященными обычаями и церемониями, условностями этикета.
Для четы Ливен обеды и рауты были едва ли не самым главным в дипломатии. Приглашение к обеду или к карточному столу обсуждалось, как важное государственное дело. Приятно ли будет его светлости увидеть достопочтенного сэра Икс, с кем посадить рядом графиню Зет, как составить партию в пикет и что именно произошло между лордом-канцлером и маркизой Игрек — вот что интересовало дипломатов начала прошлого века. Много золота уходило в руки разного рода тайных агентов, шнырявших на задворках дворцов и вокруг фавориток и фаворитов влиятельных людей. В Лондоне все это осложнялось парламентской возней, интригами пока еще бессильной оппозиции против правительственной партии.
Можайский терпеть не мог такие обеды. Он знал, что людей его ранга обычно сажают рядом с молодыми секретарями посольства, там им полагается молчать, ежели и говорить между собой — то шёпотом. В таком напряженном молчании проходило чуть не два часа.
Но неожиданно он оказался в другом положении, — видимо, Дарья Христофоровна узнала, что молодой человек был любимцем Семена Романовича. Но не только поэтому Можайский был приглашен запросто — и притом за час до обеда. Супруга посла хотела познакомиться с гостем, который был офицером штаба его величества и знал немало любопытных новостей.
Дарья Христофоровна, действительно, оказалась привлекательной дамой; что-то в ее повадке и кокетливой игре с собеседником напоминало лису (кстати сказать, «лисичкой» называли ее брата, будущего шефа жандармов).
Лицо Дарьи Христофоровны можно было назвать даже красивым. Несколько портил черты острый нос и презрительная усмешка. Во взгляде ее было дерзкое высокомерие, пренебрежение ко всем, кого она считала ниже себя, впрочем, это были черты характера, свойственные остзейскому дворянству. Она держалась чересчур прямо, точно в строю, и от этого ее худощавая фигура казалась некрасивой. Но все менялось в ее неприятном облике, когда она подходила к фортепьяно. Эта надменная, светская дама была отличной музыкантшей. И когда она играла, выражение ее лица было одухотворенным и мечтательным.
Они сидели в маленькой круглой гостиной под портретом императрицы Марии Федоровны.
Сначала шли расспросы о Париже, о модах, о театре, о Клерон — сопернице в славе знаменитой актрисы Дюшенуа, о том, кто сейчас подруга сердца Милорадовича, правда ли, что обер-гофмаршал Толстой не будет больше сопровождать императора в его странствиях…
Вдруг Дарья Христофоровна наклонилась к нему так близко, что он увидел перед собой в упор ее сощуренные, пронизывающие глаза:
— Верно ли, что государь открыто показал свою неприязнь Талейрану?.. Князь Меттерних? Как обошелся с ним государь? Он был на него в обиде из-за Шварценберга?
Едва Можайский успел ответить на эти вопросы, как Дарья Христофоровна, положив руку на его локоть, спросила:
— Скажите мне: почему государь открыто выказывал свою приязнь Жозефине? Почему ласков с вице-королем Евгением, ее сыном? Что это все значит сейчас?
— Мне кажется, что это то же, что ласковость государя, выказанная им Коленкуру, преданному слуге Наполеона… Все говорит о том, что государь недоволен королем Людовиком…
Она одобрительно кивнула и тотчас спросила:
— Мы говорили о князе Меттернихе. Он, кажется, всем доволен в Париже?
— Говорят, что он опасался влияния Лагарпа на императора…
— Старый якобинец был там?
Можайский не мог сдержать улыбки при слове «якобинец». Благонамеренный, наивнейший, склонный к меланхолии и философским размышлениям о благе граждан, Лагарп ничем не походил на якобинца.
— Счастье Европы, что благоразумие восторжествовало над опасными бреднями, — не спуская глаз с Можайского, сказала Дарья Христофоровна. — Молодежь склонна к увлеченьям, и государь в молодые годы дал себя увлечь опасному человеку. Умна была Екатерина Великая, но порой играла с огнем. Вольтер и Дидро были ее советчиками, Лагарп — воспитателем любимого внука… Дошло до того, что Дидро писал для нее записку и советовал перенести столицу из Петербурга в Москву — гнездо недовольной знати… Мне кажется, вы иного мнения, — снисходительно улыбнулась Дарья Христофоровна. — А все французская философия! Как губителен был конец века для состояния умов…
Она взглянула на Можайского, он слушал с рассеянным видом, и это не понравилось Дарье Христофоровне.
В это мгновение мажордом появился в дверях и возгласил:
— Леди Анна и сэр Чарльз Кларк…
Можайский чуть вздрогнул и поймал внимательный взгляд Дарьи Христофоровны.
Видимо, Дарья Христофоровна подготовила встречу. Конечно, этого хотела Анеля Грабовская, которая теперь называлась леди Анна Кларк.
Дарья Христофоровна поднялась. Можайский увидел в дверях коренастую фигуру человека в темно-зеленом фраке и рядом с ним силуэт молодой женщины. Анеля еще более похорошела после встречи в Грабнике; лучистые глаза ее глядели на него, он поклонился. Дарья Христофоровна взяла об руку сэра Чарльза. Можайский шел рядом с леди Анной Кларк.
— Я должна поговорить с вами… — сказала она. — После, когда сядут за карты.
Съезжались гости. Из русских были только Семен Романович и пожилая, красивая дама, которую приняли очень почтительно и посадили рядом с хозяином. Английские гости были лорд Лаудэрдэль, лорд Лаусдон, лорд Грей, сэр Роберт Вильсон с длинным красным носом, — эти господа принадлежали к партии вигов и были в оппозиции к нынешнему кабинету. Осторожный Ливен принимал их по настоянию Екатерины Павловны, но старался не придавать обеду официального значения.
Семен Романович не любил этих господ главным образом потому, что почти все они не пренебрегали торговыми делами. Он не хотел понять, как могли эти господа записываться в ремесленные цехи, чтобы приобрести доверие простолюдинов. С насмешкой он называл их «лордами-лавочниками», «маркизами-башмачниками». Можайский спорил с ним и считал это только изъявлением уважения к британской торговле и промышленности. Наступил новый век — век, когда герцоги и маркизы искали расположения банкиров с Ломбард-стрит. Называли имена аристократов, которые обогатились, покупая французскую ренту, когда она, накануне вступления союзных войск в Париж, упала до сорока пяти франков, а после того, как все успокоилось и приказано было открыть биржу, поднялась до шестидесяти трех франков.
Можайский не сводил глаз с краснолицего сэра Роберта Вильсона.
Вильсона он видел однажды после битвы у Дрездена, на пути в Теплиц. Вернее, видел его фургон, для которого прославленный адмирал требовал усиленного конвоя, упирая на то, что у него в фургоне важные документы воюющих держав. Дежурный генерал приказал дать конвой, но втихомолку говорили, что в фургоне не столько важные документы, сколько доброе вино, хрусталь, разные антики, позаимствованные Вильсоном в сумятице. Его посадили между Можайским и Семеном Романовичем. Он тут же завязал разговор с Можайским о цыганах и цыганских песнях и плясках, которые успел оценить, когда был в Петербурге. Пока лакеи наполняли бокалы, он продолжал воспоминания о России, щеголяя русскими словечками, спрашивал о здоровье Беннигсена, с которым был в большой дружбе, и, немного путаясь в именах и отчествах, называл генералов и придворных, знакомых по России.
Можайский отвечал коротко и вежливо, — мысли его были далеко от этой отделанной темным дубом столовой, освещенной скрытыми в карнизе, свечами и лампами, горевшими молочным, мягким светом. Они назывались алебастровыми и были новинкой.
Как было принято в те времена, за обедом много пили, и еще раз Можайский убедился в ловкости и обходительности Дарьи Христофоровны; она умела поддерживать за столом хорошее настроение, пока ее супруг вел глубокомысленный разговор с сэром Чарльзом Кларком…
— Какое горе… Хлоя еще до сих пор недомогает…
Хлоя была знаменитая гончая сука, принадлежавшая лорду Лаусдону. Далее разговор пошел о достоинствах английских и русских борзых. Можайский глядел на сэра Кларка и вспоминал все, что о нем говорил Семен Романович. Он глядел на его прозрачное, как бы восковое лицо, на трясущиеся щеки и оттопыренную губу и думал, что, несмотря на свою беспутную юность, сэр Чарльз на склоне лет стал ревностным служакой и, вероятно, нет такой подлости и преступления, которых не совершил бы этот англичанин для пользы дела, которое ему доверили.
Внезапно он услышал имя Кутузова и прислушался, потому что имя это назвал Роберт Вильсон.
— Такую живость ума, жизнерадостность, склонность к веселью я редко встречал у людей его возраста… — говорил сэр Роберт. — Вместе с тем он соединял учтивость в обращении с крайней подозрительностью и осторожность с хитростью византийца времен упадка.
— Фельдмаршал долго жил в Париже, — сказала Дарья Христофоровна, — он хорошо изучил национальный характер французов, их неспособность вести долгую и трудную кампанию в незнакомой стране. Он знал, что бездеятельность, бивуачная жизнь в сырости, в холоде повлечет за собой уныние и упадок духа… Это один из секретов его стратегии.
Поставив на стол пустой бокал, сэр Роберт Вильсон продолжал громко и немного возбужденно:
— Я отдаю должное его образованности и уму, но думаю, что фельдмаршал был скорее дипломатом, чем воином. Успехи дипломатии он предпочитал риску военных случайностей…
— Я не вижу в этом ничего дурного, — вмешалась Дарья Христофоровна, — но, может быть, я рассуждаю как жена дипломата…
— Меня удивляло, когда Кутузов появлялся перед войсками в дрожках, а не верхом…
Семен Романович, до сих пор молча слушавший Вильсона, вдруг поднял голову:
— Я думаю, что для каждого русского одно появление фельдмаршала было радостью и заставляло сердца биться предчувствием победы. Они видели ученика Суворова и Румянцева, героя Измаила. Иные генералы, гарцевавшие на кровных жеребцах перед строем, не вызывали в них этого чувства.
— Победителей не судят, — заметила Дарья Христофоровна.
— Кутузов не только победитель, но спаситель отечества, — сказала дама, сидевшая рядом с Ливеном, — а может быть, и спаситель самой Европы.
Багровое лицо сэра Вильсона слегка вспотело; возможно — от вина, в котором он себе редко отказывал. И тогда ему изменял такт и умение избегать острых застольных бесед.
— Один только фланговый марш к Тарутину — блестящий маневр, — заметил сэр Чарльз Кларк; он понял, что тирада Вильсона плохо принята русскими, и решил замять неловкость.
— О, да! — подхватил Вильсон и стал объяснять лорду Грею тарутинский маневр Кутузова.
— Однако нельзя сказать, что Наполеон был разбит хотя бы в одном сражении, — нехотя процедил лорд Грей.
— Наполеон был разбит в России не раз, — спокойно сказал Семен Романович. — Я давно уже перестал быть военным человеком, но скажу: два, три, даже десять выигранных сражений не решают дела. Все решает выигранная кампания. Вспомним Россию и кампанию в Саксонии и Франции.
Пока шел этот разговор, Можайский с горечью думал о том, что люди, которые были союзниками России в войне против Наполеона, сейчас хотят унизить русских и отнять у них заслуженную славу.
Обед подходил к концу, мужчины остались одни. Семен Романович уехал, сославшись на нездоровье.
Это немного удивило Можайского, потому что Воронцов придавал немалое значение застольным беседам и вообще хорошему обеду. Недаром он поучал молодого дипломата — «Хороший стол помогает узнать, что делается в стране, связанные с этим расходы не только вполне оправданы, но и полезны. За обильным столом примиряются противоречья, раскрываются сердца собеседников». Впрочем, эти же мысли Можайский нашел в известном труде Кальера «О способах вести переговоры с монархами», изданном в Париже в 1716 году.
Языки развязались, и Можайский увидел, что англичане, нисколько не чинясь, много пили, свободно судили о делах политических, не стесняясь называли обидными кличками лорда Ливерпуля и Кэстльри, а сэр Вильсон обозвал Веллингтона упрямым испанским мулом. Про министра колоний говорили, что его можно купить за сходную цену, на что лорд Лаудэрдэль заметил, что любого можно купить за хорошую цену.
Можайскому и раньше приходилось слышать подобные речи за бутылкой вина в Жокей-клубе, но в стенах российского посольства такой разговор показался слишком вольным. Он вспомнил слова сатирического писателя Шеридана: «Дайте им продажную палату лордов, дайте им продажную палату общин, дайте им тирана-монарха, подхалимствующий суд, а мне дайте только свободную прессу, — я не позволю им ни на волос умалить вольность Англии». Но славный английский сатирик был на пороге смерти и до конца дней не имел в своих руках свободной и нелицеприятной прессы. А эти господа имели все то, чего были достойны, — продажные палаты, тирана-монарха и покорный им суд.
Хозяин делал вид, что не придает значения злым шуткам гостей, и оставил их на некоторое время одних. Тут внимание англичан обратилось на Можайского, — он был хоть и молод, но боевой офицер, к нему, видимо, был расположен посол и его супруга. Сэр Роберт Вильсон, стал называть имена своих добрых друзей — русских офицеров гвардии, расспрашивая, где они и в добром ли здоровье. Можайский многих знал, но отвечал осторожно, потому что назвать точно место, где они находились, значило выдать расположение гвардейских полков во Франции. Он заметил, что под видом невинных расспросов эти господа старались узнать, сколько именно полков держит Россия во Франции и в Польше. Его немного смешили эти ухищрения, он привык к ним, — так уже повелось здесь издавна, чуть ли не со времен первого русского посольства ко двору королевы Елизаветы.
Лорд Грей, более надменный и высокомерный, чем другие, интересовался особой князя Репнина, назначенного губернатором в оккупированную Саксонию; лорд Лаудэрдэль обнаруживал познания в артиллерии. Он беспокоился о состоянии русских артиллерийских парков после продолжительной кампании. Можайский говорил охотно, но совсем не о том, о чем его спрашивали; в конце концов разговор свелся к лошадям, собакам, редчайшим винам и их особенностям.
Вдруг сэр Роберт Вильсон, не выпускавший из рук бокала, изобразил на лице ужас и сказал:
— Достопочтенные господа! Что, если в эту минуту Бонэй всходит на корабль, чтобы покинуть навсегда Эльбу и высадиться во Франции?
Все на мгновение замолчали, потом раздался хохот, привлекший внимание дам. «Бонэй» была кличка Бонапарта, которую ему дали английские солдаты. Хохотали над тем, что случилось спустя пять месяцев.
Нетерпение Можайского возрастало, он едва дождался, когда все встали из-за стола. В малой гостиной он увидел Дарью Христофоровну, незнакомую дородную даму и ту, которую он знал под именем Анели Грабовской.
Он подошел к ней, с трудом скрывая волнение.
— Вы чуть-чуть постарели, — сказала она, — впрочем, было от чего постареть, — и она подняла глаза на черную повязку, скрывающую шрам.
— Я долго ждал встречи с вами, — сказал Можайский.
— Не ради меня, конечно, — она оглянулась и увидела, что Дарья Христофоровна увлеклась беседой с дородной дамой.
— Вы можете мне рассказать об участи Екатерины Николаевны? Это очень важно для меня.
— Знаю…
— Она здесь, с вами?
— Нет… Но что вам до нее?
— Леди Анна…
— Зовите меня Анеля, мне все еще нравится мое старое имя. Что вам до милой Катеньки? Бедная! Когда вы встретились в Грабнике, как вы обошлись с ней?
Она говорила это, временами внимательно поглядывая на него, говорила с подчеркнутой небрежностью.
— Вы видите, я знаю все…
— Зачем вы так говорите со мной? Разве я стал бы из пустого любопытства спрашивать о ней?
— Почему бы нет? Соотечественница, добрая знакомая дней юности. Почему бы не спросить о ее судьбе?
— Где же она?
— В России.
— В России? — Он мог всего ожидать, кроме этой вести.
— Она в Васенках. Разве вы не знали? — с недоверием спросила она.
— Как я мог знать об этом? Три месяца я был между жизнью и смертью.
— Я это знаю. Мы обе были у вас в госпитале во Франкфурте.
Ее слегка испугало выражение его лица. Это было смятение, изумление и скорбь. Но тотчас лицо его озарилось радостью — Катенька не покидала его на пороге смерти. Виденье не было галлюцинацией.
— Катенька вернулась в Россию. Скончалась ее тетка, и ей по завещанию достался хуторок близ Васенок. И она вернулась туда.
— Там я увидел ее в первый раз…
— Тем печальнее для нее воспоминания.
Она оглянулась на гостей. Мужчины усаживались за карточный стол, Дарья Христофоровна рассказывала о путешествии в Шотландию сестры императора:
— …Вечером ее высочество приветствовали горные кланы. Ее высочество увидела пляску с мечами при свете факелов, под звуки волынок… Ее высочество была тронута гостеприимством этих детей гор…
— Мы еще встретимся, — сказала Анеля, — и поговорим обо всем… Вы не будете скучать у меня. Мои друзья шутя называют мой дом «салоном мадам Жоффрен». Но увы, вы не увидите у меня современного философа и не услышите сочинения, подобного его шедевру «О разуме»… Иной век, иные люди… — и она указала глазами на жирный затылок сэра Кларка, сидевшего за карточным столом. — Правда ли, что в свите императора Александра в Лондоне будет князь Чарторыйский? Видите, я все еще думаю о польских делах. Здесь, в австрийском посольстве, очень обеспокоены приездом Чарторыйского… Говорят, что Меттерних из-за этого не едет в Лондон.
— Если князь Адам приедет, то только как генерал-адъютант русского императора.
— Значит, он не будет представлять Польшу?
Начался обычный разговор, которого так не хотел Можайский.
Он решил проститься с хозяйкой, Доротеей Христофоровной, и уехать, сославшись на спешные дела — нынче был почтовый день, но вдруг услышал дребезжащий голос в гостиной:
— Если бы вернулись времена инквизиции — он заслужил бы костер. А книгу его следовало бы сжечь, она должна быть сожжена рукой палача!
— Вы можете швырнуть ее в камин, как сделал я.
— Где же предел бесстыдному вольнодумству?
Можайский заглянул в гостиную и увидел сэра Чарльза Кларка. Он стоял, сжимая кулаки, его желтое лицо покраснело от волнения, черные, обычно полузакрытые глаза горели злым огнем.
— Вы говорите о «Корсаре»? — отложив карты, спросила дородная и красивая дама, — я не нашла в этой поэме ничего, кроме забавной любовной истории и прелестных пейзажей.
— Произведение развращенного ума! Безнравственные и опасные стихи! — послышался гнусавый голос из угла.
Лорд Грей отложил карты и сказал сухо и внушительно:
— Лорд Байрон воспользовался этой книгой, чтобы нанести оскорбление главе государства.
— Но принц принял эту выходку спокойно…
— Он слишком высоко стоит, наш принц-регент, чтобы его задели брызги ядовитых чернил.
Эти слова произнес сэр Роберт Вильсон.
Наступило молчание.
— Мне кажется… — вырвалось у Можайского, и все взоры вдруг обратились к нему. Всем показалось удивительным, что молодой человек осмелился высказать свою мысль, какой бы она ни была, — мне кажется, что это небольшое стихотворение не может бросить тень на поэму «Корсар» и другие прекрасные произведения великого британского поэта.
— Вы думаете? — сказала Доротея Христофоровна и бросила изумленный взгляд в сторону Можайского. — Лорд Байрон сам называет свои эпиграммы ручными гранатами… все знают, в кого он метил. Можно себе представить, как примет эти восемь строк ирландская чернь.
Сэр Чарльз Кларк повернулся к Можайскому и смерил его ироническим взглядом:
— «Великий британский поэт»… Бог мой, в какие презренные уста вложил ты дар песен!
— Но это дары дьявола, а не бога — поднимаясь, сказал лорд Грей. — Мне говорили, что лорд Мэгон советовал Байрону просить аудиенции у принца. Может быть, наш добрый принц простил бы запальчивость поэта. Но этот гордец не принял мудрый совет.
— Называет себя республиканцем…
— Восхваляет времена Кромвеля!
— Апостол безбожия и либерализма!
Можайский поторопился проститься с хозяйкой, она неблагосклонно взглянула на него. Дородная русская дама улыбнулась Можайскому.
Спускаясь по лестнице, он все еще слышал жужжание голосов:
— …дерзость!
— …безнравственность!
— …безбожие!
«Точно потревожили осиное гнездо, — подумал Можайский, — и все это из-за эпиграммы «Плачущая девушка». Восемь строк, обличающих пороки принца-регента, безжалостного ненавистника ирландского народа… поистине надо быть великим поэтом, чтобы возбудить такую ненависть этих людей», — думал Можайский, глядя сквозь стекло кареты на освещенные окна посольства и силуэты, мелькающие в окнах.
39
Воротившись в гостиницу, Можайский долго не мог собраться с мыслями. Катенька Назимова в Васенках! Может быть, сейчас, немедля, ему следует вернуться на родину? Может быть, эта встреча будет тем счастьем, которого он ожидал? Никогда он так не сетовал на тяжкую для него службу, как в эту минуту.
Анастасия Дмитриевна скончалась. Капризная и вздорная старуха, избалованная богатством и властью над тремя тысячами людей, она была сурова к Катеньке, которую опекала.
Можайский думал и о том, что он наследник всего состояния Анастасии Дмитриевны. До сих пор он еще не знал об этой перемене в своей жизни. Впрочем, когда он мог узнать? Во Франкфурте он был почти без сознания, затем, еще не оправившись от раны, догонял армию, в Париже пробыл недолго. Три тысячи душ… Это означало, что он перестал быть «нищим в мундире», что он больше не будет испытывать унизительного положения рядом с богатыми товарищами по службе. Наконец, он мог оставить службу. Две раны, особенно последняя, до сих пор причиняющая ему мучения, — повод для того, чтобы уйти в отставку. Война кончена. Карьера, флигель-адъютантский эполет и аксельбант никогда не привлекали его.
Когда он был беден, он мог с чистым сердцем негодовать против рабства, с возмущением говорить о крепостном состоянии крестьян. Но теперь… Три тысячи крепостных стали его собственностью. Что сделать для них? Он вспомнил Николая Ивановича Тургенева, ненавистника рабства, и пожалел, что того нет здесь, — он мог бы дать добрый, разумный совет.
К изумлению слуг, Можайский поднялся в верхний этаж гостиницы, где были комнаты для прислуги. Он отыскал келью Феди Волгина, вошел к нему с зажженной свечой в руках. Волгин проснулся и с удивлением глядел на его бледное, осунувшееся лицо.
— Федя, — сказал Можайский, — прошу тебя, как ближнего своего, поезжай домой, поезжай прямо в Васенки. Там Екатерина Николаевна. Отвезешь ей от меня письмо…
Волгин молча слушал.
— Отчего ты не сказал мне, что она была у меня в лазарете во Франкфурте?
— Катерина Николаевна наказывала не говорить вам. Я слово дал.
Наступило молчание. Можайский не уходил.
— Ну, Федор, вот я стал помещик… Тетка Анастасия Дмитриевна приказала долго жить. Я прямой наследник. Святое переходит ко мне… Три тысячи душ, да одних дворовых душ двести…
— Что ж… Женитесь, хозяйничать станете? — в упор взглянув на Можайского, спросил Волгин.
— Больше года мы с тобой вместе, Федор… Я думаю, ты узнал меня хоть немного… Давай говорить по душам. Ты думаешь, я не приметил, как ты слушал все наши речи в Париже, да и раньше?
— Слушал. Так, ведь мало ли что в сердцах скажешь…
Он вдруг поднялся, сел на постели и заговорил, глядя прямо в глаза Можайскому:
— Слышал я и то, что говорили вы с покойным Александром Самойловичем. Он — умница был, богатырь духом, в походе жил, спал, из одной чашки ел и пил с солдатами… А души народа не знал. Помните, спрашивал вас: нужна ли народу воля? Дядя мой своими глазами видел, как Емельяна Пугачева казнили в Москве, на Болоте. Дядя мой, Антон Иванович, рассказывал, как тиранили народ приказчики Демидовых на Уральских заводах и как войско кровью тушило пожар пугачевский… Однако же вы сами однажды Дмитрию Петровичу рассказывали, что народ бунтовал от мздоимства, от тиранства ожесточился народ. Мне двенадцать лет было, когда в селе Брасове фельдмаршал Репнин лютовал. Из пушек в крестьян стреляли, двадцать человек убили и до семидесяти ранили… Мужика Чернодырова, который крестьян взбунтовал, тоже Емельяном звали. Крестьян побитых в яме зарыли и написали: «Тут лежат преступники против бога, государя и помещиков, казненные огнем и мечом». Фельдмаршалу Репнину за покорение брасовских крестьян дали Владимира на шею, а генералу Лиднеру — выговор за то, что досталось ему от мужиков по спине дубиной.
— Да, я слыхал об этом.
— Почему же народ бунтовал? В Орловской, в Тульской, в Калужской… Потому что государь Павел Петрович приказал, чтобы крепостные присягали ему на верность наравне с прочими сословиями, чего до сих пор не было. И пошел в народе слух, что присяга сия означает — впредь крестьянам не быть за помещиками. Пошел слух, будто государь освободил народ, а помещики скрывают. Вот тогда и поднялось крестьянство у нас в Орловской, и в Калужской, и в Тульской… И манифест вышел, чтобы всем помещикам принадлежащие крестьяне спокойно пребывали в прежнем их звании, то есть работали на помещиков своих… Я сам слышал тот манифест, в церкви поп Василий читал.
— К чему ты мне все это говоришь? — с сомнением произнес Можайский.
— А к тому, что ежели от закона о присяге крестьяне поднялись с дубинами, то, значит, больше жизни дорога крестьянину воля и живет она в душе каждого крепостного человека, как бы он унижен ни был помещиком… И ни палашами, ни батогами, ни пушками того не истребишь!
Можайский молчал. Еще тяжелее стало у него на душе. Он говорил с вчерашним крепостным, ныне вольным человеком, и все же между ними была пропасть. И что он ответит Волгину, он — столбовой дворянин, а теперь владелец трех тысяч крестьянских душ? Неужели же оправдывать дворянство тем, что в войске пугачевском был офицер Шванвич или что в бунте крестьян Воронежской губернии участвовал молодой дворянин Шепелев, родственник помещика, против которого бунтовали крестьяне. И какое же это искупление злодейств, учиненных и учиняемых дворянством уже не одно столетие?
…Не прошло недели, как отпущенный на волю графом Воронцовым крестьянский сын Федор Васильевич Волгин с паспортом и подорожной русского посольства ступил на палубу английского купеческого корабля «Виндзор». Корабль направлялся через Гамбург и Штеттин в Кронштадт.
Можайский проводил Волгина в Таунсенд и, перед тем как поднялся якорь, вручил ему два письма. Одно было в опекунский совет; его составил Касаткин, в нем говорилось о введении в права наследства гвардии капитана Александра Платоновича Можайского, единственного и законного наследника статс-дамы Анастасии Дмитриевны Ратмановой. Другое письмо написал Можайский, в нем было всего несколько слов — письмо к Екатерине Николаевне Назимовой.
40
В одиннадцать часов утра следующего дня русскому послу Христофору Андреевичу Ливену был назначен прием у лорда Ливерпуля, первого лорда казначейства, как именуют в Англии первого министра. Можайский, как курьер, доставивший собственноручное письмо императора принцу-регенту, сопровождал Ливена. Когда карета посла, миновав Сент-Джемский парк, свернула на Доунинг-стрит, ее обогнали два всадника.
— Лорд Кэстльри, — назвал первого Ливен, а другого: — лорд Батэрст, государственный секретарь по военным делам.
Двое верховых лакеев сопровождали министров. Всадники опередили тяжелую карету, и когда она подъехала к невзрачному закопченному дому первого министра, их лошадей уже водили по улице лакеи.
Ливен и Можайский вошли в небольшую прихожую, прошли длинный коридор со многими дверями, которые вели в канцелярию. Из дверей на них с любопытством и без всякого стеснения глазели молодые писцы. Седой и угрюмый на вид человек в темно-коричневом сюртуке вышел им навстречу, — это был помощник государственного секретаря Гамильтон, которого Можайский знал в лицо.
После Парижа, после пышных церемониальных приемов, которые так любил Талейран, здесь все выглядело буднично и уныло.
Они поднялись по лестнице во второй этаж. Портреты премьер-министров Великобритании в париках и шитых золотом кафтанах надменно и даже пренебрежительно глядели с высоты. Гамильтон отворил двери и посторонился. Они вошли в большую светлую комнату, и лорд Ливерпуль, поднявшись с кресла, сделал шаг к Ливену. Небольшого роста, еще не старый человек, очень подвижной и бодрый, лорд Ливерпуль был главой партии тори. В Англии говорили, что главная его обязанность — выдавать деньги тем, кого покупает лорд Кэстльри. Сам лорд Роберт Генри Стюарт Кэстльри, с красивым женственным лицом и странным, как бы невидящим взглядом больших выпуклых глаз, стоял у стола, покрытого зеленым сукном. Пока Ливен и Ливерпуль, а затем и Кэстльри обменивались обычными официальными любезностями, Можайский оглядел место, где он находился впервые.
Это был небольшой зал с камином и большим столом в центре; у стола стояло кресло премьер-министра, вокруг — обитые темно-синим плюшем стулья с высокими резными спинками. На стенах висели большие, превосходно выполненные карты всех стран света.
Лорд Ливерпуль сел в свое кресло и указал рядом с собой место Ливену, изнывавшему от жары в парадном мундире, в ленте и при всех регалиях. Тот тяжело опустился на неудобный высокий стул. Кэстльри остался стоять у камина, внимательно рассматривая статуэтку на каминной доске. Ему тоже было жарко, он обмахивался большим шелковым платком.
Можайскому пришла в голову странная мысль. «Вот тут, — думал он, — на том самом кресле, где сидит Ливен, еще недавно, как бедный проситель, вздыхая и жалуясь, сидел толстый Людовик в бархатных сапогах, и лорд Ливерпуль и лорд Кэстльри с брезгливым равнодушием слушали его сетования. А теперь этот подагрический старик их усилиями водворен в Тюильрийский дворец и посажен на трон…»
— В прошлое наше свидание я имел честь довести до вашего сведения… — начал Ливен.
Лорд Ливерпуль оглянулся на Кэстльри, и тот, казалось, весь ушедший в свои мысли, оторвался от статуэтки на камине. Он закрыл дверь, ведущую на балкон, и сел по правую руку Ливерпуля. Его большие белые руки, лежавшие на столе, чуть дрожали.
«Ужели в этих руках, — думал Можайский, — политика Англии?»
Ливен снова заговорил. Речь шла все о том же Семеновском полке, который царь желал показать на смотру в Гайд-парке.
— Его величество уверен, что лондонцам доставит удовольствие присутствие на смотру старейшего и храбрейшего полка русской гвардии. Тем самым как бы подчеркивается наше братство по оружию, — храбрейшие русские и британские солдаты пройдут перед его высочеством принцем-регентом и державными его гостями…
Лорд Кэстльри тяжелым и сонным взглядом посмотрел в сторону, и только тогда Можайский заметил согбенную, хмурую фигуру Гамильтона, стоявшего у кресла Ливерпуля.
— Его высочество принц-регент с нетерпением ожидает прибытия императора Александра, прусского короля и их свиты… — без всякого выражения, заученным, ровным тоном сказал лорд Ливерпуль. — Лондонцы ожидают часа, когда высокие наши гости вступят на гостеприимный берег Англии, но… — и он посмотрел на Кэстльри.
— Но его высочество принц-регент не властен менять законы Англии, — вздыхая, произнес Кэстльри.
И, как бы взывая о помощи, оба уставились на Гамильтона.
— Не властен, — глухим голосом заговорил Гамильтон. — Законы Соединенного королевства воспрещают появление иноземных войск на островах. В 1433 ив 1562 году возникали подобные казусы, но мы не можем иначе толковать закон, как воспрещение появления чужеземного, пусть даже союзного, войска на нашей земле, с какой бы целью оно ни прибыло на острова.
Наступило молчание. Ливерпуль с любопытством глядел на Ливена, Кэстльри, по-прежнему поглаживая большие белые руки, смотрел тяжелым и сонным взглядом на Гамильтона.
Ливен встал, и тотчас за ним поднялись Ливерпуль и Кэстльри.
— Мне остается только доложить о нашей беседе его императорскому величеству, — сухо и довольно твердо сказал Ливен. — Не скрою, что ответ ваш доставит огорчение императору.
Лицо лорда Ливерпуля выразило некоторое оживление. Неприятный разговор был окончен.
— Не сомневаюсь, что его величество приятно проведет время в нашей гостеприимной стране. Англичанин на чужбине и англичанин дома — это нечто совершенно разное.
Лицо Ливена приняло странное выражение, — то ли он удивился этому открытию, то ли не понимал, как можно после такой неприятной беседы говорить подобные пустяки.
Гамильтон проводил посла до прихожей.
— Ее императорское высочество все еще путешествует по Шотландии? — осведомился он, хотя отлично знал, что Екатерина Павловна в Эдинбурге и что она в беседе со знаменитым Вальтер Скоттом довольно бестактно напомнила ему цитату из Вольтера о том, что история Англии писана рукой палача.
В карете, когда они остались одни, Ливен вздохнул. Он думал о том, что ему, немолодому человеку и опытному дипломату, пришлось пережить неприятные минуты и что можно было избегнуть этого унижения, если бы не настойчивость и упорство Александра в ничтожных мелочах.
В тот же день курьер повез Александру ответ лорда Ливерпуля и Кэстльри. Ливен знал характер Александра Павловича и, чтобы позолотить пилюлю, сообщил о приготовлениях к пышному приему, о том, что вся Англия с нетерпением ожидает высоких гостей.
Отчасти это была правда. Народ с нетерпением ожидал русских. «Англия могла только пошатнуть колосса, Россия его низвергла», — говорили народы Европы.
Но ни Ливерпуль, ни Кэстльри не слышали голоса народов. Это были министры-придворные; им все еще казалось, что история народов творится в королевском дворце, что Англия — это принц-регент, лорд Ливерпуль, лорд Кэстльри, и все будет так, как хотят в Сент-Джемском дворце.
Была палата пэров и палата общин, великая хартия вольностей, была конституция; они ничего не собирались менять, да и нужно ли было менять, когда все вокруг было продажным, все покупалось за деньги, за титулы, только какой-то опасный чудак лорд Байрон дерзал произносить в палате пэров речь в защиту ноттингемских ткачей. Но были люди в Англии, которые никак не могли понять, почему конституционные министры Англии были опорой злейшей реакции в Европе.
Можайский был уже далеко от Доунинг-стрит, но ему все еще мерещилось лицо, красная шея, стеклянные немигающие глаза лорда Ливерпуля и большие белые руки лорда Кэстльри. Он все еще видел перед собой двух, казалось, всесильных людей, представляющих владычицу морей — Британию.
Могло ли притти в голову Можайскому в то жаркое, летнее утро в Лондоне, что лорд Кэстльри окончит свои дни, перерезав себе горло в Порт-Крее, в Кентском графстве, а лорд Ливерпуль умрет мучительной смертью в припадке безумия? Именно таким был конец этих людей, которые в начале девятнадцатого века держали в своих руках судьбы войны и мира в Европе и Америке.
41
Из записей в дневнике Александра Можайского, помеченном 1814–1815 годом
«…Я имел необходимость посетить моего банкира мистера Адамсона. Дом его находится на Ломбард-стрит, поблизости биржи. Живет мистер Адамсон в весьма-скромном доме, ничуть не похожем на чертоги банкиров парижских с их тенистыми каштановыми аллеями, колоннадами и крытым подъездом.
Слуга открыл мне входную дверь, на которой была медная доска и на ней имя моего банкира. Все было здесь скромно, пол покрыт не коврами, а крашеным чистым холстом, в большой комнате, склонившись над толстыми книгами, сидели писцы, и в тишине слышался только скрип их перьев.
Вот, подумал я, торговая храмина, в которой обращаются миллионы, банковые билеты, векселя за подписями купцов всех четырех стран света.
Слуга проводил меня в гостиную во втором этаже, просил обождать несколько минут, — и точно, не прошло и трех минут, как дверь кабинета банкира открылась и вышел молодой человек в светло-сером сюртуке. Я мельком взглянул на него. Кивнув мне, он стал спускаться по лестнице. Тут господин Адамсон пригласил меня войти к нему в кабинет.
Пока банкир рассматривал вексель и рекомендательное письмо нашего посла, я успел осмотреть кабинет одного из королей лондонского Сити. Он был убран просто, но все говорило о вкусе хозяина — кресла, обитые темно-зеленым сафьяном, большой стол черного дерева, красивые бронзовые часы на камине. Две японские, тончайшей работы, вазы стояли в углах на постаментах из черного дерева. Над столом я увидел портреты Питта и Нельсона. У дверей большой стеклянный шкаф, наполненный книгами.
Самому хозяину было не более шестидесяти лет, волосы его поседели, но брови черные, сросшиеся у переносицы, над длинным тонким носом. Он уставил на меня свои серые живые глаза и сказал:
— Жалею, что я не был предуведомлен о вашем приходе… Вы — русский, а только что ушел от меня господин, который давно имеет желание посетить вашу родину. Ему было бы интересно свести знакомство с русским, да еще к тому же принадлежащим к посольству.
Я промолчал, а господин Адамсон, делая пометки на моем векселе, продолжал:
— Имя его, возможно, вам знакомо: это известный наш стихотворец лорд Байрон…
Я невольно вздрогнул, услыхав это славное имя: так вот кто был встреченный мной молодой человек! И как я мог не узнать его…
— Я не имел удовольствия читать его творения, — рассуждал мистер Адамсон, — ибо, кроме произведений великого Мильтона, я никаких стихов не читаю, но наша молодежь от него без ума, и мои племянники бредят поэмой Байрона, не помню ее названия…
— Какая жалость! — воскликнул я. — Почел бы счастьем познакомиться с ним.
— О, да, — сказал мистер Адамсон, — он знатного рода…
Об остальном не стоит говорить. Я быстро окончил мое дело у Адамсона и ушел, горько сожалея о том, что мне не удалось познакомиться с величайшим поэтом нашего времени…
Сколько видишь здесь пустых и ветреных людей, сколько лжи и ненависти извергают их уста при одном имени лорда Байрона, однако при встрече с ним уста их немеют, ибо они знают, что он один из лучших бойцов на саблях и один из самых метких стрелков Англии. Мистер Адамсон еще сказал мне, что Байрон намерен ехать в Россию и избрал для этого длинный путь — через Персию… Поэт, ты близок нам, русским, еще тем, что ты почитаешь народ, сокрушивший деспота Наполеона…»
На этом обрывается краткая запись в дневнике Можайского, сделанная в начале июня 1814 года. Для него наступили дни, когда пришлось исполнять множество мелких и хлопотливых, требующих такта и знания нравов и обычаев страны обязанностей.
Седьмого июня 1814 года император Александр и его свита высадились в Дувре. Тысячи жителей окружили экипажи, в которых находились русские. В то время Европа называла Александра «умиротворителем вселенной».
В толпе было более всего простолюдинов. Можайский не мог сдержать волнение, когда увидел толпу, воздающую славу освободителям Европы от тирании Наполеона, спасителям Англии. Женщины благодарили русских за то, что их оружием была окончена длительная и кровопролитная война, что острову уж больше не грозило вторжение наполеоновских гренадер. Об этом думали люди, которые рукоплескали Александру и боевым его генералам — Барклай де Толли и особенно Платову. Ни прусский король, ни прусские генералы — Блюхер и Иорк — не были встречены так радушно и приветливо, как народ встречал славного наездника, атамана Войска Донского Матвея Ивановича Платова.
Едва он показался на палубе корабля в своей атаманской шапке с пером, в толпе раздался всеобщей крик восхищения:
— Платов!
Его знали по картинкам, которыми бойко торговали на улицах Лондона. Уже никто не глядел на генерал-адъютантов в их сверкающих золотом и бриллиантовыми звездами мундирах, тем более на дипломатов — Нессельроде, Гарденберга и Гумбольдта.
Сидевший в одном экипаже с Платовым соотечественник англичан лейб-медик Виллие, о котором особо писали газеты, произнес от имени атамана несколько слов благодарности, и это вызвало новую бурю восторга. Матвей Иванович встал, поклонился, и если бы не эскорт конной гвардии, его кафтан был бы изорван в клочки любителями сувениров.
При всех многочисленных обязанностях Можайский все же успел записать некоторые впечатления этих дней. И так как в них описывались не только пышные рауты и празднества, но и тайные интриги политического значения, относящиеся к пребыванию русских в Лондоне в 1814 году, то следует привести некоторые из этих записей Можайского, ценных еще и потому, что они были сделаны по горячим следам событий того времени.
«…прав был Семен Романович, когда говорил мне, что государю не следует ожидать истинно сердечной и дружественной встречи на берегах Англии. Точно так же думал и Ливен, когда ему приходилось не раз выслушивать от лорда Ливерпуля и Кэстльри напоминания о денежной помощи, оказанной Англией, о более чем миллионе фунтов стерлингов, которые были даны России как заем за хороший процент. В то время, когда англичане оказали нам сию помощь, наш канцлер Николай Петрович Румянцев писал, что следует отклонить сие приношение и не допускать иностранцам иметь когда-либо повод хвалиться или упрекнуть Россию своим подаянием. Ни пышные празднества, ни славословия не скроют от наших глаз холодного расчета английских политиков.
…Вчера утром спущен на воду восьмидесятипушечный корабль, названный в честь Матвея Ивановича «Граф Платов». Когда убрали стрелы и громада сия двинулась на катках в воду, все рукоплескали Платову. После церемонии леди Леонора Эглемонт и леди Мэри Гакстон попросили у Матвея Ивановича несколько волосков из его усов; храбрый атаман посмеялся и пообещал прислать им на память портрет его на коне, сделанный искуснейшим нашим гравером. На другой день в Оксфордском университете состоялось присуждение Матвею Ивановичу Платову звания почетного доктора права. На плечи ему возложили тогу, на стриженную по-казацки, в кружок, голову возложили шапочку доктора. А сей, «доктор», правда, не во зло будь сказано, пишет: «Естли есть таперь в Вене мои приятели прошу от меня им кланятца».
Однако Матвей Иванович весьма умно сказал краткое слово о пользе наук и вызвал шумное одобрение. Звание доктора права, натурально, было первому присуждено императору Александру, но расположение духа государя от этого не улучшилось. Бедный Ливен даже похудел в сих трудных обстоятельствах, и только хитрейшая Дарья Христофоровна рассеивает дурное расположение духа императора».
Воскресный день выдался у Можайского свободный, — государь и его свита проводили воскресенье в Виндзорском дворце.
Семен Романович Воронцов, по здешнему обычаю, уехал на последние дни недели в свой загородный дом на морском берегу. Он позвал с собой Можайского, и этот воскресный день был для того радостью. С утра и до обеда сидели они в саду, разбитом у самого берега моря. Свежее дыхание моря овевало их в этом английском саду, так не похожем на роскошные сады Подмосковья. Правда, было и здесь что-то родное, — Семен Романович не позволял выдергивать полевых цветов из грядок: прозрачные шарики одуванчиков напоминали Россию.
То была одна из тех долгих и отрадных бесед с Семеном Романовичем, которые любил Можайский, — беседа с глазу на глаз о прошлом, о давно ушедших из жизни людях.
Ласково грело солнце, маленькие бронзовые жуки летали над цветами, бабочки садились на плечо Воронцова, и старик умолкал, чтобы не спугнуть их, — это была чувствительность, которая жила в людях того века и странно соединялась в них с наивным равнодушием к страданиям ближнего.
Разговор шел о недовольстве государя появлением в посольстве одной особы в день его приезда в Лондон. Особа эта — Ольга Александровна Жеребцова, рожденная Зубова, сестра фаворита императрицы Екатерины — была та пожилая дама, которую Можайский увидел впервые на обеде у Ливена.
Ольга Александровна сыграла чуть не главную роль в том мрачном эпизоде русской истории, который произошел в ночь на 11 марта 1801 года в Михайловском замке, в Петербурге.
В эту ночь был убит заговорщиками император Павел I, и воспоминание об этой ночи тяготило императора Александра (которого втихомолку называли отцеубийцей). Александр не любил видеть возле себя людей, причастных к кровавому событию; присутствие Ольги Александровны Жеребцовой было особенно ему неприятно, потому что его нельзя было избежать: все знали о близости ее с принцем Уэльским — английским престолонаследником.
О неприятном для Александра Павловича появлении Жеребцовой с усмешкой говорил Воронцов. Но не это возбуждало интерес у Можайского, а самое цареубийство, о котором он смутно слышал от взрослых еще в отроческие годы.
Семен Романович Воронцов жил в то время в Лондоне, но, как он ни отрекался от того, что случилось в ночь на 11 марта, его считали прикосновенным к «действу». Он знал тайные нити заговора; английский посол Витворт, душа заговора, высланный при Павле из Петербурга, был задушевным собеседником Воронцова, и сам Семен Романович в ту пору получал из Петербурга письма, писанные лимонным соком, и отвечал на них, употребляя вместо чернил тот же лимонный сок.
В доме Жеребцовой давались праздники, туда съезжалась вся петербургская знать, и Витворт — орудие Вильяма Питта — докладывал ему: праздник дают Зубовы, я даю деньги. Вот где родился заговор против Павла… Можайский, встречая эту красивую даму у Ливена, невольно вспоминал о том, что тринадцать лет назад Ольга Александровна Жеребцова с привязанной бородой, в кучерском армяке и в валенках ходила в генерал-губернаторский дом к графу Палену, где зрел план цареубийства.
И потому Семен Романович не так охотно, как всегда, предавался воспоминаниям о прошлом, чего-то не договаривал, временами умолкал и рассеянно глядел в голубую морскую даль.
— Не странно ли, — заговорил Можайский, когда Семен Романович совсем замолк и задумчиво следил за кораблем с распущенными парусами, медленно исчезающим в золотой дымке, — не странно ли, что убийцы Павла не чувствуют раскаяния, иные, хотя бы Беннигсен, не удалены от двора, а генерал Яшвиль, правда, выслан в свою деревню, но, говорят, даже гордится делом одиннадцатого марта… Они точно благодеяние совершили этим кровавым делом.
Корабль на горизонте стал почти невидим, но острый взгляд старика еще ловил его очертания…
— Император был не в своем уме, — наконец сказал он. — В нем было непостижимое сочетание самых достойных качеств человеческой натуры с самыми ужасными, и ужасные, в конце концов, взяли верх. — Воронцов оглянулся — вокруг не было ни души — и продолжал по-русски: — В начале царствования освободил Радищева, приказал выпустить на свободу всех заточенных в тайной экспедиции, кроме повредившихся в уме. Приказал иметь попечение о несчастных, ежели есть хоть малая надежда к их выздоровлению, и тотчас по выздоровлении освободить… В то время можно было бы сделать много добра, если бы не окружающие его мерзавцы, Растопчин писал мне, что лучший из них заслужил быть колесованным без суда. Что ни год, то хуже! Суворовские генералы каменели, когда Павел глядел на них, — вытаращит глаза, весь дрожит, на губах пена… Ну и жди беды! Только однажды он смутился при виде твердости и бесстрашия людей, и были они не вельможи, а простолюдины.
— Кто же они были?
— Мужики-молокане, впавшие в молоканскую ересь землепашцы. Растопчин рассказывал, как было дело, он сам слышал от генерал-прокурора Обольянинова: привели двух главных изуверов во дворец. Вошли, не поклонившись, лба не перекрестив, и стали против Павла. «Почему не кланяетесь?» — кричит Павел. «А ты кто? Разве ты бог? — отвечают. — Богу одному нам положено кланяться». Оторопел и стал потише. Спрашивает: «Тогда почему, войдя сюда, не перекрестились? Богу не поклонились?» А они отвечают: «Какой же это бог? Доска крашеная, золотом оправленная». Обольянинов взглянул на лицо Павла и задрожал. Ну зверь, сущий зверь. Ногами затопал, трость изломал, рвет воротник мундира. А бородачи говорят: «Что ты сердишься? Мы подати платим, гонят нас на работы — работаем. Чего тебе надобно? Ты веруешь по-своему, мы по-своему. Мы тебя не трогаем, ты нас не трогай».
— Что же с ними сделали? Казнили?
— Увещевали. Сам митрополит увещевал. Павлу доложили, что отреклись от ереси. Только я думаю, сгнили в монастырской тюрьме или под кнутом богу душу отдали.
— Что за народ! — с восхищением сказал Можайский.
Он подумал о том, что если бы таким людям внушить иную веру, любовь к свободе, к правам гражданина, никакой силе их не сломить. Однако он этого не сказал, чтобы не разгневать Семена Романовича.
— Самодержавием держится государство, — продолжал Воронцов, — но горе народу, если самодержец тиран и дает свободу низменным страстям своих приближенных. Лейб-медик императора Роджерсон говорил мне, что Павел не сумасшедший в полном смысле слова: он сознавал опасность своего положения, он читал историка Юма и делал выписки из истории Карла I, казненного Кромвелем… У Павла было то же, что у Карла Стюарта: в речах — ум и рассудительность, в поступках — безрассудство, почти безумие…
— Тогда можно было поступить так, как сейчас в Англии. Здесь сумасшедший король не царствует. Можно было учредить регентство…
— Регентство в России повело бы к междоусобице, а может быть — ко второй пугачевщине, к бунту… В Петербурге были полки, верные Павлу. А ежели бы кто кликнул клич, что дворянство заточило Павла за его желание дать волю крепостным?
— Не знаю. Мне не по нутру дело одиннадцатого марта… Уж лучше бы судили и осудили, как Карла I или Людовика XVI.
Тут Семен Романович рассердился, что с ним бывало редко:
— Вот они, плоды якобинства! Как можно говорить так и притом носить эполеты? В своем ли вы уме, Александр Платонович?
Он даже привстал и, запахнувшись в халат, грозно смотрел на Можайского.
— По вашем отъезде, три года назад, Касаткин принес мне гравюру, которую нашли в комнате вашей, — изображение казни Людовика… Под гравюрой была подпись, сделанная вашей рукой: «Таков удел тиранов». Хорошо, что сия мерзкая картинка попалась на глаза Касаткину, а не слугам.
Гнев его быстро утих, и он продолжал спокойно:
— Император Александр не терпит воспоминаний об одиннадцатом марта. Покойный фельдмаршал получил от него грубый выговор за то, что позволил генерал-майору Яшвилю принять под свою команду отряд ополченцев… Ольге Александровне следовало это знать и поменьше экспозироваться на раутах, где присутствует государь…
Он задумался на мгновение.
— Правду говоря, хотя император Павел Петрович погиб от рук русских людей, но душой заговора был англичанин Витворт, посол в Петербурге. Что ему было до России и русских, что ему были тиранства Павла?.. Не знаю, решились ли бы на такое дело Пален, и Зубов, и Беннигсен, если бы не подбивал их на это дело лорд Витворт. Может быть, и самого бы действа не было… Беннигсен… — в задумчивости повторил Семен Романович, — ганноверский дворянин и русский граф… Цареубийца, наравне с Паленом, был в заговоре. После одиннадцатого марта ему запрещен был въезд в столицу, дал слово не показываться в публичных местах и вот, видишь, ославлен героем… А не ему ли, начальнику своего штаба, говорил покойный фельдмаршал: «Мы никогда, голубчик, с тобой не согласимся, ты думаешь только о пользе Англии, а по мне, если остров сегодня пойдет на дно, я не охну…» Мастер пышных реляций. Дело под Пултуском представил так, будто разбил самого Наполеона, а был там всего только корпус Ланна. За дело под Тарутином ухитрился получить шпагу с лаврами и сто тысяч. Сам Михаил Ларионович приказал капитану Соболеву читать представление вслух…
Глаза Семена Романовича вдруг зажглись лукавым огоньком:
— А после фельдмаршал приказал читать другую бумагу — донос… Донос Беннигсена государю на главнокомандующего Кутузова, на Михаила Ларионовича! Беннигсен бледнел, краснел, стоял, как громом пораженный… А Кутузов засим прогнал его из армии. И вот, гляди теперь, получил титул и Георгия первой степени. А за что? За то, что без пользы топтался под Гамбургом и ничего не сделал. Солдата никогда не жалел, держал в голоде, а не сам ли Румянцев-Задунайский говорил, что войну надо начинать с брюха…
Семен Романович несколько отвлекся от разговора, который был особенно интересен Можайскому, но все же он слушал старика с удовольствием. В который раз удивляла его осведомленность человека, который много лет не уезжал с британского острова.
— А под Малоярославцем и Красным, — продолжал Семен Романович, — новоявленный граф надоедал фельдмаршалу, посылал рапорт за рапортом и до того надоел, что Михаил Ларионович приказал передать: скажи, говорит, своему генералу, что я его не знаю и знать не хочу, и ежели он ко мне пришлет еще раз, то я велю повесить его посланца…
— Однако, как прикажете понимать, — заговорил после недолгого молчания Можайский, — Беннигсен, цареубийца, в чести, а тот же Пален или Яшвиль в ссылке, и ему, Палену, заслуженному генералу, не дозволили даже защищать отечество в тяжелую для него годину. Отчего это?
— Отчего? Неужто не понимашь?
Можайский молчал.
— А оттого, что Беннигсены и Зубовы, да и Пален хотели только одного — смены самодержца, хотели, чтобы престол оставался незыблемым и на престоле сидел не сумасшедший Павел, а бабушкин любимец, Александр… Нет, Яшвиль не того хотел.
— Чего же хотел Яшвиль? — допытывался Можайский.
Семен Романович нахмурился, погрозил ему и, наконец, сказал:
— Будто не знаешь?
И вдруг отвлекся, точно все его внимание привлекла бабочка, кружившая над цветком.
— В то время в списках по рукам ходило дерзкое письмо Яшвиля государю Александру Павловичу. Призывал государя быть на престоле честным человеком и русским гражданином. Угрожал: «для отчаянья есть всегда средство»… Вот и заперли его в усадьбе, так и живет, ожидая самого худшего, когда заслышит ночью колокольчик проезжающей тройки.
— Наиболее рассудительные из заговорщиков предлагали вынудить Павла ограничить власть свою…
— Пустое… Еще Радищев писал — нет и до скончания мира не будет примера, чтобы царь уступил что-либо из власти своей.
Он вдруг строго взглянул на Можайского.
Можайский с трудом скрывал волнение, — рассказы о цареубийствах всегда были заманчивыми и будили дерзкие и смелые мысли в кругу его сверстников.
Скрытный и осторожный Воронцов понимал это, но он слишком долго таил в себе то, что не доверял даже бумаге, и потому продолжал:
— Гроб императора Павла бросил черную тень на царствование императора Александра, гроб императора Петра III — на царствование его бабки Екатерины… Нелегко царствовать, когда позади кровавые тени отца и деда. Недаром Екатерина не дозволяла в России играть трагедию Шекспирову. Принц Гамлет — император Павел… Я жил на чужбине, потому что мне тяжко было жить в стране, где правит мужеубийца…
Можайский с некоторым удивлением поглядел на Воронцова. Он знал, что многие в России не прощают Воронцову, а особенно Разумовскому то, что они поселились навечно за границей.
Даже Наполеон в беседе с Куракиным спросил о Воронцове, почему он живет в Англии. «Он, стало быть, не русский?» Однако причина любопытства Наполеона была в том, что он опасался интриг старшего Воронцова в Англии и в этом не ошибался. Пребывание Семена Романовича в Лондоне было полезно для России и вредно для Наполеона. И Воронцов, зная, что его осуждают, что упрекают в англомании, старался находить себе оправдание и часто возвращался к этим мыслям.
— Федор Растопчин однажды писал мне: «Живите между англичанами, вы и там можете служить отечеству…» Я мог быть высоко вознесен в начале царствования Павла. Растопчин писал: «Государь желает, чтобы приехал граф Семен или граф Александр Романович…» Я счел себя недостойным…
Он опять умолк и молчал долго, следя глазами за полетом шмеля. Потом сказал со вздохом:
— О, когда б у нас, у русских вельмож, было бы более любви к отечеству, более заботы об его пользе, а не о своей выгоде!
— Безбородко — многоопытный государственный муж, а встретил я в нем ненасытную страсть к наживе и приобретению. Он жил со своими приятелями, шутами, девками и всякой сволочью. Выписывал множество запрещенных товаров, не платя никаких пошлин, и делил барыши с Соймоновым, достойным виселицы. Получал припасы для дома от раскольников, которым за это оказывал покровительство. У него один эполет стоил пятьдесят тысяч… Уж на что был умен князь Потемкин — и тот проглядел каверзу в Крыму. Когда началось устроение Тавриды, британский посол от имени кабинета сделал предложение императрице Екатерине заселить Тавриду бриганскими каторжниками. Удивления достойно, что ни императрица, ни Потемкин не увидели в этом подвоха. Тогда я написал князю, что ежели заселять Крым, то уж никак не злодеями и притом чужестранными — у нас свое такое добро найдется, — нет ли в этом тайного желания иметь у нас на южной окраине людей, на всякую подлость способных, нет ли здесь тайного желания отторгнуть от нас Крым?
— Семен Романович, — заговорил Можайский, — можно ли мне говорить от всего сердца и не примете ли вы за обиду то, что скажу?
Воронцов быстро вскинул глаза на Можайского и сказал:
— Да уж лучше сказать то, что на уме, чем тайно писать, надеясь на суд потомства…
«Вон куда кинул камешек», — подумал Можайский.
— Говори. Чего молчишь?
— Вы сами изволили сказать, что россияне осуждают вас, русского человека, оставившего отечество и поселившегося на чужбине. Вы давеча говорили, что, живя между англичанами, служите России… Правда, вы жили здесь в те годы, когда Англия была с нами в войне, и от этого была польза России. Отчего же сейчас вы, коренной русский человек, не немец, не француз на русской службе, не просите аудиенции у царя и не скажете ему, что вы полагаете нужным сделать для пользы и славы нашего государства? Как же можно без гнева видеть таких советчиков у царя — опасливый Ливен, ничтожный Нессельроде! Ведь от того, что нынче будет сделано в Париже и в Вене, зависит судьба отечества!
Воронцов взялся за седые виски и с испугом покачал головой.
— Друг ты мой, как же мне беспокоить государя по предмету, ныне до меня не касающемуся… Уже и так многие лица, близкие государю, находят, что я слишком часто обращался к его величеству с моими представлениями, хотя они относятся к делам политическим, которыми я занимаюсь тридцать лет… Более года назад я написал письмо государю, — все мои помыслы были о пользе отечества, но разве мое письмо дошло до сердца Александра? Здесь, в Лондоне, мне оказывают честь, зовут на рауты, ласково улыбаются… Только чего стоят эти улыбки? Уж лучше прямая немилость или опала, как при императоре Павле… Я на пороге семидесяти лет, ум мой ясен, я тоскую без дела. Просить аудиенции? Для чего? Не все ли равно? Уходит, уходит жизнь…
Он взял в руку горсть морского песка и долго глядел, как мельчайший песок уходил из его сжатых пальцев. Потом раскрыл руку, поглядел на желтую старческую ладонь и снова взял горсть песка. И снова песок уходил из его руки.
— Вот жизнь, — с горечью сказал Воронцов, — как песок морской… Не удержишь. Хоть бы память по тебе осталась… добрая память.
Послышались быстрые шаги. По дорожке, спускаясь к морскому берегу, спешил слуга.
— Лорд Пэмброк… Леди Пэмброк, — доложил он.
Семен Романович встал и легкой походкой, приветливо улыбаясь, пошел навстречу гостям.
Из дневника Александра Можайского
«Сегодняшний день государь и свита посетили палату пэров и палату общин.
В самой большой зале старого Вестминстера государь и свита остановились, впрочем ненадолго. Причиной того были нерадостные воспоминания, память о деле, свершившемся в сем месте. Здесь был приговорен к смерти судилищем король Карл I Стюарт. Государю показали место, где стоял король и где сидел обвинитель.
Не сказав ни слова, государь пошел дальше и взошел на боковую галерею, в место, отведенное почетнейшим гостям парламента. Прежде в сей зале была древняя церковь, которую король Генрих VIII отдал членам палаты. Три больших полукруглых окна, выходящих на Темзу, освещают сию залу…»
(Здесь рукой Можайского сделано примечание: «Двадцать три года спустя дошло до меня известие, что сие здание сгорело дотла». Примечание помечено 1837 годом.)
«Государь и свита с любопытством разглядывали простые дубовые, расположенные уступами скамьи и зеленые сафьяновые подушки на них. Чугунные колонны коринфского ордена с медными вызолоченными капителями поддерживают галерею для публики.
Посещения нашего ждали, зала палаты была полна депутатами, многим не хватило мест внизу, так что много депутатов находилось на галереях для публики.
Мне случалось бывать здесь в другие дни, когда в зале едва можно было сосчитать тридцать депутатов и каждый делал то, что ему нравилось, — один читал газеты, другой толковал с соседом, а третий без всякой надобности прохаживался по зале. Куда больше депутатов парламента находилось в такие дни в близлежащих тавернах и кофейнях старого Вестминстера. Иные господа депутаты являлись на заседания прямо с прогулки в Гайд-парке, покрытые пылью, в сапогах со шпорами.
Помню, однажды, едва только вошел в залу первый лорд казначейства и сел на свое место на скамье министров, только он раскрыл рот, чтоб поддержать один важный для правительства билль, большая часть господ депутатов из оппозиции покинула залу и отправилась обедать. Подобных ораторов зовут в палате «обеденными колокольчиками»; лорд Ливерпуль удостоился сего звания. На середине одной его речи, которая длилась более трех часов, я покинул собрание и вернулся только для того, чтобы выслушать главу оппозиции. Сей оратор говорил дельно, красноречиво, но довольно длинно. Зала, однако, наполнялась, и когда оратор дошел до сути, обвиняя партию правительства в лихоимстве, со стороны ее сторонников послышались крики: «Order! Order!» («К порядку!»), оппозиция же, в свою очередь, поддерживала оратора криками: «Hear! Hear!» («Слушайте!»)
Пришлось мне объяснять обычаи дома сего Матвею Ивановичу Платову. По правую руку от спикера на скамье сидят господа министры, по левую — глава оппозиции с товарищами. Желающий взять слово ждет, пока на него упадет взор спикера, и, получив слово, становится у сундучка, в коем хранятся грамоты, жалованные парламенту. А ежели спикеру неугодно дать слово, то он якобы не видит не угодного ему члена палаты…
(Здесь Можайский делает примечание, помеченное 1856 годом: «Помню, что депутаты и сам спикер с доброжелательством поглядывали в ту сторону галереи, где сидели русские гости. Однако три месяца спустя довелось мне слышать, как в той же зале оратор посылал злые упреки нам, русским, особенно князю Репнину — губернатору Саксонии, где стояли наши войска. Как скоро не осталось и следа от доброжелательства англичан, как скоро забылись радостные дни нашей победы над Наполеоном!»)
Возвращались мы в открытом экипаже, и дождь порядком помочил нас. Матвей Иванович, благодушно поглядев на меня, сказал:
— Давай вместе полдничать. Я, брат, сказался больным и отпросился у посла, чтобы нынче мне день сидеть дома, до театра.
Я поблагодарил за приглашение Матвея Ивановича. Надо сказать, что я сильно продрог и с удовольствием выпил любимой платовской горчишной, закусив отменным жареным поросенком иоркширской породы с гречневой кашей. Гречневой крупы оказалось у казака целая торба.
Граф Матвей Иванович Платов жил в посольстве в отведенных ему покоях. Постель из спальной вынесли, спал он, как обычно, на кожаном мешке, набитом сеном.
Выпив чарки четыре, граф посадил меня рядом с собой на диван и удостоил доверительной беседы:
— Свет нынешний тебе довольно известен, в житий нашем спокойствия нету и быть не может. О проклятая интрига, когда она исчезнет!
— Помилуйте, — возразил я, — кто дерзнет ваше имя порочить, всем известны заслуги ваши.
— Так ли, сударь мой? Сколько раз бывал я в сраженьи, сколько дерзких мизераблей побито и полонено мной, я и счет потерял… Однако вот…
Тут он с опаской поглядел на дверь и говорит:
— В январе дело было под французским городом… как его… Барсюропом…
— Бар сюр Об…
— Так… Получаю я письмо от одного приятеля. Он — человек придворный, от государя не отходит, залетел высоко, все видит, все слышит. Пишет он, что на меня взвели напраслину, будто я опоздал и австрийцы раньше меня подоспели к тому Барсюропу. Сердце у меня закипело, пишу я ему: «плюньте вы в глаза тем мудрочесам, которые при главной квартире только сплетни сплетают…» Знаешь, зверь есть в Персии — чекалка, которая беспрестанно лает… Вот тебе Христос, не опоздал я к Барсюропу против австрийцев! Нет! Я пришел прежде их на один день. А что мне было делать, французов был большой корпус, а у меня горсть людей, не более двух тысяч. Оставалось мне тревожить проклятых денно и нощно.[11]
— …да, брат ты мой, вот тебе и слава казацкая. Сошлись три мудрочеса с вензелями и давай срамить Платова… А Платов и так скучает — сын горячкой помер, жена Марфа Димитриевна приказала долго жить, один, один, как перст…
Матвей Иванович смахнул набежавшую слезу, налил мне и себе и вдруг посветлел лицом:
— Знаешь, я весьма добирался до города Фонтенебло, где высокопочтеннейший папа римский содержался. Наполеон слух пустил, будто он его отправил в Италию, жители тоже так поговаривали, а я не верю. Надо полагать, что он его куда-нибудь спрятал… Вот бы сыскать… Сыскался, говоришь… Ну и шут с ним! Помнишь Данциг? Вот уж год прошел, время-то летит.
Матвей Иванович вытащил брегет с бриллиантами.
— Видел? Это царские… В Париже, я, брат, раньше времени пожаловал во дворец Елисейской. Гуляю в саду, он меня в окно увидал. Ну потом вышел к нам, всех обошел, поглядел на меня и спрашивает: «Ты, что же, старик, время не рассчитал. Я тебя ждать заставил?» — и усмехнулся. А я думаю — к чему бы он это? А утром пожаловал ко мне флигель-адъютант, положил передо мной часы — это от его величества, чтобы знали время… Славный брегет! А? Вот сосну часика два, а там — в оперу. Тоска смертная… Ну прощай, капитан. Давай-ка посошок на дорожку.
«…нынче государь посетил школу, где учат по ланкастерской системе взаимного обучения. Государь присутствовал на занятиях и сказал, что следует прислать сюда четырех или более студентов Санкт-Петербургского педагогического института и завести сию систему у нас в России.
Но еще более приведены были в изумление Нессельрод и генерал-адъютанты, когда император беседовал с лордом Кэстльри о том, что намерен завести «очаг оппозиции» в России… Только один Семен Романович, выслушав сию новость, посмеялся и махнул рукой.
…Гоф-хирургу, лейб-медику Якову Васильевичу Виллие дарован титул баронета. Когда покидал берега своего отечества — Британии, имя его не было известно нашей знати; когда же стал лейб-медиком и главным генерал-врачом русской армии, его увенчали титулом… О люди!
Рассказывали мне много лет спустя, что Виллие положил большую сумму денег в Английский банк. По духовному завещанию эти суммы были предназначены для русских медицинских учреждений, которые он полагал устроить. Однако после его смерти Английский банк денег не выдал на том основании, что деньги британского подданного не могут быть выданы наследникам на чужбине, а должны быть достоянием родичей хотя бы и дальних, но живущих в английских владениях. Вот пример законного беззакония. Так Виллие и не отблагодарил Россию за приют и почет. А надо бы… (Примечание Можайского, помеченное 1856 годом.)
Виллие немало дивился моему скорому выздоровлению.
— Признаться, не думал я, что мы встретимся в этой жизни, да еще на берегах Темзы, — сказал он мне усмехаясь.
…На смотру в Гайд-парке не было наших семеновцев, но доблестным нашим генералам Барклаю де Толли и Платову были оказаны достойные их подвигов почести. Однако можно приметить, что англичане силятся поставить в один ряд с русскими пруссаков и австрийцев — Блюхера и Шварценберга. Матвей Иванович сказал:
— Мне не обидно, меня Наполеон ни разу не бил, а Блюхера в одну только французскую компанию — четырежды, а Шварценберга — и не сочтешь… Надо же немцев утешить.
Кстати скажу, с Блюхером вышел конфуз: поднявшись на купол Святого Павла, со своими английскими друзьями, он, обозревая панораму британской столицы, ни с того ни с сего брякнул:
— Хорошо бы в один прекрасный день всё это прибрать к рукам!
Англичане приняли сие как неуместную шутку после возлияния за обедом.
…Государь приказал чинам посольства, знающим английский язык, состоять при особах свиты, языка не знающих, ибо английские переводчики могут неверно перевести ответы наших вельмож и тем вызвать досаду у союзников наших. Мне приказано состоять при Матвее Ивановиче Платове.
…Осматривали по совету Семена Романовича загородный дом и сельское хозяйство герцога Бедфорда; понравилось скотоводство и машины, посредством пара действующие.
…Осматривали Лондонскую биржу, Британский музей, Ньюгетскую тюрьму. В музее — древности афинские, бессовестным образом увезенные у бедных греков, страдающих от ига турок. Осмотрели орнитологическую часть музея, отличным образом устроенную. Государь заметно скучал. Ездили смотреть опыты с электричеством и углекислым газом. Ньюгетская тюрьма, как заметил государь, доказывает благодетельную мудрость правительства британского. (Неужели только там мудрость сказывается?)
Вечером были в итальянской опере. Барклай ужинал у Семена Романовича. Повар Сорокин поразил десертом — «бомб сарданапал» с эпикуровым соусом, чем порадовал сердце хозяина и гостей.
…Барклай де Толли и Матвей Иванович Платов осматривали нынче строящиеся новые мосты через Темзу.
…Множество народа, а также работники, строившие мост, собрались на берегу, пока мы обозревали место постройки. Толпа восклицала: «Ура Платову!» Так было повсюду, где являлся Матвей Иванович.
Вечером Лондон давал праздник в честь Матвея Ивановича. На празднике нам лестно было услышать гимн, сочиненный нашим россиянином Данилой Кашиным в честь защитников града Петрова в 1812 году. То была наша национальная музыка, прозвучавшая в сей вечер на берегах Темзы, на чужбине.
На улице нас дожидалась несметная толпа народа, вновь были клики в честь Платова. Странно видеть, что люди высокого звания встречали нас либо с холодной вежливостью, либо с любопытством.
Платову не раз было указано, чтобы он не пренебрегал визитами к союзникам, особенно к считавшимся каждым визитом австрийцам. Он на это хмурился и ворчал в усы: «Чёрт с ними, не поеду… Ветерних… (Так он окрестил Меттерниха.) По шерсти кличка. А Шварценберг все ждет, чтоб позвал в гости. А не хочет ли он… Хоть он фельдмаршал, да не наш».
Одного Блюхера из пруссаков жаловал Платов и виделись они не раз. Сидят друг против друга. Блюхер за шампанским, Платов за цымлянским (он его всюду с собой возил). Платов — ни слова по-немецки, Блюхер — ни слова по-русски. Сидят, пьют, только Блюхер против Матвея Ивановича не выдерживал. Глядишь — он под столом».
(Примечание Можайского: «Рассказывал мне адъютант Платова — подъесаул Николай Федорович Смирнов».)
…Лорд Кэстльри имел долгую беседу с Нессельродом и Ливеном о Парижском трактате.
Семен Романович полагает, что Франция навеки утратила плоды своих двадцатилетних побед. Франция в пределах 1792 года не будет иметь сил, чтобы вновь подняться. У нее отняты гавани и крепости, корабли в гаванях, более 12 тысяч пушек, литейные дворы. Она окружена кольцом государств, готовых укротить ее силой оружия. Пруссаки требовали 132 миллиона франков контрибуции за содержание французских войск на своей земле в 1812 году.
Сие должно было обессилить и разорить Францию.
Россия, однако, поставила пределы алчности и мстительности пруссаков. Нельзя дать пруссакам безмерно усилиться и тем самым сделать угрозу нашим западным землям. Через два месяца в Вене соберется конгресс для учинения распоряжений, кои должны довершить постановления Парижского трактата. Семен Романович ожидает многих трудностей; союзники наши, страшась укрепления России, уже думают над тем, как помешать ее возрастающей мощи.
…Девятнадцать дней длилось пребывание императора Александра Павловича на острове. 26 июня 1814 года он покинул берега Англии. 29 июня был возобновлен союз четырех держав — России, Англии, Пруссии и Австрии, но государь сам не верит в прочность сего союза. Государь покинул Лондон, почти не скрывая своего недовольства союзниками. Из Дувра император направился в Кале, оттуда в Бельгию, Голландию, далее в Брухзаль, где его ожидала императрица.
Аракчеев не поехал в Англию, он лечился на водах, и государь позвал его к себе в Аахен…»
Можайский, разумеется, не знал того, что Александр звал к себе Аракчеева, надеясь на «пособие в многотрудных обязанностях» «верного навек друга». С верным другом Александр вел душеспасительные беседы, и ни слова не было сказано об «очаге оппозиции», который царь собирался основать в России.
Александр путешествовал инкогнито. Немецкие и английские газеты сообщали, что «государственной службы генерал Романов» после одного года и шести месяцев пребывания за границей направился в свою столицу Санкт-Петербург.
Все же Семен Романович Воронцов, заботясь оставить по себе «добрую память» в потомстве, просил аудиенции у царя.
Перед аудиенцией он долго обсуждал с Касаткиным, о чем вести речь. Решил говорить смело и всю правду об англичанах, о союзниках. Беседа должна была опровергнуть толки о тайном англоманстве Семена Романовича, о чем говорилось не раз в кружке великой княгини Екатерины Павловны.
До аудиенции Семен Романович видел Александра на приемах и раутах в Сент-Джемском дворце; Александр выказывал ему свое благоволение, но Воронцов этим не обольщался: он знал натуру императора. Благоволение он приписывал тому, что в действительности ему не нужны царские милости, что он стар, живет вдалеке от двора, на чужбине.
Александр беседовал с Воронцовым перед балом у принца Уэльского; он был в мундире конной гвардии, с орденом Подвязки, при шпаге, — по всему было видно, что аудиенция будет недолгой.
Более десяти лет Воронцов не видел Александра. Перед ним стоял человек, близкий к сорока годам, с ранней полнотой, которая придавала женственность его фигуре. В лице его была та смена выражений — благосклонности, равнодушия, мечтательности, скуки, грусти и веселья, которая смущала художников, рисовавших с него портреты. Выражение лица беспрестанно и почти мгновенно менялось, так что собеседник не мог никак понять, с какими чувствами слушает его Александр, и уходил от него в тревоге и недоумении.
Во всем облике Александра была величественная важность; он сохранял ее даже в кругу своих близких и, всегда наблюдая за собой, умел быть любезным и приятным собеседником. Но Воронцов приметил и нечто новое: совершенно исчезла врожденная застенчивость молодых лет, появилась уверенность в себе, в каждом своем поступке, появились повелительные жесты и твердость в голосе. Это пришло после его триумфа в Париже, где льстецы называли его королем королей, умиротворителем вселенной. Воронцов приметил эту черту еще на первом приеме у лорд-мэра.
Он начал давно приготовленной фразой:
— Великая благодарность вам, государь, что среди важнейших дел государственных вы благоволили выслушать старого человека, послужившего вам и отечеству. Я свидетель многих славных дел века минувшего и счастлив, что, как никогда доселе, сияет ныне слава державы российской…
Александр с важностью наклонил голову: начало ему понравилось.
— Велико могущество России, но слава сия и могущество рождают зависть у врагов наших, рождают зависть и у тех, кто еще недавно вместе с нами обнажал меч против Бонапарта…
Далее Воронцов заговорил о традициях политики английской, о том, что это островное государство не терпит возвышения другой державы и оттого были многолетние войны с Францией и война с Испанией, которая кончилась падением и разорением Империи Карла V.
Он говорил о том, что после Людовика XIV разоренная и ослабленная дурным управлением Франция не была опасна Британии и только после революции, когда конвент создал сильную армию, а «детище мятежа» Бонапарт — свою империю, Британия увидела во Франции опаснейшего врага и «сокрушила его оружием России».
— Ваш покойный родитель начал войну с Наполеоном, русское оружие было увенчано славой, — и что же? Гофкригсрат австрийский был более обеспокоен победами великого Суворова, чем войной с Наполеоном. Ваш родитель принужден был искать союза с Бонапартом, чтобы наказать своих недостойных союзников.
Упоминание о Павле I немного обеспокоило Александра, однако когда Воронцов умолк, он сказал: «Продолжайте», — и глаза его остановились на портрете, висевшем прямо против окна. По странной случайности, в гостиной посольства висели два портрета — Екатерины и Павла. Художнику удалось передать взгляд Павла — тревожный и яростный, его застывшую, схожую с гримасой улыбку, какая бывала у Павла перед страшным припадком гнева.
Александр отвернулся.
— Упрекали императора Павла Петровича, говорили, что, увлеченный духом рыцарства, духом латинства, он возложил на себя крест мальтийских рыцарей. Но Мальта была не только символом древней доблести. Этот остров — опора в Средиземном море, он нужен был Бонапарту против действий британского флота. Император Павел хотел, чтобы орден рыцарей мальтийских сохранил независимость сего клочка земли. Что же мы видим? Ныне этот остров — опора в Средиземном море — в руках у Англии… и она не выпустит его из своих рук.
…Ревниво следят островитяне за усилением нашей державы. На Западе, на Востоке — всюду чувствует русский их руку и руку Австрии, которая на Востоке с ними заодно. Разве не они подстрекали турецкого султана на войну с нами? Едва только наши войска начинают грозить туркам, едва только наш авангард покажется на берегах Дуная, к радости братьев наших славян, — чуть не вся Европа поднимается на нас. Когда храбрый Валериан Зубов вел наше доблестное войско по берегам Каспийского моря, мне было горько видеть интриги и слышать прямые угрозы России от англичан.
Подстрекают они шаха на войну с нами, для того чтобы отвлечь его от своих индийских владений… Простите, государь, но кажется мне — более всего занимаются интересами других стран, чем собственной страной. Стоит ли приносить жертвы ради Пруссии, которая жаждет непомерно увеличиться? Не следует ли нам позаботиться о том, чтобы мы имели естественные границы на западе?.. Вы, государь, заботитесь о том, чтобы сохранить сильную Францию, дабы иметь в ней опору против Австрии и той же Пруссии. Однако что же мы видим? Людовик XVIII полон искательства перед Сент-Джемским дворцом…
Голос Воронцова слегка дрожал:
— …Золотом и посулами чужих земель англичане намерены купить себе союзников и разделить Европу, как им заблагорассудится… А мы после стольких жертв уйдем в свои пределы, не имея крепкой естественной границы на Западе и имея очаг войны на Востоке, разжигаемой теми же англичанами. Две силы ныне стоят друг перед другом — мы и островитяне…
Александр сидел неподвижно, похлопывая себя перчатками по колену. Лицо его выражало глубокую задумчивость.
— В Париже, — начал он тихо, — я слышал почти то же от Иоганна Антоновича Каподистрии. Он полагает, что ежели Россия, Австрия и Пруссия будут домогаться возмещения за потери в войне, то Англия и король Людовик примут позицию нелицеприятных судей. Англия как бы удовлетворена, и от нее будет зависеть согласие на требование прочих держав. Иоганн Антонович говорит — достаточно Австрии или Пруссии перейти на сторону Англии и Франции, чтобы повредить России… Но я думаю, что все это измышления холодного ума дипломатов. Я думаю, что мне удастся уладить дело… Да и нынешний британский кабинет кажется мне недолговечным… Куда достойнее господа из партии вигов, — они полны благожелательности к России…
— Оппозиция? — со вздохом сказал Воронцов. — Еще долго большинство в палатах будет принадлежать тори; богатства, скопленные ими, позволяют им покупать голоса… А что до иностранной политики, то скоро уже триста лет неизменна политика Англии. Меняются люди, поколения, а политика все та ж — не допускать усиления иного государства. Через два месяца союзники ваши встретятся с вами, государь, в Вене. Не позволяйте отнять у нас плоды победы. Храбрость наших воинов, развалины Москвы и многих селений, кровь, пролитая в боях, дают нам право иметь крепкий замок на наших западных воротах…
Наступило молчание. Александр чуть наклонил голову и встал. Это означало, что аудиенция кончилась.
— Вы призывали меня к твердости, Семен Романович, вы писали мне, что князь Меттерних не надеется на мою твердость… Скажу одно — я не сделаю ни больше, ни меньше того, что я хочу…
Он приблизился к Воронцову и положил ему руку на плечо.
— Я всегда ценил твои слова, Семен Романович, они идут от самого сердца, а сердце твое полно любви к отечеству… Прошу тебя писать мне, как писал раньше. Всегда помню, что сказал о тебе Суворов: «Тактика его должна быть в кабинетах всех государей».
С этими словами он отпустил Воронцова.
Если бы Семен Романович не знал Александра Павловича, он бы счел, что принят милостиво и доверие к его словам неколебимо. Но он знал Александра, знал, что тот лукав и фальшив, что царь мог выказывать собеседнику ласку и гнев, доверие и подозрительность, строгость и снисходительность — и все это было только маской.
«Что ж, — думал Воронцов, — пусть так, но, правду говоря, такие качества годятся против двуличия и коварства Меттерниха, против хитрости и низости Талейрана, против самого сатаны, что, впрочем, кажется, одно и то же…»
42
Аудиенция, которая была дана Воронцову, решила и судьбу Можайского. Семен Романович просил оставить его при себе для разбора важнейших бумаг своего архива. Но дело было не только в архивных занятиях. По старой привычке, которая была обычаем в те времена, Александр хотел знать о настроениях в Лондоне, состоянии умов и о политических новостях не только от своего посла. Можайскому было приказано читать журналы и газеты, бывать в палатах и составлять докладные записки. Они посылались Александру в пакетах, запечатанных личной печатью Воронцова.
Так Семен Романович, сам того не зная, причинил горе Можайскому. Надежды на отпуск или на отставку не стало. Хорошо было только то, что жизнь в Лондоне уже не была связана с посольством и не было докучливых обязанностей чиновника при посольстве. Теперь можно было не являться на рауты и приемы, не бывать на длинных и тоскливых обедах, не развлекать Дарью Христофоровну светской болтовней. Можайский переехал в дом Воронцова на Лэйстер-сквер и почти не заглядывал в посольство.
С каждым днем тягостнее становилась жизнь в Лондоне, и все больше тянуло на родину. В библиотеке Воронцова в одиночестве Можайский думал о том, что чувство долга, которое не позволяло ему добиваться отпуска или отставки, в сущности говоря, обмануло его. «Дела, требующие важности и тайны», бумаги, составляемые им, попадали в руки Нессельроде и, видимо, не имели для того никакого значения.
Можайский говорил себе, что его совесть чиста: он исполняет свой долг и служит не Нессельроде, не императору Александру, а родине, отечеству. Он видит и знает, как действуют во вред России здешние государственные люди, и обязан писать о том, раз ему приказано. Ведь ради этого он отказывается от счастья…
Если раньше Можайский сомневался в чувствах Екатерины Николаевны, то теперь он знал, что она была возле него во франкфуртском лазарете, знал, что он любим и что она никогда не забывала его.
В мыслях своих Можайский удалялся от берегов Темзы, он видел себя на берегу тихой лесной речушки и в аллеях Гайд-парка мечтал о белых стволах берез, о запущенном старом парке в Святом и более всего о той, которая была так далеко от него.
Семена Романовича Воронцова в те дни обуяло чувство радости; ему казалось, что он возвращается к деятельности, к тому делу, без которого ему было тоскливо жить на чужбине.
Воронцов снова стал читать лондонские газеты, призывая к себе Касаткина, вел с ним долгие ночные беседы, часто выезжал в свет, принимал у себя старых знакомых и был вполне счастлив.
Дарья Христофоровна и Христофор Андреевич Ливен удивлялись этой перемене, но Воронцов так весело и просто объяснял им свой интерес к делам политическим, что им и в голову не приходило, что Семен Романович делал это не совсем бескорыстно, не только из любопытства. Решили, что старик Воронцов пишет мемуары и что Можайский помогает ему своими архивными занятиями. Это позволяло Можайскому не бывать на приемах в посольстве и оставаться наедине с самим собой.
Архив Семена Романовича действительно привлекал его внимание. Здесь было собрание писем многих знаменитых людей конца восемнадцатого века; перечитывал Можайский и копии писем Воронцова, писанные рукой Касаткина. С интересом читал он письма Витворта, бывшего посла в России при императоре Павле, рассуждения Витворта о том, что опасные идеи равенства охватили Европу, что предел им могут поставить только идеи рыцарства, безбрачия посвященных и латинства, и ответ Воронцова, что только старинный русский уклад и семейственность есть верная преграда проповеди безбожия, вольности и равенства.
Так встречались две крайности, но ненависть к революции объединяла этих двух разных людей.
Можайский задумался над письмом Семена Романовича к барону Николаи; оно казалось ему примечательным, потому что было писано в ту пору, когда Воронцова прочили в воспитатели к великому князю Николаю Павловичу. «…Было бы большим несчастьем для меня, если бы меня предназначили для подобного места…», — писал Воронцов. Но не это привлекло внимание Можайского, а следующие, написанные той же рукой в 1798 году слова:
«Народ, который в наши дни произвел столь выдающиеся таланты в области военного дела, политики и государственного управления, в области наук и искусств, который дал Румянцева, Ломоносова и Баженова, такой народ не бессмысленный народ…»
В Воронцове сочеталось преклонение перед ветхой стариной, перед привилегиями русского дворянства с уважением к людям, вышедшим из низших сословий империи.
Однако порой ему казалось, что слишком много придавал значения Семен Романович личным чувствам и симпатиям государственных людей. Он принадлежал к числу тех дипломатов старой школы, которым чудилось, что мир и война всегда решались в кабинетах монархов и их министров.
Порой Можайский останавливался на одной мимоходом высказанной мысли, которая поражала его верностью суждений о состоянии России при Александре: «Сенат унижен, министры получили слишком большую власть… Фавориты были зло неузаконенное, а теперь зло основано на законе».
Уважения Воронцова к сенату Можайский не разделял. В Москве, где имел пребывание сенат в то время, он видел ворчливых, злобствующих старцев и не сомневался в том, что эти древние, увешанные звездами и лентами старцы не смогут вернуть прежнего значения сенату.
А что до власти, основанной на законе и фаворитах, то Можайскому позднее случилось видеть у Аракчеева бланки за подписью царя, и всесильный фаворит мог даже без доклада Александру заключать людей в Петропавловскую крепость и ссылать в Сибирь.
«Вот вам и зло неузаконенное, Семен Романович…»
С любопытством читал Можайский пространные письма Федора Растопчина, которого Екатерина за странности и безрассудства называла «сумасшедшим Федькой», а Павел I приблизил к себе в числе четырех любимцев. Острый язык, злость, склонность к интригам, дурные и хорошие черты этой натуры открывались в письмах к Семену Романовичу.
Можайский знал Александра Борисовича Куракина в бытность того послом в Париже и от души смеялся верно списанному портрету: «Куракин такой болван, что ему следовало бы быть немецким принцем, изгнанным из своих владений, или идолом у дикарей».
Среди других бумаг остановила на себе внимание Можайского записка Семена Романовича, писанная в 1802 году, о русском войске. Воронцов, давно оставивший военную службу, справедливо превозносил воинские реформы Петра I: «Он, конечно, сознавал необходимость сообразоваться с климатом, нравами и бытом своей земли… он определил обязанности каждого лица, от солдата до фельдмаршала, но не принял ни одеяния, ни внутреннего полкового хозяйства, которые были при нем в войсках прусском и австрийском».
Семен Романович горевал о том, что отменены были прежние наименования полков, которые были даны им «по именам русских земель».
«Через это солдат почитал себя принадлежностью государства, а когда полки прозвались именами генералов, те же солдаты считали, что они принадлежат тем генералам, которые были их начальниками и именами которых назывались полки. «Прежде был такого-то полку; а теперь не знаю, батюшка, какому-то немцу дан полк от государя». И слова эти сопровождались тяжким вздохом».
Семен Романович писал, что надо уважать рядовых ради того, чтобы «честь, заслуженную полком, каждый солдат на себя переносил».
«Казна обкрадывалась с невообразимым бесстыдством, и бедные солдаты бесчеловечно лишаемы тех ничтожных денег, на которые они имели право…»
Дальше Воронцов с горечью писал о том, как в угоду пруссакам был переделан на прусский образец внутренний состав рот, батальонов, полков:
«Люди, бывавшие в сражениях, знают, что алебарды для унтер-офицеров и экспантоны для офицеров составляют только лишнюю обузу и что, коль скоро унтер-офицеры не имеют ружей, полк лишается до ста ружей, которые могли бы действовать против неприятеля…»
Можайский с благодарностью думал о том, что отменой многих глупых и бесчеловечных прусских правил русское войско обязано Кутузову и его соратникам. Но как еще силен проклятый «гатчинский» дух, любезный сердцу императора Александра…
Почтительно писал Воронцов о заслугах фельдмаршала Румянцева: «Этот необыкновенный человек, для которого военная служба (он вступил в нее с четырнадцатилетнего возраста) составляла предмет непрестанных помышлений, у которого глубина познаний освещалась гениальными способностями, покрыл себя славою в войне с пруссаками…»
Но при всем знании дела, искренности чувств воина, сражавшегося под знаменами великих русских полководцев, Воронцов высказывал мысли, которые казались Можайскому устарелыми: «Войско, где офицеры дворяне, конечно, выше того войска, где офицеры выскочки. Так и жду, что мне скажут: вот аристократическое мнение!» Невольно Можайский подумал о вышедших из простолюдинов маршалах, об армии французской революции и победах, одержанных этой армией, и действительно счел мнение Воронцова мнением аристократа. Гош был сыном фруктовщика, Моро — студент-юрист, Нэй — сын мельника, Ожеро — из простых солдат, к тому же он одно время разделял идеи Бабефа.
Кончалась записка Воронцова словами, против которых нельзя было возразить: «Мне могут указать в опровержение на великие подвиги в Италии, совершенные Суворовым в то время, когда уже действовали новые военные учреждения по прусскому образцу, но возражение это будет несправедливо: все знают, что великий человек этот не применял к делу ни одного из нововведений императора Павла. Подвиги Суворова служат, напротив, подтверждением тому, что я говорю».
Воронцов занимался и гражданскими делами; с немалым удивлением Можайский прочитал его записку о том, что в России напрасно истребляются леса на топливо, между тем «каменного угля имеется великое изобилие».
Убежденный крепостник был рачительным хозяином, он полагал, что если крестьяне его будут жить в довольстве, то от этого только приумножатся богатства помещика. С любопытством прочитал Можайский его письма бурмистру Карпу Федорову, советы, как сеять горох под соху в борозду, «оставляя три борозды праздными». Воронцов указывал, что «за сохою должны итти баба или мальчик с кузовком и сыпать из руки в борозду горох, отчего горох будет весь посеян в ряды, а между рядами летом очищать траву дикую сохою всякий раз, как она покажется из земли».
Далее следовал приказ привить зимою непременно всем крестьянам оспу, для чего отыскать прививальщика… На мирских сходках ставить стол и за стол садиться бурмистру и двенадцати присяжным старикам. «Крестьян Матвея Кузьмина и Федота Устинова за леность на барщине отдать не в зачет в рекруты».
Эти приказы рачительного хозяина-крепостника казались Можайскому не достойными гражданина, истинного сына отечества, и он с грустью думал: «Ужели и мне придется повелевать людьми, которые есть моя собственность, и может ли человек владеть человеком?..»
В ту пору он, Александр Можайский, был владельцем трех тысяч крепостных и одного только желал — перевести их в вольные хлебопашцы. Для этого требовалось высочайшее разрешение, и ему было известно, что просьба его вряд ли будет уважена. Князь Голицын, вельможа, близкий к престолу, не мог добиться высочайшего указа, когда пожелал освободить обоих крепостных.
Он было спросил совета у Касаткина, старик с изумлением выслушал Можайского и, наконец, сказал:
— Оставьте чудачества, Александр Платонович. Бог послал вам богатство — владейте с доброй душой. Окажите милость и заботу крепостным вашим. Конечно, разные бывают помещики. Вот, скажем, граф Платон Зубов. Его величество, проезжая через Шавельский повет, обратил внимание на бедственное положение крестьян графа Зубова, умиравших от болезней. А болезни происходили от дурной и недостаточной пищи. Его величество изволил указать: предосудительно одному из богатейших помещиков доводить своих крестьян до такой крайности. Вот Александр Васильевич Суворов против Зубова был бедняк, однако среди бранных трудов был добрым помещиком и хозяином, понуждал богатых и исправных крестьян помогать беднякам в податях и работах. Приказывал в неурожае подсоблять бедняку всем миром, заимообразно, без процентов. Вот с кого вам брать пример, Александр Платонович. Послали в поместье свое Федю Волгина, что ж, он хоть и молод, но человек добросовестный и, кажется, разумный. И нечего вам мудрить, как раньше бывало. Вы теперь человек богатый, владейте с богом, как отцы владели, раз счастье зам выпало.
Выслушав поучение, Можайский вернулся к архивным занятиям и, отодвинув переписку Воронцова с бурмистром, с большей охотой принялся за дела дипломатические. Здесь, в архиве, он изучил историю сношений России и Англии за два с лишним десятилетия. С горечью видел он, как щедр был английский кабинет на обещания и как мало склонен был помогать России сокрушить деспотизм Наполеона до той поры, пока Британскому острову не угрожала прямая опасность вторжения. Не так уж неправ был Наполеон, когда говорил в Париже русскому послу Куракину: «Ваша торговля с Англией невыгодна», или когда укорял Александра: «Англия поступает с вами, как с Португалией».
И все же, хоть и поучительны и интересны были занятия в архиве Воронцова, но Можайский тяготился лондонской жизнью, и вести, приходившие с родины, волновали его.
Александр Павлович был в Петербурге. Гвардия возвратилась в Россию морским путем из Шербурга и высадилась в Кронштадте.
С развевающимися знаменами прошли победоносные полки под сенью триумфальной арки, где были начертаны слова:
«Победоносной гвардии жители столичного града святого Петра от имени признательного отечества в 30 день июля 1814 года».
Но полиция била народ и не допускала его к солдатам, об этом написал Можайскому в письме, присланном с верной оказией, Дима Слепцов. Письмо было короткое и кончалось описанием отъезда из Шербурга. У Слепцова, на беду его, открылись раны, возвращаться походом с полком он не смог и избрал морской путь. В Шербурге для перевозки гвардейской пехоты были приготовлены большие русские и английские корабли.
Слепцов плыл на семидесятипушечном фрегате «Не тронь меня».
«Что ж, друг мой… Впереди — осень, тоскливая жизнь на постое в грязных литовских местечках и вино, вино, в коем истина и забвение… Хоть бы опять война, что ли… Хоть бы выпустили Бонапарта…»
Пришла грустная весть: 25 августа император подписал рескрипт, увольнявший в отставку государственного канцлера Николая Петровича Румянцева. День, когда пришла эта весть, был днем скорби для Семена Романовича. В волнении он шагал по кабинету, изливая свой гнев перед Можайским и Касаткиным, вспоминая заслуги Николая Петровича, его труды и дела, — при всех недостатках он был одним из образованнейших русских людей, послуживших русской науке и просвещению.
— Кто заменил его? Ничтожный Нессельрод, проходимец на русской службе! Маленький тритон, родившийся на британском корабле и пожалованный при рождении мичманом! Ни морскими, ни сухопутными доблестями себя не прославил! В дипломатии пел с чужого голоса, одно поваренное искусство познал и тем доволен…
Семен Романович садился, вставал, не находя себе места, шагал по кабинету.
— Карлик ростом, колосс честолюбием! Да неужто так бедна людьми Россия, что сей немец будет докладывать государю дела иностранные?.. Меттерних — его учитель, бог и царь! Небось, будет рад, есть чему радоваться!
Семен Романович оказался пророком. Отставка Румянцева и назначение Нессельроде, как писали газеты, вызвали удовольствие и одобрение австрийских дипломатических сфер. «Влияние графа Неосельроде будет направлено в благую сторону, к безопасности для соседей России», — то были слова Меттерниха, сказанные одному из его английских друзей.
Как ни старался Можайский уклоняться от приглашений к обеду и завтраку, ему все же приходилось бывать в свете. Бывал Можайский в тесном кружке, который собирался в доме Ольги Александровны Жеребцовой.
Приехал в Лондон знакомый по Петербургу, и особенно по компании во Франции, Сергей Григорьевич Волконский. Они встретились в доме Жеребцовой и тотчас уединились в угловой гостиной. Вспомнили Суассон и битву под Краоном, которая стоила жизни многим храбрым, вспомнили и других доблестных воинов, которым не привелось увидеть триумф русских в Париже. Волконский знал покойного Фигнера и скорбел об его смерти.
— Он привлекал к себе внимание с первого слова, — говорил Волконский, — наш фельдмаршал имел редкий дар разгадывать людей и недаром назвал он Фигнера человеком необыкновенным… Какой дерзновенный, неукротимый ум, какая натура страстная и безжалостная порой! Какой непреклонный характер! Бог знает, что бы с ним было, останься он жив. Он строил планы один другого дерзновеннее, и ежели бы пришло время их осуществить, не задумался бы ни на мгновение.
— Я обязан ему жизнью, — сказал Можайский, — обязан ему и тем, что он, сам того не подозревая, заставил меня размышлять о мистической философии и братьях-масонах, не обманывая себя иллюзией. Он не терпел метафизики.
— Еще бы! — улыбнулся Волконский. — Правду сказать, наш разговор ночью, в Суассоне, напомнил мне рассуждения Фигнера. В ваших речах о братьях-масонах была его язвительность и ирония. Но вот что… Я еще в тот раз хотел опросить вас… Я вижу у вас перстень. Эмблема мне знакома…
Он взял руку Можайского.
— «Si todias, in venies» — «Если пронзишь, то найдешь…» Корона, пронзенная кинжалом.
— Это дар одного друга.
— Он поляк? — спросил Волконский. — Извините мое любопытство, но это масонский знак — знак дожи Фемиды в Варшаве.
Это было неожиданностью для Можайского, но он промолчал.
Они заговорили о том, что волновало в то время Лондон — о народном возмущении против закона, запретившего ввоз в Англию зернового хлеба.
— Мы свидетели яростной борьбы. Голодный желудок воюет против тугого кошелька. Я видел на стенах домов надписи: «Хлеба или крови». Тысячные толпы собираются у парламента. А цены на хлеб все поднимаются, и от этого обогащаются землевладельцы. Вы долго жили в Англии и знаете эту страну. Что, по-вашему, можно ожидать?
Можайский подумал и сказал:
— Прочтут народу закон против мятежей. Прочтут раз, другой, третий, а потом войска будут действовать оружием. Вот вам и представительное правление, древнейшая конституция. Аристократия творит, что ей заблагорассудится…
Из большой гостиной слышался звонкий голос хозяйки, рукоплескания и хохот гостей.
— Народ свистит проезжающим в каретах министрам, Фрэнсис Бэрдет мечет громы в парламенте…
Смех в гостиной не умолкал; громче всех хохотал сэр Роберт Вильсон.
— Я думаю, что Россия изберет другой путь, — понизив голос, сказал Волконский, — но какой же путь указывает нам истинная любовь к отечеству? Любовь к отечеству, думается мне, не в стремлении главенствовать над Европой, не в военной славе… а в том, чтобы высоко поставить Россию в гражданственности… Однако наступает суровое время. Во Франции на престоле снова Бурбоны. В Германии немецкие венценосцы воспользовались народным движением, а теперь попирают права народа. В России…
Внезапно послышались легкие шаги, зашуршало платье, и они увидели перед собой хозяйку дома.
— Я вам помешала, — сказала она, улыбаясь и глядя то на одного, то на другого большими голубыми на выкате глазами. — Друзья мои, вы похожи на заговорщиков… я в этом деле кое-что понимаю… Идите лучше танцевать.
И, приложив палец к губам, она исчезла так же быстро, как появилась.
Широкое хлебосольство хозяйки, привычное для русских, удивляло гостей-англичан. Задавал тон сэр Роберт Вильсон и его друзья из вигов; они не стеснялись в беседе, и здесь часто повторялась шутка, которую приписывали Талейрану: «Как бы вместо колосса на Сене не возник колосс на Неве». Никто из этих светских болтунов не вспоминал о подвигах русских и русских победах в Саксонии и Франции, точно этих побед и не было.
Появился в Лондоне адмирал Чичагов, которого молва обвиняла в том, что он упустил Наполеона при Березине. Он был желчен, обижен, судил обо всем зло и тем тревожил русского посла. Лев Александрович Нарышкин — русский богатый барин — тоже неизвестно для чего жил в Лондоне, проводя время в манеже и на скачках, предпочитая охоту за лисицами в полях и рощах Англии охоте в своих имениях…
Лондонское общество, хорошо знакомое Можайскому, переменилось. Не стало французских эмигрантов, когда-то наводнявших Лондон. Они устремились во Францию; жажда мести и ненависть к народу переполняли их сердца. Они ехали во Францию мстить за то, что четверть пека считали ступени чужих лестниц, за дырявые шелковые чулки, которые приходилось носить на балах у английских вельмож, за то, что жили в сырых, мрачных домах Ист-энда, за то, что перед ними закрывали двери дворцов. Тридцать тысяч дворян со всех концов Европы устремилось в несчастную Францию, требуя чинов и имений. Молодежь, выросшая в эмиграции, знала Францию только по рассказам своих отцов и дедов, Францию Людовика XVI, Марии-Антуанетты.
Для них ничто не изменилось во Франции с того дня, как пала Бастилия. Все по-старому, если брат Людовика XVI снова в Тюильри, если граф Артуа и его сыновья снова в Париже.
Англичане равнодушно кивали головой, как бы одобряя все эти бредни, втайне радуясь тому, что они, наконец, избавятся от нищих и беспокойных иностранцев.
Ювелиры, портные, сапожники, каретники отпускали господ эмигрантов в надежде получить с них долги в золотых французских луидорах.
Император был в России, и все ожидали перемен; слова, сказанные Александром в салоне мадам де Сталь, внушали надежды.
30 августа 1814 года Александр подписал манифест. В нем перечислялись милости военным и дворянству, в нем было даже прощение изменникам. «Крестьяне и мещане получат мзду свою от бога», — сказано было в манифесте.
13 сентября Александр покинул Петербург; он побывал в Варшаве, затем прибыл в Вену и остановился во дворце Гофбург. Конгресс в Вене был накануне открытия. Англичане, опасаясь сближения России и Франции, в помощь главе делегации лорду Кэстльри полагали послать Веллингтона, как будто этот упрямый солдат мог противостоять изворотливости и ловкости Талейрана или утонченному коварству Меттерниха.
Жена Чарльза Кларка, леди Анна, на правах старого знакомства была откровенна с Можайским.
Без стеснения, с циничной откровенностью, она говорила о своем замужестве:
— Сэр Чарльз в ранней молодости путешествовал по Италии и подружился с моим мужем. Год назад мы встретились с сэром Чарльзом в Венеции. Я была одинока. Молодой вдове трудно оставаться в одиночестве, если она заботится о своем добром имени. Мне не суждено было любить и быть счастливой. Что мне оставалось делать? Я стала леди Анна Кларк. И если я однажды появлюсь в Вене, никто не осмелится прогнать меня из этого скучнейшего города… Долго ли вы думаете оставаться в Лондоне?
Можайский с удивлением взглянул на Анелю, — он не сразу понял, почему она вдруг заговорила об этом.
— Думали вы о судьбе Катеньки? Я знаю — думали. Но почему вам не пришла в голову эта мысль, когда вы так жестоко осудили ее, едва только узнали, что она стала женой Ляроша? Вы назвали ее изменницей, вы старались ее забыть, вы искали новых чувств? Тщеславие, одно тщеславие мужчины владело вами!
— Но что я мог сделать тогда?.. Она жена другого, жена француза.
— И вы стали избегать встреч. Или, встречая ее и увидев, что она в тоске и отчаянии, холодно улыбались и не сделали ни шага, чтобы выслушать ее, узнать, как это случилось, что она жена другого… Вот теперь судьба захотела, чтобы она стала свободной. Она одинока так, как была одинока я полгода назад. У нас разные характеры, Можайский, она — не я. Она не сделает того, что сделала я. Но разве не достойна она счастья, красивая, умная, добрая? Отчего судьба так сурова к ней? Не думайте, что я хочу быть поверенной ваших сердечных тайн, — одного я хочу: хочу, чтобы она, наконец, узнала хоть немного счастья…
— Верьте мне, что и я хочу того же, — чуть слышно сказал Можайский. — Но разве я принадлежу себе? На мне мундир, я не ищу ни славы, ни почестей, я исполняю мой долг, и если бы не это… — Голос его прервался: ему было неприятно делать эту женщину поверенной своих тайных мыслей.
— Я умолкаю, — сказала Анеля, — не мне говорить вам, как должно поступить, но война кончилась, и вы можете просить об отпуске или отставке…
— Сейчас это невозможно.
— Я не спрашиваю у вас причины. Но я хочу, чтобы вы знали… Я — леди Кларк, жена англичанина, но это не значит, что этот туманный остров стал моей родиной. Ни мой муж, ни его друзья не думают об этом. Я часто слушаю, как они холодно и жестоко судят о судьбе Польши, решают, как разорвать ее по частям… Я все еще считаю Польшу второй родиной.
— Они заботятся только о том, чтобы Россия не слишком усилилась.
— А вы думаете, что надо принести польские земли в жертву честолюбию Александра? Пожертвовать ее независимостью, чтобы Александр был конституционным королем в Польше и самодержцем в России?
— Нет, не об этом я думаю. Польша — ворота России, через эти ворота вошел Наполеон, разоривший наши западные губернии. Что ежели другой Аттила вздумает повторить поход Бонапарта? Австрия и Пруссия давно хотят поживиться польскими землями!..
Так неожиданно их разговор от сердечных дел перешел к делам политическим, и, только когда Можайский стал прощаться. Анеля сказала:
— Помните: вас любят. Всегда, вечно, только вас… Помните это.
Три дня спустя пришла почта, и в ней были долгожданные вести от Федора Волгина. В ней было и письмо — небольшой листок, исписанный тонким почерком.
«Александр Платонович, — писала Катенька, — цепь несчастий разлучила нас навсегда. Вы никогда не спрашивали меня, как случилось, что я стала женой француза. Однажды мы увиделись мельком в Париже, и вы холодно поклонились мне и отвернулись. Я видела вас еще раз, но вы не видели меня или сделали вид, что не видите. Потом встреча в Грабнике. И опять вы ни о чем не спросили меня, я тоже молчала. Сейчас я могла бы тоже промолчать, но сердце велит мне: «Скажи все, о чем думала все эти годы, ночи и дни».
Вы оставили меня шестнадцатилетней. В доме тетки я росла сиротой. Не хочу дурно говорить о покойнице, но вы сами знаете, сколько горя и слез принесла она своим дворовым, своим крепостным людям. И сколько слез пролила я от незаслуженных обид, унижений, придирок. Я ждала вас, я помнила наши клятвы, но в Петербурге среди тех, кто сложил голову под Фридландом, назвали и ваше имя. Я едва не помешалась от горя. Что ж сказать далее? В посольстве Коленкура был Лярош. Он увидел меня и был со мной ласков и добр. Когда настала пора возвращаться в Святое, к тетке, предстала предо мной вся моя жизнь — обиды, унижения. Лярош ездил к моим кузинам чуть не каждый день, они жалели меня. В день, когда Лярош просил моей руки, они радовались за меня, зная мою горькую участь. И я, семнадцатилетняя, решилась на этот брак. Русская девушка стала женой француза… Подумайте, Александр, как я росла. В доме тетки почти не звучала русская речь. Моей тетушке Париж был милее Москвы. Я, русская девушка, думала по-французски, дворовые девушки выучили меня русскому языку, и если я, Катрин Лярош, осталась русской — это потому, что никогда не умолкал во мне голос родины…
Помню, Лярош показал мне медаль, выбитую в Париже по случаю занятия французами Москвы. Это было еще до Бородинской битвы, когда Москва была еще в наших руках… Я написала «наших», да наших, никогда я не считала себя француженкой! Лярош показал мне медаль, на одной стороне лик Наполеона и надпись «Император-король», на другой башни Кремля и дата «Сентябрь восемьсот двенадцатого года». У меня сжалось сердце, и я бросила медаль на землю. Август не сказал ни слова и вышел. Он понимал мои чувства.
Мы встретились с вами в Грабнике, но я была уже не та, что в Васенках, и не та я была, от которой вы отвернулись в Париже.
Я жила в невиданной ранее роскоши, когда Август Лярош, муж мой…»
(Здесь Можайский вздрогнул. Он почувствовал боль оттого, что она его, Ляроша, даже мертвого назвала мужем.)
«…муж мой состоял в посольстве Коленкура. Я, выросшая почти что в бедности, жившая после смерти отца в воспитанницах у скупой, хоть и богатой благодетельницы, увидела пиршества, где груша была выращена в оранжереях и стоила чуть не сто рублей. Я видела безумную роскошь, балы, празднества, фейерверки, когда в огне сгорали такие деньги, что могли бы годы кормить бедное семейство… И все это богатство и роскошь не ослепили меня, я видела, что Россия господская одно, а Россия сельская другое. Скоро и мне пришлось пережить страдания в воздаянье за ту жизнь, которой я жила три года. Семнадцать дней отступления из Москвы были для меня постоянными предсмертными муками. Каждый час смерть являлась передо мной, и каждое утро я говорила себе: не доживу до вечера, но какой смертью умру — не знаю… Ужасный человек, называвший себя императором французов, увлек с собой сотни тысяч людей, они вторглись в мое отечество, причинили ему неслыханные бедствия, они несли с собой смерть и несчастье, но возмездие было ужасно. Какое страшное зрелище… Большая Смоленская дорога — нескончаемое кладбище — трупы людей, взорванные пороховые ящики, снова трупы, в иных еще теплилась жизнь. Вокруг нас изможденные, закопченные дымом бивуаков лица, красные воспаленные глаза… Ноги окутаны тряпками, на плечах рваные, жалкие шубы. Люди разрывают зубами внутренности павших лошадей… А вокруг мертвая снежная равнина. Одни трубы торчат, избы сожжены, разобраны на топливо. Зимнее, багряное солнце в облаках, густые хлопья снега, все закрыто пеленой, небо и земля слились. Бредут, шатаясь, солдаты, падают в рытвины и остаются в этих снежных могилах. Я видела, как прощались навеки отец с сыном, брат с братом, и снег заметал их трупы у погасшего костра… О, как я хотела рассказать вам об этом крестном пути моем там, в Грабнике, как самому близкому на земле! Но вы были, как стена, как камень… Теперь о вашем письме. Я много думала о нем. Если в вас говорит жалость, жалость к одинокой женщине, то скажу вам только: жалости мне не надо…»
На этом месте обрывалось письмо Катеньки. Можайский взялся за письмо Волгина.
«Как вы мне наказывали, по приезде тотчас поехал в Васенки. Екатерина Николаевна, увидев меня, так удивилась, что не могла вымолвить ни слова. Я отдал ей ваше письмецо, она взяла и сказала: «Прости меня. Побудь здесь», — и ушла. Вернулась — глаза красные, и вся дрожит: «Я потом отвечу. Писать сейчас не могу, нету сил». Потом стала расспрашивать меня о нашей жизни в Париже, в Лондоне, не отпускала из Васенок два дня… Всюду каждый хочет слышать про подвиги наших воинов… Вас тут помнят, вспоминают, каким вы были сызмальства, ждут, что приедете в больших чинах. В поместье вашем все по-старому, от управителя народ по-прежнему в обиде, — и не удивительно: он из обнищавших дворян, а теперь живет в довольстве и сам себе деревеньку присмотрел… Думаю ехать на родину, хотя у меня никого не осталось — столько лет на чужбине прожил…»
Кроме этого письма, в почте была бумага о введении в права наследства Можайского и письмо управителя, коллежского асессора в отставке, Никифора Петровича Курнакова. Он поздравлял Можайского с наследством и прилагал к своему письму документы, кои, если угодно будет гвардии капитану, просил подписать, для того чтобы ими «впредь в действиях своих руководиться».
«Правила для управления моей вотчиной» — называлось сочинение коллежского асессора Курнакова.
«Стараться продавать все свои продукты, сколько возможно, в изделиях, хотя несколько дешевле, но всегда за наличные деньги… В случае рекрутского набора лучше вносить деньгами, нежели отдавать людей, разве каких-нибудь негодяев…»
Следовало примечание управителя:
«Есть слухи, что рекрутский набор в нынешнем году отменят, дабы дать возможность после войны оправиться помещикам от разорения».
К письму были приложены три рекрутские квитанции. Можайский взял в руки одну из них и прочитал:
«По указу его императорского величества Орловского округа Алексеевской волости дано сие отдатчику гвардии капитану Можайскому Александру Платоновичу, что он представил 1814 года августа 7 дня при своем доношении к рекрутскому приему, что с пятисот душ по восьми человек, 83-й набор в рекруты дворового человека Антона Жмыхова и по осмотру явился в указанные лета и меру в службу годным».
Далее следовали подписи советника и канцеляриста.
Долго держал Можайский в руках эти, написанные дубовым канцелярским языком квитанции и думал о судьбе людей, названных в серых, шершавых клочках бумаги. Двадцать пять лет жизни… Сколько обид незаслуженных, несправедливых наказаний, побоев ожидает этого неизвестного ему дворового человека с той минуты, как в присутствии воинском прокричат ему: «Лоб!» — и словно каторжанину-душегубу выбреют половину головы ото лба и еще наденут колодки, чтоб не сбежал…
А ведь он защитник отечества, как же можно рекрутский набор обращать в надругательство над человеком! Можайский тяжело вздохнул и снова взялся за письмо управляющего.
Далее следовало:
«Инструкция управляющему моему на управление о работах хлебопашественных и о крестьянах».
С краской стыда Можайский прочел:
«Ежели до восемнадцати лет крестьянин не выдаст дочери замуж, то отдать ее насильно за первого крестьянина, ибо она довольно имела времени избрать жениха…»
Он готов был изорвать инструкцию, но сдержался и стал читать дальше:
«Как господину управителю, так и бурмистру или старостам запрещается бить крестьян рукой, палкой или плетью и вообще, кроме розог, ничем не наказывать».
И это ему, другу Николая Тургенева, Владимира Раевского, подписать своей рукой?
Касаткин застал Можайского в волнении над изорванными в клочки «правилами и инструкциями». Можайскому надо было излить кому-нибудь душу, и он выбрал Касаткина.
— А что в сих правилах дурного? — хладнокровно сказал Касаткин. — Надо только, чтобы управитель был человек честный и богобоязненный…
С 1811 года подушная подать крестьянам стала не два, а три рубля, и Можайский знал, как бесчеловечно выколачивали подати исправники, и приказал заплатить за всех недоимщиков, но главное, о чем он думал с тех пор, как стал сам помещиком, был перевод крепостных в «вольные землепашцы».
Можайский удивил Касаткина, когда спросил его о законе 20 февраля 1803 года. По этому закону помещик мог отпустить на волю своих крепостных по доброй воле и притом с землей.
— Вы, Александр Платонович, только на ноги становитесь, — назидательно сказал Касаткин, — одними эполетами не проживете. Только ввели вас в наследство, уж вы вздумали себя разорять. На моей памяти двое отпустили крестьян на волю — граф Румянцев, фельдмаршала сын, сто девяносто девять душ, и воронежский помещик Петрово-Соловово — пять тысяч душ. Лет шесть дело тянулось, на высочайшее восходило имя, а вы думаете — захотел и отпустил.
— Шесть лет! Да ведь закон ясен.
— Закон ясен. А высочайшее повеление? Без него нельзя. Пока еще высочайшее повеление выйдет! Сенатский указ из Москвы в Саратов два месяца идет… Да что два месяца! С Адмиралтейской набережной на Мойку — год и два дня шла бумага. Один царь-батюшка Петр Алексеевич умел на приказных и подьячих страху нагонять, губернаторов в узде держать. Смоленского вице-губернатора с приказными, которые не прислали вовремя окладных ведомостей за три года, царь своим указом приказал «сковать за ноги и на шею положить чепь и держать так в приказе, покамест вышеписанные ведомости не пришлют».
— И прислали?
— Еще бы не прислать. Кому охота цепь в три пуда на шее таскать.
Однако следовало ответить на письмо, и Можайский написал Волгину. Он написал, что назначает его управителем — хотя бы временно, до приезда. Написал, что решил отпустить, всех дворовых на волю, а престарелых приказал кормить и одевать и содержать в тепле. Барщину приказал заменить легким оброком, платежи крестьян ему, помещику, сократить.
С обратной почтой письмо Волгину ушло в Россию.
Лондонская осень с дождями и туманами, мысли о родине, одиночество измучили Можайского. Занятия в архиве после походной жизни, после Парижа и сокровенных бесед с друзьями опротивели. С радостью он узнал о своем назначении в Копенгаген, — состоять при посольстве в Дании казалось ему все же интереснее, чем продолжать корпеть над лондонскими газетами и над архивами Семена Романовича.
Можайскому случалось бывать в российских посольствах при малых государствах в немецких землях. Он помнил смешные претензии маленьких дворов, интриги придворных, кичившихся близостью к курфюрсту, фаворитов и фавориток, их алчность и ничтожество. Нечто похожее он полагал увидеть и при дворе датского короля.
Посланником в Копенгагене был Иван Кузьмич Протасов, племянник наперсницы Екатерины, известный своим обжорством и добродушием. Дания — давний союзник России — немало претерпела в дни наполеоновских походов. После падения Наполеона австрийский канцлер князь Меттерних обратил свой взгляд на Данию, и можно было ожидать там австрийских интриг, направленных на то, чтобы повредить русским интересам в Европе. Все это, должно быть, причиняло беспокойство старику Протасову.
Надо было собираться в путь. В ноябре в Северном море бушевали бури, но морское путешествие не пугало Можайского. Он торопился оставить Англию, хотя немного грустил в ожидании расставания с Семеном Романовичем. Он точно чувствовал, что они видятся в последний раз.
Можайский был с прощальным визитом у леди Анны — Анели, как он называл ее по старой памяти. Она очень удивилась, когда узнала, что он едет не в Россию, а в Копенгаген:
— Вы этого хотели?
Можайский пожал плечами.
— Разве вы не говорили мне, что устали от странствий, что Версаль и Виндзор — ничто перед старым садом в Васенках?
— Я просил об отставке, но вот видите…
— Вы писали Катеньке?
— Да.
Она смотрела на него пытливо.
— Если так надо, поезжайте в Копенгаген, в Мадрид, даже в Америку, но помните…
В эту минуту вошел сэр Чарльз Кларк. Она умолкла, и начался долгий разговор о войне Англии с Соединенными Штатами, которую в то время вела Англия, отвлекаясь от дел в Европе.
Накануне отъезда Можайский побывал у книгопродавца Кольборна.
Путешествие предстояло долгое, он решил захватить с собой хоть немного книг. Приказчик встретил его как давнего и уважаемого клиента и проводил в маленькую комнатку позади лавки. Кольборн сидел у пылающего камина. Против него посетитель разглядывал гравированную картину в старой, ветхой книге. Услышав шаги, он встал, поднял голову, откинул рукой пряди темных вьющихся волос.
Можайский слегка отступил, — он увидел бледное лицо, тонкий изгиб бровей и нежный девичий подбородок…
Он не расслышал, что сказал Кольборн, назвал ли тот имя. Но нужно ли было его называть?..
Байрон протянул руку. Он глядел в упор, прямо в глаза Можайскому.
— Кольборн говорил мне, что вы его давний и верный покупатель и ценитель английской поэзии, — голос у Байрона был мелодичный, чуть певучий. — Сожалею, что до сих пор не имел чести знать вас, капитан.
— У вас есть почитатели и в России, слышал, что вы имели намерение приехать…
— Да. Я думал об этом. Все, что я читал о России и русских, мне ничего не объяснило. Для меня ваш народ и ваша страна — тайна… Это молодой народ. Его ждет великое будущее, — слышал Можайский.
Кольборн внимательным взглядом посмотрел на них обоих и ушел в лавку.
— Вы говорите, у меня есть читатели в России. Я думаю — немного… Английский язык…
— Мне случалось читать «Чайльд-Гарольда» не знающим английского языка. Затем я переводил смысл, и они слушали со вниманием; главное — душа поэта, его мысль. И музыка стиха, — ее можно уловить, даже не зная языка.
— Москва… Москва… — произнес Байрон, точно любуясь непривычным сочетанием звуков. — Это была великая жертва. Какой народ способен принести в жертву священный, древний город и тем отстоять свою независимость?
— Хорошо, что вы помните об этом. Мне кажется, здесь, на острове, стараются это забыть.
Чуть припухлые, чувственные губы Байрона шевельнулись, на них появилась презрительная усмешка.
— Здесь, в Англии, живет множество глупых и напыщенных себялюбцев, которые считают все не английское недостойным внимания. Вы были ранены? — неожиданно спросил он.
— Да. Под Лейпцигом.
— Я никогда не видел большого сражения, настоящего большого сражения, такого, как Бородино или Лейпциг… О, этот человек! Я вижу его в роковую ночь, когда решалась его судьба. Я вижу этот гордый, мрачный дух, могущественный даже в дни испытаний!
Несколько мгновений он молчал…
— Итак, Бурбоны восстановлены. Здесь, в Лондоне, шайка аристократов восхваляет презренного и продажного Людовика XVIII… Я с гордостью видел, как рушились надежды на республику во Франции! Жалкий Бурбон на престоле, а властителю полумира оставлен островок в Средиземном море! Что бы ни говорили, я предпочитаю льва волкам!
— Мне казалось, что вы предпочитаете свободу.
Байрон взглянул на Можайского, что-то похожее на удивление мелькнуло в его взгляде:
— Свобода… Свобода. Я нигде не видел ее. Властолюбие и ненависть к свободе были неизлечимой болезнью Наполеона. Да, быть первым среди равных, первым в народе, не диктатором, не Суллой, не Октавием, не тираном, а благодетелем и освободителем, предводителем людей в искании истины и свободы — вот высокая участь! Призвание, выше которого я не знаю на земле! Однако это только мечта.
Вошел Кольборн, молча положил перед Байроном отобранные книги и удалился.
— Я жил во франции, — тихо сказал Можайский, — и от моих французских друзей знаю, каким гонителем свободы был император Наполеон, как яростно искоренял он дух свободы. В Нюренберге он приказал расстрелять книгопродавца только за то, что тот отказался назвать имя автора одной брошюры. Она показалась Наполеону опасной… подумайте, милорд, если бы вторжение в Британию из Булонского лагеря ему удалось, мистеру Кольборну угрожала бы судьба нюренбергского книгопродавца… Вы, милорд, говорили о доблести моих соотечественников. Я видел сожженную французами Москву, видел разоренную Европу. Я видел горе, которое принес народам этот мрачный гений… Десятки тысяч русских легли под Аустерлицом, Фридландом — их гибель спасла Британию от вторжения врага. Британцы не знают тех чувств, которые переполняли сердца русских, когда они видели врага на родной земле. И вот мы вступили в пределы Франции — в наших сердцах не было жажды мести, нам было жаль французов. Но, думал я невольно, разве французы не были опьянены славой нового Цезаря, разве их не ослепил его триумф, его трофеи и военная добыча?
Голос Можайского дрогнул. Он замолчал, ожидая ответа, но его собеседник подвинул ближе свое кресло и молча глядел на Можайского прекрасными, широко раскрытыми глазами.
— Мне жаль французов, но в годы триумфа их Цезаря разве они щадили покоренные им народы? Сострадали, сочувствовали им? Нет, не было этого и…
— Я понимаю вас, — вдруг перебил его Байрон, — вы поднялись на защиту отечества. Но для чего воевали британцы? Для чего воевали они двадцать два года? Для того, чтобы восстановить во Франции злодейскую королевскую власть? Питт-младший, лорд Ливерпуль, Артур Уелесли — герцог Веллингтон! О ничтожества! Когда-нибудь британский народ поймет, что они проливали кровь только для того, чтобы не дать британцам парламентскую реформу! Они предпочли пролить море крови, только бы не расстаться с привилегиями знати! Нога моя не переступит порог палаты лордов! Черствые сердца! Деревянные души! Говорить этим людям о страданиях народа, взывать к их совести? Никогда!
— Вы могли бы выразить ваши чувства в стихах. Вот священный долг поэта.
— Священный долг поэта, — с горечью повторил Байрон. — Я написал «Неоконченную рапсодию» и назвал ее «Поездка дьявола». Дьявол пролетает над полем Лейпцигской битвы, летит над Европой, над Лондоном. Он проникает в парламент, видит ничтожных владык, низких и продажных политиков… Я писал эти строки кровью сердца. Но кто осмелится издать эти стихи? Меррэя ненавидят за то, что он издал моего «Корсара». А что было в этой поэме, кроме песни о любви? Восемь строк, попавших в цель, ужаливших принца-регента. О презренная шайка! Они торжествуют победу над Наполеоном! Вы — свидетель пышных празднеств, парадов и раутов. Они истратят миллионы на триумфальные арки, монументы и обелиски. Трущобы Лондона — вот памятник двадцатидвухлетней войне, чудовищный государственный долг отнимет последние крохи хлеба у бедняков!..
Он вдруг умолк и сказал тихо, с грустью и болью:
— Впрочем, зачем я это рассказываю вам? Вы жили в Англии, и ваши глаза видели всё… Кольборн мне сказал, что вы уезжаете… Не думайте слишком дурно об английском народе. Народ — это не господа из Сент-Джемского дворца. Это люди, которые стоят у литейных печей в Шеффильде, это моряки, которые так редко умирают в постели.
Он встал и протянул руку Можайскому. Рука была небольшая, но сильная и горячая, привыкшая владеть не только пером, но шпагой и пистолетом. Затем взял со спинки кресла плащ и вышел.
Об этой встрече в записях Можайского сохранилась только одна строка:
«Сегодня я видел славу Англии».
Пакетбот «Эвридика» долго плыл вдоль берегов Темзы. Река становилась шире, в тумане рисовались силуэты бесчисленных, поднимающихся к небу мачт. Тут стояли большие океанские суда с высокими бортами и маленькие гребные суденышки. Сквозь лес мачт, сквозь паутину канатов Можайский видел золотую полоску рассвета.
Утром «Эвридика» вышла в открытое море. Огромный город остался позади. Дул свежий ветер. К вечеру легкий туман рассеялся, и все вокруг осветилось багрянцем заката. И вдруг перед глазами Можайского явился как бы плавучий город — три громадных флота, охранявших Англию: Портсмутский, Плимутский и третий — Северный флот. Плавучие крепости чуть колыхались в открытом море, солнце отражалось в бронзовых стволах бесчисленных пушек.
Стемнело, и вскоре можно было разглядеть только черные громады кораблей и мачты, похожие на шпили готических соборов.
Можайский чувствовал морскую соль на губах и радовался уже тому, что куда-то движется, что он не в Лондоне, не в доме на Лэйстер-сквер, среди пожелтевших архивных бумаг. Ах, если бы можно изменить курс «Эвридики», если бы, миновав Копенгаген, плыть Балтийским морем к Кронштадту, домой, на родину…
Вспомнились ему стихи Батюшкова, поэта любимого и известного уже в те времена. Стихи его расходились мгновенно в списках, и здесь, на корабле, уносившем его, быть может, навсегда от берегов Англии, он прочитал про себя:
Я берег покидал туманный Альбиона, И вдруг… то был ли сон?.. Предстал товарищ мне, Погибший в роковом огне Завидной смертию над Плейсскими струями…Ему вспомнился странный и привлекательный товарищ, с которым однажды его свела судьба, товарищ, нашедший вечный покой в струях Эльбы…
Как невиданные созвездия, загорелись кругом огни военных судов.
«Я скажу ей все, — думал Можайский, — скажу, что одно чувство владеет мной навеки — любовь к вольности, желание видеть всех людей на земле счастливыми».
Они проходили в эти мгновения мимо адмиральского корабля. Ему послышались странные песнопения — то ли псалмы, то ли вечерняя молитва, — и вдруг подумалось, что этот корабль подобен плавучей тюрьме для невольников-матросов.
Можайский вспомнил рассказ Воронцова о восстании во флоте. Темные и безмолвные суда тогда внезапно осветились факелами.
Небывалый случай, казалось, не свойственный англичанам: матросы перестали слушаться своих командиров, восстали те, кого спаивали, заставляли обманом подписывать бесчеловечные контракты, потом ловили сетями, арканами и сваливали, как живой груз, в плавучие тюрьмы-гробницы.
Их держали под замком, заставляли работать под дулами пистолетов, их били плетьми, этих белых невольников британского флота.
С XIV века вошел в обычай отвратительный способ вербовки матросов. И в одну из июньских ночей 1797 года рабы Вильяма Питта восстали. Сигнальные флаги возвестили лозунг восставших — «плавучая республика». Слово «республика» было забыто со времен Кромвеля. В банках тогда началась паника, курсы бумаг на бирже упали наполовину.
…Ветер крепчал. Скрип мачт, плеск волн и хлопание парусов напоминали о том, что «Эвридика» движется вперед мимо грозных, мерно покачивающихся темных громад.
Можайский направлялся в Копенгаген — один из тишайших уголков Европы; он никак не мог думать, что именно там ожидает его происшествие, которое едва не привело в крепость или в ссылку.
43
Теплой поздней осенью в Вене, на Нижнем Пратере, пили молодое вино. Девушки в коротких белых платьях, в чепцах с розовыми и золотыми кружевами разносили на больших подносах хрустальные кружки.
Желтые листья, кружась, падали с высоких каштанов Пратера. Под каштанами, не торопясь, разглядывая друг друга, гуляли важные господа, и девушки из погребка «Зеленый егерь» называли друг другу важных господ:
— Этот беленький, похожий на альбиноса, — датский король!
— А толстый — король Вюртембергский!
— Какой урод!
— Смотри, Лотхен! Великий князь Константин…
— Эрцгерцог Карл…
Важные господа гуляли запросто по Нижнему Пратеру. Ласково грело осеннее солнце, и лакеи с шубами в руках стояли в стороне, за деревьями.
Пожилой человек с проседью в черных густых волосах, в светло-сером сюртуке, обтягивающем его еще стройную фигуру, легко спрыгнул с вороного коня и отдал его жокею.
Девушки из «Зеленого егеря» присели перед ним и зашептались:
— Эрцгерцог Андреас…
— Найдется у вас стакан вина для старого господина? — сказал он девушкам с превосходным венским выговором.
И девушки со всех ног бросились вниз по ступеням.
Пожилой господин ждал, поглядывая на гуляющих, кланяясь во все стороны. Ему отвечали с подчеркнутой учтивостью. Эрцгерцог Карл, болезненный старик, которого называли победителем Наполеона при Эсслинге, приблизился и долго жал ему руку.
— Всегда рад вас видеть… Теперь здесь редко встретишь венского старожила…
— Вы слишком добры, ваша светлость, — ответил тот, кого девушки назвали «эрцгерцог Андреас».
Он глядел на Карла добрыми и веселыми глазами. Действительно, это была приятная встреча. Эрцгерцог Карл был в немилости, император Франц не любил его за то, что он, единственный из австрийских полководцев, не уронил своей военной славы в войнах с Наполеоном.
Они немного поговорили об охоте в замке князя Лихновского. Тем временем из погребка вернулись девушки; за ними шел сам хозяин, толстый и румяный от радостного волнения.
Пожилой господин взял с подноса венецианский кубок с золотой резьбой, поглядел вино на свет и с удовольствием сделал два глотка.
— Завидую, — сказал эрцгерцог Карл. — Еще два года назад я бы сделал то же, что вы…
— Колики? — с сочувствием спросил пожилой господин и поставил кубок на поднос. Потом опустил руку в карман, вынул три золотых и бросил в фартук девушке: — Это тебе приданое, красавица…
Пожилой господин, «эрцгерцог Андреас», как его шутя называли, был венский старожил Андрей Кириллович Разумовский, неслыханный богач, бывший русский посол при австрийском дворе.
Расставшись с эрцгерцогом Карлом, Андрей Кириллович, продолжая кланяться знакомым и незнакомым, прошелся по Пратеру. Долговязый офицер в ослепительном мундире прусских гвардейских гусар остановил Разумовского и взял его под руку.
— Король! Король прусский! — зашептались девушки из «Зеленого егеря».
Действительно, важные господа гуляли в эти дни под каштанами Нижнего Пратера.
Поговорив немного с прусским королем о погоде и приятной встрече, ответив почтительным поклоном на вопрос о здоровье графини Тюргейм, которую прочили ему, вдовцу, в невесты, Андрей Кириллович отошел в сторону.
За деревьями цугом выстроились экипажи. В экипажах сидели дамы; они ласково улыбались Разумовскому, которого все считали редким собеседником. Кто, кроме него да еще князя де Линя, мог рассказать пресмешную историю из времен его шенбруинских шалостей или петергофских и царскосельских проказ? Но больше его почитали за огромное богатство, за причуды богача, который, чтобы сократить дорогу из Пратера в свой дворец, построил мост и улицу. «Мост Разумовского», «Улица Разумовского» — так и назывались эти уголки Вены.
Знатные господа — австрийские аристократы Тюргейм, Тун, Турн-и-Таксис, впрочем, знали, что у Разумовского долги. В последние годы он временами бывал мрачен и, запираясь в своем дворце, в одиночестве слушал музыкантов — лучший в Европе квартет.
Андрей Кириллович умел владеть собой, — в конце концов как-нибудь все уладится. Маскарадные балы и придворные охоты уже начали его утомлять, годы берут свое.
Вот и теперь он быстро соскучился на Пратере. Молодое вино слегка кружило ему голову. Он остановился в раздумье, поискал глазами своего жокея. И вдруг с необычайной живостью повернул назад и взял за локоть человека, ничуть не похожего на важное лицо.
Этот коренастый человек в темно-коричневом, грубого сукна сюртуке шел довольно быстро, глядя себе под ноги, держа в руках за спиной шляпу. Он круто повернулся к Разумовскому и посмотрел на него угрюмым и рассеянным взглядом. Потом большое, со следами оспин лицо его чуть посветлело, и глядящие из глубоких впадин глаза скользнули по благодушному розовому лицу Разумовского.
Они пошли рядом, и Разумовский, уже ни на кого не глядя, говорил:
— Император выразил доброе желание вас видеть… Это будет в субботу, после концерта у королевы.
— Благодарю, я только не знаю, зачем это нужно, — глухим голосом ответил собеседник.
— Уверяю вас, вы встретите чарующую любезность и внимание.
Разумовскому приходилось говорить громче, чем всегда; его спутник плохо слышал, — верно, оттого такая мрачность и отчужденность была в его взгляде. Какие-то люди, теснившиеся в стороне, за деревьями, стараясь быть незамеченными, подошли ближе.
— Завтра мы не увидимся, маэстро… Князь Меттерних просил приехать на репетицию балета…
Пратер пустел… Собеседник Разумовского как-то неожиданно протянул ему руку и спустился в погребок. Девушки из «Зеленого егеря» не обратили на него никакого внимания.
Андрей Кириллович все еще не нашел своего жокея.
— Одну минуту, ваша светлость…
Он оглянулся. Какой-то кудрявый господинчик со всех ног бросился через дорогу. Разумовский чуть улыбнулся. Люди барона Гагера, полицей-президента и начальника тайной полиции, не оставляли вниманием Андрея Кирилловича. У этих господ было много хлопот в эти дни конгресса…
Час спустя полицей-президент барон Гагер уже читал аккуратно переписанное донесение своих агентов Гейнце и Шмита:
«Граф Разумовский выпил стакан вина в «Зеленом егере», подарил три червонца девице Лотте Фауль, затем имел беседу с эрцгерцогом Карлом о вчерашнем спектакле в Бург-театре, — они хвалили Генриха Линде, артиста комедии. Затем граф Разумовский проследовал дальше по Пратеру и был остановлен его величеством королем прусским, разговор ограничился мнением о погоде, которую сочли вполне хорошей. Далее граф Разумовский остановил компониста господина Людвига вам Бетховена и сообщил ему, что император Александр примет господина Бетховена в субботу, после концерта у королевы. Граф Разумовский также сообщил господину Бетховену, что он приглашен князем Меттернихом присутствовать на репетиции балета. Все, что изволил говорить граф, было отлично слышно, так как господин ван Бетховен страдает глухотой. Ответов же его не было слышно, так как он имеет привычку говорить отрывисто и невнятно».
Донесение было обстоятельное, но неинтересное. Правда, в нем встречалось имя композитора Бетховена — личности необузданной и подозрительной, позволяющей себе невежливости по отношению к высоким особам и даже подозреваемой в склонности к республиканским взглядам. Но суть не в этом, а в том, что русский император ищет симпатий в венском обществе, очаровывает и прельщает своей обходительностью людей, которые находятся в пренебрежении у императора Франца.
Барон Гагер отложил донесение, сделав на нем понятную только его секретарю пометку. Разумовский не привлекал его внимания. Было известно, что он почти устранен от участия в работах русских уполномоченных на конгрессе, что все делает Нессельроде, а вернее, все делает сам Александр.
Гагер подвинул к себе папку, на которой было написано: «Барон Штейн».
«И этот здесь! — с недовольной миной подумал он. — На месте князя Меттерниха я бы заставил уехать этого господина… Он интригует в пользу Пруссии и хлопочет о том, чтобы прусской династии отдали Саксонию. Саксония в руках пруссаков — это дорога к богемским горным проходам, дорога в Вену…»
Барону Гагеру предстояло еще одно неприятное дело — об эпиграмме на императора Франца, сочиненной молодым русским офицером Рылеевым. В эпиграмме язвительно было сказано, что император силен, только когда дерется с мухами, а против сильных сам вроде мухи. Князь Меттерних приказал доставить дело об эпиграмме, чтобы пожаловаться царю на дерзкую выходку русского офицера.
Затем барон Гагер взял папку с надписью «Приезжие» и при этом даже вздохнул. Трудное пришло время! Сколько высоких особ в Вене — короли, принцы, владетельные князья, и всех надо охранять от опасных безумцев, от назойливых проходимцев, наконец, от особ легкомысленного поведения. В Оффен прибыли славяне из Иллирии и Далмации, ищут встречи с императором Александром. Это важная новость. Узнать, кто такие, и посмотреть, как поведет себя с ними русский император.
Он взял последний лист из папки и прочитал:
«Вчера, 28 октября 1814 года, через заставу Леопольд-штадт приехал в Вену по служебной надобности русской гвардии капитан Александр Можайский, следует из Копенгагена с неизвестным поручением. Остановился в гостинице «Zum romischen Kaiser» («У римского кесаря») в комнате с балконом на улицу, платит по тридцать флоринов в день. В Вене впервые».
Это сообщение вызвало странное беспокойство полицей-президента. Барон Гагер тотчас отложил его в сторону и сделал на отдельном листе надпись:
«В дело о побоях, которые были учинены над Михелем Краут, курьером его сиятельства придворного государственного канцлера, в Копенгагене».
Он возвратил секретарю дела о приезжих. Надо было подумать о самом главном. Вечером в ложе придворного театра предстоял доклад императору Францу.
Шеф тайной полиции, человек с привлекательной, женственной внешностью и вкрадчивыми манерами, был одним из самых близких людей императора.
Он положил перед собой папку с донесениями тайных агентов. Выражение глубокой задумчивости появилось в его чуть косящих глазах. Он начал с французов. Граф де Латур де Пэн, состоящий в свите французского посла, сказал на прогулке секретарю лорда Кэстльри: «Франция желает лишь противовеса России. Соединилось же христианство против мусульман несколько веков назад, почему же ему не соединиться против северного колосса?»
Приближенные Талейрана, конечно, пересказывают его слова. Но" осмелится ли Талейран интриговать против России — русские сохранили для Франции Эльзас, который хотели захватить пруссаки. Может ли король Людовик, он не самый глупый из Бурбонов, вести игру против России, он видит в ней союзника против усиливающейся Пруссии. Если даже допустить, что король хочет покинуть Россию ради Англии, то для чего же Талейран, как только приехал в Вену, попробовал создать свою партию из государей Рейнского союза? Ведь каналья понимал, что такой ход приведет в ярость англичан. Или он ведет свою политику? Тогда Людовик и граф Артуа выбросят его за дверь. Здесь все туманно… Но что такое разбитая Франция с Бурбоном, который не слишком прочно сидит на престоле? Нечто вроде Вюртенберга. Оставим ее в покое. Куда важнее Англия. Его величество императора Франца больше всего интересуют англичане. Как они поведут себя? Конечно, лорд Кэстльри не хочет усиления России. Конечно, он не захочет отдать Александру Польшу. Но этот высокомерный олух еще вчера обронил фразу: «Император Александр слишком умен, чтобы требовать невозможного. Воевать из-за Польши? С нас хватит войны в Америке». И князь Меттерних не мог ему втолковать, что Александр все-таки потребует себе Польшу!
Как все сложно… А князь Меттерних только и заботится о будущих празднествах, балах, и придворных спектаклях. Или он невысокого мнения о своих партнерах?
В дверь постучали. Просунулась голова секретаря:
— Сэр Чарльз Кларк.
Барон Гагер оживился. Он ожидал этого визита и, спустившись в гостиную, с такой радостной улыбкой протянул руку гостю, так долго жал ему руки и ласково смотрел в глаза, что Кларку трудно было изобразить в ответ даже подобие такой радости.
Они долго стояли друг перед другом, разыгрывая умиление, как бы не веря глазам, что наконец встретились после долгой разлуки, после стольких тревог. Но как только остались наедине, сели и некоторое время молчали.
Они хорошо знали друг друга. В прежние годы, когда между Австрией и Францией происходил разрыв дипломатических отношений и начинались военные действия, сэр Чарльз неизменно появлялся в Вене. Тогда Кларк еще не отяжелел, как сейчас, ему ничего не стоило пробираться горными тропами в Вену (чтобы не попасть в руки французов и их союзников). И всегда первый его визит был к полицей-президенту барону Гагеру. Но едва только авангард наполеоновских войск появлялся в трех переходах от столицы Австрии или угрожал ей, сэр Чарльз Кларк, второпях покидая Вену, не забывал побывать с прощальным визитом у барона Гагера.
В последний раз они виделись в тяжелые для Венского двора дни, накануне позорной капитуляции Австрии в Шенбрунне. Барон Гагер с любопытством разглядывал пополневшего и обрюзгшего сэра Чарльза, его смугло-желтое, как бы опухшее лицо, мешки под глубоко впавшими черными, с недобрым огоньком глазами. Он имел возможность убедиться в том, что его гость обрюзг и постарел, что безумства молодости, игра, небезопасные похождения на дипломатической службе оставили след на представительной в общем фигуре гостя.
Сэр Чарльз Кларк обвел глазами полутемный зал и уставился на картину, изображавшую рыцаря на коне и скелет позади рыцаря на крупе коня.
— В последний раз мы беседовали с вами при печальных для вашей прекрасной столицы обстоятельствах, — выдержав пристойную паузу, сказал Кларк. — Бонапарт был в двух переходах от Вены…
— С божьей помощью все изменилось, — оживившись, подхватил барон Гагер, — мы не раз виделись с вами при разных обстоятельствах, но всегда были откровенны, не правда ли? Вот и теперь я хочу поделиться с вами, мой старый друг, моими тревогами…. Признаться, я очень обеспокоен приездом в Вену моих старых недругов, господ Чарторыйского и Огинского. Если бы это было в моих силах — я бы не пустил этих интриганов в Вену. Но, увы, это не в моих силах. Смею вас уверить, что они принесут вред не только нам, но и вам, потому что польские дела занимают всю Европу.
— А вы осведомлены о том, что собираются здесь делать эти господа?
Гагер грустно улыбнулся. Потом многозначительно вздохнул и потянул ленту звонка. Он встал навстречу секретарю и, сказав ему несколько невнятных слов, вернулся к гостю. Затем, чтобы занять гостя, он заговорил о другом:
— Я не имел до сих пор удовольствия поздравить вас…
— О, да… Вы, кажется, знакомы с лэди Анной? — с невозмутимым спокойствием сказал дипломат.
— Большое счастье найти достойную подругу жизни.
Это все, что было сказано о лэди Анне Кларк — Анет Грабовской, которую несколько месяцев назад барон Гагер хотел выслать в сопровождении жандармов за границу.
Тем временем возвратился секретарь и положил на стол синюю сафьяновую папку.
Барон Гагер достал из папки несколько листков и, как только ушел секретарь, начал:
— В мои руки попала копия записки Огинского. Она касается польского вопроса и адресована… императору Александру. Судьбы Польши, я надеюсь, не безразличны для Англии, слушайте же, друг мой… Вот что пишет граф Огинский, литовский аристократ и приближенный Александра: «Всмотримся ближе, не имеют ли жители бывшей Польши, помимо насильственного лишения их имени поляков, еще и других, более основательных причин, желать возврата их древней отчизны…»
Барон Гагер остановился и взглянул на британского дипломата.
«…В удел подвластным Австрии полякам достались чуждый язык, обременительные налоги, непривычное судопроизводство и бесконечные неудобства в частностях внутреннего управления. В прусской Польше все туземные должностные лица сразу вытеснены нахлынувшей массой прусских чиновников. Тяжелые формы делопроизводства, исключительность немецкого языка в официальных отношениях, издевательства, неспособность и вымогательства чиновников — всё это восстановило поляков против прусского правительства…»
— И, наконец, самое главное. «В сравнении с этим, положение подвластных России поляков несравненно лучше и, благодаря сходству языка, обычаев, привычек, наклонностей и потребностей, судьба их не столь тягостна… Одним словом, состоящие под владычеством России поляки имеют много оснований предпочитать свой быт условиям, в которые поставлены соотечественники их в Австрии и Пруссии».
— Любопытный документ, — усмехнулся Кларк, — но стоит ли придавать значение измышлениям этого господина?
— Эта записка графа Михаила Огинского была принята благосклонно императором Александром. Три года назад русский император дал слово своим польским сторонникам восстановить Польшу и дать ей представительное правление. Представительное правление, в то время как в бывших польских землях, у нас и в Пруссии, за одну мысль об этом сажают людей в тюрьму! Россия хочет посеять мятеж и смуту среди поляков — наших подданных! Разве не соблазнительная мысль отобрать у нас и пруссаков польские земли, образовать польское королевство с Александром на троне, или просто присоединить Польшу к России? И тогда триста тысяч русских солдат стоят на польской границе в нескольких переходах от Вены и Берлина… И вот сейчас, в дни конгресса, который должен умиротворить Европу, господа Чарторыйский и Огинский явились в Вену, и они потребуют от Александра, чтобы он сдержал свое слово. Он разыграет роль рыцаря, кстати, это одна из любимых ролей этого опасного лицемера, и то, что не удалось полякам три года назад, удастся три года спустя.
Сэр Чарльз Кларк молчал, однако некоторая тревога появилась в его тусклых и обычно полузакрытых глазах.
— Вам, вашей супруге, владеющим прекрасными поместьями в Польше, вряд ли будет приятно, если русский губернатор поставит на постой в ваших владениях казаков или башкир?
— До этого, я думаю, не дойдет, — принужденно улыбаясь, сказал Кларк, — но, говоря откровенно, Англии вряд ли будет приятно, если Россия войдет клином в Европу.
— Вы думаете? — быстро спросил Гагер.
— Так думает лорд Кэстльри.
— Это уже много.
— Из всех противников, которые стояли на пути Британии после того, как сокрушили французского Тамерлана, Россия самый опасный.
— Было бы наивно, — вздыхая, произнес Гагер, — было бы наивно уверять вас, что император Франц не видит этой опасности…
— Но если поляки получат то, чего они добиваются?
— Есть еще Пруссия. Однажды она уже владела Польшей.
— Но Пруссия — верный слуга России.
— Верный слуга России, — с иронией повторил барон Гагер. — В 1805 году, когда пруссаки владели Польшей и Варшавой, они не позволили Александру проехать через Варшаву. Прусский генерал Калькрейт провожал русского императора до границ Польши. Русский император под конвоем пруссаков! У Александра хорошая память. Год назад, когда русские шли освобождать от ига Бонапарта немецкие земли, что делает верный слуга России — король прусский? Он посылает Александру генерала Кнезебека и требует, чтобы Пруссии отдали всё герцогство Варшавское. Всё! Целиком! Нет, русский император не отдаст Польшу пруссакам.
— Однако он может утешить их Саксонией. И тогда пруссаки будут у ворот Вены.
— Тогда… война.
Сэр Чарльз Кларк откинулся в кресло. Наконец он добился своего. Этот изворотливый австриец все-таки произнес слово «война».
— И вот что я вам скажу… — медленно продолжал барон Гагер, — если бы дело дошло до войны между Россией и Австрией, Пруссия будет воевать на стороне Австрии… Могущество России становится опасным для всех нас.
Британский дипломат с облегчением вздохнул. Ради этого он, собственно, и тратил время с этим ловким придворным шпионом.
— Вы ничего не сказали о Франции.
— Здравый смысл диктует ей быть на стороне русских, — глубокомысленно произнес Гагер, — но стоит ли искать, здравый смысл у Бурбонов?
— А Талейран? Его убеждения?
Они рассмеялись. Им стало смешно при одной мысли об «убеждениях» Талейрана.
— Мы увидимся еще сегодня…
— Да, вечером… у Разумовского.
— Вот посол, который не доставляет вам беспокойства. Вы согласны со мной, барон?
— О, да… Русские, которые долго живут за границей, бывают нам приятны, когда находят в нашей стране новое отечество и становятся чужими у себя, на родине. Тогда они знают Вену, Лондон, Париж лучше Москвы и Петербурга и предпочитают проживать свое состояние за границей…
— Есть опасные русские, — подумав, сказал Кларк. — Они хорошо знают нас, наши обычаи, наши привычки, они посещают наши библиотеки, музеи, законодательные собрания. Цивилизацию и внешний лоск джентльмена они соединяют с фанатической преданностью своему отечеству, ненавистью к иностранцам на русской службе и к нам, барон…
— То, что вы изволили сказать, делает честь вашей проницательности. Совсем недавно нам доставил много беспокойства молодой русский сановник Тургенев…
— В Лондоне, в русском посольстве, мне был представлен молодой офицер. Лэди Анна говорила мне, что он очень умен и учтив. Но оказалось, что в Лондоне у него были подозрительные знакомства, он был почитателем опасного безумца лорда Байрона…
— Господин Можайский?
— Да. Из таких людей выходят Мирабо.
— Но Россия — страна дворцовых переворотов, а не революций.
— Тем лучше… Потому что если бы молодые люди вроде господ Тургенева и Можайского взяли бы в свои руки власть, Россия с ее народом была бы в тысячу раз опаснее.
Должно быть, Кларк напал на одну из любимых тем, потому что он продолжал с плохо сдерживаемым гневом:
— Никогда я не любил русских! Два года назад, когда французы были в Москве, я испытывал двойное чувство: меня печалили успехи французов и радовало отступление русских. Когда французы бежали из России, нам казалось, что русская пчела погибнет, смертельно ужалив врага… Как видите — мы ошиблись. Они опьянены победой. Этот молодой русский офицер, которого вы назвали Можайским, принят в нашем доме. Лэди Анна почему-то находит нужным принимать его. Если бы вы слышали его суждения о Польше, единении славянства…
— Должен огорчить вас — этот господин в Вене. Вам придется еще раз услышать это имя. Но, надеюсь, это будет в последний раз, — загадочно улыбаясь, сказал барон Гагер.
— Да? Впрочем, мы слишком много уделили внимания ему… Не так ли? — сэр Чарльз Кларк поднялся и протянул руку барону Гагеру.
Старый придворный шпион был доволен визитом британского дипломата. Конечно, Кларк невелика птица. Но он всегда очень ловко лавировал между тори и вигами. Лорд Кэстльри доверяет ему, лорд Грей и Лаудэрдэль не отдаляют его от себя. Вероятно, Кларк их тайный соглядатай. И тори и виги видят главного врага в России. Во всяком случае, зерно подозрения посеяно; каковы бы ни были намерения Александра в отношении Польши, лорд Кэстльри будет настороже.
Надо признать, что Кларк, женившись на Анет Грабовской, поправил свое состояние. А эта дама может появляться в свете как супруга британского дипломата. Не стоило придавать значения ее склонности к политическим интригам. Получилась достойная пара. Император Франц любит забавные подробности. Этой пикантной новостью можно украсить доклад императору Францу. Нельзя же утомлять его величество одними политическими делами.
44
Можайский был впервые в жизни в Вене.
После Лондона и Парижа Вена показалась ему старомодной и провинциальной, хотя все вокруг говорили, что по случаю конгресса здесь небывалый съезд и город оживлен и переполнен приезжими.
Пожалуй, так оно и было. На мосту через Дунай теснились кареты прибывших на конгресс делегаций, в гостиницах ни одной свободной комнаты, таверны и кофейни полны народа. Ювелиры, портные, музыканты, парикмахеры, живописцы съехались в Вену со всех концов Европы, чтобы поправить дела. Но при всем том Вена, после дымного Лондона, после муравейника парижских улиц, сначала не понравилась Можайскому. Дни конгресса оставили воспоминание о кричащей, безвкусной роскоши празднеств, неслыханной дороговизне и о безграничной власти тайной полиции — строгостях и придирках шпионов барона Гагера.
Можайский приметил, что этот город веселья и песен, как его называли, был в то же время городом нестерпимого католического ханжества, лицемерия и скучнейшего придворного этикета.
Целые полки монахов — францисканцев, бенедиктинцев, доминиканцев — шествовали по улицам Вены; заунывный перезвон колоколов заглушал все звуки — шорох шагов, смех и пение на улицах. Даже после Москвы он счел, что в Вене слишком много церквей. В церквах много женщин в трауре, — это напоминало о недавних войнах. Офицеры, чиновники, купцы наполняли церкви и, казалось, не потому, что были верующими католиками, а потому, что набожность доказывала благонамеренный образ мыслей.
В первые дни пребывания в Вене Можайский не очень интересовался политическими событиями. Он побывал в оперном театре на Каринтиенштрассе, но больше всего его интересовала народная комедия в Касперлейн-театре, где публику привлекал превосходный комик Шустерлей. Публика в венских театрах тоже казалась ему провинциальной. В партере дамы в антрактах вязали чулки, а мужчины спорили, в каком мундире будет император в день годовщины Лейпцигской битвы, серьезно рассуждали о том, что во дворце Гофбург для брюха толстого короля Вюртембергского сделали специальный вырез в столе.
Монументы на площадях говорили о былой славе и мощи «священной империи» Габсбургов, о победах над турками; при этом старались забыть, что спасли Вену от турок Ян Собесский и поляки.
Недаром Собесский писал жене после своего триумфального въезда в Вену: «Весь простой народ целовал мне руки, ноги, платье. Они все желали приветствовать меня виватами, но заметно побаивались своих офицеров и начальников. Когда один отряд не выдержал и остановился и пронеслось «Виват!» — я сейчас же заметил знаки неудовольствия… А после уж все переменилось, точно нас вовсе и не знали. Никаких провиантов нам не дают… наши больные и раненые лежат на навозе. Приходится горько вздыхать, глядя на гибель наших войск и не от врагов, а от тех, которые должны быть лучшими нашими друзьями…»
«И Суворова уже забыли здесь, забыли, как он проезжал по улицам Вены в карете и народ приветствовал его как своего избавителя кликами «Виват Суворов!» — думал Можайский. Однако Суворов умел ответить на неблагодарность и австрийские колкости едкой шуткой, когда, высунув голову в окно кареты, выкликал: «Виват Иосиф!» — «Франц, ваше сиятельство, а не Иосиф», — осмелился заметить австрийский генерал. «Помилуй бог, не помню», — отвечал Суворов, и австрийские генералы скрежетали зубами, понимая, что для Суворова император Франц был слишком ничтожной личностью, чтобы запомнить его имя и возгласить ему «виват».
В Вене старались забыть и о том, что еще так недавно в Шенбруннском дворце, среди всеобщего раболепия и покорности, жил чужеземный завоеватель и вся Вена сбегалась в Шенбрунн, чтобы увидеть Наполеона на смотру старой гвардии. «Не было того в Москве», — с гордостью думал Можайский.
Пратер не удивил его после парижских бульваров, где было больше простого народа, больше живости, веселья, остроумия даже в грустные для Парижа дни.
В Вене величественную и суровую готику давно вытеснило пышное барокко. Золото, серебро, мрамор, бронза, лепные украшения дворцов австрийской знати, всех этих Шварценбергов, Эстергази, Лихтенштейнов, Лобковиц, Лихновских, музы-кариатиды, поддерживающие мощные порталы, — все было слишком нарядно и потому безвкусно. Можайскому понравилась уютная площадь с фонтаном; над бассейном возвышалась прекрасная женщина, олицетворяющая мудрость, бронзовый рыбак с трезубцем ловил в водоеме невидимую рыбу, старец с веслом на плече задумчиво глядел на свое отражение в воде.
В архитектуре города все же улавливалось сочетание славянской мягкости — мягких, округлых линий, которые принесли сюда зодчие Чехии, — со светлыми и жизнерадостными красками итальянского Ренессанса.
Два дня прошли в одиноких прогулках по городу. Однако надо было помнить о цели приезда.
Данилевский встретил Можайского дружески. Александра Ивановича недавно произвели в полковники, и прежняя восторженность и мечтательность являлись в нем редко, притом только с глазу на глаз.
Можайский поделился с ним тайной своей мыслью: он хотел просить об отставке и для того попросился поехать в Вену курьером.
— Не понимаю тебя, голубчик, — сказал на это Данилевский, — ты был в штабе его величества на виду, потом для чего-то остался в Лондоне, потом согласился отправиться в Копенгаген, когда тебе надо было быть в Петербурге. Теперь ты приехал в Вену, — это хорошо, император здесь особенно ценит молодых людей, просвещенных и учтивых… А ты норовишь в отставку… Правда, теперь ты богат…
— Мне скоро тридцать, — ответил Можайский, — я послужил отечеству, две раны тому свидетельство… — Вздохнул и добавил: — Скоро два года я не был на родине… Как сорванный лист, гнала меня буря по Европе. И для чего?
Данилевский с чуть заметным удивлением поглядел на приятеля. Можно ли жаловаться на судьбу, когда человеку привалило счастье — наследство от тетушки? Но, приметив, что Можайский не склонен толковать на эту тему, он заговорил о венских делах:
— Жизнь приятная, но утомительная…
Он показал расписание на неделю, и Можайский с легким удивлением читал список предстоящих балов, придворных спектаклей в Бург-театре, ночных празднеств и раутов.
Тем временем Данилевский рассказывал о великокняжеских причудах Константина Павловича, о Чарторыйском, которого все же ввели во временный совет Польши, о тонком вкусе Меттерниха, который все свое время отдает репетициям празднеств и аллегорических балетов… Приехал старая лиса Талейран и встречен холодно и неуважительно, — впрочем, чего же может ожидать этот господин…
— Ты приехал кстати: Вена ожидает празднества в честь годовщины Лейпцигской победы. У Андрея Кирилловича Разумовского будет дан бал, который обещает затмить все доселе виденное…
— Ему бы следовало думать о другом, — вскользь сказал Можайский и, встретив удивленный взгляд Данилевского, добавил: — Он ведь единственный русский среди уполномоченных России! Впрочем, сам-то кто он, Разумовский? Онемеченный русский вельможа. Чем гордится! Именем его названы венская улица и мост, построенный на его же деньги. Благодетельствуй русским городам, коли есть охота и денег куры не клюют!.. Воронцов — тот хоть ищет доброй памяти у потомков, а этот чего ищет? «Эрцгерцог Андреас!» Внук малороссийского казака искательствует у австрийской знати! Русский уполномоченный! Да он и по-русски забыл говорить, я чаю!
Данилевский покосился на дверь и только пожал плечами. Потом, наклонившись к Можайскому, сказал чуть слышно:
— Не бережешь ты себя, Саша. Здесь всюду шпионство, всюду наушники… Эх вы, молодежь…
С перепугу он даже забыл, что Можайский был на год старше его.
45
Придворная французская модная карета с низкими козлами, небольшими передними колесами и лакеями на запятках миновала колоннаду Гофбургского дворца, выехала на площадь и, обогнув монумент Евгения Савойского, остановилась у подъезда. Русские гвардейцы отдали честь, лакеи отворили дверцы кареты. Из кареты высунулся костыль; опираясь на плечо лакея, из кареты вылез грузный старый человек с пудреными волосами и с трудом проковылял до дверей. Он окинул взглядом фасад дворца из дикого камня, статуи воинов и святых в нишах, бронзовые оконные решетки, за которыми тускло мерцали стекла.
Переложив костыль в правую руку, старый человек прошел мимо австрийских дворцовых гренадер, мимо лакеев, глядевших на него без трепета и почтительности — так, как глядят на разорившегося гостя, которого, по старой памяти, еще принимают в доме. Но гость посмотрел на них таким презрительным взглядом, что они тут же отвесили низкие поклоны.
Флигель-адъютант, молодой русский полковник, встретил его на площадке лестницы. Он с некоторым любопытством поглядывал на гостя, пока шел впереди, показывая дорогу.
Князь Талейран, уполномоченный Франции на конгрессе, никогда не любил Гофбургского дворца: мрачное здание с низкими залами, темными переходами и лестницами напоминало ему гробницу, королевскую усыпальницу. Он тяжело опустился в кресло и, оглядевшись, чуть поморщился. Его заставляли ждать… Первые дни будут нелегкими днями, он это знал.
Уполномоченный побежденной державы, которому никто не верил — ни союзники, ни король Людовик XVIII, человек, которого бешено ненавидели придворные короля, а газеты называли взяточником, не мог рассчитывать на ласковый прием в Вене.
То, что русский император не выразил желания его увидеть и ему самому пришлось просить аудиенции, все же было неожиданно. Его принимали здесь как посланника третьестепенной державы.
Еще в Париже решено было искать милостей у Александра, попытаться опереться на Россию. Но можно ли верить королю? Может быть, за спиной у своего уполномоченного старый интриган будет искать сближения с Австрией или пустит в ход свои английские связи? И тогда Талейрана вышвырнут, как ветошь, и, пожалуй, еще обвинят в том, что он продался Александру.
Острый ум Талейрана, предназначенный для того, чтобы плести сложную интригу, вернее — чтобы разом плести несколько сложных интриг, пока еще дремал. Скоро десять дней, как Талейран в Вене. Что сделано? Он выгнал нескольких лакеев, которых подозревал в связях с австрийской тайной полицией, приказал поставить шпионам несколько ловушек: разбросать изорванные клочки бумаги, исписанные его рукой, и проследить, кто их подберет. Потом велел переменить замки во всех бюро и у столов. Впрочем, помня любознательность здешних шпионов, об этом позаботились и в других посольствах.
Сегодня первый настоящий трудный день…
Как бы в ответ на его мысли послышался звон шпор, белая пухлая рука отодвинула драпировку. Вошел Александр. Драпировка снова шевельнулась, и в зал проскользнул маленький человечек в бархатном зеленом мундирчике. Это явление было неприятно Талейрану, — вошел Нессельроде.
Талейран не любил тревожить себя неприятными воспоминаниями.
То, что происходило в Париже между ним и Нессельроде, когда Наполеон был императором, можно было поставить в заслугу Талейрану. Правда, за сведения, которые Талейран поставлял Нессельроде, он получал деньги, но, в конце концов, он был полезен… Талейран встал, опираясь на костыль, и низко склонил голову перед Александром. Александр уехал из Парижа, не простившись с ним, но надо забыть обо всех размолвках, забыть для пользы дела.
На всякий случай Талейран сделал вид, что взволнован холодностью императора, и глубоко вздохнул.
Александр заговорил с ним отрывисто и даже резко. Это было не похоже на прежние их беседы, когда между льстивыми комплиментами, на которые был падок царь, можно было незаметно, но твердо внушить Александру свои мысли, выдав их за его собственные. Александр только задавал вопросы и нетерпеливо ждал ответа.
— Прежде всего: положение в вашей стране?
— Так хорошо, как этого только ваше величество может желать.
— Настроение общества?
— Оно становится лучше день ото дня.
«Допрашивает, как хозяин управителя», — подумал Талейран. Нет, он не ожидал такого приема.
— Либеральные идеи?
— Нигде не проявлено столько либерализма, сколько во Франции.
Русский царь, самодержавный властелин, разумеется, не желал распространения либеральных идей во Франции. Дело было не в либеральных идеях, о которых будто бы заботился царь, а в опасности новой революции. Надо было в начале реставрации кое-что дать народу Франции, чтобы предотвратить взрыв народного гнева.
— Но… свобода печати? — с сомнением спросил Александр.
— Она восстановлена. Есть некоторые ограничения… года через два-три они перестанут действовать.
Александр хорошо знал, что даже эта самая скромная свобода печати досаждала Талейрану, привыкшему к безмолвию печати во времена Наполеона. Потому он и спросил о свободе печати.
Потом Александр спросил об армии.
— Она вся за короля… Сто тридцать тысяч под знаменами, и по первому призыву можно собрать еще триста тысяч.
И это тоже была ложь. «Хочет доказать, что Франция еще сильна…» В то, что армия за короля, Александр тоже не верил.
Он спросил о маршалах, служивших Наполеону, об оппозиции, но, даже не выслушав ответа, положил нога на ногу и сказал, глядя в сторону:
— Теперь поговорим о наших делах, — он сделал ударение на слове «наших». — Их надо кончить здесь.
— От вашего величества зависит, чтобы дела были кончены мирно и благоприятно для всех… если ваше величество проявит столько же величия души, как вы явили в делах Франции.
Александр оглянулся на Нессельроде и чуть сощурил глаза. Это была «улыбка глаз», которую знал Талейран. Александру очень хотелось сказать, что ни Людовик, ни Талейран не заслужили великодушия. Он мог бы сказать еще и то, что побежденной Франции, в сущности, нет никакого дела до того, как будут решены судьбы остальной Европы. Однако он только сказал:
— Нужно, чтобы каждый получил то, что ему полагается.
— Если он имеет на это право, — сказал, упирая на слово «право», Талейран.
Александр снова сощурил глаза, и Талейран понял, что он хотел сказать: «Каналья! Ты смеешь говорить о праве?» Но царь только заметил, как бы вскользь:
— Я сохраню за собой то, что уже занял.
— Ваше величество, я надеюсь, сохранит только то, что ему принадлежит по праву, по закону.
Александр покосился на Нессельроде, — тот во все глаза смотрел на этого защитника права и законности — «Анну Ивановну», «кузена Анри», еще недавно с таким изяществом продававшего свои услуги.
Александр напомнил, что Франция побеждена, что не ее дело вмешиваться в его дела.
— Я действую в полном согласии с великими державами.
Но Талейран притворился, что не понял:
— Не знаю, считает ли его величество Францию в числе этих держав.
— Да, конечно. Но если вы не желаете, чтобы каждый получил то, что его устраивает, что же вы хотели бы получить?
Тут старый предатель возвел глаза к небу и торжественно возгласил:
— Для меня прежде всего право, закон, а потом уже то, что устраивает ту или иную державу.
Он терял спокойствие, он чувствовал, что Александр говорит с ним, как бы издеваясь. Он попробовал пробудить чувствительность в этом непонятном для него человеке, и, когда Александр со скучающим видом сказал: «То, что нужно для Европы, это и есть право», — Талейран снова возвел глаза к небу:
— Этот язык — не ваш язык, государь, ваше сердце отвергает его.
Но Александр даже не дослушал…
От парикмахера до самых близких людей никто не мог угадать, в каком расположении духа князь Талейран. Он умел, оставаясь спокойным, изображать гнев и, ласково улыбаясь, испытывать бешеную ярость. Он считал себя великим знатоком душ и еще раз решил пробудить чувствительность в Александре. Он повернулся лицом к гипсовому панно и, точно стесняясь своих слез, приник головой к стене, изображая страдание. Потом, задыхаясь от горя, воскликнул:
— Европа! Несчастная Европа! Неужели суждено, что вы ее погубите?
Но Александр глядел на него с любопытством, как смотрят на актера, играющего необычную для него роль, и сказал холодно и спокойно:
— Скорее война, чем я откажусь от того, что я занял.
Он мог бы продолжать говорить о жертвах, которые принесла Россия, о том, что надо позаботиться о безопасности ее границ, но царь слишком хорошо знал и слишком презирал своего собеседника. «Самая большая каналья века» продолжал играть роль: он поднял руки, потом бессильно опустил их, изображая подавленного и удрученного горем, как бы говоря этим жестом: «Не моя вина, если так будет…»
Но Александр не был испуган или смущен.
— Да, лучше война… — сказал он.
Талейран все еще стоял в неловкой позе не то молящего о пощаде, не то угрожающего. Он был изумлен, смущен и действительно подавлен. Талейран посмотрел на Александра; тому, видимо, надоела эта затянувшаяся игра — он отвернулся. Нессельроде с умильной улыбкой потирал ручки, те самые маленькие ручки, из которых «кузен Анри» получил первые десять тысяч франков — плату за измену Наполеону. Талейран искал слов и не находил их; он был даже обрадован, когда Александр вдруг оборвал принужденное молчание:
— Мне время итти… Я обещал императору быть на спектакле.
Талейран подхватил костыль, но не двигался с места.
— Меня ждут…
Талейран увидел спину Александра, услышал звон шпор. Затем мелькнуло личико Нессельроде. Аудиенция окончилась.
Талейран возвращался во дворец Кауница, где поместилась французская делегация. Он был слишком умен, чтобы не видеть своей неудачи. Все же он искал себе утешения.
Ему вспомнился Наполеон в своем споре с папой. Наполеон то грозил, топал ногами, швырял стулья, то вдруг говорил возвышенным тоном, простирая руки к небу. И папа Пий VII, старый граф Кьярамонти, ответил ему: «Comediante!» («Комедиант!»)
Эти воспоминания немного успокоили Талейрана. Не ему одному пришлось испытать чувства актера, провалившего роль.
Во дворце его ожидало письмо Меттерниха. Главу французской делегации приглашали прибыть для присутствования (только для присутствования) на предварительной конференции. Но в письме рукой Меттерниха была сделана приписка. Канцлер писал: если князь Талейран зайдет к нему немного раньше, то «представится возможность побеседовать о весьма важных вещах…»
Вечером во дворце Кауница играли в вист. Талейран был в хорошем настроении, но не только от того, что выигрывал. Открывались некоторые перспективы.
Он оставил карточный стол раньше обычного времени, сказав, что хочет побыть наедине и подумать о некоторых «весьма важных вещах».
46
Годовщину Лейпцигской битвы пышно отпраздновали в Вене.
Более тридцати тысяч войска было выведено на смотр. Император Александр шел впереди австрийского гренадерского полка его имени и салютовал шпагой императору Францу. Русских войск, истинных победителей в «битве народов», в Вене не было, и всю славу пожинали здесь австрийцы.
В свите Александра веселый и злой на язык Чернышев довольно громко вспоминал о неудаче Шварценберга у Плейссы в первый день сражения. Александр услышал, но не улыбнулся. Шварценберг сидел на коне, надутый и важный, и всем видом своим показывал, что это его праздник. Толстый король Вюртембергский тоже самодовольно улыбался, — он считал себя героем, потому что вюртембергские войска изменили Наполеону на третий день битвы, правда, после саксонцев, которые изменили первыми.
На Пратере был дан обед для участников парада — унтер-офицеров и солдат. Столы расставили под открытым небом; угощались не только солдаты, но и народ. Александр с обворожительной улыбкой выпил бокал вина за здоровье веселой Вены, города песен.
Во дворце Разумовского Александр дал обед для высоких особ.
Рука хозяина дворца чувствовалась в этом пиршестве.
Зал манежа был превращен в столовую, художники по тогдашней моде расписали цветами пол. Безудержное расточительство Разумовского и на этот раз поразило Вену. За месяц до званого обеда люди Андрея Кирилловича были посланы в Астрахань за икрой и стерлядями, в Бельгию за устрицами, во Францию за трюфелями.
«Дождь царей» в Вене, как писали стихотворцы в те времена, продолжался. В залах дворца, где висели картины кисти Тициана, Корреджио, толпились герцоги, владетельные князья и короли. Тысячи восковых свечей освещали дворец; свечи таяли от нестерпимого жара. Прижатый к нише окна, Можайский с любопытством глядел по сторонам. Смех, восклицания, обрывки фраз оглушили его.
— Одних свечей на двадцать тысяч флоринов…
— Хозяин от этого не обеднеет…
Лорд Кэстльри прошел совсем близко от Можайского. В ярком свете он казался старше своих лет, — щеки тряслись при каждом шаге, прозрачная желтизна разлилась по лицу. Он шел, как бы никого не видя, и толпа расступалась перед ним. Люди, на которых падал его надменный взгляд, кланялись первыми, и не всем он отвечал на поклон.
Можайский отдался на волю толпы, толпа несла его по залам дворца и вынесла в ротонду, где висели четыре картины Тинторетто. Под этими бесценными полотнами расположились игроки. Молодые люди в невысоких придворных чинах почтительно толпились вокруг. Спиной к дверям сидел древний старец с напудренными волосами, тонким носом с горбинкой и отвисшей нижней губой — князь де Линь, имевший славу самого интересного и остроумного собеседника в Европе. Его партнер — Талейран вызывал любопытство и отвращение. На него смотрели, как смотрят на змею: интересно и страшно.
Александр стоял, окруженный дамами, и слушал их болтовню.
Можайский издали смотрел на царя в узком, стягивавшем его полнеющую фигуру мундире, до того узком, что Александру невозможно было сесть. Здесь, на балу, окруженный первыми дамами Вены и всей Европы, он играл роль привлекательного гвардейского щеголя, а не монарха. Манеры его были скорее напряженными, чем изящными, вежливость была банальной. Именно такой портрет Александра однажды в беседе нарисовала Можайскому Анет Грабовская, и теперь он соглашался с ней. Но едва только Александр покидал общество дам, на лице его появлялась пренебрежительная усмешка. Изредка он отвечал снисходительным кивком на низкий поклон какого-нибудь князя Шаумбург-Липпе, Гогенцоллерн-Зигмаринен, но вдруг делал три шага, чтобы пожать руку окаменевшему от смущения и почтительности швейцарскому ландману.
Этим он выражал пренебрежение своим бывшим союзникам, раздражавшим его своими интригами и претензиями, настаивавшим на признании своих заслуг в войне с Наполеоном, которых в действительности не было. Вернее, он воздавал им должное за то, что в первое время Россию хотели держать на конгрессе в одном ранге с Испанией или Португалией. Александр держал себя здесь, во дворце Разумовского, как хозяин положения, и Можайский слышал шипение:
— Новый Бонапарт… Восточный деспот…
— Болтать с хорошенькими женщинами и пренебрегать королями…
— Какая бестактность!
Можайского приводил в изумление утомительный и мелочный этикет австрийского двора. Графиня уступала место княгине, княгиня — обер-гофмейстерине. Когда встречались две особы равного ранга, никто не садился, и это длилось чуть не весь вечер. Император Франц протягивал руку титулованным особам и отвечал только кивком головы заслуженным боевым генералам. Невольно вспоминались былые дни. Все они, вместе с императором Францем, трепетали, когда на них бросал равнодушный взгляд безродный корсиканец. Чего тогда стоил весь их мелочный, столетиями созданный придворный этикет?
Толпа все еще совершала свое движение вокруг бального зала, когда Талейран поднялся и уехал, простившись с Разумовским.
В ту ночь Талейран отправлял курьера в Париж. Донесение королю еще не было дописано. После аудиенции у Александра, которую нельзя было считать успехом, он мог, наконец, порадовать короля. Едва только он вошел к Меттерниху и поймал его взгляд, ласковый и даже чуть-чуть искательный, он понял, что одержал первую победу. Он хорошо знал, как ненавидит его этот «незапятнанный аристократ», любимец всех ханжей Вены. Он знал, что Меттерних никогда не простит ему грубость и надменность, проявленные в бытность министром Наполеона.
Перечитывая донесение королю, в котором описывалось свидание с Меттернихом, он хотел, чтобы король и его клика поняли, какие возможности открываются теперь перед ними. Все то, о чем говорил Талейран, на что он намекал англичанам и в упор говорил Меттерниху в Париже, — все упало на благодатную почву и дало плод.
Едва только Талейран упомянул о союзниках, Меттерних сказал:
— Не говорите о союзниках. Их нет более.
И тогда Талейран поторопился ухватиться за брошенную ему приманку:
— Здесь есть люди, которым следует быть союзниками в том смысле, что им следует желать одного и того же…
— Мы вовсе не желаем, чтобы Россия увеличилась сверх меры.
Для Талейрана достаточно было этих слов.
— Как у вас хватает храбрости допустить, чтобы Россия образовала пояс вокруг ваших главных и важнейших владений в Венгрии и Богемии? Могу ли я допустить, чтобы Россия перешла Вислу и имела в Европе сорок четыре миллиона подданных и границы на Одере?..
Он понял, что можно говорить напрямик, отбросив пустые и туманные фразы. Хорошее начало. Если бы Кэстльри не был так слаб, если бы Англия присоединилась к Франции и Австрии… А там, может быть, и Турция. В Швеции тоже не забыли Фридрихсгамский мир… Может возникнуть новая коалиция против России. Пруссия? Неверный и слабый союзник царя. Перед ним возникло лицо Александра, сжатые в ниточку губы, ямочки на щеках, фарфоровое, как бы кукольное лицо с редеющими белокурыми кудряшками. Да, имея двести тысяч войска на границах, можно не бояться слова «война».
Мысли его вдруг изменили течение, он подумал о Париже. В Тюильрийском дворце старый глупый Людовик XVIII со всей своей кликой с нетерпением ждет первой неудачи, чтобы избавиться от него, Талейрана. Но вслед за неудачей — успех! Ах, если бы не подвели англичане… Потом мысль его перенеслась во дворец Разумовского: Александр обнял за талию Шварценберга и, кажется, назвал его победителем при Лейпциге. Талейран пожал плечами…
Александр действительно обнял Шварценберга. Это видел Данилевский, видел и Можайский.
Год назад в пожелтевшей, вытоптанной траве умирали русские гвардейские егеря, гренадеры генерала Раевского отбивали атаки французов против центра русской армии. Прошел год, Наполеон был на Эльбе, в Тюильри сидел Людовик XVIII, в танцевальном зале дворца Разумовского гремели трубы; здесь не было ни Барклая, ни Ермолова, ни Раевского, а был Шварценберг, которого Александр называл победителем при Лейпциге. И это называется политика!
Данилевский не сдержался и, уведя с собой Можайского в галерею, стал шептать:
— Презирать этого человека за неспособность, за упрямство, говорить, что этот человек стоил ему седых волос, и на людях обнимать и называть победителем… И все для того, чтобы показать, будто мы все еще заодно с Австрией?
Вдруг они услышали голоса и женский смех. Прямо на них шел Меттерних, высоко поднимая свою челюсть, слегка поддерживая за локоть даму. Она чем-то, вернее всего — грацией и улыбкой, напоминала Анелю Грабовскую.
— Великий дипломат всегда останется дипломатом, — говорила она по-немецки, — даже если он…
Конца фразы они не слышали.
— Графиня Скавронская, — шёпотом сказал Данилевский, — вдова храбрейшего Багратиона. О ней дурно говорили в Петербурге, еще худшую славу заслужила в Вене. В последние годы жизни покойный князь не допускал ее к себе.
Они больше не сказали ни слова, но каждый подумал об одном и том же: муж крепко не любил австрийцев за все, что он и фельдмаршал претерпели от самонадеянных и ничтожных придворных генералов австрийского двора, а жена чуть не открыто близка с Меттернихом, которого справедливо считали врагом и ненавистником России.
В задумчивости они прошли по соединявшей дворец с залом галерее, которую Разумовский построил для драгоценнейших из своих Тицианов и для скульптур Кановы. Сквозь дорого стоившие в те времена сплошные стекла галереи был виден сад, освещенный разноцветными огнями фонариков, гирляндами висевших в аллеях парка. Они вошли в зал Тицианов, и вдруг Данилевский крепко сжал руку Можайского.
Спиной к ним, в кресле, поставленном против знаменитой Тициановой «Рыбачки», сидел Андрей Кириллович Разумовский. Они издали узнали его по завитым, напудренным волосам, по скромной для этого пышного празднества одежде. Он сидел против картины, освещенной скрытыми свечами, умиляясь искусству великого художника. Казалось странным: хозяин дворца, оставив гостей, одинокий, печальный сидит перед творением художника.
Можайский услышал шёпот Данилевского:
— Грустит… К делам конгресса не допущен. Расточительство, состояние его расстроено… Мечтает до конца дней остаться в Вене, хочет расположить к себе императора и для того подарить императору дворец со всеми его сокровищами…
— Ни друзей, ни родины… Не хотел бы я такой жизни.
Из бального зала доносилась музыка. Андрей Кириллович Разумовский тяжко вздохнул и нехотя поднялся. Медленно, погруженный в мрачные мысли, он прошел мимо Можайского и Данилевского, даже не заметив их. На пороге еще раз оглянулся на «Рыбачку» Тициана и затем, не торопясь, пошел на звуки музыки.
…В одну осеннюю ночь пламя пожара охватило дворец Разумовского. Сокровища искусства, картины Тициана, Корреджио, Тинторетто, мрамор Кановы, золотые кубки Бенвенуто Челлини, скрипки Страдивариуса, Гварнери, Амати — все погибло в пламени. От картин остались одни обугленные золоченые рамы, от кубков Челлини — слитки металла.
Вся Вена стояла вокруг пылающего дворца и глядела, как в огне погибали драгоценности, собранные со всех концов Европы. Причиной пожара было водяное отопление — новинка, которую строитель дворца привез из Парижа.
Можайский узнал о гибели дворца уже в России.
47
В первые же дни своего пребывания в Вене Можайский понял, что здесь у русских нет той опоры, которая была в дни победоносного окончания войны.
В Париже русские войска были признанными освободителями, героями, возвратившими Европе мир после десятилетней войны.
В Париже Александр хотел видеть Францию своим верным союзником. Парижский трактат был первым камнем, на котором должна быть построена новая Европа; Венский конгресс должен воздвигнуть и завершить это стройное и гармоничное, как казалось Александру, здание. Но именно на конгрессе в Вене возникали непреодолимые трудности, и не надо было быть тонким политиком, чтобы увидеть враждебные чувства держав к их освободительнице — России.
Всё те же люди, что во Франкфурте (и еще раньше, в Дрездене), окружали Александра, хотя свита была не так велика, как в его штабе. Тот же неизменный Волконский, генерал-адъютанты Чернышев и льстивый Уваров, Ожаровский и француз Жомини — советник по военным делам, знающий свое дело, но алчный и честолюбивый, которого многие втайне презирали за измену Наполеону. Был Разумовский, называемый только для виду первым уполномоченным, два других уполномоченных — Нессельроде и Штакельберг — и для содействия им Поццо ди Борго, Каподистрия и барон Анштетт. Был статс-секретарь Марченко, угождавший Аракчееву почти как лакей, Кокошкин, Булгаков, Иван Воронцов…
Данилевский замечал, что в Вене Александр стал еще самонадеяннее и грубее с подчиненными, чем прежде. Военные и дипломаты трепетали перед Александром, ловили его взгляд, унижались и принимали как должное, когда царь в беседах предпочитал им какого-нибудь пруссака или австрийца, придворного или военного, чуть не прапорщика.
Все это и раньше видел Можайский, но здесь положение стало еще более невыносимым. Он старался не появляться в Гофбургском дворце и в посольстве. Жалуясь на рану, оставался в гостинице; ему нравилась комната, горшки с цветами, пестрые занавески, акварельные рисунки на стенах, изображающие типы венских жителей. Ему была приятна заботливость и вежливость слуг. Данилевский, однако, предупредил, что не надо особенно доверять этой услужливости, бумаги следует держать под замком, притом не в бюро, а у себя в бауле.
Можайский перечитывал последние записи в своем дневнике, сделанные в Копенгагене:
«Путешествие мое в Копенгаген было долгим по причине штиля в Категате. Мы долго стояли на якоре в Зунде против Эльсинора. Поздней ночью на крепостном валу я напрасно ожидал увидеть тень отца Гамлета… Жалкий городок, убогая гостиница в старинном доме. Там, быть может, нашли приют актеры, вызванные принцем Гамлетом в Эльсинор… Я срывал цветы и льстил себя мыслью, что из тех же цветов сплела себе венок Офелия…»
«Ничем не занятый, с утра до вечера бродил я по городу или гулял по живописным окрестностям и любовался видом прекрасного Зунда. Посещал академию художеств, смотрел работы здешних художников, искал произведения славного Торвальдсена. Нашел только одно его ученическое произведение — «Амур и Психея». Более ничего примечательного в музее не было.
…Любимое место прогулки мое — дорога, ведущая к королевскому зверинцу. С левой стороны ее рассеяны прекрасные загородные домики, с правой — Зунд катил свои светло-зеленые волны. Корабли при западном ветерке бежали в обе стороны — на юг и на север. Множество лодочек, покачиваясь под парусами, бороздило воду во всех направлениях. Каменистые холмы шведского берега и на нем Карлскрона были прямо передо мной. Облака летели над моей головой к востоку и скрывались за шведским серым берегом; я провожал их взором, и мысли мои неслись вместе с ними к родине моей… Шелест волн, прелесть ландшафта, воспоминания, возбужденные мыслями об отечестве, погрузили меня в мечты; память перелетала от случая к случаю; с грустью думал я о том, сколько еще буду странствовать. Вспоминал я и ласки, и надежды, и вероломные обманы счастья…
Отвернувшись от моря, я увидел по ту сторону дороги, подле опрятного домика, безногого, еще не старого солдата… Я приблизился. Солдат учтиво снял шапку, вынес мне кружку молока. День был жаркий, я пил с удовольствием и, присев на ступеньки, заговорил с ним. Он был из старых солдат Бонапарта; пятнадцать лет провел в походах, потерял ногу в сражении при Прейсиш-Эйлау. С тревогой он вопрошал меня — нужно ли ожидать новой войны или наступили, наконец, мирные дни. Ветеран жил здесь с молоденькой племянницей, которая с любопытством поглядывала на меня в окно, откинув занавеску. Я слушал его, раздумывая о том, что народы всей Европы жаждут мира, — знают ли то государи, собирающиеся ехать в Вену?.. Я тяготился жизнью в мирном Копенгагене, обедами у милейшего посланника Ивана Кузьмича Протасова и уж никак не мог думать, что в тишайшем уголке Европы со мной приключится досаднейший случай.
Я продолжал мои каждодневные прогулки к королевскому зверинцу, встречая одних и тех же господ, немного знакомых мне по скучнейшим куртагам во дворце, придворных и дипломатов, молодых людей из здешней знати. По-прежнему я заезжал к старому солдату, слушал его рассказы, чуть-чуть стал волочиться за его миловидной племянницей. Однажды, возвращаясь с прогулки, повстречал я франтовато одетого господина на ладном вороном коне. До сего времени я его не видел. «Должно быть, приезжий», — подумал я. Лицо его мне показалось знакомым; где-то видел я этого долговязого щеголя со злым, угрюмым взглядом и лягушачьим ртом. Да мало ли случалось мне встречать людей в моих странствиях? С той первой встречи я видел его дважды либо трижды на прогулке; он проезжал мимо, глядя в сторону, я тоже не выказывал желания свести с ним знакомство.
В одну из моих прогулок солдат-ветеран, побледнев и весь дрожа от обиды, сказал мне:
— Знаете ли вы, добрый господин, что вы невольно причинили мне горе? Возможно, вы приметили долговязого франта на вороном коне? Вчерашний день он остановился у моей лачужки и стал спрашивать меня, давно ли вы мне знакомы. «Почему этот русский так ласков с тобой, о чем он с тобой толкует?..» Я ответил ему, что почитаю за счастье быть собеседником господина русского офицера и не намерен ему докладывать, о чем он соизволит со мной беседовать. Тогда он, увидев мою племянницу, оскорбил ее грубым словом и уехал с угрозами, замахнувшись на меня хлыстом…
Можно вообразить мой гнев и мою досаду, — гнусный шпион возмутил меня своей наглостью. «Ну, погоди, я потолкую с тобой по-свойски», — думал я.
Мне не пришлось долго ожидать. На следующий день я повстречал долговязого франта у самой ограды королевского зверинца. Поровнявшись с ним, я заговорил по-немецки:
— Ежели вам, сударь, любопытно узнать, о чем я говорил со старым солдатом-калекой, то вам надлежало бы обратиться прямо ко мне, а не к нему, сударь мой…
Он слегка изменился в лице, но сделал вид, что не понял меня, и хотел было ехать дальше. Но я, протянув руку, схватил его коня за поводья и крикнул:
— Отвечайте, а то будет худо!
Лицо его покривилось от злости, он попробовал вырвать поводья, но не смог, и сквозь зубы стал бормотать ругательства, и тут я расслышал слова:
— Русский… раб!..
Кровь ударила мне в голову; выпустив поводья, я дважды ударил его хлыстом по лицу. Конь его шарахнулся в сторону, и долговязый франт, плохой, видимо, ездок, свалился на дорогу. Я не стал ожидать, пока он встанет с земли, и шагом поехал своей дорогой, полагая, что негодяю легко будет меня отыскать.
В тот же вечер, за ужином у добряка Протасова, я рассказал ему мое приключение.
— Каков он собой? — спросил Иван Кузьмич.
Я описал наружность франта. Тут мой Протасов встревожился и сказал:
— Да ведь это Краут, Михель Краут — доверенное лицо князя Меттерниха! Что вы наделали, голубчик вы мой! Он тайный соглядатай австрийского канцлера, его любимец, к тому же иезуит, ханжа и святоша… Как бы не было беды!
— Откуда ж он здесь взялся?
— Должно быть, прислан курьером.
Выслушав это, я нисколько не пожалел, что так разделался с наглецом, осмелившимся оскорбить меня ненавистным словом «раб»… Я ожидал, что негодяй даст о себе знать. Ни в следующий день, ни позднее никто не приходил из австрийского посольства. Копенгаген мне опостылел еще более, и даже прогулки по берегу Зунда были уже не милы. И когда Протасов вздумал отправить меня в Вену, я с радостью собрался в дорогу. Думаю, что он и сам рад был избавиться от беспокойного соотечественника».
Однажды в дождливое утро Можайский сидел у себя в комнате за столом, — предстояло написать докладную записку Нессельроде о лондонских делах и пребывании в Копенгагене. Он неохотно взялся за перо, зная, что записка будет погребена в архивах и увидит, может быть, свет лет через сто, когда какой-нибудь любопытный историк доберется до архивов.
Еще не написав ни слова, он сидел, раздумывая о родине, о Кате, о том, когда придут письма от Волгина. Он надеялся, что сумеет выпросить отпуск в Россию или отставку. Но об отставке не было сказано ни слова при встрече с Волконским, а Нессельроде мимоходом сообщил, что ждет его записки.
От всех этих дум Можайского оторвал Данилевский, которого он не видел более недели. Данилевский сопровождал императора Александра в столицу Венгрии, и Можайский готовился услышать длинный рассказ о встрече в Оффене, балах, охотах и празднествах, которыми встретили царя венгерские магнаты.
Но Данилевский приехал в парадном мундире, — он только что присутствовал на торжественной и комичной церемонии, которая была в обычае раз в году при австрийском дворе.
В Гофбургском дворце собрали двенадцать старцев и двенадцать древних старух из венской богадельни, которым вместе было более двух тысяч лет. Старики были в одинаковых черных сюртуках, старухи в одинаковых черных платьях. Император Франц и императрица совершили обряд омовения ног старцам и старухам; этот обряд восходил ко временам глубокой древности, но даже седая старина, освящавшая обычай, не уменьшила комичности зрелища.
Старики были до того древними, что казались почти бесплотными. Император Франц, чуть поплескав из золотой чаши на высохшие их ступни, прикасался к ним полотенцем, взятым из рук гофмейстера. То же самое проделывала императрица с древними старухами. Вокруг стояли первые лица государства, двор, иностранные уполномоченные на конгрессе. Даже Меттерних, всегда сохранявший на лице беззаботно-счастливую улыбку, казалось, весь проникся торжественностью церемонии…
— Господи! — сказал Можайский. — Уж не во сне ли я? Да был ли восемьдесят девятый год, жили ли Вольтер и Монтескье? Не живем ли мы в царствование императора Рудольфа? Не сам ли Тартюф сидит на троне, венчанный короной австрийских императоров?.. Счастлив я, что не видел этой комедии.
— Да будет известно вам, Александр Платонович, — развалившись на диване, сказал Данилевский, — что Волконский приказал всей свите не пропускать ни одного бала, ни одного празднества. Замечено, что молодые офицеры стали манкировать…
— Вот еще! Стой под ветром и дождем в одном мундире, дожидайся кареты! Кареты ведь подают по чинам, а нам с тобой — чуть не последним…
— Да, уж в Париже было получше… Гофбург — это тебе не кофейная Фраскатти, а спектакль в Бург-театре — не фарсы на бульваре Тампль… А в Петербурге думают, что мы ведем счастливую жизнь, завидуют нам — свидетелям великих событий…
— Сегодня тебе есть о чем записать в дневник, — сказал Можайский. — Гофбургская церемония того стоит…
— Будто ты не пишешь дневник? — лукаво усмехнулся Данилевский. — Будто я не видел у тебя тетрадку в синем сафьяне с замочком? Кто только не пишет мемуаров нынче, — генералы, дипломаты и придворные дамы… Помнишь наши геттингенские записи?
Он вспомнил, что в Геттингене был обычай меняться дневниками; чувствительные юноши изливали на страницах дневников дружеские чувства. Но он, Данилевский, уже не прежний пылкий юноша… Он знал, что о нем думали, что говорили за глаза его прежние друзья, и его охватывало желание хотя бы Можайскому открыться в самых сокровенных мыслях. Его считают холодным, расчетливым честолюбцем. Правда, он стал молчалив и замкнулся в себе, но пусть хоть Можайский не думает о нем дурно.
— Послушай, Александр, — сказал Данилевский, — давай вспомним студенческий обычай. Одному тебе могу доверить мои собственноручные записки… А ты мне дай свои.
В тот же вечер Данилевский отдал Можайскому ящичек, наполненный доверху бумагами, и взял у него тетрадку в синем сафьяновом переплете.
Можайский отпер ключиком ящик, взял первый лист, лежавший сверху, и, прочитав первые строки, далее читал уже не отрываясь:
«…Слухи о несогласии держав, участвующих в конгрессе, усиливаются ежедневно, и начинают говорить о войне, которая должна возгореться скоро между ними. Тайны дипломатов непроницаемы, но известно, что многие державы вооружаются против России, в особенности англичане. Они, стараясь присвоить себе всеми способами деспотическую власть в Европе и прочих частях света, утверждают, что Россия обнаруживает намерение занять в политической системе Европы место Наполеона. Кажется, что Россия лишилась в этих переговорах той поверхности, которую она приобрела великими пожертвованиями в последние три похода и которая единодушно ей была уступлена в Париже.
Дипломаты наши не поддержали того, что искуплено кровью военных… Восхитительно было видеть знамя русское, развевающееся на высотах Монмартра, но победа тогда только совершенна, когда увенчана блистательным миром. В Париже никто не смел восставать против первенства русских, но оттуда император поехал в Лондон, как будто принимать поздравление в счастливом окончания войны от надменных англичан, которые вменили посещение союзных государей в должную им дань признательности за денежные их воспоможения.
Итак, со дня отбытия из Парижа до дня приезда в Вену прошло два с половиной месяца, в течение которых ничего не было сделано для удержания поверхности, приобретенной нами над всеми кабинетами. Между тем англичане, австрийцы, пруссаки и французы употребляли все усилия, чтобы во мнении народов и дворов уменьшить влияние России и представить пожертвования наши и подвиги наших войск по возможности ничтожными, доказывая, что влияние России на политические дела Европы опасно для просвещения, для самой независимости держав… Едва мы представили на конгрессе требования насчет Польши, как все восстали против нас, утверждая, что Россия желает присвоить себе диктаторскую власть… Нас приняли с одинаковыми почестями с королем Вюртембергским и встретили не как победителей, но как людей, пагубному влиянию которых должно противодействовать. Менее нежели в три месяца мы завоевали Францию, но в такое же время не можем кончить конгресса…».[12]
Прочитав эти страницы, Можайский долго сидел в раздумье. Он сам в последние месяцы отдалялся от Данилевского, справедливо укоряя его в угодливости перед высшими, но то, что тот писал здесь, обнаруживало зоркий взгляд и чувства патриота.
«Эти же самые европейские державы, за год перед этим склоняясь под железный скипетр деспота, намеревались оттеснить нас в Азию, когда мы были одни, оставленные на произвол собственных сил, когда пламенела Москва, но не дрогнули сердца русские…»
И долго еще он сидел в раздумье, всей душой чувствуя правоту этих слов…
Должно быть, Данилевский, зная любопытство венской прислуги и не доверяя замкам в столе Можайского, беспокоился о судьбе своих записей; на следующий день он приехал снова и тотчас заговорил о своих записках.
Они обменялись дневниками, и Данилевский, как бы вскользь, заметил:
— Стоило тебе связываться с этой скотиной Краутом! Он и в самом деле приближенный канцлера, не то лакей, не то главный наушник.
Можайский с удивлением взглянул на Данилевского:
— Наглец осмелился назвать меня рабом!
— Можно было посмеяться над этим… Ты с твоим древним дворянством, гвардии капитан — и вдруг… раб!
— Он сказал: «Русский… раб!..» Не одного меня он желал оскорбить.
Данилевский пожал плечами.
— Не звать же его к барьеру, — в раздумье сказал Можайский.
— Еще чего… Бродягу безродного, сына комедиантки…
На этом кончился их разговор. А час спустя из Гофбурга прибыл дежурный флигель-адъютант, знакомый Можайскому Кирилл Брозин.
Ему было приказано тотчас же доставить Можайского к генерал-адъютанту графу Ожаровскому.
48
Андрей Кириллович Разумовский направлялся с визитом к престарелому фельдмаршалу князю де Линю.
Карета миновала площадь, улицу и мост. Когда-то Разумовскому льстило, что они носят его имя. Двадцать семь домов было куплено и сломано для того, чтобы на этом месте построить дворец Разумовского. И вот он возвышается на площади над золотой листвой парка. Теперь все это казалось ему суетным и уже не радовало. К тому же сегодняшний день начался нерадостно.
У дворца Бельведер он встретил всадника в теплом сюртуке и зеленей шляпе с перышком. Это был пожилой человек, с продолговатым лицом, длинным носом и рассеянно-добродушным взглядом. Он мог бы показаться богатым горожанином, если бы позади не ехал разодетый, как павлин, адъютант. Встречные останавливались и, обнажив головы, ждали, когда с ними поравняется всадник.
Император Франц возвращался с утренней прогулки по лесу.
Андрей Кириллович остановил карету, вылез из нее и тоже снял шляпу. Император Франц повернул лошадь и остановился. Он спросил, понравилась ли Разумовскому ария, которую пела вчера певица на концерте у королевы Гортензии.
— Я не поклонник итальянской музыки, ваше величество…
— Этим вы делаете честь венской музыке, — рассеянно улыбнувшись, заметил Франц и тронул шпорой коня.
Разумовский, вздыхая, полез в карету. Ему было немного обидно, он уловил легкую насмешку в тоне императора Франца. Для него Разумовский был не государственный муж, не первый уполномоченный России на конгрессе, а светский человек, любитель музыки, безобидный вельможа в немилости. Разумовский хорошо знал, что рассеянно-благодушный вид Франца был только маска. Самый близкий к австрийскому императору человек был даже не Меттерних, а начальник тайной полиции барон Гагер. И Франц, вероятно, уже знал, что вчера, после концерта у королевы, император Александр полчаса беседовал с композитором Бетховеном, которого Франц считал неприятным и дерзким человеком, и что беседу устроил Разумовский.
Замечание о «венской музыке» относилось к этим хлопотам Андрея Кирилловича. Очень скоро он забыл о неприятной встрече. Князь де Линь, к которому, чтобы немного рассеяться, ехал Разумовский, был много видевшим и много знающим остроумцем, последним кондотьером, дорого и охотно продававшим свою шпагу. Сначала он служил во французских войсках, потом перешел к австрийцам и так чуть не всю жизнь сражался под чужими знаменами.
Андрей Кириллович Разумовский чувствовал холодность к себе соотечественников.
Он был молод, был щеголем и повесой, когда сопровождал на корабле из-за границы в Петербург невесту Павла Петровича, будущую великую княжну Наталью Алексеевну. Она полюбила молодого Разумовского, Павел Петрович ничего не знал об этой тайной любви. Знала о ней императрица Екатерина и открыла глаза Павлу, но это было уже после скоропостижной кончины Натальи Алексеевны. Отец Андрея Кирилловича, гетман Разумовский, получил письмо Екатерины: «Я принуждена была велеть сыну Вашему графу Андрею ехать в Ревель до дальнейшего о нем определения»… Из Ревеля Андрей Кириллович уехал в Вену и с тех пор, с 1776 года, он только один раз приезжал в Россию для свидания с отцом. Тридцать восемь лет он прожил за границей, он был чужестранцем в своей стране и не искал оправдания своему пребыванию за границей. Россия, Наталья Алексеевна, поместья отца на Украине — все ушло далеко, навеки, и только временами, за фортепьяно, перебирая клавиши, он вспоминал украинские мелодии… И щемило сердце, и слезы жгли ему веки. Был женат на немке, овдовел; теперь говорили о его браке с другой немкой, графиней Тюргейм. Но это еще куда ни шло… Он часто подумывал о том, что суд истории будет суров к нему, единственному русскому среди уполномоченных России на конгрессе. Но разве его вина, что Александр предпочитает иностранцев?.. Суд истории… Кто пишет историю? Те же историографы, которым за это дают чины и кресты. Так он утешал себя, а между тем он знал, что история пишется не руками придворных историографов.
От тяжелых мыслей он искал спасения в музыке. Его оркестр, его квартет славился во всей Европе; на концерты во дворце Разумовского съезжались истинные ценители. Он сам доставал из футляров драгоценнейшие «страдивариусы» и «гварнери», музыканты получали их перед репетицией или концертом из рук самого Андрея Кирилловича. Ах, музыка, только она утешение и радость…
Визит к князю де Линю тоже был отрадой.
Де Линь, приближенный австрийского императора Иосифа II и, как говорили, клеврет императрицы Екатерины, был человеком иного века. Свидетелю вольнодумства и смелых реформ Иосифа II, вместе с Иосифом выгонявшему из Вены иезуитов, ему претило католическое ханжество императора Франца.
Де Линь знал и любил Суворова, был с ним под стенами Очакова, там, где получил тяжелую рану Кутузов. Он видел двор Екатерины, путешествовал с ней в Крым; там Потемкин превзошел себя хитростью и внушил иностранцам уверенность в несокрушимом могуществе России. А между тем казна была пуста, турецкие войны и расточительство фаворитов истощили ее.
Де Линь встретил Разумовского на площадке парадной лестницы со всей учтивостью прошлого века, улыбающийся, напудренный, в шелковом турецком халате.
— Вчера я хворал весь день, но ваш посланец поднял меня с постели; вы всегда для меня лучший врач…
Они прошли в маленький кабинет де Линя и сели в уголке, там, где белел мраморный бюст Иосифа II. Подобие конторки для письма стояло у окна, — де Линь всегда писал стоя. Зажженная свеча освещала недописанную страницу.
— Я отвлек вас, — сказал Разумовский, взглянув на рукопись, — потомство не простит мне этого поступка.
— Вы доставили мне этим удовольствие. Странно писать о прошлом, когда судьба на закате моих дней показала мне такой интересный спектакль… — Руки де Линя чуть тряслись, он положил перед Разумовским табакерку с портретом Екатерины. — Боюсь только, что я не дождусь его конца. Меня уже не будет в ложе, когда упадет занавес. Вы, граф, досмотрите этот спектакль, и когда мы встретимся в чистилище, вы расскажете мне, чем кончилась пьеса.
Разумовский слабо улыбнулся.
— Не могу сказать вам, сколько развлечений доставляет мне князь Талейран! Каждый раз он разыгрывает передо мной новый вариант Тартюфа. Ах, граф, сколько дьявольской ловкости и изворотливости в этом человеке! — продолжал де Линь. — Поглядите на него внимательно — он льстит не только вельможам. Он не пропустит случая сказать приятное моему выездному лакею, моему камердинеру, моему швейцару. Его профессия — очаровывать, располагать к себе людей на всякий случай. Он отличный актер, но однажды он в разговоре со мной уступил пальму первенства. Кому бы вы думали? Наполеону. Он говорил о нем весьма почтительно, но говорил как об умершем. Он показал мне собственноручную записку Наполеона, адресованную уполномоченному на переговорах в Амьене. Наполеон предписывает опытному дипломату не только, что он должен сказать англичанам, но и как он должен произнести ту или иную фразу. «Вы должны в беседе с английским министром, что бы ни сказал вам министр, принять его слова за оскорбление, сухо откланяться и подойти к дверям. Взявшись за ручку двери, остановиться, на мгновенье задуматься, потом вернуться и сказать: «Мне приходит в голову мысль, не знаю, будет ли она одобрена и утверждена моим правительством, но я беру всю ответственность на себя… Поймите, что мне может грозить гнев и немилость моего императора, но, так и быть, я делаю вам последнее предложение…» И тут уполномоченный Наполеона должен был изложить компромисс, который давным-давно обдуман и решен Наполеоном в Париже. Князь Талейран разыграл передо мной всю сцену этого забавного урока именно так, как этого хотел Наполеон. Князь Талейран восхитил меня правдоподобием игры, я подумал, что он мог бы сыграть Тартюфа лучше Флери, и сказал ему об этом. Знаете, что он ответил? «Можно сожалеть только о том, что Наполеон часто играл «Мещанина во дворянстве». У императора не было такта, жаль, что такой великий, человек был дурно воспитан…» Воображаю, как они старались обмануть друг друга, и, в конце концов, корсиканца обманул Талейран. Иначе он бы висел на площади Карусель, на решетке, как ему однажды пообещал Наполеон.
— Вчера мне рассказали о его проделке с поляками. В 1807 году Наполеон пребывал в зимнем лагере, в Варшаве. В то время господа магнаты сочинили проект возрождения независимой Польши. Князь Талейран получил от магнатов четыре миллиона флоринов и обещал «сделать хорошо». Он так и выразился, этот плутишка. Он действительно представил Наполеону свой доклад, в котором доказывал, что Франция допустила непростительную ошибку и эта ошибка — раздел Польши. Но и для цезаря в те времена не все было возможным. В Тильзите решился союз с Александром и Австрией, никто не хотел ссориться с союзниками из-за Польши, и проект магнатов был похоронен. Князю Талейрану пришлось вернуть четыре миллиона флоринов, и он вернул их не медля, потому что даже у мошенников есть своя мораль.
— Мораль? Нет, дело не в морали. Он просто боялся, что про эту шалость узнает Бонапарт, единственный человек, которого он боялся в жизни. Не знаю. Он мне, по правде говоря, противен.
— Вы не совсем правы. Разве умный мошенник не лучше глупого ханжи? Я редко встречал человека, который, имея такую дурную славу, сохранял бы столько импозантности и даже величия. Понимаю, мой друг, вам, возможно, на вашем веку случалось редко видеть нечто исключительное в кругу дипломатов. Но мне, воину, встречавшему на бивуаках Европы всякий сброд — мародеров, наемников, предателей, — мне нравится, когда человек, совмещающий все эти качества, умеет с достоинством держать себя в обществе. Со мной он откровенен, насколько может быть откровенен такой человек.
— Хотелось бы невидимо присутствовать при вашей беседе…
— Если бы вы были невидимкой, он все равно догадался бы, что тут есть третий, и тотчас завел бы пустейший разговор. Между тем, он даже из пустейшего разговора умеет извлечь для себя пользу. Он сводит с ума шпионов барона Гагера. Как только им удается заставить проболтаться кого-нибудь из свиты Талейрана, оказывается, что несчастный, на которого так гневался за болтовню Талейран, сказал именно то, что нужно было. И барон Гагер снова сбит с толку и оказался в дураках… Можно только удивляться тому, что сделал Талейран в три месяца! Приехать в Вену и быть здесь почти пустым местом… Вспомните, какой неприглядный вид имел вначале этот господин, для которого присяга — пустяк, взятка — необходимость. Уполномоченный Франции, за которым все время надо следить, чтобы он не стал уполномоченным Австрии, Англии, России или всех трех держав вместе. Его приглашают на конгресс только для того, чтобы присутствовать, а не решать. Но вот проходит месяц — и какая перемена! Он — самое необходимое лицо, он всюду, во всех комитетах конгресса, он секретничает с Меттернихом, лорд Кэстльри, раскрыв рот, слушает его сентенции, он говорит о праве, о священных правах народов, о благе Европы. Прусский король смотрит на него как на чудовище, от которого каждый день можно ожидать самого ужасного, король Саксонский ищет его заступничества. Король Вюртембергский едва ответил на поклон, когда князь Талейран приехал, а теперь делает отвратительную гримасу, которая заменяет ему улыбку… Любимое словечко Талейрана теперь: «J’ai su m’asseoir!».[13] Да, дорогой друг, только один Талейран может развлечь меня на закате дней. Вы улыбаетесь?
— Вы нарисовали очень схожий портрет, вернее — картину…
— Картину напишет Изабе, что до меня, то я только делаю наброски… пером, если хотите, — де Линь покосился на конторку, где лежали разбросанные листы.
— Вообразите, что князь Талейран… тоже делает наброски пером.
— Я в этом уверен. Но уверяю вас, что если мы попадем в его мемуары — мы будем выглядеть благонравными и вполне достойными людьми… Другое дело, если бы он откровенно рассказал, что он думает обо мне или о вас…
Разумовский снова улыбнулся; он потому и любил навещать князя де Линя, что тот умел разгонять невеселые мысли.
— Что же он мог бы рассказать обо мне?
— Начнем с меня. Если бы он вздумал писать правду, он бы написал приблизительно так: «Вчера или позавчера я видел старого негодяя князя де Линя, эту шпагу, которую уже никто не покупает, потому что она ничего не стоит в одряхлевших руках. Подумать только, что старый кондотьер еще жив, когда ему давно следует лежать в могиле. И этот человек, эта развалина, в молодости был шпионом и фаворитом Екатерины…»
Разумовский опустил глаза; его немного смутила резкость и откровенность. Вместе с тем портрет был довольно схож. Де Линь передавал воображаемые суждения Талейрана вполне серьезно, без тени укоризны, небрежно играя табакеркой; отсвет свечи падал на миниатюру, а с миниатюры глядели розовое лицо и обворожительная улыбка Екатерины…
— Ну, допустим… А что бы он мог сочинить обо мне?
Де Линь помолчал немного и продолжал:
— Что-нибудь вроде… ну, например: «На балу у Разумовского хозяин выглядел довольно смешным… Первый русский уполномоченный на конгрессе — такой же русский, как остальные… Он еще не созрел для того, чтобы стать добычей католических прелатов, но, во всяком случае, уже, настолько поглупел, чтобы стать австрийским обер-камергером…» Вы хмуритесь?
— Неужели так думают обо мне? — с беспокойством сказал Разумовский. — Но ведь все же знают, что я не имею никакого значения в делах конгресса. Это меня мучает, мой друг… Талейран, Меттерних, — что против них маленький Нессельрод или надутый Штакельберг?
— Гумбольдт говорил мне, что Александр достаточно фальшив и упрям. Если это так, его упрямство пойдет на пользу России. Иногда упрямство — хорошее качество для дипломата… Досадно, если я не увижу конца игры. На вашем месте, граф, я бы перестал упрекать себя в том, что мало занимаюсь политикой. Я бы чувствовал себя как зритель, которого пригласили в ложу для того, чтобы все видели, что в ложе есть и порядочные люди.
— А история?
— История… Мне странно, что полвека назад немногие из нас думали о суде потомства. Теперь это стало модой. Вы печалитесь о том, что соотечественники не считают вас русским? Не мне вас в этом утешать. История? Вы думаете, что история — это мы, это я, это вы? Мне кажется, нас будут вспоминать в комментариях только для того, чтобы господа историки показали себя достаточно сведущими и образованными.
— Пожалуй, — сказал Разумовский, — однако если есть необходимость оправдать себя в глазах потомков?
— Мне кажется, я мог бы исписать горы бумаги, но потомки не скажут обо мне: «Вот истинно благородный человек! Вот рыцарь без страха и упрека!»
— Тогда зачем же? — Разумовский развел руками и оглянулся на конторку, где свеча бросала свет на небрежно разбросанные листы.
Де Линь задумался, взгляд его остановился на колеблющемся язычке свечи.
— Я пишу о прошлом, — сказал он, сдвигая все еще густые и черные брови, — потому, что мне доставляет удовольствие вспоминать себя молодым… Я закрываю глаза и вижу песчаную отмель, и Черное море, и грозные бастионы Очакова. Мне было тогда за пятьдесят, но кажется, что я был молод… Я одинок, вокруг одни могилы. Нет Суворова — мудреца и философа, представлявшегося чудаком, нет Кутузова, которому тогда во второй раз прострелили голову. Мы говорили о нем как о мертвом, но он остался в живых, для того чтобы стать бессмертным…
Де Линь не отводил глаз от свечи; его неподвижный взгляд казался безжизненным, как бы стеклянным.
— Наш век кончился вместе с великими людьми нашего века, с теми, кто действительно писал его историю. Я доживаю мои последние дни. Каждая страница мемуаров, которую я начинаю, мне кажется, останется недописанной. Конгресс видел много торжественных церемоний, ему остается только увидеть похороны австрийского фельдмаршала… Что ж, он их скоро увидит…
Эти слова Андрей Кириллович вспомнил немного времени спустя, когда шел за катафалком, на котором везли гроб последнего кондотьера, фельдмаршала Шарля де Линь.
49
Можайский стоял у окна и глядел на площадь перед Гофбургом, на кареты, подъезжавшие к парадному входу под балдахином, украшенным позументом и золотым двуглавым орлом.
Он стоял так уже долго. На его глазах сменился караул австрийских гренадер. Церемония развода караула под звуки флейт и барабанов немного развлекла его. В Вене даже развод караула выглядел балетной сценой. Офицер играл шпагой, выкидывал ногу, как танцовщик, на радость зевакам, глядевшим из-за ограды. Но и это развлечение скоро кончилось.
Можайский старался угадать, зачем его так поспешно доставили во дворец. Кирилл Брозин, знакомый флигель-адъютант, всю дорогу болтал про новогодний бал; ничего путного от него нельзя было добиться.
Можайский числился в подчинении у Нессельроде, он нисколько не удивился бы, если бы был вызван к статс-секретарю. Но тогда его повезли бы на Балплац, а не в Гофбург. Зачем он понадобился, что его ожидает? Новые странствия, — хорошо, если бы послали в Петербург. Можно сделать крюк в полтораста верст, а потом из Новгорода сломя голову скакать в столицу, по своему маршруту.
От скуки он стал разглядывать убранство аванзала, тяжелую, пышную роскошь. В простенке висел портрет Пия VI — память о пребывании его святейшества в Вене, в гостях у императора Иосифа II. Он приметил латинскую надпись над портретом, попробовал прочитать, но, услышав звон шпор и быстрые шаги, обернулся и увидел графа Ожаровского.
Можайскому всегда нравился пожилой, еще красивый, сохранивший свежесть лица и молодую походку генерал-адъютант.
Ожаровского хвалили за боевую отвагу, безудержную храбрость, но втихомолку подсмеивались над невежеством, которое он проявлял в стратегии. С его именем связывали историю Дрисского военного лагеря — бессмысленной затеи прусского стратега Фуля, которая могла оказаться ловушкой для русской армии в 1812 году.
В молодости Ожаровский был горяч и своенравен, дважды терпел опалу при Павле I. В приказе было сказано: «За вторичные продерзости исключить из службы с лишением чинов и посажением в крепость». Впрочем, на второй день Павел отменил приказ.
Можайскому ранее случалось видеть Ожаровского, сопровождавшего царя во всех поездках; приятно было видеть его приветливую улыбку и юношеский блеск глаз.
Теперь он казался суровым и озабоченным. Он шел прямо на Можайского и, остановившись в двух шагах, отрывисто сказал:
— Шпагу!
Можайский похолодел. Пальцы не слушались его; отстегивая шпагу, он едва не уронил ее к ногам Ожаровского. Губы непроизвольно произнесли:
— За что же?
— Узнаете после, — так же отрывисто сказал Ожаровский.
Он было повернулся к выходу, но медлил. Ему, видимо, было неприятно взять шпагу у боевого офицера, — ведь в молодые годы ему самому приходилось бывать под арестом, правда, за легкие проступки, которые можно извинить молодостью.
— Господин гвардии капитан, — с укором сказал он, — можно ли так вести себя? Вы причинили огорчение государю. И без того столько забот, а тут — вы…
— Но в чем же моя вина? — едва выговорил Можайский.
— Как? Дерзкое буянство, побои, нанесенные курьеру австрийского придворного канцлера, господину Крауту, вы не считаете виной?
«Вот оно что!» — подумал Можайский и с горячностью сказал:
— Граф, если бы вы знали обстоятельства, если б вы знали…
— Знаю одно, — нахмурившись, сказал Ожаровский, — знаю, что государь страшно разгневан, что он пообещал князю Меттерниху строго наказать виновного…
— Пусть так, но об одном прошу вас, граф, прошу как воина. Здесь нет нашей гауптвахты, арестованных отсылают на австрийскую… Ради моих ран, ради этого креста не отсылайте меня на австрийскую гауптвахту. Не могу снести такого унижения — и из-за кого? Из-за наглеца и шпиона!
— Тише, господин капитан…
Что-то дрогнуло в голосе Ожаровского. Ему под пятьдесят, но ведь и он был горяч в молодые годы. Он поглядел на глубокий шрам над виском офицера и отвернулся. Но что он мог сделать, когда Меттерних представил все это дело как личное оскорбление, нанесенное ему, австрийскому придворному, государственному канцлеру?
Ожаровский переложил шпагу в правую руку и тихо сказал:
— Ожидайте меня здесь. Ждать придется долго.
И, круто повернувшись, ушел, закрыв за собой дверь.
Вихрь мыслей пронесся в мозгу у Можайского. Он сознавал всю безнадежность своего положения. Сейчас, когда отношения между союзниками стали почти враждебными, история с побоями, которые Можайский нанес мерзкому Крауту, была совсем некстати. Что могло ожидать Можайского? Крепость или ссылка в отдаленный гарнизон, где-нибудь в прикаспийских степях, где, кроме спившегося коменданта, нет ни единого живого человека, с которым можно перемолвиться живым словом.
Друзья — Тургеневы, Владимир Раевский, безрассудный и милый сердцу Слепцов… Никого из них он больше не увидит.
Не увидит он и ту, которую, казалось, только так счастливо нашел.
О память сердца! Ты сильней Рассудка памяти печальной, И часто сладостью своей Меня в стране пленяешь дальней…Ему уже мерещились казематы Петропавловской крепости, перезвон курантов, плеск невских волн. Что ж, там побывали и не такие люди — Ермолов и Платов ели казенный хлеб в крепости. Но угодить в крепость из-за шпиона, наушника-иезуита!
Он снова уставился в окно и бездумно глядел на обычную суету — на скороходов, перебегавших через площадь, толпу зевак за оградой. Промелькнула придворная карета с ливрейными лакеями на запятках. Она остановилась у парадного подъезда; тотчас же послышался глухой барабанный бой.
Караульная рота, выбежав с ружьями, выстроилась на площади; офицер салютовал шпагой. Из кареты показалась фигурка в шляпе с перьями и в длинной зеленой шинели с капюшоном. Капюшон был откинут на плечи, и Можайский узнал Меттерниха. Мелкими шажками он вбежал в подъезд.
Вошел Кирилл Брозин. В глазах у него было любопытство; он спросил, не хочет ли Можайский отобедать с ним или подкрепиться стаканом вина и бисквитами. Можайский подумал: «Это заботы Ожаровского», — и поблагодарил — ему ничего не нужно. Брозин ушел, как бы обидевшись.
Можайский сел в кресло, откинул голову и сидел неподвижно до тех пор, пока не стемнело; на площади зажгли фонари и смоляные бочки. Вошел дворцовый лакей и поставил на камин зажженный канделябр. Вокруг была мертвая тишина. Пий VI смотрел с портрета с умильной улыбкой.
…В то время, когда Можайский в тоске ожидал своей участи, в покоях императора Александра происходила бурная сцена.
Меттерннх, бледный, с дрожащими губами, стоял перед Александром. Царь был в бешенстве; с ним случился припадок гнева, похожий на те припадки, которые приводили в ужас приближенных его отца — Павла. В двух шагах от Александра стоял растерянный и тоже бледный Ожаровский; пожалуй, в первый раз за многие годы он видел Александра в таком гневе.
— Вы изволили сказать моему другу, королю прусскому, что я согласен оставить на престоле саксонском их жалкого короля? Извольте отвечать! — с искаженным от ярости лицом кричал Александр. — Вы лжец!
— Государь, смею напомнить вам, что оскорбление нанесено вами не мне, а моему императору…
Никому еще не приходилось видеть такое смущение, почти отчаяние, в лице Меттерниха.
— Вы лжец! — задыхаясь, повторил Александр. — Извольте удалиться. Я понимаю интриги ваши, господин канцлер! Ссорить меня с моими лучшими друзьями! Это низость!
— Государь, когда б вы были не венценосец…
— Молчите! — обращаясь к Меттерниху, сказал Ожаровский. — Опомнитесь, государь! — он произнес эти слова, умоляюще протянув руки к Александру. — Разве нет другого языка, на котором император может говорить с канцлером?
Наступило молчание. Александр повернулся спиной к Меттерниху и, тяжело дыша, вытер лицо платком; рука его дрожала.
— Идите, князь, — шептал, взяв за обе руки Меттерниха, Ожаровский.
Поклонившись спине императора, Меттерних вышел.
Когда Ожаровский, проводив Меттерниха, воротился, он застал Александра все в том же припадке гнева.
Александр так долго разыгрывал нежную дружбу с королем прусским, что, в конце концов, сам поверил в нее. Он дал слово прусскому королю, что будет поддерживать притязания Пруссии на Саксонию, — и вдруг Меттерних осмелился сказать прусскому королю, что русский император склонен оставить на престоле короля Саксонского (вина которого была в том, что он слишком долго верил в звезду Наполеона).
— Благодарю вас, мой друг, — сказал Александр Ожаровскому, — вы остановили меня вовремя… Мы решим иначе этот спор, мы решим его, как бывало в средние века!
Александр взял со стола перчатку и бросил ее на пол.
— Не понимаю, государь, — запинаясь, сказал Ожаровский. — Может ли это быть…
— Поединок! Почему бы нет? Разве батюшка мой не говорил однажды — хорошо было бы, если государи решали взаимные несогласия по примеру древних рыцарей на поединке.
— Так ведь это была только шутка, подхваченная иностранными ведомостями.
— Отец шутить не любил… Меттерних представляет здесь на конгрессе особу императора Франца. Я пошлю вызов князю Меттерниху!
— Вызов? — повторил Ожаровский, не веря ушам.
Он в изумлении глядел на Александра. Тот улыбался, улыбка была странно самодовольная. Видимо, Александру нравилась эта мысль. Всю жизнь он разыгрывал рыцаря, он им покажет, что значит истинный рыцарь без страха и упрека! Он поглядел на себя в зеркало, — глаза блестели, на щеках играл румянец, он понравился себе.
— Но, государь… — пролепетал Ожаровский.
— Мы будем драться, как дворянин с дворянином. Я первый дворянин моей страны, разве я не должен показывать пример всему дворянству?
— Умоляю вас об одном, — собравшись с духом, заговорил Ожаровский, — не торопитесь, дайте мне немного времени, — я уверен в том, что князь не имел в мыслях поссорить вас с его величеством королем…
Генерал театрально упал на одно колено, зная, что этот жест понравится Александру:
— Мы видели ваше мужество, государь, мы видели вас на полях сражений, но подумайте об отечестве…
Александр молчал. Припадок гнева утомил его. Он почувствовал легкую усталость и аппетит.
— Мы нынче обедаем у Разумовского, — сказал он. — Поединок! Это решено. — Но в голосе его уже не было прежней уверенности.
Ожаровский давно не переживал такой ночи. Он помчался на Балплац, но Меттерних был у императора Франца. Он дождался Меттерниха. Канцлер был в смущении. По городу ползли странные слухи. Говорили о дуэли, русский император будто бы послал вызов князю Меттерниху. Император Франц огорчен. Лорд Кэстльри не верил своим ушам. От Меттерниха Ожаровский поехал к Разумовскому. Он понимал, что Александр и Меттерних уже остыли и нужно найти компромисс в «рыцарском духе». В конце концов компромисс нашли. В десять утра князь Меттерних будет в Гофбурге и привезет письмо императора Франца. Тонкость и ловкость Ожаровского явились во всем блеске. Он ненавидел Меттерниха, ему было приятно видеть канцлера в смятении.
К десяти утра все было кончено. Вена успокоилась. Поединка не будет. Впрочем, Талейран и не верил в поединок. Однако, думал он, как бы там ни было, трещина между союзниками ширится, и это к лучшему.
В десять часов утра Ожаровский вспомнил об арестованном офицере. Можайский провел всю ночь в комнате дежурного флигель-адъютанта.
— Государь, — вздыхая, сказал Ожаровский, — мы забыли о несчастном молодом человеке. Он все еще здесь и ждет своей участи.
Александр был в дурном настроении. Теперь, когда наступило некоторое спокойствие, он жалел о том, что поединок не состоялся. Какой эффектный эпизод для историков — поединок русского венценосца и австрийского канцлера!
— Тот, что побил в Копенгагене, не то писца, не то лакея, — улыбаясь, сказал Ожаровский. — Канцлер в большой обиде.
— Ермоловцы — драчуны и буяны!..
— Однако, государь, гвардии капитан Можайский проучил оскорбителя, назвавшего его рабом…
— Бабка моя, императрица Екатерина, отменила самое слово «раб», — нахмурившись, сказал Александр. — Офицер — слуга императора, а не раб…
— Данилевский рассказывал мне, что Можайский заступился за солдата-инвалида и девушку.
— Офицера отпустить. Постарше его и повыше чином порой теряют голову.
Александр язвительно улыбнулся. Какая мысль! Меттерних требовал строжайшего наказания для этого офицерика. Офицерик побил его фактотума. Оставить офицера при себе, повысить офицера! Это будет маленькая и приятная месть.
Ожаровский вошел в комнату дежурного флигель-адъютанта, держа в руке шпагу Можайского. Можайский дремал, положив голову на руки и опираясь локтями о стол.
— Проснитесь, капитан, — весело сказал Ожаровский. — Вот ваша шпага. У вас была дурная ночь, зато вы дождались прекрасного утра. Отправляйтесь домой и помните, что на новогоднем балу в ратуше вы удостоены чести быть в свите государя.
Когда Можайский вышел на площадь перед Гофбургом, он глубоко вдохнул холодный, влажный воздух. Он точно возвращался к жизни после глубокого обморока. Солнце, свежий ветер, музыка, — барабан и флейта… Была или не была томительная ночь в Гофбурге?
50
1814 год, бурный и кровавый год Европы, миновал. Вена встретила новый, 1815 год невиданной иллюминацией, фейерверками и пальбой из пушек. На горах, вокруг Вены, лежал снег, но погода была теплая, и на Пратере мужчины гуляли в одних сюртуках, а дамы — накинув на плечи тонкие кашемировые шали.
Празднества продолжались. Гатчинская закалка помогла и здесь, в Вене. Александр, точно к разводу, вставал в четыре часа утра, хотя накануне танцевал на балу (надо было «оживить» бал), а за день до того веселился у Екатерины Павловны и, переодевшись в ее платье, и в ее наколке поражал всех необыкновенным сходством с сестрой.
Александр Павлович ознаменовал новый год событием, которое имело тягчайшее последствие для русского народа.
1 января 1815 года царь подписал «Положение о Бобылецком поселении в Могилевской губернии». Так было положено начало военным поселениям, которые принесли столько страданий крестьянству.
Мысль об устройстве военных поселений явилась именно в Австрии, в дни конгресса в Вене. Александр пожелал создать подобие австрийских поселений «граничар». Офицерам штаба было поручено ознакомиться с устройством австрийских поселений, но главнокомандующий Шварценберг запретил давать сведения. Обошлись без австрийских сведений, положение было подписано, и Бобылецкое поселение было началом крестного пути «крестьянина с сохой и ружьем». Напрасно Барклай возражал против военных поселений, указывая на «беспредельную разность между ружьем и сохой», но Аракчеев одолел и здесь.
Так в награду за героические усилия 1812 года Россия получила военные поселения.
Вернувшись с новогоднего бала в Гофбурге, Данилевский спал долго и, как это бывает после утомительного дня и бессонной ночи, видел во сне то, что было вчера наяву, — огромный зал, мраморные колонны, отражающие свет люстр, бесчисленные вертящиеся пары. Проснувшись, он стал припоминать то, что было вчера. Конгресс танцевал, но было что-то тревожное и зловещее в этих нескончаемых празднествах. Вот и новый год, а что впереди? При всем том, Данилевский был очень доволен своей близостью к важнейшим событиям конгресса. Полковник, встретивший Талейрана в первую аудиенцию у императора Александра, был Данилевский. Не раз он видел, как от Александра выходили Меттерних, Кэстльри, тот же Талейран, уполномоченный Пруссии Гарденберг. Не раз он слышал громкий разговор, доносившийся из-за дверей кабинета императора. Можно было только догадываться, о чем говорилось в четырех стенах, но слухи о разногласиях между союзниками становились все более тревожными.
Талейран не мог примириться с первой своей неудачей у Александра, — он получил вторую аудиенцию через двадцать дней после первой.
Талейран снова пробовал уверять, что заботится только о безопасности границ Австрии и Пруссии.
— Они могут не беспокоиться, — с иронией ответил Александр.
Он мог бы сказать, что следует беспокоиться и о безопасности границ России. Разве не через Польшу шел на Россию Наполеон?
Теперь уже прямо назывался предмет спора: Польша, Саксония. Но не спор о Саксонии — останется ли она самостоятельной или будет присоединена к Пруссии — вывел из душевного равновесия Талейрана. Он опять вздумал разыгрывать роль защитника законности и права. Александр смотрел на него с явной насмешкой. Кто осмелился говорить о праве, говорить от имени Франции?!
— Я думаю, что Франция мне кое-чем обязана, — мимоходом сказал Александр, — а вы мне говорите только о принципах. Ваше международное право для меня ничто. Как вы думаете, много для меня значат ваши пергаменты и ваши трактаты?
С Талейраном говорили, как с «Анной Ивановной», как со шпионом, которому привыкли платить и которого презирали.
Актер снова не имел успеха у своего единственного зрителя.
Александр и слышать не хотел о том, чтобы вывести войска из Польши, потому что знал: в тот же день туда будут двинуты австрийские войска.
Когда Талейран выходил из кабинета, Данилевский имел случай увидеть некоторую растерянность и беспокойство на его всегда бесстрастном и исполненном важности лице.
А на следующий день вся Вена говорила о бурной ссоре императора Александра с Меттернихом.
Александр не забыл о том, как накануне битвы у Дрездена Меттерних заставил его отдать командование армиями союзников Шварценбергу. Он помнил и двойную игру, которую довольно долго вел Меттерних с ним и с Наполеоном после 1812 года, после победы и изгнания французов из России. Может быть, впервые за всю свою жизнь Александр чувствовал, что русские одобряют его твердость здесь, в Вене, где вознамерились зачеркнуть то, что было завоевано русской кровью, В Вене знали, что в припадке бешенства он говорил с австрийским канцлером так грубо, как не говорил даже со слугой. Толковали, будто Меттерних не стерпел обиды и просил императора Франца назначить другого уполномоченного Австрии на конгрессе.
Теперь стало ясно, что австрийцы хотят быть в Польше и стоять у ворот России. Это понимал Александр и не испугался разрыва. Нессельроде, осторожный, трусливый, не терпевший острых положений и резких слов, переживал тяжелые дни. Ученик Меттерниха принужден был итти против своего учителя. Убитый и сконфуженный, он стоял перед Меттернихом, лепетал, что понимает все и сочувствует, но что поделаешь — воля императора.
Может быть, Александру и хотелось порой уступить окружавшим его дипломатам, но был предел и его власти — он понимал, что есть уступки, которых ему не простит Россия, и, к изумлению иностранцев, в конце концов торжествовала русская политика, правда, не в такой мере, в какой она могла бы восторжествовать.
Казалось, надвигалась гроза, но знаменитый художник Изабе невозмутимо продолжал работу над картиной «Венский конгресс», — он должен был запечатлеть на полотне трогательное единение держав и мир в Европе.
Веллингтону удалось убедить принца-регента и лорда Ливерпуля, что Кэстльри и Каткэрт слабее своих противников и только он сможет защитить достоинство и интересы Англии. Художнику Изабе пришлось изобразить его входящим в зал заседаний.
Веселый, жизнерадостный француз выбивался из сил, чтобы не причинить невольной обиды господам уполномоченным на конгрессе. Кавалер Салдана, уполномоченный Испании, негодовал, что его поместили в невыгодном месте и видна только его голова. Художник почтительно указывал, что зато другой уполномоченный Испании, кавалер Гомец, сидит между лордом Стюартом и графом Кланкэрти. Мраморный бюст Кауница пустыми глазницами смотрел на это собрание вершителей судеб Европы, силившихся изобразить благожелательность друг к другу и в то же время подчеркнуть величие державы, которую каждый из них представлял.
Смешно было видеть, как после сеанса каждый из господ дипломатов старался остаться наедине с художником для того, чтобы уговорить его придать больше значительности выражению лица и позе или выгоднее осветить фигуру. Только Меттерних и Талейран были в общем довольны и своим местом на портрете, и освещением. Разумовский ничем не обеспокоил художника, кроме того, что советовал ему написать портрет композитора Бетховена.
Но веселый француз пропустил мимо ушей слова Разумовского; ему было немного странно, почему русский уполномоченный принимает такое участие в этом необщительном музыканте. Говорят, что он гений, но тогда это странный, гордый и очень несчастный гений. Все это написано на его лице. А господин Изабе к тому же был немного увлечен другой натурой — женой одного английского дипломата, милой, грациозной и все еще молодой женщиной.
Эта жена дипломата была леди Анна Кларк — Анеля Грабовская.
Чета Кларк приехала в Вену вместе с Веллингтоном. Можайский увидел Анелю в парке Пратера. Она позвала его и посадила в свой экипаж. Они говорили о пустяках, и только когда расставались, она сказала ему по-польски:
— Я жду вас завтра.
Он понял, что это приглашение связано с чем-то для него важным. Может быть, с Катенькой Назимовой?
Ему пришлось немного ждать, он увидел начатый портрет Анели. Господин Изабе умел выбрать именно такой поворот головы, который шел натуре, он славился как любимый портретист красивых женщин. Притом он был остроумным собеседником, с ним любили беседовать.
Можайский сказал Анеле, что портрет очень хорош.
— Он начал писать меня еще в Париже, — сказала Анеля, — события не дали ему кончить портрет. Он привез его в Вену, и в первый же сеанс я говорю: «Мсье Изабе, я была пять лет назад лучше, чем сейчас, вы будете писать все заново». Знаете, что ответил этот обманщик? «Да, я буду писать заново, потому что вы стали лучше, чем пять лет назад». Я приняла это за шутку, и вдруг он говорит: «У вас в глазах, мадам, появилась ирония». И я нисколько не обиделась.
Она тотчас заговорила о делах политических, все еще стараясь доказать Можайскому, что ее тревожит судьба Польши.
О Польше думал и Можайский. Наполеон обратил ее против России. Австрия и Пруссия алчно взирают на нее. Может ли Россия оставить Польшу на произвол судеб?
— Мне случалось бывать в Варшаве, я видел развращенность и безрассудство знати. Разве авантюризм честолюбцев не может ввергнуть ваш народ в новые кровавые испытания?
— Кто же, по-вашему, может искоренить это зло? Александр?
Он долго молчал и сказал в глубокой задумчивости:
— Мне говорили, что Россия требует конституции для Польши, участия поляков в управлении, чтобы не было ни притеснений, ни угнетения.
Он говорил так, но у него не было уверенности в чистоте намерений Александра. Однако Данилевский рассказывал о приказе главнокомандующему Барклаю, чтобы никому, кроме необходимых и нужных штабу чинов, не отводили квартиры для постоя в Варшаве и чтобы все излишние войска вывели из польской столицы… Что это могло значить? Политическая мера, чтобы избежать упреков австрийцев и англичан на конгрессе, или желание предоставить несколько более свободы полякам?
— Надо, чтобы государственные мужи были не честолюбцы, не угнетатели своего народа, а добрые и разумные люди, патриоты своего отечества…
— Республика?
— Республика создается волей народа. Только народ волен решать свои судьбы и вершить дела государственные. Ах, если бы обе страны поняли, что польза государственная только в дружбе, — и тогда два славянских народа будут противостоять врагам и России, и Польши…
Анеля в изумлении взглянула на него.
— Можно ли… — начала она, но тут их прервали.
Слуга доложил о приезде гостя.
— Вы его знаете, — с таинственным видом сказала Анеля, — это один из русских моих друзей.
В дверях появился Андрей Кириллович Разумовский.
— Очаровательная, — начал он на пороге, — вы видите перед собой человека, у которого нет иных забот, кроме того, чтобы навещать своих истинных друзей… Это единственная выгода моего положения…
Андрей Кириллович мельком взглянул на Можайского. Он где-то видел молодого офицера, может быть даже у себя в доме. Он приветливо улыбнулся гостю Анели Грабовской и, вероятно, счел его появление в ее доме прихотью хозяйки.
Можайский с некоторым любопытством прислушивался к речам Андрея Кирилловича.
«Сын гетмана Малороссии, генерал-фельдмаршала и Академии наук президента, графа Кирилла Григорьевича Разумовского и Екатерины Ивановны Нарышкиной, из древнего боярского рода, даровавшего России и Петра I… внук украинского пастуха Розума… Это смещение кровей могло бы дать государственного мужа — патриота, вольнодумца, русского Мирабо, быть может… А вместо сего мы видим онемеченного сановника, утешающегося музыкальными досугами и благодетельствующего венским лавочникам и модисткам…» — так думал Можайский, пока Разумовский с глубокомысленным видом разглядывал портрет на мольберте.
— Великий мастер, — наконец сказал Андрей Кириллович. — Другой художник не осмелился бы оставить открытым для взоров неоконченный труд. Изабе все можно, в каждом штрихе божьей милостью мастер.
— Он будет доволен слышать ваше суждение, — вы не только строгий ценитель, вы покровитель искусств. Вена только и говорит о том, что император Александр принял Бетховена, этим он обязан вам. Несчастный гений…
— Несчастный, — усаживаясь, повторил Разумовский, — да, несчастный. Глухота и равнодушие людей сделали его нелюдимым. При случае я напомнил государю о нем. Он был принят, это, может быть, немного облегчит ему жизнь. Венский двор холоден к Бетховену, — продолжал Разумовский, не отводя глаз от портрета. — Старый князь де Линь незадолго до своей кончины сказал: «Чего стоят титулы, почести, воздаваемые вельможам, военная слава? Кондотьер Гатемаллата, деяний которого не помнит никто, живет только потому, что его облик запечатлен в бронзе великим Донателло. Можно не знать деяния папы Юлия II, но никогда не позабудут, что в его время творил Микель Анджело и изваял его гробницу — чудо искусства».
— Если так, то и вас не должна забыть история: Бетховен посвятил вам две симфонии, — Анеля произнесла эти слова так, что их можно было принять за шутку.
— Верьте мне, что я этим горжусь более, чем многим другим. Маэстро услышал от меня одну красивую мелодию — украинский напев, я слышал его с детства, от деда. Эта песенка будет звучать в адажио квартета… Как он несчастен, наш бедный маэстро! Если бы не преданный ему Шупанциг, он бы вконец замучил себя работой, сомнениями, бессонницей! Гайдн написал сто восемнадцать симфоний, Бетховен — только девять, и эта девятая — его радость и мученье. Он все еще не завершил свой труд, и каждый день возвращается к девятой. Он никогда не бывает доволен тем, что создал, это мучает его и рождает злобу и отчаяние. Великий музыкант и несчастный…
— Вена, Вена — город песен… Вена — рай для музыкантов, — повторил Можайский строки известной песенки, но Андрей Кириллович не уловил иронии в его словах; он спросил, не встречал ли молодого офицера в Вене года четыре назад.
Можайский ответил, что четыре года назад он был в Лондоне.
— Имел честь быть представленным вам, граф, в годовщину Лейпцигской битвы.
Мелодичный звон часов встревожил Разумовского.
— Что же это я? Сегодня у меня сеанс у Изабе, вечером — раут на Балплац, завтра — репетиция нового балета, — князь Меттерних недоволен музыкой… Вот участь дипломата. Но в четверг прошу ко мне. Воротился из Италии мой крепостной человек, я посылал его в Рим учиться на виолончели. Я слушал его сам после трех лет учения и доволен им… И вас прошу, — он повернулся к Можайскому.
Что-то во взгляде этого молодого офицера беспокоило Разумовского. Молодой человек, правда, держал себя в решпекте и почтительно помалкивал, но как иногда обманчива эта внешняя почтительность! Ему вспомнился Николай Тургенев, молчаливый и обходительный, но опасный и острый собеседник. Андрей Кириллович не совсем понимал молодых людей нового века, что-то в них пугало его. Он встал и простился.
— Вот кто бывает у меня из русских, — сказала Грабовская, когда ушел Разумовский.
— Из «русских»? — с улыбкой обронил Можайский.
— Вы не прощаете ему страсти к венской музыке?
— «Вена — рай для музыкантов»! Рай, в котором умер в бедности великий Моцарт! Нет, графу Разумовскому должно простить музыку Людвига Бетховена. Но не кажется ли вам странным и смешным — говорить о страданиях композитора и не подумать о том, как живет этот человек! Он живет в нужде и в бедности, — это знает вся Вена. И богачу Разумовскому, у которого в один вечер сгорело восковых свечей на двадцать тысяч, не приходит в голову мысль о том, что эти деньги — три года спокойной жизни для Бетховена! Богач и меценат не видит бедности, в которой живет великий Бетховен.
Откинув голову, устремив взгляд в осеннее пасмурное небо за окном, Анеля сказала:
— Я не понимаю его музыки. Один раз я слышала ее в концерте, играл Ледюк… Концерт для скрипки. Начинает оркестр, и начало такое торжественное и прекрасное, что кажется — уже нельзя продолжать… Можно ли больше выразить в музыке? Но начинает скрипка, и звук летит в небо, высоко, еще выше… — Она вдруг в упор взглянула на него: — Я не думала, что у вас в душе столько злости… С такими мыслями вам будет нелегко в России.
— Ничуть не легче, чем здесь…
— У вас есть вести из Васенок? Нет? Тогда я счастливее вас. Мой старый знакомый, полковник Ольшевский, возвращаясь из русского плена, был в Новгороде и видел Катю.
Можайский с трудом скрыл волнение.
— Ольшевский говорит, что она очень похорошела, он видел ее однажды у меня в Грабнике… Он был тогда адъютантом князя Юзефа Понятовского… Вы долго еще остаетесь в Вене?
— Кто может знать?
— На новогоднем балу в Гофбурге потихоньку говорили о войне. Разве вы не чувствуете? Над всем нависла тревога.
— Война? — с деланным изумлением спросил Можайский. — Кто же станет воевать с Россией? Наполеон? Он — узник острова Эльбы. Мир подписан в Париже. В Вене рождается новая Европа.
Он говорил так, помня, что перед ним жена сэра Чарльза Кларка.
— Князь Талейран, — рассеянно продолжала леди Анна, — князь Талейран говорил, что в Европе никто не хочет воевать… не хочет и не может… Правда, он говорил об этом не без сожаления.
— А ему хочется войны?
— Кто может знать, чего хочет Талейран?
— Если война, то мне долго еще не увидеть родину.
— Вы хотите ехать ради Катеньки? — в упор спросила она.
Он молчал. Ему не хотелось открывать ей свои тайные думы. Не только ради встречи с Катей Можайский желал возвращения на родину.
— В Лондоне я получил письмо от Екатерины Николаевны. Оно не сблизило нас. И не могло сблизить, слишком мы были далеки друг другу эти годы. Но что-то теплилось в моей душе, и я подумал, что надо ехать немедля, сейчас… Вместо этого меня посылают в Данию, в Копенгаген. Я живу три месяца, как в клетке, среди чужих людей, в столице добродетельных и скучных датчан…
Он уже не мог остановиться и с горечью продолжал:
— Уже давно служба стала для меня докукой. Я хотел приносить пользу государству, но труды мои были напрасны. Они не нужны ни императору, ни Нессельроду. Я — в Вене, и опять все то же — смотры и балы и охота на ланей, которых подгоняют под выстрелы императоров и королей. «Конгресс танцует, но не двигается вперед», — сказал де Линь… Я был два дня в горах, в крестьянской избе, у простых людей — горцев, среди снега, в лесах, — мне чудилось, что я в России, на родине. Возвращаясь в Вену, я увидел странную картину: тысячи людей сгребали снег, подвозили его на тележках и делали санный путь; внизу, в долине, снег быстро таял, — императоры, двор и свита хотели себя потешить катаньем на санях. Когда сделали санную дорогу, по ней в вызолоченных, разукрашенных санях катались державные гости. Путь освещали факелами, певческие общества развлекали гостей тирольскими песнями. Это все выдумки Меттерниха! Ах, как это все опостылело!
Она рассмеялась, но тотчас нахмурилась:
— Кто из нас доволен жизнью, господин капитан? Скоро два года я замужем и живу среди холодных и бездушных людей. Все для них тлен, кроме их острова. Пусть все погибнет, лишь бы был цел их остров, их король, их дом, их лошади и собаки… Для них вся Европа — только карта в игре! Иногда я ненавижу их — с их черствостью души, гордостью, высокомерной и глупой!
Она говорила с горечью и искренностью.
— Тогда зачем вы решились на этот брак?
— Я прожила бурную жизнь. В конце концов, я очень устала. Вспомните, кто я была, — бедная девушка, дочь антиквара, Анет Лярош. Потом я стала графиней Грабовской. Гербы, реликвии, красивые легенды, мечты о великой Польше… Поверьте мне, я искренне желала счастья этой стране. Умер Казимир, и у меня не стало опоры. Я утратила и эту вторую родину и сказала себе: «Моя родина там, где дух свободы». Я помогала итальянским патриотам, и против меня поднялись черные силы. Что меня ожидало — крепость Шпильберг или яд? У меня не стало сил продолжать такую жизнь. Я вышла замуж за Чарльза Кларка. Мне доставляет удовольствие видеть, как австрийские придворные расшаркиваются перед леди Анной Кларк, женой дипломата. Но я заплатила за это дорогой ценой.
На камине снова прозвонили часы.
— Мне стало легче, — так редко приходится говорить правду.
— Почему вы думаете, что будет война? — спросил после долгого молчания Можайский. — А коалиция?
— Ее давно не существует. Россия — в одиночестве. Вы это знаете лучше меня.
— Вести войну с русскими, которых даже самонадеянный Наполеон считал могучим войском? Австрия одна не решится воевать. Франция слаба, ее армия, кроме нескольких тысяч дворян, презирает Бурбонов. Англия? Но она ведет разорительную войну с Американскими Соединенными Штатами. Кто же будет воевать с Россией?
Анеля прислушалась. Вокруг была тишина, и тогда она тихо сказала:
— Мир с Соединенными Штатами будет подписан в Генте. Возможно, мир уже подписан, сейчас, когда мы говорим с вами. Затем, — я вам могу сказать об этом, потому что я ненавижу Австрию, — затем князь Шварценберг говорил только вчера: «Если воевать с Россией, то выгоднее начать войну сейчас, чем несколькими годами позже». И это все из-за Польши. Они хотят заставить русских уйти из Варшавского герцогства.
— Для того, чтобы занять его самим… Шварценберг… Это похоже на него. Болван, который выбалтывает то, о чем молчат другие… Небо Европы в тучах… Одно я знаю: долго еще мне не видеть родины.
— Не отвергайте моей помощи, — сказала Анеля. — Женщина может сделать многое… Хотите, я попрошу старого Разумовского, он все же близок к императору, он даже уговорил его принять господина Бетховена, хотя император не любит музыки и ничего не смыслит в ней. Я могу просить Разумовского, и он сделает так, что вы получите отпуск или отставку… Хотите?
— Нет, — ответил Можайский. — Если правда, что война близка…
Она взглянула на него, на черную повязку над виском:
— Но вы дважды пролили кровь за отечество…
В пустынных залах вдруг послышались тяжелые шаги.
— Это Чарльз, — сказала Анеля.
Лицо ее потемнело, но тотчас же она принужденно улыбнулась и громким и веселым голосом сказала:
— Вы рассказали мне прелестную историю… Ну и что же ответил несчастный юноша своей возлюбленной?..
Она произнесла эти слова так естественно, что Можайскому вспоминалась Сюзанна из комедии Бомарше и ее слова о великосветском опыте знатных дам. У них появляется такая непринужденность, что они могут лгать, не вызывая никаких подозрений. Можайский пробыл у супругов Кларк еще полчаса. Разговор шел об охоте, о свадьбе принца Вюртембергского с великой княжной Екатериной Павловной.
Уходя, он оглянулся на портрет кисти Изабе, на Анелю. Она стояла рядом с портретом, как бы отражаясь в зеркале.
Можайский видел ее в последний раз. Вскоре Анеля простудилась, возвращаясь после раута у князя Шварценберга. Она умерла от горячки три месяца спустя. Горячкой в те времена называли скоротечную чахотку.
В тот день снова изменилась судьба Можайского. Вернувшись домой, в гостиницу, он нашел записку Данилевского: его ожидали в Гофбурге в любое время дня и ночи.
В Гофбурге Можайский застал Данилевского, запечатывавшего пакеты с почтой. Он был встревожен и озабочен.
— Нынче на рассвете ты едешь в Варшаву. Повезешь письмо государя главнокомандующему… — Он договорил шёпотом: — Приказано выставить лошадей по тракту. Государь решил уехать из Вены. Покамест поедет в Краков, где стоит наш авангард. Далее, смотря по обстоятельствам, кинет меч на весы.
51
В соборе святого Стефана служили торжественную панихиду по казненному королю Людовику XVI.
Панихиду служил кардинал с двенадцатью епископами. От мощных вздохов органа, казалось, колебались стены собора, хор пел скорбно и торжественно, как это полагалось в день поминовения короля, умершего не своей смертью, а под ножом гильотины.
Русские оглядывали собор. Его начал строить Леопольд VI в XIII столетии, дважды его разрушали пожары; долгие годы стоял почерневший каменный скелет над пожарищем Вены; только в 1433 году была завершена главная стрельчатая башня. Летящие ввысь острия напоминали то кружево, то громоздящиеся друг на друга горные кристаллы; вольнодумцы говорили, что в этом каменном кружеве — ухищрения, казуистика средневековых схоластов, и собор иногда называли каменной схоластикой. Для печальной церемонии было выбрано подходящее место. Гигантские статуи святых и кардиналов смотрели на своего преемника — кардинала, служащего траурную мессу по казненному французскому королю.
Лучи январского солнца пронизывали цветные стекла витражей. Ярко-алый отсвет упал к ногам императора Франца. Он слегка отодвинулся и продолжал рассеянно оглядывать молящихся. Одни шептали слова молитвы, другие смотрели на молебствие с любопытством, как на представление в театре. Даже угрюмый Веллингтон не отводил глаз от красного одеяния кардинала и епископских мантий. Русские, привыкшие к торжественной службе православной церкви, мысленно сравнивали православное панихидное песнопение с католическим, и свое казалось им строже и трогательнее. Разумовский, забыв обо всем, слушал голос знаменитого певца Лючиано, — кастрата, выписанного для такого случая из Рима. Князь Меттерних, с приличествующим событию выражением лица, изредка поглядывал в сторону Александра.
Александр не уехал из Вены. Все получилось так, как было нужно. Союзники хорошо поняли, что русские не уйдут из Польши. Осталось урвать куски для Австрии и Пруссии.
Печальная церемония соответствовала настроению прусского короля. Саксонии ему не отдали, пообещав Майнц и Прирейнскую область. Конечно, Россия не станет воевать из-за прусских требований; король подумывал о том, чтобы покинуть старого друга Александра ради двух новых — ради Англии и Австрии. Может быть, от этого получится больше выгоды.
Так каждый думал о своем.
Вокруг собора стояли несметные толпы любопытных. Огромного роста швейцар с булавой подобно монументу возвышался на паперти. Кирасиры с обнаженными палашами полукругом охватывали портал собора. Черный, траурный, обшитый серебром балдахин нависал над входом в собор, приводя в смущение жителей Вены: уж не умер ли кто-нибудь из государей, съехавшихся в Вену на конгресс?
В соборе было холодно. Холоднее, чем за стенами. От вековых камней шел леденящий холод. Казалось, что траурной мессе не будет конца. Александр стоял неподвижно, чуть порозовев от холода. Он привык стоять так на гатчинских парадах, в одном мундире, на пронизывающем, леденящем ветру. Временами он доставлял себе удовольствие, — он смотрел в сторону Талейрана. В сущности, бывшему епископу Оттенскому подобало бы участвовать в панихиде по казненному королю вместе с кардиналом и австрийскими епископами… Он был бы хорош в епископском одеянии, с аметистовым перстнем на пальце.
Вот он стоит, в черном шелковом кафтане, с траурной повязкой, с лицом, исполненным величавой скорби. Кто этот старый человек? Верный слуга казненного короля, едва не разделивший с ним участь под ножом гильотины? Вельможа, покинувший революционный Париж ради Кобленца, украсивший навеки свою грудь белой королевской лилией, не жалевший жизни своей, чтобы вернуть трон Бурбонам? Нет, это расстрига-епископ, служивший мессу на Марсовом Поле в Париже в день праздника Федерации, в годовщину разрушения Бастилии. Он в своем епископском облачении был неким символом единения христианнейшего братства церкви с братством революции. Он разрешил священников, присягнувших революции, от присяги папе римскому, он благословил республику на конфискацию имущества церкви, он — близкий друг Дантона и посол республики в Англии в 1792 году…
И вот он стоит в траурной одежде здесь, в Вене, присутствуя на панихиде по королю, осужденному и гильотинированному революцией. Уполномоченный Франции на Венском конгрессе, уполномоченный Людовика XVIII, брата казненного короля, он сам, Талейран, придумал эту траурную церемонию.
Все это хорошо знали высокие особы, присутствовавшие в соборе святого Стефана, и лучше других знал Александр. Одного только еще не знал в то время русский император: не знал он, что князь Меттерних и лорд Кэстльри восемнадцать дней назад, 3 января 1815 года, подписали вместе с Талейраном «маленькую конвенцию» — военный союз против России и Пруссии.
Коалиция перестала существовать. Побежденная Франция, Франция, грабившая долгие годы Европу, теперь была в союзе с двумя государствами коалиции против третьего государства, сокрушившего владычество Наполеона, — против России.
Торжественно и скорбно гремел орган; стройные песнопения летели ввысь, под своды собора, и, принимая благословения кардинала, бывший епископ Оттенский, возможно, думал о том, что эту печальную церемонию он поставит в счет брату казненного короля, — при том и ему, Талейрану, очистится немалая толика.
И даже он, всезнающий и вездесущий, не мог предвидеть того события, которое внезапно перевернет все его расчеты. 22 февраля 1815 года порвалась паутина ухищрений Талейрана, рухнула созданная им «конвенция». Наполеон высадился в бухте Жуан и три недели спустя ночевал в Париже, в Тюильрийском дворце.
…Небесный голос кастрата Лючиано все еще звучал под вековыми сводами собора святого Стефана, и, коченея от холода, конгресс слушал траурную мессу, которой, казалось, не будет конца…
Александр искоса поглядел на англичан, — на лицах их была неодолимая скука. Ему вспомнились рассказы екатерининских вельмож о турецкой войне и о 1791 годе. И тогда англичане грозили войной, а его бабка Екатерина говорила: «Посмотрим, хватит ли у господина Питта храбрости начать с нами войну». В тот год в Лондоне народ писал мелом на стенах домов: «Не хотим войны с Россией!»
Не стали воевать из-за Турции, не будут воевать из-за Саксонии и Польши. Главное — твердость.
52
Почти четыре года Можайский не был в Петербурге.
По-прежнему на Невском слонялись франты, одетые так, как будто они только что вышли от знаменитого парижского портного, по-прежнему по Невскому мчались запряженные четверкой цугом кареты. Прижимаясь к обочинам, проезжали коляски деловых людей — купцов, докторов, ездивших на паре. Впрочем, у Можайского не было времени узнать поближе петербургскую жизнь. Пробыв два дня в столице, он уже мчался по дурной, уложенной кругляками-бревнами дороге на Москву. Рядом была новая, только что законченная дорога, но ее берегли для проезда государя.
Вечер застал его в Чудово. Двор гостиницы был заставлен каретами на полозьях, крытыми возками, казаки водили по двору коней. В прихожей суетились лакеи. Можайский приметил знакомого адъютанта, который сказал ему, что сопровождает в Петербург московского главнокомандующего.
Комнаты в гостинице были все заняты главнокомандующим и какой-то важной особой, взявшей лучшую из всех комнат и не уступившей ее даже главнокомандующему.
В ресторане Можайскому удалось добыть скромный ужин — курицу и бутылку сомнительного рейнвейна. Столы были заняты проезжающими, Можайскому предложил сесть за стол пожилой иностранец в очках, оказавшийся швейцарцем, врачом из Цюриха. Они вступили в разговор, швейцарец тотчас рассказал, что он домашний врач одного русского графа, что граф не выходит из своей комнаты, что он погружен в свои ученые труды.
— Мы здесь второй день, граф не торопится в Москву. Утром он гулял по лесу, чуть не по пояс в снегу. Потом переоделся и, позавтракав, заперся у себя.
Но Можайский не проявлял любопытства к странному поведению ученого графа и рассеянно слушал словоохотливого швейцарца. Лошадей не было, нужно было ожидать до утра. От Чудово он должен был ехать до самого Подберезья, затем на Новгород и дальше по глухой проселочной дороге до Васенок. Он думал только о том, что его ожидает у Катеньки Назимовой.
Между тем швейцарец погрузился в милые его сердцу воспоминания о Цюрихе, который он оставил восемь месяцев назад. Но тут появился слуга и позвал швейцарца к графу. Тотчас же поднялась суета. Ресторатор сам накрыл стол у камина. Откуда-то появились паштеты и холодная дичь и бутылка рейнвейна, на этот раз настоящего, если судить по бережности обращения с ней. Вдруг на лестнице послышались быстрые шаги, хлопнула дверь, и Можайский, к своему изумлению, увидел Матвея Александровича Мамонова.
Мамонов посмотрел на Можайского, не выказал ни малейшего удивления по случаю неожиданной встречи, взял его под руку, усадил за свой стол.
Они вспоминали Париж и парижских друзей, потом заговорили о событиях в Вене и конгрессе, о возвращении Наполеона в Париж… Прошло более двух часов, стемнело. Лакей принес свечи.
— …в политике меры, вынужденные обстоятельствами, всегда хорошие и единственно верные… Экономические меры есть в то же время и политические… ибо политика и экономика не разделимы.
Мамонов был так же небрежно одет, как в Париже, не чисто выбрит, воспаленные глаза его глядели в пространство.
Промелькнул адъютант главнокомандующего, с тревогой, как показалось Можайскому, взглянул в сторону Мамонова и скрылся. Не обратив на адъютанта никакого внимания, Мамонов продолжал:
— Сенат, состоящий из дряхлых глупцов в звездах и лентах, не должен быть основой государства. Все должно подвергнуться преобразованию… Как видите вы будущее? Я вижу будущее Руси…
Он умолк, потом крепко сжал руку Можайского:
— Рад, что встретились. Нынче утром, гуляя в лесу, я сочинил небольшое стихотворение… стихотворную пьеску. Впрочем, это не поэзия. Я хотел вложить в стих видение будущего. Вернее, мой сон. Слушайте…
И он прочитал медленно, но страстно и с увлечением:
Народ перестанет чтить кумиров и поклонится проповедникам правды… В тот день водрузится знамя свободы на Кремле, — С сего Капитолия новых времен польются лучи в дальнейшие земли. В тот день и на камнях и по стогнам будет написано слово — Слово наших времен — свобода![14]— Свобода! — повторил Мамонов и задумался.
Вошел смотритель станции и сказал, что он может дать тройку, если капитан Можайский желает ехать без промедления.
Можайский встал и, как ни была для него интересна беседа с Мамоновым, стал прощаться. Неодолимое чувство влекло его в Васенки. Мамонов нисколько не удивился внезапному отъезду. Он пожал руку Можайскому, отодвинул нетронутый ужин, встал и ушел к себе.
В ту минуту, когда Можайский усаживался в возок, к нему, кутаясь в шубу, сбежал швейцарец, врач Мамонова.
— Граф просил вас, когда будете в Москве, пожаловать к нему в дом у Петровских ворот и жить, сколько вам будет угодно.
Можайский просил передать благодарность. Швейцарец вздохнул и с грустью сказал:
— Не радует меня мой добрый пациент… В иные дни он мне кажется мудрейшим из мудрых, а в иные дни он совсем безумный. Я очень привязался к нему, но, правду говоря, боюсь за его рассудок.
Лошади рванули, возок выехал из ворот.
Тройка мчалась по дороге к Новгороду. Можайский долго еще думал об этой встрече и стихотворении, которое ему прочитал Мамонов. Нет, конечно, он в здравом уме и, подобно своему великому соотечественнику Радищеву, — зрит сквозь века. Несчастье Мамонова — его богатство. Родичи его ждут не дождутся наследовать ему или при жизни похитить его богатство, объявив его безумным… Он не безумец, а видит будущее… «Слово наших времен — свобода…» Слово будущего.
53
Вот уже полгода Федор Волгин на родине.
Его увезли в чужие страны подростком. Он возвратился взрослым, грамотным, вольным человеком. Был на войне, видел Лондон и Париж, проехал много городов. Возвращаясь на родину, в первом русском городе он увидел триумфальную арку. На ней было начертано: «Храброму российскому воинству». Сто триумфальных арок были воздвигнуты в городах, лежавших на пути русских войск из-за границы.
Волгин не раз обгонял возвращающиеся полки. Шли победители, шли освободители Европы — те, кого встречали с цветами в городах Тюрингии, Силезии, Богемии. Они шли по родной земле. Леса пламенели осенним золотом. Издалека, из окрестных деревень, сбегался народ, собираясь по обочинам дороги. Крестьяне и крестьянки глядели в загорелые лица солдат, на шрамы и рубцы на мужественных лицах воинов, выносили им хлеб, молоко, квасок. Окрестные помещики приезжали на бивуаки, звали к себе офицеров. К ним ехали охотно, предвидя славный ужин. Приятно было чувствовать себя дорогими гостями, рассказывать о сражениях, о своих подвигах, действительных и мнимых, о чужих землях, о мирных победах над хорошенькими парижанками.
Человек богатырского сложения, одетый в немецкое платье, с георгиевским крестиком в петлице сюртука, тоже привлекал внимание людей. Пока станционный смотритель с удивлением рассматривал подорожную, подписанную российским послом генерал-адъютантом князем Ливеном, данную крестьянскому сыну мещанского сословия Федору Иванову Волгину, пока меняли лошадей, Волгин с любопытством читал «Правила для проезжающих на почтовых лошадях». Из сих правил он узнал, что проезжающим строго запрещается чинить станционным смотрителям притеснения и оскорбления или почтарям побои. Узнал Волгин, что за такие поступки будет взыскиваться по двадцать восемь рублей и одной седьмой копейки серебром за каждый в пользу почтовой экономической суммы; что «почтарь не должен гнать скорее лошадей против положенного времени, а в случае понуждения его к тому побоями, он оставляет едущего на дороге или, по прибытии на станцию, доносит о том почтовому начальству, которое, в случае неответственного состояния виновного, предоставляет его местному начальству».
Правила были подробные, многословные, и Волгин успевал прочитать их дважды, пока ему, по «неответственному» его состоянию, подавали некрытую бричку, взыскав до следующего перегона по две с половиной копейки за версту. Впрочем, на легкой бричке он полагал скорее доехать до Новгорода.
Порой вместо почтовых станций и постоялых дворов он останавливался в крестьянских избах. Принимали его радушно, расспрашивали, где был, что довелось ему видеть и в каких сражениях отличился.
Пятнадцатилетним подростком он оставил родину. На первый взгляд как будто ничего не изменилось на родной земле, но, толкуя с крестьянами, с дворовыми людьми, он почувствовал перемену в этих людях. Эти люди пережили Отечественную войну, они видели нашествие двунадесяти языков, не покорились нашествию и изгнали чужеземцев. Не приказ начальства, а иное чувство заставило этот народ взяться за оружие. Они спасли свое отечество в годину бедствий, и это останется в памяти людей на веки вечные.
На тридцать пятый день путешествия Волгин приехал в Васенки.
Как ему наказал Можайский, он прежде всего повидал Екатерину Николаевну. Волгин увидел её совсем не похожей на ту, которую встречал во Франкфурте, в госпитале. Тогда она в тоске и отчаянии ожидала смерти любимого человека. В Васенках же показалась Волгину успокоившейся, хотя и печальной. Она обрадовалась письму Можайского, долго расспрашивала Волгина об Александре Платоновиче, и когда отдала Волгину ответное письмо, то как будто колебалась, нужно ли ей отвечать. Казалось ей, что бури прошли над ее головой, настала тихая пора уединения, что она так и угаснет в глухой деревеньке. Где-то очень далеко, за тридевять земель, был Лондон, был Париж и Можайский. А здесь была деревенька в двадцать дворов, крестьяне, у которых еще не изгладилась память о сварливой и сумасбродной, жестокой помещице. Наследница ее была совсем не похожей на тетку, жила в деревянном флигельке в саду, лечила больных и читала книги ребятишкам. Скромная жизнь новой владелицы Васенок — молодой, красивой вдовы с романтической историей в прошлом — вызывала любопытство соседей. Екатерина Николаевна не ездила к соседям под предлогом траура. К ней тоже приезжали редко, и, прожив три дня в Васенках, Волгин неохотно собрался в Святое, в село, где теперь помещиком был Можайский, но хозяйничал отставной коллежский асессор. Но прежде он побывал в городе, в опекунском совете.
Вольный человек из крестьян, которому даны большие полномочия помещиком, в те времена не был редкостью. Его сочли приказчиком нового владельца усадьбы Святое, гвардии капитана Можайского. Но когда из Лондона пришел приказ уволить отставного коллежского асессора, распустить дворню, кроме самых нужных людей, и заменить барщину легким оброком, окрестные помещики забеспокоились. Один из богатейших помещиков губернии, которого здесь помнили юношей, почти отроком, заводил опасные новые порядки. Но только что кончилась война, носились слухи о переменах; слова, которые обронил император Александр в салоне мадам де Сталь, дошли сюда в преувеличенном виде.
Страхи помещиков оказались напрасными, однако, под впечатлением тревожных слухов, о новшествах помещика Можайского говорили недолго.
Коллежский асессор уехал в негодовании, укорял Можайского, которого никогда не видал в глаза, в неблагодарности, кончил же тем, что написал письмо с просьбой дать ему пять тысяч на первое обзаведение в благоприобретенной им за время управления усадьбе.
Волгин хозяйничал неохотно. Крестьяне глядели на него с опаской. Управитель из крестьянских сынов не обещал им ничего хорошего: стало быть, выслужился, если его поставили управителем. Но Волгин сменил плута-старосту, позаботился о стариках и старухах дворовых, привез из города приказчика из выгнанных семинаристов, и видно было по всему, что он ждет не дождется приезда хозяина.
В начале марта 1815 года весна еще совсем не чувствовалась в этих краях. В лютый мороз Волгин выехал на ладном дончаке из Святого в Васенки. Дорога была недальняя, хорошо знакомая. Не раз он проезжал здесь летом, спускаясь в глубокий лесной овраг, слушая шум вековых сосен. Он знал, что, поднимаясь из оврага, увидит занесенные глубоким снегом поля, потом на пригорке появится синий купол сельской церкви, помещичий дом — усадьба барона Вревского, потом снова проселок и леса, леса… У замерзшей реки, которую можно только угадать по старым, наклоненным к реке ветлам и ветхому мостику, будет деревенька, сельский погост и чуть подальше березовая аллея и сад. Среди оголенных яблоневых деревьев и кустов смородины и малины деревянный дом с четырьмя колоннами. Он приедет только к вечеру, и огонек будет светиться в двух окнах между колонн. Его встретит казачок Митя, примет коня и с важностью скажет: «Пожалуйте в зало, Федор Иванович».
И Федор Иванович пройдет прямо в зал, где стоят старенькие клавикорды и горит стенная масляная лампа. Тут, как бы ненароком, выбежит к нему Паша, девушка Екатерины Николаевны, синеглазая и румяная, с льняными волосами и тоненьким, чуть не детским голоском, и они успеют поцеловаться до тех пор, пока появится Екатерина Николаевна.
— Что это вас так долго не было, Федя? — спросит Екатерина Николаевна, хотя он приезжал всего три дня назад.
Тем временем Паша принесет в серебряном стаканчике крепчайшей наливки. Оно понятно: человек с мороза, двадцать четыре версты верхом…
Так было и на этот раз. Только двух гостей ждала с нетерпением Екатерина Николаевна — Федора Волгина и соседа, отставного майора, однорукого ветерана Петра Ивановича Дятлова.
Она любила слушать Волгина, рассказы о его жизни и странствиях с Можайским. С любопытством она узнавала о его друзьях, об их беседах, о вольности, о крепостном состоянии крестьян. Все это казалось ей странным и неожиданным. Она знала другого Можайского — молодого человека, увлеченного придворной жизнью, странствиями, мечтами о военной славе.
Рассказы Волгина слушала и Паша; розовая, сияющими глазами она глядела на большого и умного человека, который столько видел на свете и столько знает и глядит на нее добрым и ласковым взглядом.
В тот вечер Волгин приехал не просто проведать Екатерину Николаевну и не для того, чтобы увидеть Пашу, а за советом и помощью.
Месяц назад Петр Иванович Дятлов привез к Екатерине Николаевне своего племянника — лейтенанта морской службы Павла Игнатьева. Игнатьев приезжал к дяде повидаться со стариком; он собирался в дальнее плавание, в антарктические воды. Встретив у Екатерины Николаевны Волгина, он довольно долго толковал с ним о лондонских верфях и кораблестроении.
— Павел Васильевич рассказывал мне, как корабли их готовят в Кронштадте, медную обшивку делают, она крепости прибавляет против льда. А я видал, как в Англии китобойные суда строят. Нехитрое дело. Вот бы мне к нему в Кронштадт собраться!.. А там и в плавание. К тому времени Александр Платонович приедет и уволит меня из управителей…
— А не жалко будет вам расставаться с Александром Платоновичем, с нами? — она взглянула на Пашу, которая, опустив голову, глядела в угол.
— Так ведь, пока соберутся в плавание, не год пройдет, а поболее.
— Ну что ж, если вам здесь не сидится, можно написать письмо Павлу Васильевичу. Я думаю, он вас с собой возьмет, он меня про вас расспрашивал… А письмо я сейчас напишу, вы отвезете его сами на почтовую станцию, в город.
Она вышла, оставив Федора Волгина с Пашей, и это было сделано тоже не без тайного умысла.
Волгин встал, подошел к Паше, большими, сильными руками нежно обнял ее и поглядел в глаза. Он спросил, пойдет ли она за него. Она заплакала.
— Ты вот куда глядишь, Феденька… Уедешь — как же я без тебя буду?
Он сказал Паше, что любит ее и будет любить, где бы он ни был и как бы далеко ни уехал. И он знает, что она, его жена, не забудет его. А сидеть на месте, в управителях, он не может и давно мечтает о странствиях в дальних морях.
Вернулась Екатерина Николаевна и принесла письмо для Игнатьева.
В тот вечер зашел разговор о Париже. Екатерина Николаевна опять удивлялась, как разумно судит о политических делах простой русский человек.
— Солдат солдату говорит: «Бонапарт хоть из простых был, а королями и принцами командовал, не то что твой Дизвитов», — они короля Людовика Дизвитовым зовут…
Екатерина Николаевна посмеялась над этой кличкой. Dix-huit: (диз-юит — восемнадцать) — отсюда пошла кличка, которой называли русские солдаты Людовика XVIII.
— А другой ему в ответ: «Твой Бонапарт пошел на Русь войной, — вот и сидит на море, на окиане, на острове на Буяне, как бык печеный, ест чеснок моченый…»
Еще больше смешило Екатерину Николаевну, как русские солдаты перекрестили французские селенья: Като Камбрези называлось у них Коты, Валансьен — Волосень, Фонтенебло — Афонькино.
Так беседовали они до ужина. За окном была темная зимняя ночь, — метель собиралась уже с утра. После ужина Волгин собрался уезжать. Поглядев в окно, Екатерина Николаевна сказала:
— Оставайтесь, Федя, куда ж вы в такую метель поедете?
— Русский человек метели не боится, — ответил Волгин. — Наша зимушка-зима… сколько лет я ее дожидался! Не то что тамошняя слякоть да сырость…
Она заговорила о прошлом — о скитаниях, походной жизни с Лярошем, о том, что ушло навсегда.
— Хорошо, что все прошло. Просыпаюсь я чуть свет, открываю глаза — и сама не верю, что я в Васенках, что за окном снег, тишина и русские избы. И рада, что здесь, и грустно одной: вьюга воет, и деревья в саду шумят. Вот так и жизнь пройдет.
Она сказала это с такой грустью, что у Волгина даже не нашлось слова утешения. И Паша, слушая ее, даже всплакнула, подумав, что и ей придется расстаться с Волгиным.
Волгин стал прощаться.
Он выехал со двора и едва померкли огоньки дома, его окружила белая непроницаемая мгла. Метель расходилась вовсю. Снежные пелены крутились вдоль березовой аллеи, от колючего морозного ветра захватывало дух. «Пожалуй, вернуться, — подумал Волгин, но понадеялся на коня: — Конь дорогу найдет». Он опустил поводья, и конь, храпя и фыркая, шел то шагом, то переходил в иноходь, когда чуть утихал ветер. И Волгин подумывал о том, что слишком мало таких людей, как Екатерина Николаевна, как Можайский и его друзья. Но если было бы больше, и то вряд ли народу стало бы легче. Потом стал думать о Пашеньке, о том, как она глядела на него, когда он уезжал.
Ветер подул снова с прежней силой, на три шага ничего не было видно впереди, одни только крутящиеся снежные пелены; вьюга злилась и выла еще пуще прежнего. В романовском полушубке было тепло, но лицо горело от морозного ветра. Вдруг Волгину почудились крики, он не поверил себе, но конь поднял уши и остановился. Показалось — мелькнул огонек и погас.
«Березовка?» — подумал Волгин, но усомнился, — до Березовки было еще далеко. Однако снова блеснул огонек, и теперь уже явственно сквозь вой метели слышался звон колокольчика. Он тронул коня и понесся прямо на огонек. Все ярче вспыхивал огонек, и теперь уже можно было расслышать голоса… Что-то чернело впереди. «Возок», — подумал Волгин. Он различил большую тень и фонарь, бросавший желтые полосы света на снег.
— Эй, эй!.. — закричал он. — Кого бог несет?
— Эй, эй! — послышалось, как эхо. — Кто тут есть живая душа?
— Добрый человек, — закричали из возка, — где дорога на Васенки?
Волгин подъехал ближе, его осветили фонарем, и вдруг он услышал крик: «Федор! Федя! Ты?» — и онемел от неожиданности.
— Александр Платонович? Неужто?..
…Екатерина Николаевна долго не спала. Она взялась за любимую книгу — историю несчастной любви кавалера де Грие и Манон, сочиненную аббатом Прево. Паша, прислушиваясь к порывам ветра, в испуге молилась за Федора.
— А ведь мы напрасно отпустили Федю! — сказала Катя, услышав вздохи и шёпот Паши.
Она вообразила себе всадника в метель, во мраке ночи. Прошло уже около часа, как уехал Волгин. Только она подумала об этом, как залаяли собаки.
— Катерина Николаевна, — вскочив, сказала Паша, — Федор Иванович, кажись, воротился…
— Вот и хорошо…
Она взяла с кресла стеганый халатик, сунула ноги в туфли и пошла к дверям. За ней со всех ног бежала Паша.
Ей почудились два голоса. Дверь открылась, кто-то вошел, весь в снегу, не Федя Волгин, а пониже ростом.
Он скинул шубу на пол, и она услышала голос Можайского:
— Катенька…
…Всю ночь они просидели в ее комнате.
Скитания Можайского не кончились. В Варшаве его настигла весть о высадке Наполеона и победоносном продвижении к Парижу. Можайский был одним из тех восьми курьеров, которых разослал главнокомандующий Барклай де Толли во все концы России.
Наполеон снова в Париже, снова в Тюильрийском дворце. Это означало войну. Можайский мчался в Петербург. Он привез в столицу приказ готовить к походу гвардию.
На обратном пути он сделал крюк в сто семьдесят верст и заехал в Васенки. Он хотел рассказать о многом Екатерине Николаевне. Он много раз воображал себе, что он скажет ей в эту встречу. Но они мало говорили, они просидели рядом всю ночь, и когда говорили, то это были бессвязные речи, воспоминания детства и юности. Так они и не сказали друг другу главного, о чем думали оба.
Потом наступило морозное, солнечное утро, метель улеглась. К крыльцу подали тройку, и Можайский уехал.
54
Была весна 1815 года.
Польский вопрос был по-прежнему камнем преткновения для дипломатов, собравшихся на конгресс в Вене.
Талейран старался убедить уполномоченных Австрии и Британии в том, что дарование конституционных прав Польше означает посягательство на права других народов.
Прусский уполномоченный граф Гарденберг склонялся к тому мнению, что дарование Польше конституции представит для Европы больше гарантий, чем простое присоединение бывшего Варшавского герцогства к России. Барон Штейн утверждал, что границы конституционной Польши, с русским царем на польском престоле, будут представлять опасность для Пруссии.
Поццо ди Борго внушал Александру мысль, что восстановление польского королевства создаст «новый очаг мятежей и смут».
Даже Александр Иванович Чернышев поспешил изложить свое мнение и в письме к Александру писал, что конституция, дарованная полякам, будет знаком предпочтения, оказанным новым подданным царя, и может вызвать опасные надежды у русских вольнодумцев, мечтающих о представительном правлении. Чернышев пугал англичанами, которые пойдут на денежные жертвы и даже на войну с Россией, если русский император примет новый титул короля польского.
Так, в этой возне вокруг вопроса о Польше, проходили дни и недели, и споры не утихали даже в те дни, когда вернувшийся с острова Эльбы Наполеон управлял Францией. Управлял последние сто дней перед тем, как отдаться в руки своих злейших врагов — англичан.
Наконец 30 апреля 1815 года Александр подписал рескрипт: «Королевство польское будет соединено с Российской империей узами собственной конституции, на которой я желаю основать счастье сей земли».
Это означало, что великие державы договорились о Польше.
29 марта 1815 года вышло решение, что «поляки, находящиеся в подданстве высоких договаривающихся сторон, будут иметь национальные государственные учреждения, согласные с тем родом политического существования, который каждым из правительств будет признан за полезнейший и приличнейший для них в кругу совладений».
Это было одно из тех неясных решений конгресса, в которое мало верили поляки и еще меньше верили уполномоченные держав, подписавшие его.
Можайский в то время уже воротился в Вену и бесцельно бродил по залам Гофбурга, ожидая часа, когда император Александр решит куда-либо выехать с большой свитой.
Более чем раньше, Можайский тяготился жизнью на чужбине; там, в России, его ожидало счастье, а он жил в постылой Вене, не видя конца конгрессу.
Здесь, в залах Гофбурга, он видел вершителей судеб своей родины, видел королей и принцев, министров великих держав. Видел поляков — всегда хмурого и молчаливого Адама Чарторыйского, которого считали главой будущего правительства королевства польского, видел Михаила Огинского, который одно время мнил себя главой правительства герцогства Литовского. Можайский давно уже не чувствовал никакого любопытства к высоким особам, к государственным деятелям России и Европы. Один только раз он ощутил необыкновенное волнение, даже сердечный трепет, и этот день, проведенный в Гофбурге, остался навсегда в его памяти.
Однажды, исполняя поручение Разумовского, он поднялся в зал, где обычно посетители ожидали приема у императора Александра. Зал был пуст, только два человека сидели рядом со столом дежурного флигель-адъютанта. Можайскому послышалось, что они говорили по-польски. Он передал поручение Разумовского дежурному флигель-адъютанту. Это был знакомый, которого он знал отдаленно, и потому Можайского удивило, когда, наклонившись к нему, флигель-адъютант с каким-то таинственным выражением лица указал глазами на дверь и шёпотом произнес: «Костюшко»…
Можайский остановился на площадке лестницы, сделав вид, что ожидает выхода дежурного флигель-адъютанта. Если бы его здесь увидел Ожаровский или Чернышев — не избежать Можайскому выговора. Но стремление увидеть Тадеуша Костюшко победило осторожность.
Можайский представлял себе Костюшко таким, как на портрете: в крестьянской чамарке, которую генерал носил в честь храбрых косиньеров — своего крестьянского войска, в воинственной позе полководца с горящими глазами и нахмуренными бровями. Слава героя Польши была велика. Даже в Петербурге книготорговцы продавали портреты Костюшко вместе с портретами Кутузова, Багратиона…
В зале, наверху, по-прежнему было тихо, так тихо, что только слышались негромкие голоса спутников генерала и шелест бумаг на столе у флигель-адъютанта. Вдруг раздались шаги… Можайский услышал голос Александра Павловича и затем другой, тихий, старческий. Шаги и голоса приближались… Можайский увидел. Александра, остановившегося на пороге. Он протянул руку старику в темной одежде, опирающемуся на трость, и, наклонившись к нему, сказал:
— Доброго пути, генерал…
Старик в темной одежде спускался с лестницы. Он шел, опираясь левой рукой на трость, правой на перила. Можайский застыл и вытянулся, как на параде, перед знаменем. Почувствовав, что на него кто-то глядит, старик поднял голову. Можайский увидел грустное, очень усталое лицо. Костюшко смотрел на молодого офицера, что-то во всем его облике, в глазах привлекло внимание генерала. Поравнявшись с Можайским, он ласково кивнул ему. Следом спускались его спутники.
Можайский бросился к окну. Он видел, как из караульного помещения выбегали солдаты-павловцы, как быстро построились, взяли на караул.
Костюшко медленно снял шляпу и прошел мимо, направляясь к скромному, ожидавшему его экипажу. О чем думал этот человек в эту минуту? Возможно о том, что Александр отдавал ему, сыну Польши, последние почести перед тем, как отдать Польшу в руки неистового сумасброда Константина.
…В комнате Можайского, в гостинице «Римский кесарь», полусидел, вытянув ноги на хрупкой софе, Стефан Пекарский.
Можайский расположился против него и слушал:
— …русские власти не отказали мне в нужных бумагах. Однако на австрийской границе меня держали два дня. Впрочем, у них были со мной особые счеты. И вот я в Вене, а тот, которого я стремился увидеть, уехал… Я много пережил с тех пор, как мы виделись в последний раз при таких странных обстоятельствах.
Да, он много пережил. Можайский вглядывался в его обветренное, исхудавшее лицо. Морщины еще резче обозначились у рта, больше седины в волосах. Но глаза по-прежнему горели молодым огнем, и во всей фигуре была настороженность, какая бывает у гонимых людей, привыкших к опасностям.
— Едва я приехал в Вену, как ко мне явился полицейский офицер. Я получил разрешение пробыть в австрийской столице два дня. Но так как ровно на два дня меня задержали на границе, то я должен уехать сегодня же. Я буду у вас недолго. Расскажите мне, что творится в Вене. Тадеуш возлагал большие надежды на свидание с царем.
Можайский задумался перед тем, как ответить…
— Одно только для меня ясно: Польша получит свою конституцию. Вы, поляки, счастливее нас, русских.
— Конституция… Польша получит конституцию. Английскую конституцию ратифицировали тридцать пять раз, и все же ее нарушили Тюдоры… Я пересек Польшу пешком и верхом с запада на восток и с севера на юг. Я говорил с горожанами и крестьянами, с учителями, с серой шляхтой и вот удивительное единомыслие — все боятся и ненавидят Константина. Есть еще одно препятствие, — старый спор разделяет два единоплеменных народа… Литва и приднепровские земли. Есть люди, которые не могут забыть, что граница между Польшей и Россией проходила под Миргородом…
Можайский в волнении вскочил с кресла:
— Думаете ли вы, что крестьяне, живущие на правом берегу Днепра, будут счастливы, если вместо русского губернатора будет сидеть польский воевода? Разве народ Украины забыл Жолкевского и Замойского, Хмелецкого, Тышкевича и Киселя? Измученный магнатами и шляхтой народ навеки соединился с Русью! Кто, кроме безумцев, может сейчас требовать отторжения правобережья? И это в то время, когда Познань хотят отдать Пруссии, а Галичина остается в руках австрийцев!
— Вы знаете меня, — сказал Пекарский, и голос его дрогнул, — дело народа решать, быть ли ему под властью России или Польши. Мы слишком страдали от этих старых споров. Еще Ян Собесский лелеял мысль о трактате с Москвой, о военном союзе для защиты от турок и татар. В трактате, писанном рукой Гжимулшовского, Польша отказывалась от Заднепровской Украины и от Киева, и если бы этот союз осуществился, мы были бы все вместе с нашими братьями славянами на Балканах и Адриатике. И Польша имела бы границы Болеслава Храброго, она вернула бы себе законные Пястовские владения до реки Одер. Кто знает, будет ли такое время?
— Будет! — охваченный страстным порывом, воскликнул Можайский.
— Да, если бы все думали, как вы. Но разве среди ваших нет людей, считающих всех поляков недругами, разве среди моих соотечественников мало людей, жаждущих возмездия за Тарговицу, за пролитую кровь патриотов, за мерзости Репнина и жестокость Кречетникова.
— Буть они прокляты! — с сердцем сказал Можайский. — Мы хотим не покорения Польши, а согласованности наших усилий, чтобы достичь той цели, которую знаем и мы, и вы…
Пекарский в знак согласия наклонил голову. Взгляд его остановился на перстне — корона, пронзенная кинжалом. Он взял руку Можайского и тихо произнес, указывая на перстень:
— Может быть это?
— Это?
Можайскому вспомнилась встреча с Матвеем Мамоновым в Париже и разговор об «Ордене русских рыцарей». Нет, конечно не масонские ложи, не «Орден русских рыцарей…»
— Нет, не это, этого мало, — подумал он вслух.
— Тогда — якобинство?.. Это значит поднять против себя все черные силы мира, оттолкнуть от себя просвещенных людей, которые видят в якобинстве одну бессмысленную жестокость. Родить нового Бонапарта?
Можайский молчал. Спускались сумерки. Пекарский медленно поднялся с софы и протянул руку к плащу.
— Что принесет нам будущее? — тихо проговорил Можайский. — Одно только ясно: будущее России и Польши в руках единоплеменных славянских народов, но не в руках венценосцев… С нашей свободой придет и ваша свобода.
Пекарский крепко сжал горячую руку Можайского:
— Мы еще встретимся. Где и когда — бог весть.
…Британский фрегат «Нортумберлэнд», после двух с половиной месяцев плавания, высадил на берегу маленького острова Святая Елена бывшего императора французов Наполеона Бонапарта.
«Московские ведомости» сообщили, что Бонапарт находится под строгим присмотром губернатора острова, а также комиссии из представителей союзных держав и под надежным караулом английского гарнизона, — Европа может пребывать в мире и спокойствии.
Император Александр Павлович на конгрессе в Лайбахе говорил Меттерниху: «С 1814 года я ошибался относительно общественного настроения: то, что я считал правильным, я сегодня нахожу ложным. Я сделал много зла, но постараюсь его исправить».
С давних пор в душе Александра жил вечный, всепобеждающий страх перед революцией. Этот страх царя перед революцией разгадал Меттерних и, пугая царя, добивался уступок на конгрессах. Уже в Вене рисовался Александру союз сильнейших европейских держав, союз, который охранял бы троны государей от революционных бурь. Он с раздражением слушал рассуждения Талейрана о принципах, о «законности», «праве», но именно эти принципы «законности» и незыблемости монархического строя стали основой Священного союза. Именно в Вене родился оплот реакции — Священный союз. Александр и Меттерних были его восприемниками, и на долгие десятилетия над Европой легла темная ночь тирании и деспотизма. Кровью народной, казнями гасили дух свободы.
И делу своему владыка сам дивился. Се благо, думал он, и взор его носился От Тибровых валов до Вислы и Невы, От царскосельских лип до башен Гибралтара: Все молча ждет удара, Все пало — под ярем склонились все главы.…Можайские жили в Васенках, в том же стареньком деревянном флигеле. Они так и не переехали в большой помещичий дом в Святом.
Жестокие рассказы о прошлом, тени родичей оставили неизгладимые воспоминания в старом доме, в парадных залах, в тесных и душных горницах девичьей.
Из двухсот человек дворни оставлено было шесть человек, но во флигелях старого дома жили на покое тридцать стариков и старух, которым некуда было деться. Управляющим в Святом был отысканный Волгиным недоучившийся семинарист, отличавшийся удивительной молчаливостью, неприхотливостью, но неравнодушный к питию. Сам же Федор Волгин, провожаемый рыдающей Пашей, уехал в Кронштадт. Там готовили в дальнее плавание два шлюпа — «Восток» и «Мирный». Этой небольшой эскадрой командовали капитан второго ранга Фаддей Фаддеевич Беллингсгаузен и лейтенант Лазарев. Суда готовили в экспедицию к Южному полюсу, эскадре дана была инструкция «употребить возможное старание и величайшее усилие для достижения сколько можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли, и не оставить сего предприятия иначе, как при неодолимых препятствиях».
16 июня 1819 года, отдав салют фортам Кронштадтской крепости, шлюпы «Восток» и «Мирный» вышли в свое славное плавание. На борту шлюпа «Мирный» в должности корабельного мастера находился Федор Волгин.
Можайский как будто вел замкнутую жизнь. Из всех друзей изредка давал о себе знать только Дима Слепцов. Он стоял с полком в Мобеже, в Бельгии, в оккупационном корпусе Михаила Семеновича Воронцова. Наделал долгов и спасся только тем, что Воронцов, оставляя Бельгию, заплатил долги всех офицеров корпуса — несколько миллионов рублей. Состояние Михаила Воронцова пошатнулось, но было восстановлено женитьбой на богатейшей Елизавете Ксаверьевне Браницкой.
Своими письмами из Мобежа Слепцов позабавил Можайских. Живо описал он лагерь русских войск за границей — полосатые русские верстовые столбы, двойные рамы, вставленные в окна, русские печи с лежанкой. «У нас здесь и щи, и каша, и кулебяка, на масленой ели блины, завели винокурни, пьем не одну шампанею, а свою православную, бани у нас тоже есть. Куда б ни кинуло русского человека, а живет он по своему обычаю. Народ здешний на нас не жалуется, за все платим, и за обиды приказано строго взыскивать».
Алексей Петрович Ермолов был послан в Персию и там поразил шаха и его евнухов умом, ростом, величием и тем, что отказался исполнить унизительный для посла великой державы придворный этикет «царя царей».
В Петербурге состоялся торжественный въезд персидского посланника. День был морозный. Караул от Измайловского полка замерзал в легкой парадной форме. Впереди парадных карет важно шествовали слоны, подаренные шахом императору Александру. О слонах позаботились, — на них были теплые шубы и меховые сапоги.
От Семена Романовича Воронцова не было никаких вестей, кроме поздравления с законным браком.
Можайский ездил в Петербург, виделся с Николаем Ивановичем Тургеневым. Снова были долгие споры о крепостном состоянии крестьянства, спорили: как же дать землю крестьянам, не обидев притом и помещиков?
Екатерина Николаевна удивлялась переменам, происшедшим в Можайском, хотя за восемь лет многое в нем должно было измениться. Она перечитала трижды от страницы до страницы его записи в сафьяновой тетради, и многое ей стало ясным в мыслях и стремлениях мужа.
В жаркий июльский день они сидели однажды у пруда, там, где встречались в расцвете юности. Сколько событий пролетело над миром, сколько крови пролилось! Гроза миновала, но все еще тревожно и темно впереди.
Изведавшие много горя, разделенные людьми и судьбой и вновь соединенные, они сидели и глядели на отраженные в пруду высокие столетние ели.
Протяжная и грустная песня косарей доносилась с заливных лугов. И, взяв руку Кати, Можайский сказал:
— Что бы там ни было, это уж не тот народ, не те люди, которых мы знали десять лет назад. Они жертвовали своей жизнью и жизнью сыновей своих, они спасли свою родину, освободили Европу, и не их вина, что подвиги их не обратились к благу народов. Рано или поздно они станут вольными гражданами России.
В 1816 году Можайский вступил в тайное общество — «Общество истинных и верных сынов отечества». В тайном обществе его встретили товарищи по оружию, воины, не знавшие страха под Смоленском, на Бородинском поле и под Лейпцигом. Один из них, поэт, награжденный золотой шпагой за храбрость, сочинил «Военную песню». Можайский запомнил стихи:
Теперь ли нам дремать в покое, России верные сыны?Он знал их, верных сынов отечества, знал великодушного и мужественного Сергея Волконского, умнейшего Николая Тургенева, пламенного Владимира Раевского. Знал чудо-богатырей, храбрых и верных солдат Суворова и Кутузова.
Сколько их вокруг, верных сынов России, и долго ли им «дремать в покое»? Когда поднимутся «зиждители свободы» и низвергнут тиранию и деспотизм?
Об этом думал Александр Можайский в жаркий, июльский день 1820 года, слушая песни косарей.
ЭПИЛОГ
«Нынче утром Катенька вошла в мою комнатку и обняла меня и поцеловала в губы. Не сразу понял я, что означает эта ласка, а потом пришло в голову, что сегодня исполнилось ровно десять лет нашей жизни в Сибири.
Зимнее солнце освещало мою комнату, весело заглядывало в маленькое, занесенное снегом оконце, косые багряные лучи падали на бревенчатые стены, на стол, на листы моей заветной тетради.
С неделю назад разыскал я ее, перечитал то, что урывками, от случая к случаю, записывал в Лондоне, в Копенгагене, и посетовал на себя: сколько было видено и каких только событий не был я свидетелем, а что осталось в моей памяти и что осталось в моих записях? Надо мне благодарить Катеньку, отыскавшую эту тетрадку в старом хламе. Удивительно, как не забрал ее вместе с бумагами жандармский офицер, приезжавший в Васенки.
Ну как бы там ни было, придется, видно, мне, коли буду жив, записать кое-что из упущенного мной. Пусть останется в назидание потомкам, ежели потомки поинтересуются, как жил и что видел на своем веку гвардии капитан Можайский, государственный преступник (право не знаю, какое звание мне дороже).
Однако годы летят. На баррикадах Парижа нашла свою гибель деспотическая и тупая власть короля Карла X, на престоле сидит Луи-Филипп, сидит, как сказано придворными, не потому, что он Бурбон, а несмотря на то, что Бурбон.
Отсюда, из поселка в глубине тайги, не видно, как клокочут стихии, как живут парижские простолюдины.
Давно умер мой друг Вадон, и некому мне растолковать, благоденствует или прозябает в нужде французский народ и достиг ли, наконец, власти парижский лавочник… Что до моей отчизны, то тяжко признаться — схоронены наши святые надежды, крестьянин по-прежнему в рабстве, гатчинский дух царствует в образе младшего брата Александра Павловича — Николая и наместника в Польше — Константина.
Польша — страдалица. Друзья наши, поляки, те, что вместе с нами несут кару за четырнадцатое декабря, к вам обращаю я мое слово: сколько бы ни стремились к добродетели господа масоны, но ни ритуал, ни ветхие измышления о храме Соломоновом не удержали членов ложи от целей политических, от стремлений к общей вольности.
Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, благороднейший и мужественный Сергей Волконский, Бестужев-Рюмин, Борисов 2-й открыли сношения с поляками и заключили договор о взаимных действиях в 1824 году.
Русские и поляки сошлись в самом важном:
«Главное дело — это на обоюдных правилах устроить восстание, не в отвлеченных мыслях, а на деле; мы начнем и вы начинайте».
Прошло пять лет с того дня. Однажды к Катеньке на огород пришел конвойный солдат и принес записку от ссыльного. Солдат сопровождал партию ссыльных польских повстанцев. На клочке бумаги я прочитал: «За нашу и вашу свободу». И буквы «С. П.».
Так я получил последнюю весточку от друга моего Стефана Пекарского.
…В 1830 году, когда в Польше разгорелось восстание против деспотизма Николая, друзья и братья — поляки — почтили память погибших за нашу и их свободу. 13 января, при огромном стечении народа, в Варшаве состоялась панихида по казненным декабристам.
И ссыльный поэт наш откликнулся из своего изгнания:
Вы слышите: на Висле брань кипит! Там с Русью лях воюет за свободу И в шуме битв поет за упокой Несчастных жертв, проливших луч святой В спасенье русскому народу.Пять мучеников взошли на эшафот, другие еще томятся во глубине сибирских руд, однако сбываются предсказания Павла Ивановича Пестеля, сбывается вещее его слово: «Главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристократами всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных основанными».
* * *
…На тихом, забытом кладбище, над рекой Окой, недалеко от Москвы, есть могила, помеченная 1857 годом. На чугунной плите отлиты эмблемы — георгиевский крест и порванные цепи. Ниже — имя: «Александр Платонович Можайский». И как ни старалась чья-то злая рука, но можно прочитать надпись:
«Верный сын отечества».
Л. В. НИКУЛИН
Лев Вениаминович Никулин — представитель старшего поколения советских писателей — работает в литературе более сорока лет. Он начал литературную деятельность как поэт и автор статей об искусстве. С 1919 года Никулин работает в политических органах Советской Армии и одновременно в красноармейской печати.
В годы гражданской войны он выступает с рассказами, сатирическими стихами и статьями, сотрудничает в только что возникшем журнале «Красноармеец» и газете «Красный Балтийский флот». В 1921 году Никулин уезжает в составе советской дипломатической миссии в Афганистан. Пробыв в Афганистане более года, по возвращении в Москву Никулин опубликовывает сборник очерков «14 месяцев в Афганистане», а позднее, в 1925 году, пишет советский приключенческий роман «Дипломатическая тайна» который был одобрительно оценен Алексеем Максимовичем Горьким. С этого времени Горький следит за работой писателя. Его помощь имеет огромное значение в дальнейшей литературной деятельности Л. В. Никулина.
Наиболее значительные произведения Никулина: двухтомный мемуарный роман «Время, пространство, движение», книги очерков «Письма об Испании», «Семь морей», «Стамбул, Анкара, Измир», книга воспоминаний о Горьком, Маяковском, Анри Барбюсе «Жизнь есть деяние».
В 1939 году за литературную деятельность Лев Вениаминович Никулин награжден орденом «Знак Почета».
В годы Великой Отечественной войны Никулин выезжает на различные участки фронта, его корреспонденции печатаются в «Красной звезде», «Известиях» и фронтовой печати. Одновременно Никулин опубликовывает две повести: «Самолет не вернулся на базу» и «Золотая звезда».
После войны выходит в свет новая книга Никулина «Люди русского искусства», посвященная прославленным деятелям русского оперного и драматического искусства. С 1945 года Никулин работал над историческим романом об освободительном походе русской армии в Европу в 1813–1814 годах. Мысль о создании романа на эту тему зародилась во время поездок Л. В. Никулина по Франции, где ему довелось видеть братские могилы русских воинов. Подвигам этих воинов, освободивших Европу от ига Наполеона, а также передовым людям России, будущим декабристам, решил посвятить свой труд писатель. Роман был закончен и опубликован в конце 1950 года и удостоен высокой награды — Сталинской премии.
Располагая новыми материалами, писатель продолжал работу нал романом «России верные сыны», и настоящее издание является расширенным и дополненным.
Примечания
1
Эта первая в мире после Национальной библиотеки в Париже коллекция находится теперь в библиотеке Академии Наук СССР.
(обратно)2
Италия процветающая, могущественная и единая!
(обратно)3
Чёрт возьми!
(обратно)4
Войдите!
(обратно)5
Кто идет?
(обратно)6
Друзья.
(обратно)7
Неаполь… Весна…
(обратно)8
Генуя… Солнце…
(обратно)9
Казаки! Казаки! Дети степей!
(обратно)10
Когда Александр вступил в Вавилон…
(обратно)11
Из подлинного письма М. И. Платова к Я. В. Виллие.
(обратно)12
Подлинные записки полковника А. И. Михайловского-Данилевского.
(обратно)13
«Я сумел усесться».
(обратно)14
Стихи, найденные в бумагах М. А. Дмитриева-Мамонова.
(обратно)

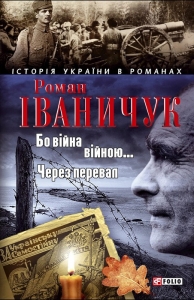
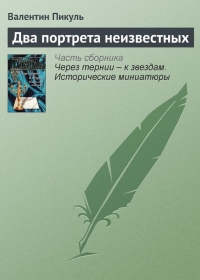

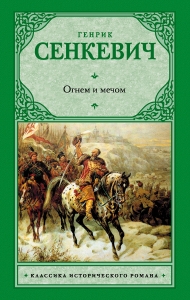
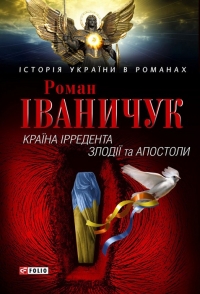
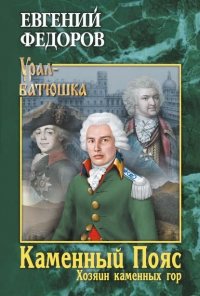

Комментарии к книге «России верные сыны», Лев Вениаминович Никулин
Всего 0 комментариев