Зазубрин В Щепка
Повесть о революции и о личности[1]
"Страшная книга, нужная книга", – сказал В. И. Ленин, прочитав роман В. Зазубрина "Два мира".
Повесть "Щепка" не менее страшное произведение молодого художника, и можно заранее учесть те обывательские разговоры, которые могут поднять вокруг этой повести.
По что обыватели. "Что им Гекуба?" Что для них революция? Вопрос в том, нужна ли эта небольшая книжечка человеку-революционеру, который действительно ищет новый мир?
До сих пор о революции, о терроре, о чека писали или убежавшие за границу представители сюсюкающих и вырождающихся поколений или беллетристы-одиночки. Индивидуалисты, которые о революции в большинстве случаев пишут так же, как о штопанье чулок их бабушкой.
Здесь почти впервые, если не считать рассказа Радионова-Тарасова "Шоколад", где дана совершенно ложная постановка вопроса, художник-коммунист подошел к этой жгучей теме. И подошел оригинально, небывало мужественно и резко.
В. Зазубрин еще молодой художник и многое в нем еще не устоялось, многое в его повести может быть оспариваемо и с художественной точки зрения и особенно с фактической – им дано в сконцентрированном рисунке такое нагромождение ужасов, которое совершенно немыслимо на таком небольшом полотне – столь коротком житейском фоне.
Но в художественной литературе, в искусстве это совершенно закономерный прием; вспомним великие "карикатуры" художника Гойи и нашего великого сатирика Гоголя. Весь вопрос, удалось ли В. Зазубрину художнически осмыслить этот страшный материал, удалось ли ему влить в него органически живую идею и передать то, что он ставил своей задачей.
Есть ли в конечном счете оправдание этой небывалой дерзости? Зазубрин не сюсюкает, он не ужасается, он как художник с беспощадно-холодной внешней манерой и суровостью подходит к этой теме. С первых строк страшное нависает над героем Срубовым, с первой строки чувствуется надрыв героя, несущего свой тяжелый революционный долг.
Страшный лик революции с невольным нагромождением ужасов пишут нам и другие беллетристы: в Никитинском "Рвотном фронте" мы найдем не менее страшные вещи – и насилия и самые грязные человеческие извращения. У Никитина и у Пильняка в "Голом годе" герои-коммунисты, комиссары (то же и в "Повольниках" Яковлева) насилуют Олечек, Манечек, Ниночек и вместе с ними безнадежно падают в мещанско-похабную стихию, эти на миг захотевшие быть героями люди-мещане.
У Никитина написано это в формах обмызганного, порой сюсюкающего мастерства упадочного искусства, у Яковлева более ясно и просто, у Пильняка его ужасы оправдываются в общем ритме его "мятельной" стихии, от которой веет революцией настолько, нисколько революция раздробила старые формы жизни,
В. Зазубрин делает попытку найти новую форму для изображения революции. Самый стиль, его ритм – суровый, резкий, скупой и ударный – это ритм революции – по его слову, "прекрасной и жестокой любовницы", которая уничтожила не только старый миропорядок, наше былое, индивидуалистическое прекраснодушие, но и заставляет нас жить, чувствовать по-иному, утверждает новую поступь, ритмику наших душевных переживаний. Если Достоевский в "Бедных людях", если Л. Андреев – последыш индивидуалистического символизма, в своем рассказе "Семь повешенных" ставили своей задачей вызвать ненужную жизни жалость в наших душах к ненужному Янсону: претворить никчемную кантовскую идею о самодовлеющей ценности существования каждого человека, то Зазубрин, изображая совсем не идеал революционера, – ставит своей задачей показать, что есть общее – грядущий океан коммунизма, бесклассовою общества, во имя которого революция беспощадно идет по трупам вырождающихся врагов революции. Среди них и сильные телом, иногда духом, которые свой аристократизм декларативно или искрение стараются сохранить в тот момент, когда смотрят в лик неизбежной для них смерти, но большинство из них "тесто", булавочные головки, головки жаворонков, которых в детстве мать Срубова запекала в печи.
В страшной сцене расстрела, в сцене допроса, в сцене суда над следователем Ивановым Зазубрин художнически побеждает мещанство, индивидуализм, выжигая из нас оставшийся хлам мистических и идеалистических понятий в наших душах о нужности ненужных, остывших уже идей.
Но сам герой Зазубрина носит в себе эти атавистические понятия, он ранен ими, и, несмотря на громадный подвиг, который он несет до конца во имя революции, он таит эту историческую занозу; "Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?" – спрашивает он себя. Отсюда его трагедия и неизбежная гибель. Он мужественно встречает уход от себя мещанки-жены, падение своих сотрудников, но сам не выдерживает подвига революции – и гибнет. Гибнет во имя революции, как Моисей, которому "не дано войти в землю обетованную" коммунистического общества.
Удар по индивидуализму, по последним наслоениям оставшихся напластований буржуазной мистики и морали наносит художник, показывая эту историю героя, не выдержавшего в конце концов подвига революции.
И эта повесть, несмотря на срывы, психологические сбои, нужная и художественная вещь, несущая с собой сильную эмоциональную "встряску" дряблым, тепличным душам.
Художник ведет нас в самую страшную лабораторию революции и как бы говорит: "Смотрите революцию. Слушайте ее музыку, страшную и прекрасную, которая обнажает перед нами узкий и трудный переход русла к огромному и прекрасному океану. Смотрите на ее беспощадный кровавый меч, который своим ударом обнажает проклятие и наследие вековых блужданий человечества, социальных извращений, превративших человека или в мясо, в тесто, в слякоть, или оставивших смертельные занозы. Смотрите на революцию, которая зовет стать… мощными по-звериному, цельными и небывало сильными инженерами переустройства мира".
Революция – не все позволено, революция – организованность, расчет, "справедливый террор"… это не корчи героев Достоевского, которые стоят над бездной вопроса, все ли позволено. Здесь великое самоограничение личности и коллективная дисциплинированность. Здесь ясно, что позволено и что не может быть позволено.
Здесь перед нами герой, какого еще не видала человеческая история. Здесь внутренняя трагедия этого героя, не выдержавшего своего героического подвига.
Но смысл самого подвига – ясен, цели подвига – встают живо, а главное, художник обнажает конкретно в человеке то, что ему мешает перешагнуть, наконец, границу, разделяющую старый и новый миры.
Конечно, мещане испугаются художнически-сгущенного рисунка, как они испугались, с гораздо большим субъективным основанием, раньше революции, но разве для них революция открыла широкие пути к светлым далям, к океану бесклассового общества.
И настоящему революционеру повесть Зазубрина поможет выжечь окончательно из своего существа оставшиеся "занозы" исторического прошлого, чтобы стать смелым инженером неизбежного и радостного переустройства его.
Это ли не оправдание смелой попытки молодого талантливого художника.
Валериан Правдухин
I
На дворе затопали стальные ноги грузовиков. По всему каменному дому дрожь.
На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены Коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымную занавесочку. А глаза в пол.
В подвале отец Василий поднял над головой нагрудный крест.
– Братья и сестры, помолимся в последний час.
Темно-зеленая ряса, живот, расплывшийся книзу, череп лысый, круглый – просвирка заплесневевшая. Стал в угол. С нар, шурша, сползали черные тени. К полу припали со стоном.
В другом углу, синея, хрипел поручик Снежницкий. Короткой петлей из подтяжек его душил прапорщик Скачков. Офицер торопился – боялся, не заметили бы. Повертывался к двери широкой спиной. Голову Снежницкого зажимал между колен. И тянул. Для себя у него был приготовлен острый осколок от бутылки.
А автомобили стучали на дворе. И все в трехэтажном каменном доме знали, что подали их для вывозки трупов.
Жирной, волосатой змеей выгнулась из широкого рукава рука с крестом. Поднимались от пола бледные лица. Мертвые, тухнущие глаза лезли из орбит, слезились. Отчетливо видели крест немногие. Некоторые только узкую, серебряную пластинку. Несколько человек – сверкающую звезду. Остальные – пустоту черную. У священника язык лип к небу, к губам. Губы лиловые, холодные.
– Во имя отца и сына…
На серых стенах серый пот. В углах белые ажурные кружева мерзлоты.
Листьями опавшими шелестели по полу слова молитв. Метались люди. Были они в холодном поту, как и стены. Но дрожали. А стены неподвижны – в них несокрушимая твердость камня.
На коменданте красная фуражка, красные галифе, темно-синяя гимнастерка, коричневая английская портупея через плечо, кривой маузер без кобуры, сверкающие сапоги. У него бритое румяное лицо куклы из окна парикмахерской. Вошел он в кабинет совершенно бесшумно. В дверях вытянулся, застыл.
Срубов чуть приподнял голову.
– Готово? Комендант ответил коротко, громко, почти крикнул:
– Готово.
И снова замер. Только глаза с колющими точками зрачков, с острым стеклянным блеском были неспокойны.
У Срубова и у других, сидевших в кабинете, глаза такие же – и стеклянные, и сверкающие, и остротревожные.
– Выводите первую пятерку. Я сейчас.
Не торопясь набил трубку. Прощаясь, жал руки и глядел в сторону.
Моргунов не подал руки.
– Я с вами – посмотреть.
Он первый раз в Чека. Срубов помолчал, поморщился. Надел черный полушубок, длинноухую рыжую шапку. В коридоре закурил. Высокий грузный Моргунов в тулупе и папахе сутулился сзади. На потолке огненные волдыри ламп. Срубов потянул шапку за уши. Закрыл лоб и наполовину глаза. Смотрел под ноги. Серые деревянные квадратики паркета. Их нанизали на ниточку и тянули. Они ползли Срубову под ноги, и он сам, не зная для чего, быстро считал:
– …Три… семь… пятнадцать… двадцать один…
На полу серые, на стенах белые – вывески отделов. Не смотрел, но видел. Они тоже на ниточке.
…Секретно-оперативный… контрревол… вход воспр… бандитизм… преступл…
Отсчитал шестьдесят семь серых, сбился. Остановился, повернул назад. Раздраженно посмотрел на рыжие усы Моргунова. А когда понял, – сдвинул брови, махнул рукой. Застучал каблуками вперед. Мысленно твердил: "…Манти-менты… санти-менты… санти…"
Злился, но не мог отвязаться.
– …Санти-менты… менты-санти…
На площади лестницы часовой. И сзади этот зритель, свидетель ненужный. Срубову противно, что на него смотрят, что так светло. А тут ступеньки. И опять пошло.
– …Два… четыре… пять… Площадка пустая. Снова:
– …Одна… две… восемь…
Второй этаж. Новый часовой. Мимо, боком.
Еще ступеньки.
Еще.
Последний часовой. Скорее. Дверь. Двор. Снег. Светлее, чем в коридоре.
И тут штыки. Целый частокол. И Моргунов, бестактный, лепится к левому рукаву, вяжется с разговором.
Отец Василий все с поднятым крестом. Приговоренные около него на коленях. Пытались петь хором. Но пел каждый отдельно.
– Со свя-ты-ми упо-ок-о-о-о…
Женщин только пять. А мужских голосов не слышно. Страх туго набил стальные обручи на грудные клетки, на глотки и давил. Мужчины тонко, прерывисто скрипели:
– Со свя-ты-ми… свят-ты-ми…
Комендант тоже надел полушубок. Только желтый. В подвал спустился с белым листом-списком.
Тяжелым засовом громыхнула дверь.
У певших нет языков. Полны рты горячего песку. С колен встать все не смогли. Ползком в углы, на нары, под нары. Стадо овец. Визг только кошачий. Священник, прислонясь к стене, тихо заикался:
– … упо-по-по-о-о…
И громко портил воздух.
Комендант замахал бумагой. Голос у него сырой, гнетущий – земля. Назвал пять фамилий – задавил, засыпал. Нет сил двинуться с места. Воздух стал как в растревоженной выгребной яме. Комендант брезгливо зажал нос.
Длинноусый есаул подошел, спросил:
– Куда нас?
Все знали – на расстрел. Но приговора не слышали. Хотели окончательно, точно. Неизвестность хуже.
Комендант суров, серьезен. Так вот прямо, не краснея, не смущаясь, глаза в глаза уставил и заявил:
– В Омск.
Есаул хихикнул, присел.
– Подземной дорогой?
Полковнику Никитину тоже смешно. Согнул широкую гвардейскую спину и в бороду:
– Хи-хи…
И не видел, что из-под него и из-под соседа генерала Треухова ползли по нарам топкие струйки. На полу от них болотца и пар.
Пятерых повели. Дверь плотно загородила выход. Лязгнул люк во двор. Шум автомобилей яснее. И был похож он на стук комьев мерзлой земли в железную дверь подвала. Запертым показалось, что их заживо засыпают.
– Ту-ту-ту-ту-ту. Фр-ту-ту. Фр-ту-ту.
Капитан Боженко встал у стены. Подбоченился. Голову поднял. Под потолком слабенькая лампочка. Капитан подмигнул ей.
– Меня, брат, не найдут.
И на четвереньках под нары.
Из угла поручик Снежницкий показывал всем синий мертвый язык. От коменданта Скачков его спрятал. А себе горло не перерезал. Вертел в руках стекло и не решался.
Маленький огненный волдырек на потолке неожиданно лопнул. Гной из него черной смолой всем в глаза. Тьма. В темноте не страх – отчаяние. Сидеть и ждать невозможно. Но стены, стены. Кирпичный пол. Ползком с визгом по нему. Ногтями, зубами в сырые камни.
Срубову и пяти выведенным показалось, что узкий снежный двор накаленный добела металлический зал. Медленно вращаясь на дне трехэтажного каменного колодца, зал захватил людей и сбросил в люк другого подвала на противоположном конце двора. В узком горле винтовой лестницы у двоих захватило дыхание, закружились головы – упали. Остальных троих сбили с ног. На земляной пол скатились кучей.
Второй подвал без нар изогнут печатной буквой Г. В коротком крючке каменной буквы, далеком от входа, мрак. В длинном хвосте – день. Лампы сильнее через каждые пять шагов. На полу все бугорки, ямки видны. Никогда не спрятаться. Стены кирпичными скалами сошлись вплотную, спаялись острыми четкими углами. Сверху навалилась каменная пустобрюхая глыба потолка. Не убежать. Кроме того, конвоиры – сзади, спереди, с боков. Винтовки, шашки, револьверы, красные, красные звезды. Железа, оружия больше, чем людей.
"Стенка" белела на границе светлого хвоста и неосвещенного изгиба. Пять дверей, сорванных с петель, были приставлены к кирпичной скале. Около пять чекистов. В руках большие револьверы. Курки – черные знаки вопросов – взведены.
Комендант остановил приговоренных, приказал:
– Раздеться.
Приказание, как удар. У всех пятерых дернулись и подогнулись колени. А Срубов почувствовал, что приказание коменданта относится и к нему. Бессознательно расстегнул полушубок. И в то же время рассудок убеждал, что это вздор, что он предгубчека и должен руководить расстрелом. Овладел собой с усилием. Посмотрел на коменданта, на других чекистов – никто не обращал на него внимания.
Приговоренные раздевались дрожащими руками. Пальцы, похолодевшие, не слушались, не гнулись. Пуговицы, крючки не расстегивались. Путались шнурки, завязки. Комендант грыз папиросу, торопил:
– Живей, живей.
У одного завязла в рубахе голова, и он не спешил се высвободить. Раздеться первым никто не хотел. Косились друг на друга, медлили. А хорунжий Кашин совсем не раздевался. Сидел скорчившись, обняв колени. Смотрел отупело в одну точку на носок своего порыжевшего порванного сапога. К нему подошел Ефим Соломин. Револьвер в правой руке за спиной. Левой погладил по голове. Кашин вздрогнул, удивленно раскрыл рот, а глаза на чекиста.
– Че призадумался, дорогой мой? Аль спужался? А рукой все по волосам. Говорит тихо, нараспев.
– Не бойсь, не бойсь, дорогой. Смертушка твоя еще далече. Страшного покудова ще нету-ка. Дай-ка я те пособлю курточку снять.
И ласково и твердо-уверенно левой рукой расстегивает у офицера френч.
– Не бойсь, дорогой мой. Теперь рукавчик сымем. Кашин раскис. Руки растопырил покорно, безвольно. По лицу у него слезы. Но он не замечал их. Соломин совсем овладел им.
– Теперь штаники. Ниче, ниче, дорогой мой.
Глаза у Соломина честные, голубые. Лицо скуластое, открытое. Грязноватые мочала на подбородке и на верхней губе редкой бахромой. Раздевал он Кашина как заботливый санитар больного.
– Подштаннички…
Срубов ясно до боли чувствовал всю безвыходность положения приговоренных. Ему казалось, что высшая мера насилья не в самом расстреле, а в этом раздевании. Из белья на голую землю. Раздетому среди одетых. Унижение предельное. Гнет ожидания смерти усиливался будничностью обстановки. Грязный пол, пыльные стены, подвал. А может быть, каждый из них мечтал быть председателем Учредительного собрания? Может быть, первым министром ревставрированной монархии в России? Может быть, самим императором? Срубов тоже мечтал стать Народным Комиссаром не только в РСФСР, но даже и МСФСР. И Срубову показалось, что сейчас вместе с ними будут расстреливать и его. Холод тонкими иглами колол спину. Руки теребили портупею, жесткую бороду.
Голый костлявый человек стоял, поблескивая пенсне. Он первым разделся. Комендант показал ему на нос:
– Снимите.
Голый немного наклонился к коменданту, улыбнулся. Срубов увидел тонкое интеллигентное лицо, умный взгляд и русую бородку.
– А как же тогда я? Ведь я тогда и стенки не увижу.
В вопросе, в улыбке наивное, детское. У Срубова мысль: никто никого и не собирается расстреливать. А чекисты захохотали. Комендант выронил папиросу.
– Вы славный парень, черт возьми. Ну ничего, мы вас подведем. А пенсне-то все-таки снимите.
Другой, тучный, с черной шерстью на груди, тяжелым басом:
– Я хочу дать последнее показание.
Комендант обернулся к Срубову. Срубов подошел ближе. Вынул записную книжку. Записывать стал не вдумываясь в смысл показания, не критикуя его. Был рад отсрочке решительного момента. А толстый врал, путался, тянул.
– Около леска, между речкой и болотом, в кустах… Говорил, что отряд белых, в котором он служил, закопал где-то много золота. Никто из чекистов ему не верил. Все знали, что он только старается выиграть время. В конце концов приговоренный предложил отдалить его расстрел, взять его проводником, и он укажет, где зарыто золото.
Срубов положил записную книжку в карман. Комендант, смеясь, хлопнул голого по плечу:
– Брось, дядя, вола крутить. Становись.
Разделись уже все. От холода терли руки. Переступали на месте босыми ногами. Белье и одежда пестрой кучей. Комендант сделал рукой жест – пригласил.
– Становитесь.
Тучный в черной шерсти завыл, захлебнулся слезами. Уголовный бандит с тупым, равнодушным лицом подошел к одной из дверей. Кривые волосатые ноги с огромными плоскими ступнями расставил широко, устойчиво. Сухоногий ротмистр из карательного отряда крикнул:
– Да здравствует советская власть!
С револьвером против него широконосый, широколицый, бритый Ванька Мудыня. Махнул перед ротмистром жилистым татуированным матросским кулаком. И с сонным плевком через зубы, с усмешкой:
– Не кричи – не помилуем.
Коммунист, приговоренный за взяточничество, опустил круглую стриженую голову, в землю глухо сказал:
– Простите, товарищи.
А веселый с русой бородкой, уже без пенсне, и тут всех рассмешил.
Стал, скроил глупенькую рожицу.
– Вот они какие, двери-то на тот свет – без петель. Теперь буду знать.
И опять Срубов подумал, что их не будут расстреливать. А комендант, все смеясь, приказал:
– Повернитесь. Приговоренные не поняли.
– Лицом к стенке повернитесь, я к нам спиной.
Срубов знал, что, как только они станут повертываться, пятеро чекистов одновременно вскинут револьверы и в упор каждому выстрелят в затылок.
Пока наконец голые поняли, чего хотят от них одетые, Срубов успел набить и закурить потухшую трубку. Сейчас повернутся и – конец. Лица у конвоиров, у коменданта, у чекистов с револьверами, у Срубова одинаковы – напряженно-бледные. Только Соломин стоял совершенно спокойно. Лицо у него озабочено не более, чем то нужно для обыденной, будничной работы. Срубов глаза в трубку, на огонек. А все-таки заметил, как Моргунов, бледный, ртом хватал воздух, отвертывался. Но какая-то сила тянула его в сторону пяти голых, и он кривил на них лицо, глаза. Огонек в трубке вздрогнул. Больно стукнуло в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками. У расстрелянных в судорогах дергались ноги. Тучный с звонким визгом вздохнул в последний раз. Срубов подумал: "Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?"
Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.
В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:
– Святый боже, святый крепкий…
Глаза у него лезли из орбит. Срубов вспомнил, как мать стряпала из теста жаворонков, вставляла им из изюма глаза. Голова попа походила на голову жаворонка, вынутого из печи с глазами-изюминками, надувшимися от жару. Отец Василий упал на колени:
– Братцы, родимые, не погубите…
А для Срубова он уже не человек – тесто, жаворонок из теста. Нисколько не жаль такого. Сердце затвердело злобой. Четко бросил сквозь зубы:
– Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит. Его грубая твердость толчок и другим чекистам. Мудыня крутил цигарку:
– Дать ему пинка в корму – замолчит.
Высокий, вихляющийся Семен Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затянул, задребезжал стеклом в рассохшейся раме:
– Святый боже, святый крепкий… Ефим Соломин остановил:
– Не трожьте батюшку. Он сам разденется.
Поп замолчал – мутные глаза на Соломина. Худоногов и Боже отошли.
– Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.
Соломин ласков.
– В лопотине-то те, дорогой мои, чижеле. Лопотина, она тянет. Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрав на колени полы длинной серой шинели, расстегивал у него черный репсовый подрясник.
– Оно этто нече, дорогой мой, что раздеем. Вот надоть бы тебя ще в баньке попарить. Когды человек чистый да разначищенный, тожно ему лекше и помирать. Чичас, чичас всю эту бахтерму долой с тебя. Ты у меня тожно, как птаха, крылышки расправишь.
У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесемки у щиколоток.
– В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казним. А казнь, дорогой мой, дело великая.
Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и стаскивая брови, спокойно щурился от дыма.
– Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.
Срубов услышал и разозлился еще больше.
Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад – глаза у обоих были мертвые, расширенные от ужаса. Пятая, женщина, – крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала пол револьвер.
А с папироской, рассердивший Срубова, не захотел повертываться спиной.
– Я прошу стрелять меня в лоб.
Срубов его обрезал:
– Системы нарушить не могу – стреляем только в затылок. Приказываю повернуться.
У голого офицера воля слабее. Повернулся. Увидел в дереве двери массу дырочек. И ему захотелость стать маленькой, маленькой мушкой, проскользнуть в одну из этих дырок, спрятаться, а потом найти в подвале какую-нибудь щелку и вылететь на волю. (В армии Колчака он мечтал кончить службу командиром корпуса – полным генералом.) И вдруг та дырка, которую он облюбовал себе, стала огромной дырой. Офицер легко прыгнул в нее и умер. Зрачок у него в правом открытом глазу был такой же широкий и неровный, как новая дырка в двери от пули, пробившей ему голову.
У отца Василия живот – тесто, вывалившееся из квашни на пол. (Отец Василий никогда не думал стать архиереем. Но протодьяконом рассчитывал.)
За ноги веревками потащили и этих в темный загиб. Все они – каждый по-своему – мечтали жить и кем-то быть. Но стоит ли об этом говорить, когда от каждого из них осталось только по три, по четыре пуда парного мяса?
Следующую пятерку не приводили, пока не была засыпана кровь и не убраны трупы. Чекисты крутили цигарки.
– Ефим, как жаба, ты завсегда веньгашься с ними? – квадратный Боже спрашивал. Соломин тер пальцем под носом.
– А че их дражнить и на них злобиться? Враг он когды не пойманный. А тутока скотина он бессловесная. А дома, когды по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь, стой, Буренка, стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчея потом-то.
Расстреливали пятеро – Ефим Соломин, Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Алексей Боже, Наум Непомнящих. Из них никто не заметил, что в последней пятерке была женщина. Все видели только пять парных окровавленных туш мяса.
Трое стреляли как автоматы. И глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти непроизвольно. Ждали, пока приговоренные разденутся, встанут, механически поднимали револьверы, стреляли, отбегали назад, заменяли расстрелянные обоймы заряженными. Ждали, когда уберут трупы и приведут новых. Только когда осужденные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пенилась жгучей злобой. Тогда они матерились, лезли с кулаками, с рукоятками револьверов. И тогда, поднимая револьверы к затылкам голых, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это от страха за промах, за ранение. Нужно было убить наповал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале, хотелось уйти и напиться до потери сознания. Но не было сил. Кто-то огромный, властный заставлял торопливо поднимать руку и приканчивать раненого.
Так стреляли Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих.
Один Ефим Соломин чувствовал себя свободно и легко. Он знал твердо, что расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как необходимо резать скот. И как не мог он злиться на корову, покорно подставляющую ему шею для ножа, так не чувствовал злобы и по отношению к приговоренным, повертывавшимся к нему открытыми затылками. Но не было у него и жалости к расстреливаемым. Соломин знал, что они враги революции. А революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он не стрелял, а работал.
(В конце концов для нее не важно, кто и как стрелял. Ей нужно только уничтожить своих врагов.)
После четвертой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыханья – дурнящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землей. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой.
В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:
– Тащи!
Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор…
Тащили. Тащили.
Подошел комендант.
– Машина, товарищ Срубов. Завод механический.
Срубов кивнул головой и вспомнил снопоогненный зал двора. Вертится зал, перекидывает людей из подвала в подвал. А во всем доме огни, машины стучат. Сотни людей заняты круглые сутки. И тут ррр-ах-рр-ррр-ах. С гулким лязгом, с хрустом буравят черепа автоматические сверла. Брызжут красные непрогорающие опилки. Смазочная мазь летит кровяными сгустками мозга. (Бурят или буравят ведь не только землю, когда хотят рыть артезианский колодец или найти нефть. Иногда ведь приходится проходить целые толщи камня, жилы руд, чтобы добуриться или добуравиться до чистой земли, необходимо пройти стальными сверлами костяные пласты черепов, кашеобразные трясины мозгов, отвести в сточные трубы и ямы гейзеры крови.) Кровью парной, потом едким человечьим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усилием таращат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьется земляной пол. Желто-красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать. Завод.
– Ррр-ах-ррр-ррр-ах! Тащили.
– А-ах-и-и. В-и-н-и!
– Имею ценное показание. Прекратите расстрел.
Трах-ах-рр.
Тащили.
– Ну, раздевайся. Раздевайся. Становись. Повернись.
– А-а-а-а. О-о-о.
Р-а-ахах.
Тащили.
– Да здравствует государь император. Стреляй, красная сволочь. Господи, помилуй. Долой коммунистов. Пощадите. Пострелял и вас, краснорожие.
Ррр-ррр.
Тащили.
– Невинно погибаю. У-у-у.
– Брось.
Ррр.
Тащили.
Умоля-я-ю.
Ррр-у-у-ххх.
Тащили.
Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих мертвенно-бледные, устало расстегивающие полушубки с рукавами, покрасневшими от крови. Алексей Боже с белками глаз, воспаленными кровавым возбуждением, с лицом, забрызганным кровью, с желтыми зубами в красном оскале губ, в черной копоти усов. Ефим Соломин с деловитостью, серьезной и невозмутимой, трущий под курносым носом, сбрасывающий с усов и бороды кровяные запекшиеся сгустки, поправляющий захватанный козырек, оторвавшийся наполовину от зеленой фуражки с красной звездой. (Но разве интересно Ей это? Ей необходимо только заставить убивать одних, приказать умирать другим. Только. И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма. На этом заводе уголь и пар – Ее гневная сила, хозяйка здесь Она – жестокая и прекрасная.) И Срубов, закутанный в черный мех полушубка, в рыжий мех шапки, в серый дым незатухающей трубки, почувствовал Ее дыхание. И от ощущения близости той новой напряженной энергии рванул мускулы, натянул жилы, быстрее погнал кровь. Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на все. Для Нее и убийство – радость. И если нужно будет, то он не колеблясь сам станет лепить пули в затылки приговоренных. Пусть хоть один чекист попробует струсить, отступиться,– он сейчас же уложит его на месте. Срубов полон радостной решимости.
Для Нее и ради Нее.
Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил топкие аристократические губы, иронизировал:
– Я привык, чтобы меня раздевали холуи. Сам не буду. Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.
– Раздевайся, гад.
– Дайте холуя.
Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскаленный песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвертывался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.
Тьфу! Не продыхнешь. Белье-то како обгадил.
Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди и ни шагу. Заявил с гордостью:
– Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.
Отхаркался и Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дернув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было так же жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевок. Срубов ему строго:
– Не нервничать.
И властно и раздраженно:
– Следующую пятерку. Живо. Распустили слюни.
Из пятерки остались две женщины и прапорщик Скачков. Он так и не перерезал себе горла. И уже голый все держал в руках маленький осколок стекла.
Полногрудая вислозадая дама с высокой прической дрожала, не хотела идти к "стенке". Соломин взял ее под руку:
– Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем. Вишь, туто-ка друга баба.
Голая женщина уступила одетому мужчине, С дрожью в холеных ногах, тонких у щиколоток, ступала по теплой липкой слизи пола. Соломин вел ее осторожно с лицом озабоченным.
Другая – высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у нее синие. Брови густые, темные. Она совсем детским голосом и немного заикаясь:
– Если бы вы зн-знали, товарищи… жить, жить как хочется…
И синевой глубокой на всех льет. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза – угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопченными револьверами. А глаза у всех неотрывно на все. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.
Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее. Захлебнуться в соленом красном угаре… Но Та, которую любил Срубов, которой сулил, была здесь же. (Хотя, конечно, какое бы то ни было противопоставление, сравнение Ее с синеглазой немыслимо, абсурдно.) А потому – решительно два шага вперед. Из кармана черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей, в белый лоб никелированную пулю. Женщина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачков – в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной прической.
Браунинг в карман. Отошел назад. В темном конце подвала трупы друг на друга лезли к потолку. Кровь от них в светлый конец ручейками. Уставший Срубов видел целую красную реку. В дурманящем тумане все покраснело. Все, кроме трупов. Те белые. На потолке красные лампы. Чекисты во всем красном. А в руках у них не револьверы – топоры. Трупы не падают – березы белоствольные валятся. Упруги тела берез. Упорно сопротивляется в них жизнь. Рубят их – они гнутся, трещат, долго не падают, а падая, хрустят со стоном. На земле дрожат умирающими сучьями. Сбрасывают чекисты белые бревна в красную реку. В реке вяжут в плоты. А сами рубят, рубят. Искры огненные от ударов.
Окровавленными зубами пены грызет кирпичные берега красная река. Вереницей плывут белоствольные плоты. Каждый из пяти бревен. На каждом пять чекистов. С плота на плот перепрыгивает Срубов, распоряжается, командует.
А потом, когда ночь, измученная красной бессонницей, с красными воспаленными глазами, задрожала предутренней дрожью, кровавые волны реки зажглись ослепительным светом. Красная кровь вспыхнула сверкающей огненной лавой. И не пол трясся в лихорадке – земля колебалась. Извергаясь, грохотал вулкан.
Трр-ах-ррр-ух-ррр.
Размыты, разрушены стены подвала. Затоплены двор, улицы, город. Жгучая лава льется и льется. На недосягаемую высоту выброшен Срубов огненными волнами. Слепит глаза светлый, сияющий простор. Но нет в сердце страха и колебаний. Твердо, с поднятой головой стоит Срубов в громе землетрясения, жадно вглядывается В даль. В голове только одна мысль – о Ней.
II
Бледной лихорадкой лихорадило луну. И от лихорадки, и от мороза дрожала луна мелкой дрожью. И дрожащей, прозрачно искристой дымкой вокруг нее ее дыхание. Над землей оно сгущалось облаками грязноватой ваты, на земле дымилась парным молоком.
На дворе в молоке тумана рядами горбились зябко-синие снежные сугробы. В синем снегу, лохмотьями налипшем на подоконники, лохмотьями свисавшем с крыш, посинели промерзшие белые трехэтажные многоглазые стены.
И в бледной лихорадке торопливости лица двоих в разных желтых (ночь, впрочем, и черных) полушубках, стоящих на грузовике, опускающих в черную глотку подвала петли веревок, ждущих с согнутыми спинами, с вытянутыми вперед руками.
Подвал издыхает или кашляет:
– Тащи-т-и-и.
И выдохнутые или выплюнутые из дымящейся глотки мокроты или слюной тягучей, кроваво-сине-желтой, теплой тянутся на веревках трупы. Как но мокроте, по слюне, ходили по ним, топтали их, размазывая по грузовику. Потом, когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынущие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик. И стальными ногами топал и глубоко увязал в синем снегу, ломая спины сгорбившихся сугробов, и хрусте снежных костей, в лязге железа, в фыркающей одышке мотора, в кроваво-черном поту нефти и крови грузовик уходил за ворота. Шел серый в сером тумане на кладбище, сотрясая улицы, дома, поднимая с кроватей всезнающих обывателей. К замерзшим стеклам притыкались, плющились заспанные носы. И в дрожании коленок, в дроже кроватей, в позвякивании посуды и окон заспанные загноившиеся глаза раскрылись от страха, заспанные вонючие рты шептали бессильно-злобно, испуганно:
– Чека… Из Чека… Чека свой товар вывозит…
И на дворе тоже ногами (только не стальными, а живыми, человечьими, при этом сильно уставшими) ломали с хрустом синие горбы сугробов – Срубов, Соломин, Мудыня, Боже, Непомнящих, Худоногов, комендант, двое с лопатами и конвоиры (конвоирам уже некого было конвоировать). Соломин шел со Срубовым рядом. Остальные сзади. У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке – в лунном свете, как сажа. Говорил он голосом упавшим, но бодрым, говорил, как говорят люди, сделавшие большую, трудную, но важную и полезную работу.
– Каб того высокого, красивого, в рот-то которого стреляли, да спарить с синеглазой – ладный бы плод дали.
Срубов посмотрел на него. Соломин говорил спокойно, деловито разводил руками. Срубов подумал: "О ком это он?" Но понял, что о людях. Усталыми глазами заметил только, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально:
– Зачем тебе их, Ефим? Тот светло улыбнулся.
– Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушек нонче не купишь. Нету-ка их.
Срубов вспомнил, что у него есть сын Юрий, Юрасик, Юхасик. Сзади со смехом матерились. Вспоминали расстрелянных.
– Поп-то расписался… А генерал-то… Срубов устало зевнул. Обернулся бледный.
– Таких веселых, как в пенсиях, завсегда лекше бить. А уж которы воют…
Это Наум Непомнящих. Боже и согласен и нет.
Говорили с удалью, с лихо поднятыми головами.
Усталый мозг напрягся с усилием. Срубов понял, что все это напускное, показное. Все смертельно устали. Головы задирали потому, что они, свинцовые, не держались прямо. И матерщина только чтоб подбодриться. Всплыло в памяти иностранное слово – допинг.
До кабинета Срубов шел очень долго. В кабинете заперся. Повернул ключ и внимательно посмотрел на дверную ручку – чистая, не испачкана. Оглядел у лампы руки – крови не было. Сел в кресло и сейчас же вскочил, нагнулся к сиденью – тоже чистое. Крови не было ни на полушубке, ни на шапке. Открыл несгораемый шкаф. Из-за бумаг вытащил четверть спирта. Налил ровно половину чайного стакана. Развел отварной водой из графина. Болтал замутненную жидкость перед огнем. Напряженно оглядывался через стекло – красного ничего не было. Жидкость постепенно стала прозрачной. Поднес стакан ко рту и опять в памяти – допинг.
Только когда выпил и прошелся по кабинету – заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкавшейся в остроугольный треугольник.
И сейчас же с письменного стола нахально стала пялиться бронза безделушек, стальной диван брезгливо поднял тонкие гнутые ножки. Маркс на стене выпятил белую грудь сорочки. Увидел – разозлился.
– Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал. Со злобой, с болью схватил четверть, стакан, тяжело подошел к дивану. "Ишь жмется, аристократ. На вот тебе". Нарочно сапоги не снял. Растянулся и каблуками в ручку. На пепельно голубой обивке грязь, кровь и снежная мокрота. Четверть, стакан рядом на пол поставил. А самому хочется с головой в реку, в море и все, все смыть. Уже лежа еще полстакана в рот жгучего, неразведенного. И в мозгу, пьянеющем от спирта, от подвального угара, от усталости, от бессонницы почти пьяные, почти бессвязные мысли:
– Почему, собственно, белая сорочка Маркса?
Ведь одни из них – поумереннее и полиберальнее – хотели сделать Ей аборт, другие – пореакционнее и порешительнее – кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить и Ее и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодовитую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку.
Потом, что такое колчаковская контрреволюция? Это небольшая комната, в которой мало воздуха и много табачного дыма, водочного перегара, вонючего человечьего пота, в которой письменный стол весь в бумагах – чистых и исписанных, в бутылках – пустых и непочатых со спиртом, с водкой, в нагайках – ременных, резиновых, проволочных, резиново-проволочно-свинцовых, в револьверах, в бебутах, в шашках, в гранатах. Нагайки, револьверы, гранаты, винтовки, бебуты и на стенах и на полу, и на людях, сидящих за столом и спящих под ним и около него. Во время допроса вся комната пьяная или с похмелья набрасывается на допрашиваемого с ремнями, с резинами, с проволокой, со свинцом, с железом, с порожними бутылками, рвет его тело на клочья, порет в кровь, ревет десятками глоток, тычет десятками пальцев с угрозой на дула винтовок.
Колчаковская контрразведка – еще другая комната. В той письменный стол в зеленом сукне и бумагах. За столом капитан или полковник с надушенными усами, всегда вежливый, всегда деликатный – тушит папиросы о физиономии допрашиваемых и подписывает смертные приговоры.
Ну, вот вам и белая сорочка Маркса, брезгливый диван, чопорная чистота безделушек на столе.
Ну да, да, да, да, да… Да… Да… Да… Но… Но и но…
Сладко пуле – в лоб зверя. Но червя раздавить? Когда их сотни, тысячи хрустят под ногами и кровавый гной брызжет на сапоги, на руки, на лицо.
А Она не идея. Она – живой организм. Она – великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить.
Да… Да… Да…
Но для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми античными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. Иногда даже на революционных знаменах и плакатах Ее так изображают.
Но для меня Она – баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровяная лапа, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца, как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И вот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов – много их присосалось – в подвалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить. И вот гной из них, гной, гной. И вот опять белая сорочка Маркса. А с улицы к окну липнет ледяная рожа мороза, ломит раму. И за окном термометр, на который раньше смотрел купец Иннокентий Пшеницын, падает до минус сорока семи Р.
В кабинете Иннокентия Пшеницына, теперь Срубова, мутный рассвет. Но дом Иннокентия Пшеницына, теперь Губчека, не знает, не замечает рассветов, сумерек, ночей, дней – стучит машинками, шелестит бумагой, шаркает десятками ног, хлопает дверьми, не ложится, не спит круглые сутки.
И в подвалах No 3, 2, 1, где у Иннокентия Пшеницына хранились головы сыру, головы сахару, колбасы, вино, консервы, теперь другое. В No 3 в полутьме на полках, заменяющих нары, головами сыра – головы арестованных, колбасами – колбасы рук и ног. Как между головами сыра, как между колбасами, осторожно, воровито шмыгают рыжие жирные крысы с длинными голыми хвостами. Арестованные забылись чуткой дрожащей дремотой. Чуткой дрожью усов, ноздрей, зорким блеском глаз щупают крысы воздух, безошибочно определяют уснувших более крепко, грызут у них обувь. У подследственной Неведомской отъели мех с высоких теплых галош.
И крысы же в подвале No 1, где уже убраны трупы, с визгом, с писком в драку, лижут, выгрызают из земляного пола человечью кровь. И языки их острые, маленькие, красные, жадные, как языки огня. И зубы у них острые, маленькие, белые, крепче камня, крепче бетона.
Нет крыс только в подвале No 2. В No 2 не расстреливают и не держат долго арестованных, туда сажают только на несколько часов перед расстрелом.
И в сыром тумане мороза, в мути рассвета на белом трехэтажном доме красными пятнами вывеска – черным по красному написано: "Губернская Чрезвычайная Комиссия". Ниже в скобках лаконичнее, понятнее (Губчека). А раньше золотом по черному: "Вино. Гастрономия. Бакалея. Иннокентий Пшеницын".
Над домом бархатное, тяжелое, набухшее кровью красное знамя брызжет по ветру кровавыми брызгами обтрепавшейся бахромы и кистей.
И, сотрясая улицы, дома и кладбище, везет чекистов с железными лопатами последний серый грузовик в кроваво-черном поту крови и нефти. Когда он, входя в белый подъезд, топает тяжелыми стальными ногами, белый каменный трехэтажный дом дрожит,
III
Ночами белый каменный трехэтажный дом с красивым флагом на крыше, с красной вывеской на стене, с красными звездами на шапках часовых вглядывался в город голодными блестящими четырехугольными глазами окон, щерил заледеневшие зубы чугунных решетчатых ворот, хватал, жевал охапками арестованных, глотал их каменными глотками подвалов, переваривал в каменном брюхе и мокротой, слюной, потом, экскрементами выплевывал, выхаркивал, выбрасывал на улицу. И к рассвету усталый, позевывая со скрипом чугунных зубов и челюстей, высовывал из подворотни красные языки крови.
Утрами тухли, чернели четырехугольные глаза окон, ярче загоралась кровь флага, вывески, звезды на шапках часовых, ярче кровавые языки из подворотни, лизавшие тротуар, дорогу, ноги дрожащих прохожих. Утрами белый дом навязчивей, настойчивей металлическими щупальцами проводов щупал по городу дома с пестрыми вывесками советских учреждений.
– Говорят из Губчека. Немедленно сообщите… Из Губчека. В течение двадцати четырех часов представьте… Губчека предлагает срочно, под личную ответственность… Сегодня же до окончания занятий дайте объяснение Губчека… Губчека требует…
И так всем. И все дома с пестрыми вывесками советских учреждений, большие и маленькие, каменные и деревянные, растопыривали черные уши телефонных трубок, слушали внимательно, торопливо. И делали так, как требовала Чека – немедленно, сейчас/ко, в двадцать четыре часа, до окончания занятий.
А в Губчека – люди, вооруженные винтовками, стояли на каждой площадке, в каждом коридоре, у каждой двери и по дворе, люди в кожаных куртках, в суконных гимнастерках, френчах, вооруженные револьверами, сидели за столами с бумагами, бегали с портфелями по комнатам, барышни, ничем не вооруженные, красивые и дурные, хорошо и плохо одетые, трещали на машинках, уполномоченные, агенты, красноармейцы батальона ВЧК курили, разговаривали в дыму комендантской, прислуга из столовой на подносе разносила по отделам жидкий чай в рыжих глиняных стаканах с конфетами из ржаной муки и патоки, посетители в рваных шубах (в Чека всегда ходили в рванье. У кого не было своего – доставали у знакомых) робко брали пропуски, свидетели нетерпеливо ждали допроса, те и другие боялись из посетителей, из свидетелей превратиться в обвиняемых и арестованных.
Утрами в кабинете на столе у Срубова серая горка пакетов. Конверты разные – белые, желтые, из газетной бумаги, из старых архивных дел. На адресах лихой канцелярский почерк с завитушками, с росчерком, безграмотные каракули, нервная интеллигентская вязь, старательно выведенные дамские колечки, ровные квадратики шрифта печатных машинок. Срубов быстро рвал конверты.
– Не мешало бы Губчека обратить внимание… Открыто две жены. Подрыв авторитета партии… Доброжелатель.
– Я, как идейный коммунист, не могу… возмутительное явление: некоторые посетители говорят прислуге – барышня, душечка, тогда как теперь советская власть и полагается не иначе, как товарищ, и вы, как… Необходимо, кому ведать сие надлежит…
Срубов набил трубку. Удобнее уселся в кресле. Пакет с надписью"совершенно секретно", "в собственные руки". Газетная бумага. Разорвал.
"Я нашел вотку в 3-ай роти командер белай Гат…"
Дальше на белом листе писчей бумаги рассуждения о том, что сделал в Сибири Колчак и что делает советская власть. В самом конце вывод: "…и поетому ево (командира роты) непрямено унистожит, а он мешаит дела обиденения рабочих и хрестьяноф, запричаит промеж крастно армейциф товарищетская рука пожатию. Врит политрук Паттыкин."
Срубов морщился, сосал трубку.
Акварелью на слоновой бумаге черный могильный бугорок, в бугорок воткнут кол. Внизу надпись: "Смерть кровопийцам чекистам…"
Брезгливо поджал губы, бросил в корзину.
"Товарищ председатель, я хочу с вами познакомица, потому что чекисты очень завлекательныя. Ходят все в кожаных френчах с бархатными воротниками, на боку завсегда револьверы. Очень храбрые, а на грудях красные звезды… Я буду вас ожидать…"
Срубов захохотал, высыпал трубку на сукно стола. Бросил письмо, стал смахивать горящий табак. В дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, вошел Алексей Боже. Положил большие красные руки на край стола, неморгающими красными глазами уставился на Срубова. Спросил твердо, спокойно:
– Севодни будем?
Срубов понял, но почему-то переспросил:
– Что?
– Контрабошить.
– А что?
Четырехугольное плоское скулистое лицо Боже недовольно дернулось, шевельнулись черные сросшиеся брови, белки глаз совсем покраснели.
– Сами знаете.
Срубов знал. Знал, что старого крестьянина с весны тянет на пашню, что старый рабочий скучает о заводе, что старый чиновник быстро чахнет в отставке, что некоторые старые чекисты болезненно томятся, когда долго не имеют возможности расстреливать или присутствовать при расстрелах. Знал, что профессия кладет неизгладимый отпечаток на каждого человека, вырабатывает особые профессиональные (свойственные только данной профессии) черты характера, до известной степени обусловливает духовные запросы, наклонности и даже физические потребности. А Боже – старый чекист, и в Чека он был всегда только исполнителем – расстреливателем.
– Могуты нет никакой, товарищ Срубов. Втора неделя идет без дела. Напьюсь, что хотите делайте.
И Боже, четырехугольный, квадратный, с толстой шеей и низким лбом, беспомощно топтался на месте, не сводил со Срубова воспаленных красных глаз.
У Срубова мысль о Ней. Она уничтожает врагов. Но и они Ее ранят. Ведь Ее кровь, кровь из Ее раны этот Боже. А кровь, вышедшая из раны, неизбежно чернеет, загнивает, гибнет. Человек, обративший средство в цель, сбивается с Ее дороги, гибнет, разлагается. Ведь она ничтожна, но и велика только на Ее пути, с Ней. Без Нее, вне Ее она только ничтожна. И нет у Срубова жалости к Боже, нет сочувствия.
– Напьешься – в подвал спущу.
Без стука в дверь, без разрешения войти, вошел раскачивающейся походкой матроса Ванька Мудыня, стал у стола рядом с Боже.
– Вызывали. Явился.
А в глаза не смотрит – обижен.
– Пьешь, Ванька?
– Пью.
– В подвал посажу.
Щеки у Мудыни вспыхнули, как от пощечины. Руки нервно обдергивали черную матросскую тужурку. В голосе боль обиды.
– Несправедливо эдак, товарищ Срубов. Я с первого дня советской власти. А тут с белогвардейцами в одну яму.
– Не пей.
Срубов холоден, равнодушен. Мудыня часто заморгал, скривил толстые губы.
– Вот хоть сейчас к стенке ставьте – не могу. Тысячу человек расстрелял – ничего, не пил. А как брата укокал, так и пить зачал. Мерещится он мне. Я ему – становись, мой Андрюша, а он – Ваньша, браток, на колени… Эх… Кажну ночь мерещится…
Срубову нехорошо. Мысли комками, лоскутами, узлами, обрывками. Путаница. Ничего не разберешь. Ванька пьет. Боже пьет, сам пьет. Почему им нельзя? (Ну да, престиж Чека. Они почти открыто. Да. Потом, вообще, имеет ли права Она? И что знает Она? А, Она? И вот взаимоотношения, роль нрава. Хаос. Хаос. Замахал руками.)
– Идите, пейте. Нельзя же только так открыто.
А когда дверь закрылась, уткнулся в письмо, чтобы не думать, не думать, не думать.
"Я человек центральный, но… тем более он ответственным работник… Керосин необходим Республике… и выменивать полпуда картошки на два фунта керосина для личного удовольствия…"
И одни за другим поплыли заявления о двух фунтах соли, фунте хлеба, полфунте сахару, десяти фунтах муки, трех гвоздях, пары подошв, дюжины иголок, которые кто-либо у кого-либо выменял, купил (тогда как теперь советская власть и разрешается все приобретать только по ордерам с соответствующими подписями, за печатью, с надлежащего разрешения). А если все это было получено по ордеру, то указывалось на незаконность выписки самого ордера, неправильность выдачи.
Три-четыре дельных указания – контрразведчик скрывается под чужой фамилией, систематически расхищается пушнина со склада Губсовнархоза, каратель пролез в партию. И опять доброжелатели, зрячие, видящие, нейтральные, посторонние, независимые. В шорохе бумаги – угодливый шепоток. Они любили "довести до сведения кого следует". Они подобострастно брали Срубова за рукав, тащили его к своей спальне, показывали содержимое ночных горшков (может быть, человек пьяный был и, может быть, доктора могут исследовать и установить). Они трясли перед ним грязное белье свое, чужое, своих родных, родственников, знакомых. Как мыши, они проникали в чужие погреба, подполья, кладовки, забирались в помойки, и все время заискивающе улыбались или корчили рожи благородных блюстителей нравственности и все кивали головками и спрашивали:
– А как, по-вашему, это? А как это? А? Ничего? Не попахивает контрреволюцией? А вот посмотрите сюда? А вот здесь подозрительно. Нет? А?
В конце концов они спокойно отходили в сторону и равнодушно заявляли, что это их не касается, что их нравственный долг только довести до сведения того, кому "ведать сие надлежит".
Срубов наискось красным карандашом накладывал резолюции. Подписывался размашисто двумя буквами А. С. Рвал пакеты. Читал нетерпеливо, быстро, через строчку. На его имя приходили больше анонимки, пустячные мелкие заявления добровольных осведомителей. Серьезные сведения, донесения секретных агентов – непосредственно в агентурное отделение товарищу Яну Пепелу.
Срубов не кончил. Надоело. Встал. По кабинету крупными шагами из угла в угол. Трубка потухла, а он грыз ее, тянул. Липкая грязь раздражала тело. Срубов передернул плечами. Расстегнул ворот гимнастерки. Нижняя рубашка совершенно чистая. Вчера только надел после ванны. Все чистое и сам чистый. Но ощущение грязи не проходило.
Дорогой письменный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Удобные богатые кресла. Новые обои на стенах. Холодная, сверкающая чванная чистота. И Срубову неловко в своем кабинете.
Подошел к окну. По улице шли и ехали. Шли суетливые совработники с портфелями, хозяйки с корзинами, разношерстные люди с мешками и без мешков. Ехали только люди с портфелями и люди с красными звездами на фуражках, на рукавах. Тащились между тротуарами дорогой с нагруженными санками советские кони-люди.
Через всю эту движущуюся улицу от его кабинета тянулись сотни чутких нервов-проводов. У него сотни добровольных осведомителей, штат постоянных секретных агентов и вместе с каждым из них он подглядывает, подслушивает, хитрит. Он постоянно в курсе чужих мыслей, намерений, поступков. Он спускается до интересов спекулянта, бандита, контрреволюционера. И туда, где люди напакостят, наносят грязь, обязан он протянуть свои руки и вычистить. В мозгу но букве вылезло и кривой лестницей вытянулось иностранное слово (они за последнее время вязались к нему) а-с-с-е-н-и-з-а-т-о-р. Срубов даже усмехнулся. Ассенизатор революции. Конечно, он с людьми дела почти не имел, только с отбросами. Они ведь произвели переоценку ценностей. Ценное раньше – теперь стало бесценным, ненужным. Там, где работали честно живые люди, ему нечего было делать. Его обязанность вылавливать в кроваво-мутной реке революции самую дрянь, сор, отбросы, предупреждать загрязнение, отравление Ее чистых подпочвенных родников. И длинное это слово так и осталось в голове.
…Мудыня, Боже – оба закаленные фронтовики, верные, истинные товарищи. У обоих ордена Красного Знамени. Иван Никитич Смирнов знал их еще по восточному фронту и про них именно он сказал: "С такими мы будем умирать…" Но водка? А сам? И какое значение все мы – я, Мудыня, Боже, ну все, все… Да, какое значение имеем все мы для Нее?
И это письмо отца. Два дня как получил, а все в голове. Не свои, конечно, мысли у отца… Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой, но для этого необходимо замучить всего только одно крохотное созданьице, на слезах его основать это здание. Согласился бы ты быть архитектором? Я, отец твой, отвечаю – нет, никогда, а ты… Ты думаешь на миллионах замученных, расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человеческого счастья… Ошибаешься… Откажется будущее человечество от "счастья", на крови людской созданного…
Нетерпеливо кашлянул нетерпеливый Ян Пепел, Срубов вздрогнул. К столу подошел, в кресло сел, пригласил сесть Пепела машинально. Слушал и не слышал того, что говорил Пепел. Смотрел на него пустыми отсутствующими глазами.
Когда Пепел сказал, что было нужно, и поднялся, Срубов спросил:
– Вы никогда, товарищ Пепел, не задумываетесь над вопросом террора? Вам когда-нибудь было жаль расстрелянных, вернее, расстреливаемых?
Пепел в черной кожаной тужурке, в черных кожаных брюках, в черном широком обруче ремня, в черных высоких начищенных сапогах, выбритый, причесанный, посмотрел на Срубова упрямыми, холодными голубыми глазами. И свой тонкий с горбинкой правильный нос, четкий четырехугольный подбородок кверху. Кулак левой руки из кармана булыжником. Широкая ладонь правой на кобуре револьвера.
– Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философий.
Больше ничего не сказал. Не любил отвлеченных разговоров. Вырос на заводе. Десять лет над головой, под ногами змеями шипели ремни, скрипели зубы резцов, кружил голову крутящийся бег колеса. Некогда разговаривать. Поспевай повертывайся. Скуп стал на слова. Но приобрел ценную быстроту взгляда. Перенес в душу железное упорство машины. С завода ушел на войну, а с войны – в революцию на службу к Ней. Но рабочим остался. И на службе, в кабинете слышал шипящее ползанье приводных ремней, щелканье зубчатых колес жизни. В кабинете, как в мастерской, за столом, как за станком. Писал безграмотно, но быстро. Стружками летела бумага с его стола на стол машинистки. Трещал звонок телефона, хватал трубку. Одно ухо слушает, другое контролирует стук машинки. Перебой, остановка – кричит:
– Ну, пошла, пошла машина. Живо! И в телефон кричит:
– Карошо. Слушаю.
На ходу распоряжения агентам, на ходу два-три слова посетителям. Быстро, быстро. Некогда сидеть, много думать у машины. На полном ходу завод.
Вот и сейчас, после Срубова. у себя посетителя схватил глазами как клещами, в кресло усадил – в тиски сжал. И пошел, потел вопросами, как молотками.
– Что? Благонадежность? Карошо. А советвласть сочувствуете? Вполне? Карошо. Но будем логичны до конца…
И Пепел написал на бумаге то, чего не хотел сказать при машинистке.
"Кто сочувствует советвласти, тот должен ее помогать давать. Будите у нас секретный осведомитель?"
Посетитель оглушен, бормочет полуотказ, полусогласие. А Пепел уже его заносит в список. Сует ему написанный на машинке лист – инструкцию секретным осведомителям.
– Согласны? Карошо. Прочтите. Дадим благонадежность. Конечно, он ему и не думает доверять, как не доверяет десяткам других сотрудников. И работу каждого из них он обязательно проверяет, контролирует. За два с лишком года работы в Чека у него выработалась привычка никому не верить.
А в кабинет к Срубову шмыгающими, липнущими шажками, кланяясь, приседая, улыбаясь, заполз полковник Крутаев. Обрюзгший, седоусый, лысый, в потертой офицерской шинели, сел по одну сторону стола.
Срубов по другую.
– Я вам еще из тюрьмы писал, товарищ Срубов, о своих давнишних симпатиях к советской власти.
Полковник непринужденно закинул ногу на ногу.
– Я утверждал и утверждаю, что в моем лице вы приобретаете ценнейшего сотрудника и преданнейшего идейного коммуниста.
Срубову хотелось плюнуть в лицо Крутаеву, надавать пощечин, растоптать его. Сдерживался, грыз усы, забирал в рот бороду. Молчал, слушал.
Крутаев слащавой улыбкой растянул дряблые губы, вытащил из кармана серебряный портсигар.
– Разрешите? А вы?
Полковник привстал, с раскрытым портсигаром потянулся через стол. Срубов отказался.
– Сегодня я вам докажу это, идейный товарищ Срубов и проницательнейший предгубчека.
Срубов молчал. Крутаев руку в боковой карман шинели.
– Полюбуйтесь на молодчика.
Подал визитную фотографическую карточку. Одутловатое, интересное лицо, погоны капитана. Владимир с мечами и бантом.
– Ну?
– Брат моей жены. Срубов пожал плечами.
– В чем же дело?
– А его фамилия, любезнейший товарищ Срубов.
– Кто он?
– Клименко. Капитан Клименко – начальник контрразведки армии. Срубов не дал кончить.
– Клименко?
Крутаев доволен. Старческие тухнущие глаза замаслились хитрой улыбкой.
– Видите, можно сказать, родного брата не щажу. Срубов записал подробный адрес Клименко. Фамилию, под которой он скрывался.
Уходя, Крутаев небрежно бросил:
– Да, уважаемый товарищ Срубов, дайте мне двести рублей.
– Зачем?
– В возмещение расходов на приобретение карточки.
– Ведь вы же ее у себя дома взяли.
– Нет, у знакомых.
– У знакомых купили?
Крутаев закашлялся. Кашлял долго. На лбу у него надулись синие жилы. Толстый лоб побагровел. Глаза заслезились, покраснели. У Срубова руки на мраморном пресс-папье. В голове – поднять, размахнуться и полковнику в висок. Тот, наконец, прокашлялся.
– Помилуйте, товарищ Срубов, у прислуги купил. Ровно за двести рублей.
Бросил на стол две сторублевки. Крутяев взял и подал руку. Срубов показал глазами на стену: "РУКОПОЖАТИЯ ОТМЕНЕНЫ".
Крутаев опять слащаво растянул губы. Расшаркался в низком поклоне. Стоптанными галошами, прилипая к полу, зашмыгал к двери. А Срубову все хотелось запустить ему в сгорбленную спину пресс-папье.
В раскрытую дверь из коридора шум разговора и топот – чекисты шли в столовую обедать.
Вечером было заседание комячейки. Мудыня и Боже, полупьяные, сидели, бессмысленно улыбались. Соломин, только что вернувшийся с обыска, сосредоточенно тер под носом, слушал внимательно. Ян Пепел сидел с обычной маской серого безразличия на лице. Ежедневно хитря, обманывая и боясь быть обманутым, он научился убирать с лица малейшее отражение своих переживаний, мыслей. Срубов курил трубку, скучал. Докладчик – политработник из батальона ВЧК, безусый парень говорил о программе РКП в жилищном вопросе.
Рядом в читальне беспартийные красноармейцы из батальона ВЧК играют в шашки, шелестят газетами, курят. А переводчица Губчека Ванда Клембровская играет на пианино. Красноармейцы прислушиваются, качают головами.
– Не поймешь, чего бренчит.
Звуки каплями дождя в стену, в потолок, глухой капелью по лестницам. Срубову кажется, что идет дождь. Дождь пробивает крышу, потолок, тысячами всплесков стучит по полу. Вспомнил Левитана, Чехова, Достоевского. И удивился: почему? И, уже уходя с собрания, понял: Клембровская играла из Скрябина.
IV
Руки прятали дрожь в тонких складках платья. Полуопущенные ресницы закрывали беспокойный блеск глаз. Но не могла скрыть Валентина тяжелого дыхания и лица в холодной пудре испуга.
А на полу раскрыты чемоданы. На кровати выглаженное белье четырехугольными стопочками. Комод разинул пустые ящики. Замки в них ощерились плоскими зубами.
– Андрей, эти ночи, когда ты приходишь домой бледный, с запахом спирта и на платье у тебя кровь… Нет, это ужасно. Я не могу,– Валентина не справилась с волнением. Голос ломался. Срубов показал на спящего ребенка:
– Тише.
Сел на подоконник, спиной к свету. На алом золоте стекол размазалась черная тень лохматой головы и угловатых плеч.
– Андрюша… Когда-то такой близкий и понятный… А теперь вечно замкнутый в себе, вечно в маске… Чужой… Андрюша, – сделала движение в сторону мужа. Неуклюже, боком опустилась на кровать. Белую стопку белья свалила на пол. Схватилась за железную спинку. Голову опустила на руки. Нет, не могу. С тех пор, как ты стал служить в этом ужасном учреждении, я боюсь тебя…
Андрей не отозвался.
– У тебя огромная', прямо неограниченная власть, и ты… Мне стыдно, что я жена…
Не договорила. Андрей быстро вытащил серебряный портсигар. Мундштуком папиросы стукнул о крышку с силой, раздраженно. Закурил.
– Ну, договаривай.
В стенных часах после каждого удара маятника хрипела пружина, точно кто шел по деревянному тротуару, четко стучал каблуками здоровой ноги, а другую, больную, шаркая, подволакивал. Маленький Юрка сопел на своей высокой постельке. Валентина молчала. Стекла в окнах стали серыми с желтым налетом. Комод, кровати, чемоданы и корзины оплыли темным опухолями. По углам нависли мягкие драпри теней, комната утратила определенность своих линий, расплывчато округлилась. Андрей видел только огненную точку своей папиросы
Другая такая же тыкалась ему в сердце, и сердце обожженное болело.
– Молчишь? Ну так я скажу. Тебе стыдно, что разная обывательская сволочинка считает твоего мужа палачом. Да?
Валентина вздрогнула. Голову подняла. Увидела острый красивый глаз папиросы. Отвернулась.
Андрей, не потушив, бросил окурок. Глаз закололо маленькой огненной булавкой с полу. Закололо больно, как и у Андрея сердце. Валентина закрыла лицо ладонями.
– Не обыватели только… Коммунисты некоторые…
И с отчаянием, с усилием, еле слышно последний довод:
– И мне надоело сидеть с Юркой на одном пайке. Другие умеют, а ты предгубчека и не можешь…
Андрей сапогом тяжело придавил папиросу. Возмутился. Захотелось наговорить грубостей, захотелось унизить, оплевать ее, оплевавшую и унизившую своей близостью. Срубову стало до боли стыдно, что он женат на какой-то ограниченной мещанке, духовно совершенно чуждой ему. Щелкнул выключателем. Чемоданы, вороха вещей, случайно сваленных в одну комнату. И сами так же. Потому чужие. Сдержался, промолчал. Стал припоминать первую встречу с Валентиной. Что повлекло его к этой слабенькой некрасивой мещанке? Да, да, она унизила его, оскорбила своей близостью потому, что она выдала себя совсем не за ту, какой была в действительности. Она искусно улавливала его мысли, желания, искусно повторяла их, выдавая за свои. Но разве потому только сходятся с женщиной, что ее убеждения, ее мысли тождественны убеждениям и мыслям того, кто с ней сходится? Пятый год вместе. Какая-то нелепость. Ведь было вот что-то еще, что повлекло к ней"? И это что-то есть еще и сейчас, когда она уже решила окончательно уйти от него. Что было это что-то. Срубов не мог объяснить себе.
– Так ты, значит, уезжаешь навсегда?
– Навсегда, Андрей,
И в голосе даже, в выражении лица – твердость. Никогда ранее не замечал.
– Ну что ж, вольному воля. Мир велик. Ты встретила человека, и я встречу…
А самому больно. Отчего больно? Оттого, что уцелело это что-то по отношению к Валентине? Сын. Он общий. Обоим родной. И еще обида. Палач. Не слово – бич. Нестерпимо, жгуче больно от него. Душа нахлестана им в рубцы. Революция обязывает. Да. Революционер должен гордиться, что он выполнил свой долг до конца. Да. Но слово, слово. Вот забиться бы куда-нибудь под кровать, в гардероб. Пусть никто не видит. И самому чтоб – никого.
V
Срубов видел Ее каждый день в лохмотьях двух цветов – красных и серых. И Срубов думал.
Для воспитанных на лживом пафосе буржуазных резолюций – Она красная и в красном. Нет. Одним красным Ее не охарактеризуешь. Огонь восстаний, кровь жертв, призыв к борьбе – красный цвет. Соленый пот рабочих будней, голод, нищета, призыв к труду – серый цвет. Она красно-серая. И наше – Красное Знамя – ошибка, неточность, недоговоренность, самообольщение. К нему должна быть пришита серая полоса. Или, может быть, его все надо сделать серым. И на сером красную звезду. Пусть не обманывается никто, не создает себе. иллюзий. Меньше иллюзий – меньше ошибок и разочарований. Трезвее, вернее взгляд.
И еще думал:
– Разве не захватано, не затаскано это красное знамя, как затаскано, захватано слово социал-демократ? Разве не поднимали его. не прятались за ним палачи пролетариата и его революции? Разве оно не было над Таврическим и Зимним дворцами, над зданием самарского Комуча? Не под ним разве дралась колчаковская дивизия? А Гайдеман, Вандервальде, Керенский…
Срубов был бойцом, товарищем и самым обыкновенным человеком с большими черными человечьими глазами. А глазам человечьим надо красного и серого, им нужно красок и света. Иначе затоскуют, потускнеют.
У Срубова каждый день – красное, серое, серое, красное, красно-серое. Разве не серое и красное – обыски – разрытый нафталинный уют сундуков, спугнутая тишина чужих квартир, реквизиции, конфискации, аресты и испуганные перекошенные лица, грязные вереницы арестованных, слезы, просьбы, расстрелы – расколотые черепа, дымящиеся кучки мозгов, кровь. Оттого и ходил в кино, любил балет. Потому через день после ухода жены и сидел в театре на гастролях новой балерины.
В театре ведь не только оркестр, рампа, сцена. Театр – еще и зрители. А когда оркестр запоздал, сцена закрыта, то зрителям нечего делать. И зрители – сотни глаз, десятки биноклей, лорнетов разглядывали Срубова. Куда ни обернется Срубов – блестящие кружочки стекол и глаз, глаз, глаз. От люстры, от биноклей, от лорнетов, от глаз – лучи. Их фокус – Срубов. А по партеру, по ложам, по галерке волнами ветерка еле уловимым шепотом:
– …Предгубчека… Хозяин губподвала… Губпалач… Красный жандарм… Советский охранник… Первый грабитель…
Нервничает Срубов, бледнеет, вертится на стуле, толкает в рот бороду, жует усы. И глаза его, простые человечьи глаза, которым нужны краски и свет, темнеют, наливаются злобой. И мозг его усталый требует отдыха, напрягается стрелами, мечет мысли.
"Бесплатные зрители советского театра. Советские служащие. Знаю я вас. Наполовину потертые английские френчи с вырванными погонами. Наполовину бывшие барыни в заштопанных платьях и грязных, мятых горжетах. Шушукаетесь. Глазки таращите. Шарахаетесь, как от чумы. Подлые душонки. А доносы друг на друга пишете? С выражением своей лояльнейшей лояльности распинаетесь на целых писчих листах. Гады. Знаю, знаю, есть среди вас и пролезшие в партию коммунистишки. Есть и так называемые социалисты. Многие из вас с восторженным подвыванием пели и поют – месть беспощадная всем супостатам… Мщение и смерть… Бей, губи их, злодеев проклятых. Кровью мы наших врагов обагрим. И, сволочи, сторонятся, сторонитесь чекистов. Чекисты – второй сорт. О подлецы, о лицемеры, подлые белоручки, в книге, в газете теоретически вы не против террора, признаете его необходимость, а чекиста, осуществляющего признанную вами теорию, презираете. Вы скажете – враг обезоружен. Пока он жив – он не обезоружен. Его главное оружие – голова. Это уже доказано не раз. Краснов, юнкера, бывшие у нас в руках и не уничтоженные нами. Вы окружаете ореолом героизма террористов, социалистов-революционеров. Разве Сазонов, Калшев, Балмашев не такие же палачи? Конечно, они делали это на фоне красивой декорации с пафосом, в порыве. А у нас это будничное дело, работа. А работы-то вы более всего боитесь. Мы проделываем огромную черновую, черную, грязную работу. О, вы не любите чернорабочих черного труда. Вы любите чистоту везде и во всем, вплоть до клозета. А от ассенизатора, чистящего его, вы отвертываетесь с презрением. Вы любите бифштекс с кровью. И мясник для вас ругательное слово. Ведь все вы, от черносотенца до социалиста, оправдываете существование смертной казни. А палача сторонитесь, изображаете его всегда звероподобным Малютой. О палаче вы всегда говорите с отвращением. Но я говорю вам, сволочи, что мы, палачи, имеем право на уважение…"
Но до начала так и не досидел, вскочил, потел к выходу. Глаза, бинокли, лорнеты с боков, в спину, в лицо. Не заметил, что громко сказал – сволочи. И плюнул.
Домой пришел бледный, с дергаюшимся лицом. Старуха в черном платье и платке, открывавшая дверь, пытливо-ласково посмотрела в глаза:
– Ты болен, Андрюша?
У Срубова бессильно опущены плечи. Взглянул на мать тяжелым измученным взглядом, глазами, которым не дали красок и света, которые потускнели, затосковали.
– Я устал, мама.
На кровать лег сейчас же. Мать гремела в столовой посудой. Собирала ужин. Но Срубову хотелось только спать.
Видит Срубов во сне огромную машину. Много людей на ней. Главные машинисты на командных местах, наверху, переводят рычаги, крутят колеса, не отрываясь смотрят в даль. Иногда они перегибаются через перила мостков, машут руками, кричат что-то работающим ниже и все показывают вперед. Нижние грузят топливо, качают поду, бегают с масленками. Все они черные от копоти и худы. И в самом низу, у колес, вертятся блестящие диски-ножи. Около них сослуживцы Срубова – чекисты. Вращаются диски в кровавой массе. Срубов приглядывается – черви. Колоннами ползут на машину, мягкие красные черви, грозят засорить, попортить ее механизм. Ножи их режут, режут. Сырое красное тесто валится под колеса, втаптывается в землю. Чекисты не отходят от ножей. Мясом пахнет около них. Не может только понять Срубов, почему не сырым, а жареным.
И вдруг черви обратились в коров. А головы у них человечьи. Коровы с человечьими головами, как черви, – ползут, ползут. Автоматические диски-ножи не поспевают резать. Чекисты их вручную тычут ножами в затылки. И валится, валится под машину красное тесто. У одной коровы глаза синие-синие. Хвост – золотая коса девичья. Лезет по Срубову. Срубов ее между глаз. Нож увяз. Из раны кровью, мясом жареным так и пахнуло в лицо. Срубову душно. Он задыхается.
На столике возле кровати в тарелке две котлеты. Рядом вилка, кусок хлеба и стакан молока. Мать не добудилась, оставила. Срубов проснулся, кричит:
– Мама, мама, зачем ты мне поставила мясо? Старуха спит, не слышит.
– Мама!
Против постели трюмо. В нем бледное лицо с острым носом. Огромные испуганные глаза. Всклокоченные волосы, борода. Срубову страшно пошевелиться. Двойник из зеркала следит за ним, повторяет все его движения. И он, как ребенок, зовет:
– Мама, мама.
Спит, не слышит. Тихо в доме. Шаркает больная нога маятника. Хрипят часы. Срубов холодеет, примерзает к постели. Двойник напротив. Безумный взгляд настороже. Он караулит. Срубов хочет снова позвать мать. Нет сил повернуть языком. Голоса нет. Только тот, другой, в зеркале беззвучно шевелит губами,
VI
Товарищ Срубова по гимназии, университету и по партийному подполью Исаак Кац, член Коллегии Губчека, подписал смертный приговор отцу Срубова, доктору медицины Павлу Петровичу Срубову, тому самому Павлу Петровичу, московскому чернобородому доктору в золотых очках, который приготовишку гимназистика Каца шутя трепал за рыжие вихры и звал Иком и которого Кац звал Павлом Петровичем.
И перед расстрелом, раздеваясь в сырой духоте подвала, Павел Петрович говорил Кацу:
– Ика, передан Андрею, что я умер без злобы на него и на тебя. Я знаю, что люди способны ослепляться какой-либо идеей настолько, что перестают здраво мыслить, отличать черное от белого. Большевизм– это временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство русского народа.
Голый чернобородый доктор наклонил набок голову в вороненом серебре волос, снял очки в золотой оправе, отдал коменданту. Потер рука об руку, шагнул к Кацу.
– А теперь, Ика, позволь пожать твою руку. И Кац не мог не подать руки доктору Срубову, глаза которого были, как всегда, ласковы, голос которого, как всегда, был бархатно мягок.
– Желаю тебе скорейшего выздоровления. Поверь мне как старому доктору, поверь так, как верил гимназистом, когда я лечил тебя от скарлатины, что твоя болезнь, болезнь всего русского народа, безусловно, излечима и со временем исчезнет бесследно и навсегда. Навсегда, ибо в переболевшем организме вырабатывается достаточное количество антивещества. Прощай.
И доктор Срубов, боясь потерять самообладание, отвернулся, торопливо, сгорбившись, пошел к "стенке".
А член Коллегии Губчека Исаак Кац, который был обязан сегодня присутствовать при расстрелах, едва удержался от желания убежать из подвала.
И в ночь расстрела доктора медицины Павла Петровича Срубова член Коллегии Губчека Исаак Кац телеграммой был переведен на ту же должность Члена Коллегии Губчека в другой город, в тот, где работал Андрей Срубов. И в первый же день своего приезда Исаак Кац сидел на квартире у Андрея Срубова и пил с Андреем Срубовым кофе. А мать Срубова, бледная старуха с черными глазами, в черном платье и в черном платке, варила кофе, вызывала сына из столовой и в темной прихожей шепотом говорила:
– Андрюша, Ика Кац расстрелял твоего папу, и ты сидишь с ним за одним столом.
Андрей Срубов ладонями рук ласково касался лица матери, шептал:
– Милая моя мамочка, мамунечка, об этом не надо говорить, не надо думать. Дай нам еще по стакану кофе.
И сам не хотел говорить, не хотел думать. Но Ика Кац считал неудобным не говорить и говорил. Говорил, помешивая, позвякивая ложечкой в стакане, внимательно разглядывал свою руку, красноватую в рыжих волосах, в синих жилах, опуская рыжую кудрявую голову, наклонясь над дымящимся кофе, вдыхая его запах – крепкий, резкий, мешающийся с мягким запахом кипящего молока.
– Никак нельзя было не расстрелять. Старик организовал общество идейной борьбы с большевизмом – ОИБ. Мечтал о таких "оибах" по всей Сибири, хотел объединить в них распыленные силы интеллигенции, настроенной антисоветски. Во время следствия он их звал оибистами…
Говорил, а лица не поднимал от стакана. Срубов слушал, медленно набивал трубку, не смотрел на Каца, чувствуя, что ему не хочется говорить, что говорит он только из вежливости. Срубов убеждал себя, что расстрел отца был необходим, что он как коммунист-революционер должен согласиться с этим безоговорочно, безропотно. А глаза тянуло к руке, красными короткими пальцами сжимавшей стакан с коричневой жидкостью, к руке, подписавшей смертный приговор отцу. И, с улыбкой натянутой, фальшивой, с усилием тяжелым разжимая губы, сказал:
– Знаешь, Ика, когда один простодушный чекист на допросе спросил Колчака, сколько и за что вы расстреляли, Колчак ответил: "Мы с вами, господа, кажется, люди взрослые, давайте поговорим о чем-нибудь более серьезном". Понял?
– Хорошо, не будем говорить.
Срубова передернуло оттого, что Кац так быстро согласился с ним, что на его лице, бритом, красном, мясистом, с крючковатым острым носом, в его глазах, зеленых, выпуклых, было деревянное безразличие. И когда Кац замолчал, стал пить, громко глотая, у Срубова мысли быстро-быстро, одна за другой. Мысли как оправдание. Перед кем? Может быть перед Ней, может быть, перед самим собою. В глазах Срубова боль и стыд, и желание, страстное, непреодолимое – оправдываться. И если нет смелости вслух, то хотя бы про себя, мысленно оправдываться, оправдываться, оправдываться.
"Я знаю твердо, каждый человек, следовательно, и мои отец, – мясо, кости, кровь. Я знаю, труп расстрелянного – мясо, кости, кровь. Но почему страх? Почему я стал бояться ходить в подвал? Почему я таращу глаза на руку Каца? Потому что свобода есть бесстрашие. Потому что быть свободным значит, прежде всего, быть бесстрашным. Потому что я еще не свободен вполне. Но я не виноват. Свобода и власть после столетий рабства – штуки не легкие. Китаянке изуродованные ноги разбинтуй – падать начнет, на четвереньках наползается, пока научится по-человечьи ходить, разовьет свои культяпки. Дерзаний-то, замыслов-то, порывов-то у нее, может быть, океан, а культяпки мешают. Культяпки эти, несомненно, и у Наполеона были, и у Смердякова. И у кого из нас не изуродованные ноги? Учиться, упражняться тут, пожалуй, мало переродиться надо, кожей другой обрасти".
Кац кончил пить. Не опуская стакана, вслух подумал или сказал Срубову:
– Конечно, что говорить, плакать, философствовать. Каждый из нас, пожалуй, может и хныкать. Но класс в целом неумолим, тверд и жесток. Класс в целом никогда не останавливается над трупом – перешагнет. И если мы с тобой рассиропимся, то и через нас перешагнут.
А в это время в Губчека, в подвале No 3 дрожь коленок, тряска рук, щелканье зубов ста двенадцати человек. И комендант, у которого из-под толстого полушубка красные галифе, у которого розовое бритое лицо и в руках белый лист – список, приказывает ста двенадцати арестованным собираться и выходить с вещами. И дрожь, и тряска, и пересыхание глоток, и слезы, и вздохи, и стоны именно оттого, что приказано выходить с вещами. Сто двенадцать участвовали в восстании против советской власти, захвачены с оружием в руках и знают, что их всех расстреляют, думают, если выводят с вещами – выводят на расстрел. И вот сто двенадцать в черных, рыжих овчинах, пахучих шубах, полушубках, в пестрых собачьих, оленьих, козловых, телячьих дохах, пиджаках, в лохматых папахах, в длинноухих малахаях, в расшитых унтах, в простых катанках, сложив горой вещи в просторной комендантской, идут из подвала, из сырости, из мрака, от крыс, от колебаемых и сырых полок, от страха, от томления предсмертного, от дней полузабытья, от ночей бессонницы, идут в зрительный зал клуба Губчека и батальона ВЧК по светлым широким мраморным ступеням лестниц, по площадкам, на которых часовые, как изваянья, а воздух насыщен электрическим светом, нагрет сухим дыханием калориферов. Длинный, пестрый, стоголовый пахучий зверь с мягким шумом катанок и унтов послушно прополз за комендантом в третий этаж, пестрой шкурой накрыл все стулья зрительного зала.
На красном полотнище занавеса сцепы надпись: "ОБМАНУТЫМ КРЕСТЬЯНАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ МСТИТ".
По складам, с трудом разобрали и с затаенной радостной надеждой вздохнули, зашевелились, зашептали. Но в зеленых гирляндах сосновых веток по стенам другие надписи, страшные, пугающие, противоречащие:
"СМЕРТЬ ВРАГАМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ". "СМЕРТЬ АНТАНТЕ И ЕЕ СЛУГАМ".
На пестрой шкуре дрожь, от дрожи складки. И шепот громче, взволнованнее.
– Сме-е-ерть… См… сме-сме-рть… сме-сме-смерть… В зале запах пота, заношенного белья, портянок, кислых овчин, махорки. Комендант приказал открыть форточку. И пестрый лохматый зверь жадно раздул ноздри, захватил полную грудь свежей сырости тающего снега, крепкого хмеля первого холодного пота земли. Беспокойно, с тоской завозился зверь, затрещали, заскрипели стулья. Потянуло здорового, сильного к земле, захотелось впиться в ее черную грудь, припасть к ней большим, потным, мокрым, на работе взмокнувшим телом.
И Срубов и Кац, когда вошли в залу, увидели на лицах, в глазах арестованных крестьян серую тоску, поняли, что от безделья, от подвальной духоты, от тягостного ожидания смерти, что по земле, по работе она. Срубов быстро, упругими широкими шагами вышел на подмостки сцены. Высокий, в черной коже брюк и куртки, чернобородый, черноволосый, с револьвером на боку, на красном фоне занавеса, он стал как отлитый из чугуна. Смело посмотрел в глаза укрощенному, пестрому сильному зверю. Первое слово – обращение сказал с радостью укротителя, уверенного в победе:
– Товарищи…
Негромко, медленно, чуть нараспев. Как погладил по упрямой жесткой шерсти. Вызвал легкую щекочущую дрожь во всей пестрой шкуре. Как укротитель, спокойно открывающий клетку укрощенного зверя, Срубов спокойно объявил:
– Через час вы будете освобождены.
Радостью огненной, сверкающей блеснули сто двенадцать пар глаз. Взволнованно, радостно зарычал пестрый зверь. А из форточки непрерывным потоком хмель тающего снега. Сильнее, шире раздуваются ноздри, кружит головы весенний угар. И Срубов захмелел от хмельного дыхания близкой весны, от хмельной звериной радости ста двенадцати человек. Расперли грудь большие, набухшие радостью огненные клубы слов. Рассыпались солнечным, слепящим дождем искр по пестрой шкуре зверя, щелкая, подпаливая шерсть, забегали колющими красными, синими, зелеными огоньками.
– Товарищи, Революция – не разверстка, не расстрелы, не Чека. В море огня мелькнула черпая обуглившаяся фигура расстрелянного отца и исчезла, сгорела.
– Революция – братство трудящихся.
После концерта, спектакля освобожденный пестрый зверь с довольным ворчанием, с топотом, сотнями ног побежал в раскрытые ворота на улицу.
И радостью, беспричинной хмельной звериной радостью жизни опьянели чекисты. И в ту ночь невиданное увидел белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми у ворот и дверей.
Вышли за ворота с хохотом, с громкими криками сотрудники Губчека. Предгубчека мальчишкой забежал вперед, схватил горсть снегу, смял и Ваньке Мудыне н рожу. Ванька захлебнулся смехом, взвизгнул.
– Я вам сейчас, товарищ Срубов, председательскую залеплю. Мудыню поддержал мрачный Боже. Срубову сразу в спину и шею два белых холодных комка. Срубов в кучу чекистов еще ком, и чекисты, как школьники, выскочившие на большую перемену на улицу, с визгом принялись лупиться снегом. Ком снега – ком смеха. Смех – снег. И радость неподдельная, беспричинная, хмельная, звериная радость жизни.
Срубова облепили, выбелили с головы до ног. Попало в лицо и неприкосновенным лицам – часовым.
Простились, разошлись усталые с мокротой за воротниками, с мокрыми покрасневшими горящими руками и щеками.
Срубов на углу пожал руку Каца, посмотрел на него прояснившимися, блестящими черными глазами.
– До свидания, Ика. Все хорошо, Ика. Революция – это жизнь. Да здравствует Революция, Ика.
И дома Срубов с аппетитом поужинал. И, вставая из-за стола, схватил печальную, черную женщину – мать, закружился с ней по комнате. Мать вырывалась, не знала, сердиться ей или смеяться, кричала, задыхаясь от бешеных туров неожиданного вальса.
– Андрей, ты с ума сошел. Пусти, Андрей… Срубов смеялся.
– Все хорошо, мамочка. Да здравствует Революция, мамочка!
VII
Допрашиваемый посредине кабинета. Яркий свет ему в глаза. Сзади него, с боков – мрак. Впереди, лицом к лицу, – Срубов. Допрашиваемый видит только Срубова и двух конвоиров на границе освещаемого куска пола.
Срубов работал с бумагами. На допрашиваемого никакого внимания. Не смотрел даже. А тот волнуется, теребит хилые, едва пробивающиеся усики. Готовится к ответам. Со Срубова не спускает глаз. Ждет, что он сейчас начнет спрашивать. Напрасно. Пять минут – молчание. Десять. Пятнадцать. Закрадывается сомнение, будет ли допрос. Может быть, его вызвали просто для объявления постановления об освобождении? Мысли о свободе легки, радостны.
И вдруг неожиданно:
– Ваше имя, отчество, фамилия?
Спросил и головы не поднял. Будто бы и не он. Все бумаги перекладывает с места на место. Допрашиваемый вздрогнул, ответил. Срубов и не подумал записать. Но все-таки вопрос задан. Допрос начался, Надо говорить ответы.
Пять минут – тишина. И опять:
– Ваше имя, отчество, фамилия?
Допрашиваемый растерялся. Он рассчитывал на другой вопрос. Запнувшись, ответил. Стал успокаивать себя. Ничего нет особенного, если переспросили. Новая пауза.
– Ваше имя, отчество, фамилия?
Это уже удар молота. Допрашиваемый обескуражен. А Срубов делает вид, что ничего не замечает.
И еще пауза. И еще вопрос:
– Ваше имя, отчество, фамилия?
Допрашиваемый обессилен, раскис. Не может собраться с мыслями. Сидит он на табуретке без спинки. От стены далеко. Да и стену не видно. Мрак рыхлый. Ни к чему не прислониться. И этот свет в глаза. Винтовки конвойных. Срубов, наконец, поднимает голову. Давит тяжелым взглядом. Вопросов не задает. Рассказывает, в какой части служил допрашиваемый, где она стояла, какие выполняла задания, кто был командиром. Говорит Срубов уверенно, как по послужному списку читает. Допрашиваемый молчит, головой кивает. Он в руках Срубова.
Нужно подписать протокол. Не читая, дрожащей рукой, выводит свою фамилию. И только отдавая длинный лист обратно, осознает страшный смысл случившегося – собственноручно подписал себе смертный приговор. Заключительная фраза протокола дает полное право Коллегии Губчека приговорить к высшей мере наказания.
…участвовал в расстрелах, порках, истязаниях красноармейцев и крестьян, участвовал в поджогах сел и деревень.
Срубов прячет бумагу в портфель. Небрежно бросает:
– Следующего.
А об этом ни слова. Что был он, что нет. Срубов не любит слабых, легко сдающихся. Ему нравились встречи с ловкими, смелыми противниками, с врагом до конца.
Допрашиваемый ломает руки.
– Умоляю, пощадите. Я буду вашим агентом, я выдам вам всех… Срубов даже не взглянул. И только конвойным еще раз. настойчиво:
– Следующего, следующего.
После допроса этого жидкоусого в душе брезгливая дрожь. Точно мокрицу раздавил.
Следующий капитан-артиллерист. Открытое лицо, прямой, уверенный взгляд расположили. Сразу заговорил. Долго у белых служили? С самого начала.
– Артиллерист? Артиллерист.
Вы под Ахлабинным не участвовали в бою? Как же, был.
– Это ваша батарея возле деревни в лесу стояла?
– Моя.
– Ха-ха-ха-ха!..
Срубов расстегивает френч, нижнюю рубашку. Капитан удивлен. Срубов хохочет, оголяет правое плечо.
– Смотрите, вот вы мне как залепили.
На плече три розовых глубоких рубца. Плечо ссохшееся:
– Я под Ахлабинным ранен шрапнелью. Тогда комиссаром полка был.
Капитан волнуется. Крутит длинные усы. Смотрит в пол. А Срубов ему совсем как старому знакомому.
– Ничего, это в открытом бою.
Долго не допрашивал. В списке разыскиваемых капитана не было. Подписал постановление об освобождении. Расставаясь, обменялись долгими, пристальными, простыми человечьими взглядами.
Остался один, закурил, улыбнулся и на память в карманный блокнот записал фамилию капитана.
А в соседней комнате возня. Заглушенный крик. Срубов прислушался. Крик снова. Кричащий рот – худая бочка. Жмут обручи пальцы. Вода в щели. Между пальцев крик.
Срубов в коридор.
К двери.
ДЕЖУРНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
Заперто.
Застучал, руки больно.
Револьвером.
– Товарищ Иванов, откройте! Взломаю.
Не то выломал, не то Иванов открыл.
Черный турецкий диван. На нем подследственная Новодомская. Белые, голые ноги. Белые клочки кружев. Белое белье. И лицо. Уже обморок.
А Иванов красный, мокро-потный.
И через полчаса арестованный Иванов и Новодомская в кабинете Срубова. У левой стены рядом в креслах. Оба бледные. Глаза большие, черные. У правой на диване, на стульях все ответственные работники. Френчи, гимнастерки защитные, кожаные тужурки, брюки разноцветные. И черные, и красные, и зеленые.
Курили все. За дымом лица серые, мутные.
Срубов посередине за столом. В руке большой карандаш. Говорил и черкал.
– Отчего не изнасиловать, если ее все равно расстреляют? Какой соблазн для рабьей душонки.
Новодомской нехорошо. Холодные кожаные ручки сжала похолодевшими руками.
– Позволено стрелять – позволено и насиловать. Все позволено… И если каждый Иванов?..
Взглянул и направо и налево. Молчали все. Посасывали серые папироски.
– Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено. Сломал карандаш. С силой бросил на стол. Вскочил, выпятил лохматую черную бороду.
– Иначе не революция, а поповщина. Не террор, а пакостничанье. Опять взял карандаш.
– Революция – это не то, что моя левая нога хочет. Революция… Черкнул карандашом.
– Во-первых…
И медленно, с расстановкой:
– Ор-га-ни-зо-ван-ность. Помолчал.
– Во-вторых…
Опять черкнул. И также:
– Пла-но-мер-ность, в-третьих…
Порвал бумагу. – Ра-а-счет.
Вышел из-за стола. Ходит по кабинету. Бородой направо, бородой налево. Жмет к стенам. И руками все поднимает с пола и кладет кирпич, другой, целый ряд. Вывел фундамент. Цементом его. Стены, крышу, трубы. Корпус огромного завода.
– Революция – завод механический.
Каждой машине, каждому винтику свое.
А стихия? Стихия – пар, не зажатый в котел, электричество, грозой гуляющее по земле.
Революция начинает свое поступательное движение с момента захвата стихии в железные рамки порядка, целесообразности. Электричество тогда электричество, когда оно в стальной сетке проводов. Пар тогда пар, когда он в котле.
Завод заработал. В него. Ходит между машинами, тычет пальцами.
– Вот наша. Чем работает? Гневом масс, организованным в целях самозащиты…
Крепкими железными плиточками, одна к одной в головах слушателей мысли Срубова.
Кончил, остановился перед комендантом, сдвинул брови, постоял и совершенно твердо (голос не допускает возражений):
– Сейчас же расстреляйте обоих. Его первого. Пусть она убедится. Чекисты с шумом сразу встали. Вышли, не оглядываясь, молча. Только Пепел обернулся в дверях и бросил твердо, как Срубов:
– Это есть правильно. Революция – никакой филозофий. У Иванова голова на грудь. Раскрылся рот. Всегда ходил прямо, а тут закосолапил. Новодомская чуть вскрикнула. Лицо у нее из алебастра. Ничком на пол, без чувств. Срубов заметил ее рваные высокие теплые галоши (крысы изъели в подвале.)
Взглянул на часы, потянулся, подошел к телефону, позвонил:
– Мама, ты? Я иду домой.
За последнее время Срубов стал бояться темноты. К его приходу мать зажгла огонь во всех комнатах.
VIII
Срубов видел диво – Белый и Красный ткали серую паутину будней.
Его, Срубова, будней.
Белый тянул паутину от учреждения к учреждению, от штаба к штабу, клал узкие, крепкие петли вокруг белого трехэтажного каменного дома, стягивая концы в одно место, за город, в гнилой домишко караульщика губземотдельских огородов. Белый плел паутину ночами, по темным задворкам, по глухим переулкам, прятался от Красного, думал, что Красный не видит, не знает.
Красный вил паутинную сетку параллельно сетке Белого – нить в нить, узел в узел, петлю в петлю, но концы стягивал в другое место – в белый трехэтажный каменный дом. Красный вил и днем и ночью, не прерывал работу ни на минуту. Прятался от Белого, был уверен, что Белый не видит, не знает.
У Белого и у Красного напряженная торопливость работы, у каждого надежда на крепость своей паутины, расчет своей паутиной опутать, порвать паутину другого.
А именно в торопливости, напряженности, настороженности – в близкой путанице паутины своей и чужой – будни Срубова. Не спать неделями или спать, не раздеваясь, на стуле за столом, на столе, в санях, в седле, в автомобиле, в вагоне, на тормозе, есть всухомятку, на ходу, принять, встретить, опросить, проинструктировать десятки агентов, прочесть, написать, подписать сотни бумаг, еле держать голову, еле таскать ноги от усталости – будни. И так вот, не раздеваясь, засыпая за столом в кресле или ложась на час, на два на диван, в непрерывной грязной лавине людей, в белых горах бумаги, в сине-серых облаках табачного дыма Срубов работал восьмые сутки. (Вообще же служба в Чека красно-серое, серо-красное. Красный и Белый, Белый и Красный. И бесконечная путаница паутины – третий год.)
И вот когда все приготовления сделаны, все распоряжения отданы, паутина чужая прочно оплетена паутиной своей, когда сотрудники с ордерами, с мандатами посланы куда следует и сделают все, как следует и когда следует, когда в белом трехэтажном доме тихо и пусто (только в нижнем этаже оставлена рота батальона ВЧК), когда в ночь с восьмого на девятое нужно ждать результатов горячечной работы последней недели, когда до начала облавы, обысков, арестов осталось ровно два часа, когда хочется спать, глаза красны – раскрыть на столе папку черного сафьяна и одним пальцем рыться в стопках бумажных клочков, обрывков, перечитывать клочки, обрывки мыслей, подпирать рукой тяжелую голову, зевать, курить.
Большой лист графленой бумаги.
"Во Франции были гильотина, публичные казни. У нас подвал. Казнь негласная. Публичные казни окружают смерть преступника, даже самого грозного, ореолом мученичества, героизма. Публичные казни агитируют, дают нравственную силу врагу. Публичные казни оставляют родственникам и близким труп, могилу, последние слова, последнюю волю, точную дату смерти. Казненный как бы не уничтожается совсем.
Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватает свои жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно."
Бланк – председатель Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр… Далее вырван неровный лоскут. На уцелевшей полоске записано:
"1. В 9 ч. в. свидание с Арутьевым.
2. Спросить завхоза, почему в этом м-це выдали тухлое сало.
3. Завтра общегородское собрание.
4. Юрасику на штанишки и чего-нибудь сладкого."
Подписанный протокол обыска. На чистом конце синим карандашом: "Террор необходимо организовать так, чтобы работа палача-исполнителя почти ничем не отличалась от работы вождя-теоретика. Один сказал – террор необходим, другой нажал кнопку автомата-расстреливателя. Главное, чтобы не видеть крови.
В будущем "просвещенное" человеческое общество будет освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерии. Тогда не будет подвалов и "кровожадных" чекистов. Господа ученые, с ученым видом, совершенно бесстрашно будут погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонок начнут обращать их в ваксу, и вазелин, в смазочное масло.
О, когда эти мудрые химики откроют для блага человечества свои лаборатории, тогда не нужны будут палачи, не будет убийства, войн. Исчезнет и слово "жестокость". Останутся одни только химические реакции и эксперименты…" Из блокнота.
1. Сдать в газету приказ о регистрации нарезного оружия.
2. Посоветоваться с Начосо.
3. Мысли о терроре систематически записывать. Когда будет время – написать книгу.
4. Поговорить с профессором Беспалых об электронах.
Обрывок глянцевитой бумаги для черчения. Чертеж автомата-расстреливателя.
На внутренней стороне использованного пакета мелко красными чернилами:
"Наша работа чрезвычайно тяжела. Недаром наше учреждение носит название чрезвычайной комиссии. Бесспорно, и не все чекисты люди чрезвычайные. Однажды высокопоставленный приятель сказал мне, что чекист, расстрелявший пятьдесят контрреволюционеров, достоин быть расстрелянным пятьдесят первым. Очень мило. Выходит, так – мы люди первого сорта, мы теоретически находим террор необходимым. Хорошо. Примерно получается такая картина – существуют насекомые-вредители хлебных злаков. И есть у них враги – такие же насекомые. Ученые-агрономы напускают вторых на первых. Вторые пожирают первых. Хлебец целиком попадает в руки агрономов. А несчастные истребители больше не нужны и к числу спокойно кушающих белые булочки причислены быть не могут",
Но если голова тяжела, глаза красны и сон свинцом наваливается на плечи, на спину – сложить, закрыть черную папку грудью, лицом, бородой на нее и спать, спать, спать.
А за окнами в синем мраке шмыгающий топот ног, хруст льдинок невидимых лужиц, гул голосов, шорох толпы, гудящие волны идущих к заутрене. На соборной колокольне колокол, самый большой и старый, серо-зеленый от старости, черным железным языком лениво лизал медные серо-зеленые губы, ворчал: "0-о-о-мим-о-о-омим-о-о-омим…"
В кабинете табак, духота, яркий свет электрической люстры и дрожь непрерывная, звонкая дрожь молоточка телефонного звонка. К Срубову в оба уха ползли металлические мухи: "Ж-ж-ж-др-р-р-др-р-р-р-ж-ж-ж…"
Добились своего-разбудили. Голова еще тяжелей, веки слиплись. Горько, сухо во рту. Но мысль сразу верная, ясная – началось.
И началось. Левая рука не отпускает трубку от уха. По телефону донесения, по телефону – распоряжения. На столе карта города. Глаза на ней. Правая рука ставит крестики над захваченными районами, конспиративными квадратами, складами оружия, рвет, сечет короткими косыми черточками тонкую запутанную паутину Белого. У Срубова на губах горькая, ироническая усмешка.
Над городом сырая синь ночи, огни иллюминованных церквей, ликующий пасхальный звон, шуршащие шаги толп, поцелуи, христосование. Христос воскрес! И над городом с горькой усмешкой, со злыми глазами стоит Она – оборванная, полуголодная, властно, тяжело, босой ногой наступает на сусальную радость христосующихся, на белые сладкие пирамидки творога и куличей. Потухли горшки, плошки на церковных карнизах, заглох звон, затих шорох шагов, топот сбежавших, спрятавшихся по домам. Над городом молчание, напряженная тишина, жуть, и в черной синеве весенней ночи синева Ее зорких гневных глаз.
Срубов не усидел в кабинете. Отозвал с облавы Каца, усадил в свое кресло и на автомобиле помчался по городу. Торжествующим ревом с фырканьем, сверкая глазищами фонарей, заметался по улицам сильный стальной зверь. Но Белого не было. Белый забился на задворки, в темные углы, в подполье.
Остался в памяти арест главаря организации – караульщика губземотдельских огородов Ивана Никифоровича Чиркалова, бывшего колчаковского полковника Чудаева. Полковник держался гордо, спокойно. Не утерпел, съязвил:
– Христос воскрес, господин полковник. И, сажая к себе в автомобиль, добавил:
– Эх, огородник, сажал редьку – вырос хрен.
Чудаев молчал, натягивая на глаза фуражку. Испуганные дамы в нарядных платьях, мужчины в сюртуках, сорочках. Соломин невозмутимо спокойный, шмыгающий носом, разрывающий нафталинный покой сундуков.
– Сказывайте, сколь вас буржуев. Кажинному по шубе оставим. Лишки заберем.
И еще, когда осматривал кучи отобранного оружия, гордо, радостно забилось сердце, крепкая красная сила разлилась по всем мускулам.
Остальное – ночь, день, улицы, улицы, цепочки, цепи патрулей, ветер в ушах, запах бензина, дрожь сиденья автомобиля, хлопанье дверцы, слабость в ногах, шум, тяжесть в голове, резь в глазах, квартиры, комнаты, углы, кровати, люди – бодрствующие, со следами бессонницы на серых лицах, заспанные, удивленные, спящие, испуганные, чекисты, красноармейцы, винтовки, гранаты, револьверы, табак, махорка и серо-красное, красно-серое и Белый, Красный и Красный, Белый. И после ночи, дня и еще ночи нужно было принимать посетителей, родственников арестованных.
Просили все больше об освобождении. Срубов внимателен и равнодушен. Сидит он, хотя и в кресле, но на огромной высоте, ему совершенно не видно лиц, фигур посетителей. Двигаются какие-то маленькие черные точки – и все.
Старуха просит за сына, плачет.
– Пожалейте, единственный…
Падает на колени, щеки в слезах, мокрые. Утирается концом головного платка. Срубову кажется ее лицо не больше булавочной головки. Кланяется старуха в ноги. Опускает, поднимает голову – светлеет, темнеет электрический шарик булавки. Звук голоса едва долетел до слуха:
– Единственный.
Но что он может сказать ей? Враг всегда враг – семейный или одинокий – безразлично. И не все ли равно – одной точкой больше или меньше.
Сегодня для Срубова нет людей. Он даже забыл об их существовании. Просьбы не волнуют, не трогают. Отказывать легко.
– Нам нет дела, единственный он у вас или нет. Виноват – расстреляем.
Одна булавочная головка исчезла, другая вылезла.
– Единственный кормилец, муж… пять человек детей.
Старая история. И этой так же.
Семейное положение не принимается в расчет.
Булавка краснеет, бледнеет. Лицо Срубова, неподвижно каменное, мертвенно-бледное, приводит ее в ужас.
Выходят, выходят черные точки-булавки. Со всеми одинаков Срубов – неумолимо жесток, холоден.
Одна точка придвинулась близко, близко к столу. И когда снова отошла, на столе осталась маленькая темная кучка. Срубов медленно сообразил – взятку сунул. Не спускаясь со своей недостигаемой высоты, бросил в трубку телефона несколько слов-ледышек. Точка почернела от испуга, бестолково залепетала:
– Вы не берете. Другие ваши берут. Случалось…
– Следствие выяснит, кто у вас брал. Расстреляем и бравших и вас.
Были и еще посетители – все такие же точки, булавочные головки. Во все время приема чувствовал себя очень легко – на высоте непомерной. Немного только озяб. От этого, вероятно, каменной белизной покрылось лицо.
Родные, родственники, близкие могли, конечно, униженно просить, дрожать, плакать, стоять в очереди с бедными узелками передач, передавать арестованным сладкие пасхи, сдобные куличи, крашеные яйца – белый трехэтажный каменный дом неумолим, тверд. Жесток, строго справедлив, как часовой механизм и его стрелки.
Родные могли еще приходить со сдобным и сладким, когда арестованные, сфотографированные с меловым номером на груди, уже прошли свой путь из подвала No 3 в тюрьму, из тюрьмы связанными в подвал No 2, из него в No 1 и, следовательно, на кладбище, когда на дворе в помойке дымились черновики их дел, уже сданных в архив (черновики, обрывки, выметенные за день из отделов, в Губчека всегда жглись), когда желтые, жирные, голохвостые крысы огрызали крепкими зубами, острыми красными язычками вылизали их кровь.
Белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми равнодушно скалил чугунные зубы ворот, высовывал из подворотни красные кровяные языки в белой слюне известки (в теплое время кровь, натекшую с автомобилей, увозящих трупы, всегда присыпали известью). Он не знает горя ни тех, кто работает в нем, ни тех, кого приводят в него, ни тех, кто приходит к нему.
IX
На заседании Коллегии окончательно выяснилась такая схема белогвардейской организации:
Группа А – пятнадцать пятерок, активнейшие строевые колчаковские офицеры, главным образом из числа служащих советских учреждений. Ее задача взять партшколу и артсклад. Группа Б – десять пятерок, бывшие офицеры, бывшие торговцы, мелкие предприниматели, лавочники, служащие в солдатах, несколько человек из комсостава Красной Армии. Задача – взять телеграф, телефонную станцию, Губисполком. Группа В – семь пятерок, сброд. Задача – вокзал.
После захвата назначенных пунктов и выделения достаточного количества постов для их охраны, соединение всех групп, ставка на переход некоторых красноармейских частей, атака Губчека, бой с войсками, верными советской власти.
Организация, кроме тридцати двух пятерок, имела много сочувствующих, помогающих, исполняющих вторые роли.
На заседании Коллегии Срубов чувствует себя очень хорошо. Он на огромной высоте. А люди – где-то далеко, далеко внизу. И с высоты именно он увидел, как на ладони, всю хитрую путаницу паутины Белого, разорвал ее. Срубов полон гордого сознания своей силы.
Следователь докладывает:
– …активный член организации, его задачей…
Слушали все внимательно. В кабинете совершенно тихо. У Каца насморк. Слышно, как он сдержанно сопит. Прерывисто мигает электрическая лампочка.
Следователь кончил. Молчит, смотрит на Срубова. Срубов ему вопрос:
– Ваше заключение?
Следователь трет руку об руку, поводит плечами, ежится:
– Полагаю, высшую меру наказания. Срубов кивает головой. И ко всем:
– Имеется предложение – расстрелять. Возражения? Вопросы? Моргунов покраснел, макнул усы в стакан с чаем.
– Ну, конечно.
– Стрельнули, значит?
Срубову весело. Кац, сморкаясь, подтвердил:
– Стрельнули.
– Следующего.
Следователь проводит рукой по черной щетине волос, начинает новый доклад.
– Поставщиком оружия для организации являлся…
– Этого как, товарищи?
Кац опустил голову, полез в карман за носовым платком. Пепел сосредоточенно закурил. Моргунов задумчиво помешивал ложечкой в стакане чай. Казалось, что никто ничего не слышал. Срубов помолчал. Потом громко решительно сказал за всех:
– Принято.
Фамилии, фамилии, фамилии, чины, должности и звания. Один раз Моргунов возразил, стал доказывать:
– По-моему, этот человек не виноват… Срубов его остановил решительно и злобно:
– Ну, вы, миндаль сахарный, замолчите. Чека есть орудие классовой расправы. Поняли? Если расправы, так, значит, – не суд. Персональная ответственность для нас имеет значение безусловное, но не такое, как для обычного суда или Ревтрибунала. Для нас важнее всего социальное положение, классовая принадлежность. И только.
Ян Пепел, энергично подняв сжатые кулаки, поддержал Срубова.
– Революция – никакой философии. Расстрелять. Кац тоже высказался за расстрел и стал усиленно сморкаться. Срубов на огромной высоте. Страха, жестокости, непозволенного – нет. А разговоры о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном – чепуха, предрассудки. Хотя для людишек-булавочек весь этот хлам необходим. Но ему, Срубову, к чему? Ему важно не допустить восстания этих булавочек. Как, каким способом – безразлично.
И одновременно Срубов думает, что это не так. Не все позволено. Есть границы всему. Но как не перейти ее? Как удержаться на ней?
Бледнело лицо. Между бровей складки. Срубов не слушал докладчика-следователя. Думал, как остановиться на предельной точке дозволенного. И где она? На чем-то очень остром стоял одной ногой, другой и руками пытался сохранить равновесие. Удавалось с трудом. И только, кажется, уже к концу заседания обеими ногами стал устойчиво, твердо. Очень обрадовался, нашел способ удержаться на предельной черте. Все зависит, оказывается, от остроконечной, трехгранной пирамидки. Ее, конечно, присутствие и обнаружил у себя в мозгу. Она железной твердости и чистоты. Ее состав – исключительно критикующие и контролирующие электроны. Улыбаясь, погладил себя по голове. Волосы прижал поплотнее к черепу, чтобы не выскочила драгоценная пирамидка. Успокоился.
Под протоколом подписался первым. Четко, крупными кольцами с нажимом подписал Срубов, от "о" протянул тонкую ниточку и прикрепил ее к концу толстой длинной палки, заменившей букву "в". Вся подпись – кусок перекрученной деревянной стружки, нацепленной на кол. Члены коллегии на секунду замешкались. Каждый ждал, что кто-нибудь другой первый возьмет перо.
Ян Пепел решительно схватил ручку Срубова. Против слова "Члены" быстро нацарапал – Ян Пепел.
Срубов мрачно сдвинул брови. От белого листа протокола в лицо холод снежной ямы. Живому неприятно у могилы. Она чужая. Но она под ногами. Между фамилией последнего приговоренного и подписью Срубова – один сантиметр. Сантиметром выше – и он в числе смертников. Срубов даже подумал, что машинистка при переписке может ошибиться, поставить его в ряд с теми.
А когда собрались расходиться, внимание привлек стриженый затылок Каца. Невольно пошутил:
Какой у тебя, Ика, шикарный офицерский затылок – крутой, широкий. Не промахнешься.
Кац побледнел, нахмурился. Срубову неловко. Не глядя друг на друга, не простившись, вышли в коридор.
Последний лист бумаги (последние вспышки гаснущего рассудка), положенный Срубовым в черную папку, был мятый, неровно оторванный, с кривыми узловатыми синими жилами строк.
"Если расстреливать всю Чиркаловскую-Чулаевскую организацию пятерками в подвале, потребовалось бы много времени. Чтобы ускорить, вывел больше половины за город. Сразу всех раздели, поставили на краю канавы-могилы. Боже просил разрешения разграфить (зарубить шашками) – отказали. Стреляли сразу десять человек из револьверов в затылки. Некоторые приговоренные от страха садились на край канавы, свешивали в нее ноги. Некоторые плакали, молились, просили пощадить, пытались бежать. Картина обычная. Но кругом была конная цепь. Кавалеристы не выпустили ни одного – порубили. Крутаев выл, требовал меня – "Позовите товарища Срубова! Имею ценные показания. Приостановите расстрел. Я еще пригожусь вам. Я идейный коммунист". И когда я подошел к нему, он не узнал меня, бессмысленно таращил глаза, ревел – "Позовите товарища Срубова!" Все-таки пришлось расстрелять его. Обнаружилось у него уж слишком кровавое прошлое, надоели заявления на него, да к тому же, все, что мог дать нам, он дал.
Но все же меня поразило, привело в восторг большинство этих людей. Видимо, Революция выучила даже умирать с достоинством. Помню, еще мальчишкой я читал, как в японскую войну казаки заставили хунхузов рыть могилы, сажали их на край и поочередно, поодиночке отрубали им головы. Меня восхищало это восточное спокойствие, невозмутимость, с которым ожидали смертельного удара. И теперь я прямо залюбовался, когда освещенная луной длинная шеренга голых людей застыла в совершенном безмолвии и спокойствии, как неживая, как ряд гипсовых алебастровых статуй. Особенно твердо держались женщины. И надо сказать, что, как правило, женщины умирают лучше мужчин.
Из ямы кто-то закричал: "Товарищи, добейте!" Соломин спрыгнул в яму на трупы, долго ходил по ним, переворачивал, добивал. Стрелять было все-таки плохо. Ночь была хотя и лунная, но облачная.
Когда луна осветила окровавленные лица расстрелянных, лица трупов, я почему-то подумал о своей смерти. Умерли они – умрешь и ты. Закон земли жесток, прост – родись, роди, умирай. И я подумал о человеке – неужели он, сверлящий глазами телескопов эфир вселенной, рвущий границы земли, роющийся в пыли веков, читающий иероглифы, жадно хватающийся за настоящее, дерзко метнувшийся в будущее, он, завоевавший землю, воду, воздух, неужели он никогда не будет бессмертен? Жить, работать, любить, ненавидеть, страдать, учиться, накопить массу опыта, знаний и потом стать зловонной падалью… Нелепость…
Возвращались мы с восходом солнца. Проходя к автомобилю, я наступил ногой на муравейник. Десятки муравьев впились мне в сапоги. Я ехал и думал: козявка и та вступает в смертельный бой за право жить, есть, родить. Козявка козявке грызет горло. А мы вот философствуем, нагромоздили разных отвлеченных теорий и мучаемся. Пепел говорит: "Революция – никакой философии". А я без "философии" ни шагу. Неужели это только так и есть… родись, роди, умри?"
X
Потом была койка в клиниках для нервнобольных. Был двухмесячный отпуск. Было смещение с должности предгубчека. Была тоска по ребенку. Был длительный запой. Многое было за несколько месяцев.
И вот теперь этот допрос. Срубов худой, желтый, под глазами синие дуги. Кожаный костюм надет прямо на кости. Тела, мускулов нет. Дыхание прерывистое, хриплое.
А допрашивает Кац. Лицо у него – круглый чайник. Нос – дудочка острая, опущенная вниз. Хочется встать и с силой ткнуть большим пальцем в ненавистную дудочку, заткнуть ее. И ведь сидит, начальство из себя разыгрывает за его же столом. Ручку белую слоновой кости схватил красной лапой, в чернилах всю вымазал. А допрос – пытка. Да хотя бы уж допрашивал. Куда там – лекцию читает: авторитет партии, престиж Чека. И все дудочкой кверху, кверху, как в самое сердце сует ее, ковыряет.
Рвет Срубов бороду. Зубы стискивает. Глазами огненными, ненавидящими Каца хватает. По жилам обида кислотой серной. Жжет, вертит. Не выдержал. Вскочил и бородой на него:
– Понял ты, дрянь, что я кровью служил Революции, я все ей отдал, и теперь лимон выжатый. И мне нужен сок. Понял, сок алкоголя, если крови не стало.
На мгновенье Кац, следователь, предгубчека, обратился в прежнего Ику. Посмотрел на Срубова ласковыми большими глазами.
– Андрей, зачем ты сердишься? Я знаю, ты хорошо служил Ей. Но ведь ты не выдержал?
И оттого, что Кац боролся с Икой, оттого, что это было, больно, с болью сморщившись, сказал:
– Ну, поставь себя на мое место. Ну, скажи, что я должен делать, когда ты стал позорить Ее, ронять Ее достоинство?
Срубов махнул рукой и по кабинету. Кости хрустят в коленях. Громко шуршали кожаные штаны. На Каца не смотрит. Стоит ли обращать внимание на это ничтожество? Перед ним встала Она – любовница великая и жадная. Ей отдал лучшие годы жизни. Больше – жизнь целиком. Все взяла – душу, кровь и силы. И нищего, обобранного отшвырнула. Ей, ненасытной, нравятся только молодые, здоровые, полнокровные. Лимон выжатый не нужен более. Объедки в мусорную яму. Сколько позади Ее на пройденном пути валяется таких, выпитых, обессилевших, никому не нужных. Видит Срубов ясно Ее, жестокую и светлую. Проклятия, горечь разочарования комком жгучим в лицо Ей хочет бросить. Но руки опускаются. Бессилен язык. Видит Срубов, что Она сама – нищая, в крови и лохмотьях. Она бедна, потому и жестокая.
Но инвалид, объедок еще жив и жить хочет. А мусорщик с метлой уже пришел. Вон сидит – дудочка кверху. Нет, он не хочет в яму. Его решили уничтожить. Не удастся. Он сумеет скрыться. Не найдут. Жить, жить… Пусть остается на столе фуражка. С хитрой ядовитой улыбкой к Кацу:
– Гражданин предгубчека, я еще не арестован? Разрешите мне выйти в клозет?
И в дверь. И по коридору почти бегом. А Кац, ставший опять Кацем, предгубчека, краснеет от стыда за минутную слабость. С силой крутит ручку телефона, справляется у начальника тюрьмы, есть ли свободная одиночка. Закуривает, ждет Срубова, твердо, спокойно подписывает постановление об его аресте.
Но Срубов уже на улице. На тротуарах людно и тесно. По середине дороги длинные костлявые ноги разбрасывал широко. Руками махал. Волосы на ветру торчком в разные стороны. Любопытные останавливались и показывали пальцами. Ничего не видел. Помнил только, что надо бежать. Несколько раз сворачивал за углы. Названия улиц, номера домов не играли роли. Важно было только скрыться. Задыхался, падал, вставал и снова дальше. Хлопали, открывались какие-то двери. Росла надежда, что побег удастся. Не догонят…
И вдруг неожиданно, как несчастье, черная непроницаемая стена загородила дорогу. А за спиной двойник. Он, оказывается, гнался все время следом. Не оглядывался – не видел. Теперь он доволен – догнал. Вон ртом хватает воздух, как рыба, и рожу кривит.
Срубов не понимал, что он у себя на квартире стоит перед трюмо.
Страха перед двойником не было на этот раз. Моментально решил его уничтожить. Топор от печки сам прыгнул в руки. Со всего размаха двойника по лицу. Насквозь – от правого глаза к мочке левого уха. А он, дурак, в последнюю секунду еще засмеялся, захохотал. Так с хохотом и рассыпался по полу сверкающими кусками.
Один враг уничтожен. Теперь стена. Напрасно воображают поставить его к ней. Расстрелять его никому не удастся. Он обманет всех. Пусть думают, что он раздевается, а он ее топором. Прорубит и убежит.
Сзади в дверях бледное испуганное лицо матери.
– Андрюша, Андрюша.
Осыпалась штукатурка. Желтый бок бревна. Щепки летят. Еще и еще сильнее. Топор соскочил с топорища. Черт с ним. Зубы-то на что. Зубами, когтями прогрызет, процарапает и убежит.
– Андрей Павлович, Андрей Павлович, что вы делаете? Кто это тянет его за плечи. Надо посмотреть. Может быть. двойник опять поднялся с полу. Не насмерть его значит убил. Срубов пристально смотрит в глаза маленькому коренастому черноусому человеку. Ага, квартирант Сорокин. Обывателишка, в собесе служит. Надо держать себя с достоинством, подальше от этой дряни. Гордо поднял голову:
– Прошу, во-первых, не фамильярничать, не прикасаться ко мне грязными ручишками. Во-вторых, запомните, я коммунист и христианских имен, разных Андреев блаженных и Василиев первозванных или как там… Ну да, не признаю. Если вам угодно обращаться ко мне, то пожалуйста – мое имя Лимон…
Отчего-то сразу устал. Голова кружится. Сил нет. Угорел, что ли? Проехаться бы на автомобиле за город. Пожалуй, надо ПОМУЧИТЬ этого обывателишку. Оказывается, согласен, даже рад. И мать тоже тут, улыбается, головой кивает.
– Прокатись, Андрюша, прокатись, родной.
В прихожей разрешил надеть на себя пальто. На голову самое легкое кепи. Чем легче, тем лучше. В дверях обернулся. Мать что-то плачет. Вся дрожит, трясется.
– Мама, не забудь сегодня Юрику на завтрак котлетку… Ничего не ответила, плачет. Автомобиль двигался почему то не бензином, а конной тягой. Да и тащила его какая-то заморенная клячонка. Ну, все равно. Главное, чтобы сидеть. И Сорокин ничего, можно даже поговорить с ним.
– Сорокин, вы знаете, я ведь с механического завода. Рабочий. Двадцать четыре часа в сутки.
Все-таки сидеть трудно. Может быть, можно лечь? Надо спросить.
– Сорокин, кровать далеко? Я смертельно устал.
Ну и тип этот Сорокин. Чурбан с глазами. Молчит. Плохой кавалер – за талию сгреб, как медведь.
Из-за угла люди с оркестром, с развернутым красным знаменем. Оркестр молчит. Резкий, четкий стук ног.
В глазах Срубова красное знамя расплывается красным туманом. Стук ног – стук топоров на плотах (он никогда не забудет его). Срубову кажется, что он снова плывет по кровавой реке. Только не на плоту он. Он оторвался и щепкой одинокой качается на волнах. А плоты мимо, обгоняют его. Вдоль берегов многоэтажные корабли. Смешно немного Срубову, что сотни едущих, работающих на них с плотными красными лицами, с надувшимися напряженными жилами поднимают к небу длинные, длинные карандаши труб, чертят дымом каракульки на небесной голубой бумаге. Совсем дети. Те ведь всегда в тетрадках каракульки выводят.
Туман зловонный над рекой. Нависли крутые каменным берега. Русалка с синими глазами, покачиваясь, плывет навстречу. На золотистых волосах у нее красная коралловая диадема. Ведьма лохматая, полногрудая, широкозадая с ней рядом. Леший толстый в черной шерсти по воде, как по земле, идет. Из воды руки. ноги, головы почерневшие, полуразложившиеся, как коряги, как пни, волосы женщин переплелись, как водоросли. Срубов бледнеет, глаза не закрываются от ужаса. Хочет кричать – язык примерз к зубам.
А плоты вес мимо, мимо… Вереницей многоэтажные корабли. Оркестр поравнялся с пролеткой Срубова. Загремел. Срубов схватился руками за голову. Для него ни стук ног, ни бой барабанов, ни рев труб – земля затряслась, загрохотал, низвергаясь, вулкан, ослепила огненная кровавая лава, посыпался на голову, на мозг черный горячий пепел. И вот, сгибаясь под тяжестью жгучей черной массы, наваливающейся на спину, на плечи, на голову, закрывая руками мозг от черных ожогов, Срубов все же видит, что вытекающая из огнедышащего кратера узкая кроваво-мутная у истоков река к середине делается все шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан.
Плоты мимо, мимо корабли. Срубов собирает последние силы, стряхивает с плеч черную тяжесть, кидается к ближнему многоэтажному великану. Но гладки, скользки борты. Не за что уцепиться. Срубов соскочил с пролетки, упал на мостовой, машет руками, хочет плыть, хочет кричать и только хрипит:
– Я… я… я…
А на спине, на плечах, на голове, на мозгу черный пепел жгучей черной горой давит, жжет, жжет, давит.
И в тот же день.
Красноармейцы батальона ВЧК играли в клубе в шашки, играли, щелкали орехи, слушали, как Ванда Клембовская играла на пианино "непонятное".
Ефим Соломин на митинге говорил с высокого ящика.
– Товарищи, наша партия Рэ-Ка-Пы, наши учителя Маркса и Ленина – пшеница отборна, сортирована. Мы коммунисты – ничо себе сродна пшеничка. Ну, беспартийные – охвостье, мякина. Беспартийный – он понимат, чо куда? Никогды. По яво убивцы и Чека мол одно убийство. По яво и Ванька убиват, Митька убиват. А рази он понимат, что ни Ванька, ни Митька, а мир, что не убивство, а казнь – дела мирская…
А Ее с битого стекла заговоров, со стрихнина саботажа рвало кровью и пухло Ее брюхо (по библейски – чрево) от материнства, от голода. И, израненная, окровавленная своей и вражьей кровью (разве не Ее кровь – Срубов, Кац, Боже, Мудыня), оборванная, в серо-красных лохмотьях, во вшивой грубой рубахе, крепко стояла Она босыми ногами на великой равнине, смотрела на мир зоркими гневными глазами.
1923 г.
Примечания
1
Предисловие было написано для предполагавшегося издания повести в 1923 г. Но повесть не была напечатана, поэтому и предисловие не увидело свет (Прим. Изд.).
(обратно)

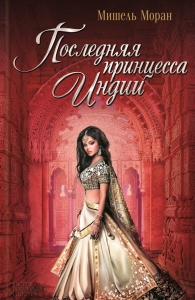



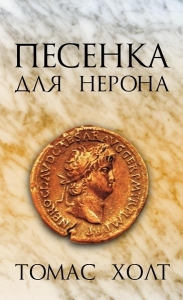
Комментарии к книге «Щепка», Владимир Яковлевич Зазубрин
Всего 0 комментариев