От автора
Во многих сказках царский сын непременно едет добывать невесту в тридевятое царство, в некоторое государство. Сказка, как известно, ложь, да в ней намек… Издавна цари и царевичи, короли и королевичи, а также герцоги, князья и прочие правители искали невест вдали от родных пределов. Почему? Да потому, что не хотели, чтоб измельчала порода. А еще хотели расширить связи своих государств с тридевятыми царствами.
Не были исключением и русские великие князья и государи. Первый, кто выбрал себе заморскую невесту, был Владимир стольно киевский, креститель Руси. И с тех пор это вошло в обычай. Причем не только чужих красавиц привозили на Русь, но и своих отдавали в жены другим государям.
Браки, говорят, совершаются на небесах. Поистине, только на небеса и приходилось уповать этим мужчинам и этим женщинам, которые, в лучшем случае, видели портреты друг друга, а вообще-то знакомились лишь накануне венчания. Порою супругам везло: они влюблялись друг в друга, и тогда их союз становился поэтическим преданием, счастливой сказкой. Порою слухи об их взаимной ненависти удручали весь мир.
У каждого из героев этой книги своя доля, свое счастье и несчастье. И своя любовь…
Викинг и Златовласка из Гардарики
Елизавета Ярославовна и Гарольд Гардрад
Солнечный свет не проникал в подземную темницу, зато один ее угол облюбовала себе змея. Сначала Гаральд только слышал ее шипение и никак не мог взять в толк, что это за звук раздается. Потом, когда глаза освоились с темнотой, разглядел в углу тугое тело, отливавшее тусклым блеском. Змея лежала тихо, но иногда поднимала голову и начинала тихо, сипло шипеть. Гаральд постоянно чувствовал на себе ее немигающий взгляд. Его словно все время кто-то крепко держал за руку. Иногда эта хватка ослабевала – когда змея исчезала. Наверное, она уползала куда-то в тюремную нору, небось мышей ловила, крыс или что они там жрут, змеи? Когда возвращалась – сытая, довольная, – шипела тише, почти усыпляюще. Гаральд понимал – теперь можно уснуть без опаски. Тварь не тронет! За четверо суток в подземелье слух Гаральда обострился до того, что он различал малейшие оттенки ее шипения, словно она была не змеей, а флейтой, одной из тех, на которых так искусно играли музыканты во дворце императрицы Зои. Ну а если змея вдруг начинала волноваться, поднимала голову и раскачивалась, словно готовилась броситься на своего невольного соседа, Гаральд сам усыплял ее: почти так, как усыплял змею африканский колдун, виденный Гаральдом на Сицилии. Только тот играл на длинной дудке – тоже что-то вроде флейты, а у Гаральда имелась только музыка слов. Поэтому он снова и снова бормотал свои Висы радости, которые именно тогда, в темнице, начали слагаться в голове:
Я в мирных родился Полночи снегах; Но рано отбросил успехи ловитвы, Лук звонкий, и лыжи, и в грозные битвы Вас, други, с собою умчал на судах; Но тщетно за славой летали далёко От милой отчизны, по диким морям; Но тщетно мы бились мечами жестоко: И море и суша покорствуют нам, – А дева русская Гаральда презирает…[1]Ох уж эта дева русская! Все из-за нее, из-за ее зеленых глаз и золотых кос! Такого дивного, обворожительного цвета Гаральд не видел нигде и никогда. Сестра Елизаветы, Анна, была просто рыжей – как белка, как лиса, другая сестра, Анастасия, имела волосы соломенного цвета, но когда Гаральд видел косы Елизаветы или, как он называл ее на норвежский лад, Эл-лисаф, ему казалось, что он стоит в некоей тайной сокровищнице и перебирает несметные богатства. Косы – злато, очи – смарагды, уста – лалы, кожа – мрамор, а румянец щек мог бы поспорить с утренней зарей…
Гаральд нахмурился. Заря – это нечто иное, как истинный скальд, он ощущал неточность сравнения. Ну какая заря может быть в сокровищнице?! А, вспомнил, с чем можно сравнить ланиты Эллисаф!
С тем редкостным багрянцем, который сияет на одеяниях византийских императоров! Эти одеяния стоят целое состояние!
Эти богатства Эллисаф, вместе взятые, ее тонкий стан, за который она была прозвана Шелковинкой, – вот что привело Гаральда сюда, в темницу, где в углу тихо шипит ядовитая – в этом можно не сомневаться! – змея. Киевский князь Ярослав ценил красоту своей дочери дорого, очень дорого. Само имя Гаральда, его воинские заслуги значили для него довольно много – чтобы взять викинга и его дружину к себе на службу, – но все же недостаточно, чтобы отдать за него дочь. А ведь он, Гаральд, сын Сигурда Сира, – не просто какой-нибудь ярл[2], а королевич! Его единоутробный брат Олаф Святой, король норвежский, в зиму 1027-ю от Рождества Христова был разбит датчанами и бежал за море, а в Норвегии воцарился Кнут I из Дании. Спустя три года Олаф попытался вернуть отеческий трон, однако сложил голову в битве при Стикластадире. Гаральд же был только ранен и успел скрыться в Швеции вместе с остатками войска Олафа. Но руки Кнута могли их там достать, да и что делать на чужбине без денег? Вздыхать о былой славе? Гаральд не мог долго сидеть на одном месте. Он знал, что рано или поздно вернет себе трон. Но, чтобы сделать это, надо было собрать дружину, вооружить ее, надо было заручиться поддержкой соседей – таких, например, могущественных конунгов, как русский Ярицлейв. Русские называли его Ярославом, а за ум и удачливость прозвали Мудрым[3].
Киевские и новгородские князья и прежде охотно брали себе на службу викингов, помня о своем родстве с варягами. Кроме того, Ярицлейв женат на шведской королевне Ингигерде, которая теперь, правда, зовется Анной[4]. Ингигерда была невестой Олафа, потом вышла за Ярослава, а затем они с мужем приютили на время у себя в Киеве свергнутого короля. Поэтому Гаральд не хотел искать для себя лучшего конунга, чем Ярицлейв.
Без дела викинги не сидели и честно отрабатывали содержание, назначенное князем. Они вернули Киеву завоеванные Польшей пограничные города, охраняли строительство оборонительных застав против кочевников-печенегов на реке Роси.
Много раз бывая при княжеском дворе, Гаральд увидел старшую дочь Ярослава Елизавету – и влюбился в нее.
О други, я юность не праздно провел! С сынами Дронтхейма[5] вы помните сечу? Как вихорь, пред вами я мчался на встречу – Под камни и тучи свистящие стрел. Напрасно сдвигались народы мечами, Напрасно о наши стучали щиты: Как бледные класы[6] под ливнем, упали И всадник, и пеший владыка, и ты! А дева русская Гаральда презирает…На самом-то деле красивый викинг тоже пришелся по нраву княжне – он-то знал женщин и не мог ошибаться насчет этих долгих взглядов, которые бросала на него прекрасная Елизавета. Она с восторгом слушала его песни – и им самим сложенные, и старинные скандинавские саги, которые Гаральд, может быть, не очень умело, но задушевно перелагал на русский язык прямо на ходу. Слушала о том, как прекрасный Бальдр был убит стеблем омелы, как хитрый карлик Альвис заболтался с Тором и пропустил рассветный час, после чего обратился в камень, сам себя перехитрив, как обманутый Сигурд женился на Гудрун вместо Брюнхильд и заплатил за это жизнью, а вместе с ним легла на погребальный костер беззаветно любившая его валькирия… Может быть, Елизавета понимала, что каждым словом древних саг Гаральд рассказывал ей о своей любви?
Женщин любить, в обманах искусных, – что по льду скакать на коне без подков, норовистом, двухлетнем коне непокорном, иль в бурю корабль без кормила вести, иль хромцу за оленем в распутицу гнаться. Никто за любовь никогда осуждать другого не должен; часто мудрец опутан любовью, глупцу непонятной.Словом, Гаральд был уверен, что его сватовство будет встречено Эллисаф и ее отцом благосклонно.
Ничуть не бывало! Хитрый и мудрый Ярослав воздал должное его происхождению и мужественности – но развел руками: пока ты никто, мой мальчик. Ты не более чем наемник, слуга, чей стол зависит от щедрости твоего господина. Где-то там существует наследственный трон норвежских королей, но тебе до него далеко, как до луны, которая озаряет по ночам мир своим призрачным сиянием. Твой трон – такой же призрак. Неужели ты думаешь, что я отдам свою старшую дочь призраку?!
Конечно, это было выражено не столь прямолинейно, более любезно, очестливо[7], не противно для гордости викинга, но достаточно ясно и жестко. Да, киевские князья прославились умением заключать выгодные брачные союзы с соседями! Отец Ярослава, конунг Владимир, был женат на византийской царевне Анне, их дочь стала женой польского короля Казимира, сам Ярослав взял за себя, как известно, шведскую королевну, его сыновья женились: Всеволод – на Марии, царевне из Византии, Вячеслав – на дочери графа Штаденского Оде, Игорь – на Кунигунде, маркграфине Саксонской, Изяслав – на польской королевне Гертруде. Конечно, будь Гаральд королем…
Ну что ж, киевский князь прав. Гаральд должен или вернуть трон, или завоевать такую славу, которая заставит забыть о том, что его чело не увенчано короной. А главное – он должен сказочно разбогатеть! Ярослав знает цену деньгам, и хоть стольный град его Киев выглядит богато – одни Золотые ворота чего стоят! – да и сам живет в великолепном дворце, не хуже чем у византийских императоров, а библиотека его, по слухам, стоит целое состояние, все же князь уверен, что богатства не может быть слишком много. И опять он прав, трижды прав!
В это время как раз закончился срок службы викингов у Ярослава. Он ничуть не обиделся, когда Гаральд сообщил, что не будет подряжаться на новый срок, а отправится искать удачу в чужих землях. Князь Ярослав даже написал письмо в Константинополь, рекомендуя императрице Зое, своей свойственнице (Анна, мачеха Ярослава, приходилась ей тетушкой), отборных воинов. И вот Гаральд прибыл в Константинополь (русские называли этот город Царьградом и безмерно гордились, что некогда князь Олег прибил боевой щит свой на врата столицы византийской!) и был принят на службу. По совету хитроумного Ярослава, который лучше, чем смелый и искренний варяг, знал о знаменитом византийском коварстве, Гаральд скрыл свое настоящее имя и звание и представился простым ярлом Нордбриктом. Северный странник – так переводилось его новое имя.
Викинг думал, что многое видел и удивить его будет трудно. Однако все чудеса Киева, все дива дивные, которые встречались на пути в Византию, были просто ничем по сравнению с самим Константинополем. Да это не город, а целый мир! Сколько великолепных строений! И до чего же хитро все устроено! Например, по воду не надо ходить или ездить на реку. Здесь и реки-то нет. Вода сама поступает в город по особенным водоводам. Говорят, их придумали еще римляне и называются они акведуки. Каждый дом роскошен, словно дворец. А сам Священный дворец! Нигде в мире не сыскать подобного ему. Какие мраморы вокруг! Какие величавые колонны подпирают расписной потолок, до которого не достать, словно до неба! А стены и полы не просто разрисованы, а выложены кусочками разноцветного стекла. Изображенные на них картины не смоют никакие дожди. Хотя дожди – здесь редкость, не то что в родной туманной Норвегии. А сколько народу живет в этом городе! И все, как на подбор, низкорослые, черноволосые, черноглазые. На викингов, светловолосых, светлобородых великанов, здесь смотрели со священным ужасом. То есть это мужчины так смотрели. А женщины…
Конечно, женщины здесь были хорошие – мяконькие такие, пухленькие, словно куропаточки. Пахли сладко-сладко! Целуешь такую – и еле удерживаешься, чтобы не укусить, словно пышный пирожок. Только страшно подавиться «глазурью» – белилами, да румянами, да притираниями, да сурьмой, да хной, которые местные красавицы накладывали на себя щедро, даже чрезмерно щедро. Гаральд, конечно, от дамских прелестей головы не терял: хранил сердечную верность Эллисаф. Однако мужская природа требовала своего, и он ни воинам своим не запрещал, ни сам не отказывался от того, что само шло в руки. Здесь, между прочим, было в обычае у жен самим выбирать себе любовников, самим делать им предложения, назначать свидания и одаривать щедрыми подарками. Многие из воинов Гаральда таким образом немало разбогатели, да и сам вождь их не оставался внакладе.
Мог ли предполагать Гаральд, что именно одна из византийских женщин едва не погубит и его, и всю его дружину!
Впрочем, в утешение можно сказать, что это была женщина не простая и даже не высокородная придворная дама, а сама императрица.
Зоя была третьей дочерью императора Константина VIII Мономаха. Брат его Василий умер бездетным, а дочери еще не нашли себе мужей. Да и как было найти? В Византии крепко помнили «ненарушимые заветы» Константина Багрянородного, запрещавшие царевнам замужество с «варварами» (а таковыми для кичливых ромеев[8] были чуть ли не все народы).
Итак, все три византийские царевны прозябали в девичестве. Но императрица не может быть девицей!
Мужней женой, вдовой – это да. Но девицей?! Чтобы сохранить преемственность наследования, решено было выдать одну из сестер замуж за какого-нибудь высокородного грека и возвести его на престол. Кого именно? Старшая сестра, Евдокия, была поражена проказой и жила в уединении в монастыре. Младшая, Феодора, тоже недавно постриглась и ни за что не собиралась нарушить обета верности Христу. Ни за какие мирские блага. К тому же мало сыскалось бы мужчин, которые решились бы вступить с ней в брак даже ради того, чтобы приблизиться к трону. Лицо у нее было длинное, словно у ослицы, тело тощее, кособокое. Вдобавок она болтала не умолкая с утра до вечера, похуже иной сороки! А средняя сестра, Зоя… Зоя была еще привлекательна, несмотря на то что сорокавосьмилетняя девственность, конечно, заставила ее щеки и губы поблекнуть и груди увянуть. Однако она охотно согласилась выйти замуж и взойти на трон.
В супруги ей нашли патриция Романа Аргира. Он был еще молод, красив, богат, знатен, – словом, взял всем. Одна беда: женат и влюблен в свою жену. Но это сочли таким незначительным препятствием! Перед супругами был поставлен выбор: или прощайтесь с жизнью, или Роман должен обвенчаться с Зоей. Жена Аргира постриглась в монахини, а Роман… пошел под венец и сделался императором Романом III.
Надо сказать, что Зоя очень скоро вошла во вкус как управления государством (она стала любимицей народа за свою доброту и разумность), так и супружеской жизни. В плотской любви, оказывается, таилась бездна удовольствия! Как же нагло лгали монахи, уверяя, что страсть постыдна и пагубна, а тело женское – всего лишь сосуд греха. Нет, насчет греха они были, конечно, правы… но до чего же сей грех сладостен! Опять же, не согрешив, не покаешься.
Однако стоило помолодевшей, похорошевшей, повеселевшей императрице распробовать новые радости жизни, как их тут же у нее и отняли. Роман остался равнодушен к жене, однако правление государством его весьма заинтересовало. Он отправил Зою в женские покои – дескать, сиди там и не лезь ни в тронную залу, ни в мою спальню! Зоя снова начала чахнуть в одиночестве, и единственным человеком, который ей в это время сочувствовал, оказался императорский евнух Иоанн.
Лишенный определенных мужских способностей, он отнюдь не был лишен разума. Более того, Иоанн был изощренно хитер и пронырлив. Он прекрасно понимал, что истомившаяся по любви, неудовлетворенная женщина – легкая добыча. Сам взять эту добычу Иоанн по понятным причинам не мог. И он пристроил во дворце своего младшего брата Михаила, писаного красавца и дамского угодника.
Зоя просто ошалела при виде его. Влюбилась с первого взгляда! Теперь она не могла думать ни о чем другом, только бы заключить Михаила в объятия. Она и раньше-то не любила пышных парчовых облачений, которые делают даже самую красивую женщину похожей на старика-патриарха, а теперь и вовсе стала носить легкие шелковые одеяния, выгодно обрисовывавшие ее красивое тело. Ее опочивальня больше напоминала лавку торговца восточными благовониями. Все пошло в ход, все мыслимые и немыслимые косметические ухищрения. Дважды в день ванны из молока молодых ослиц, массаж с оливковым маслом, маски для лица, притирания из миндального теста, освежающие обтирания из варенных в меду пшеничных хлопьев… Люди, знавшие Зою раньше, ее просто не узнавали. Чудилось, время для нее обратилось вспять. И все это – ради молодого красавца с огненными черными глазами! Однако Зоя была редкостная гордячка, и как ни рвалось ее сердце от любви, как ни жаждала она увлечь юношу в постель, а помнила, кто она такая.
Мало того что императрица. Прежде всего – женщина, прожившая полвека… Зое было известно немало историй о том, каким унижениям подвергаются зрелые дамы, плененные юными красавчиками. Такое сплошь да рядом происходило и в Византии, и далеко за ее пределами. Как правило, правящим особам становилось известно о том, что творилось при других дворах, а интимные тайны передавались из уст в уста с особым тщанием. Поэтому до Зои не могла не дойти история о русской княжне Предславе (между прочим, родной сестре нынешнего киевского князя Ярослава), среди приближенных которой был юноша по имени Моисей Угрин, то есть венгр. Княжна очень его отличала своим расположением, однако счастья им было не видать: Предслава строго блюла свою невинность. Ну и чего ради? Вся ее невинность даром досталась польскому королю Болеславу, который взял строптивицу в плен и просто-напросто изнасиловал ее. Но судьба Предславы интересовала Зою мало. Куда интереснее представлялась ей судьба Моисея.
Судя по всему, этот Угрин был красавец, каких мало. Наверное, вроде Михаила… И когда он шел в толпе пленных по польской земле, на него обратила внимание некая знатная дама. Рассказывали, что ее звали Эльжбета. Историю о ней Зоя слушала, словно печальную сказку! Эльжбета пламенно влюбилась в Угрина и призналась ему в своей страсти. Однако он отверг даму: ведь та ему в матери годилась. Эльжбета, впрочем, готова была на все, чтобы добиться его любви. Тем более что, по слухам, она была очень хороша собой. Она выкупила Моисея за огромные деньги и поселила в своем дворце. Теперь он купался в роскоши – но продолжал держать на расстоянии изнемогавшую от любви даму. Эльжбета не расставалась с ним ни на минуту – правда, принуждена была спать в другой постели. Она возила Угрина с собой по всем своим имениям и везде всем представляла его как своего супруга и господина. Но ничем его нельзя было прельстить, ни за какие сокровища в мире он не собирался поступиться своей добродетелью.
Это казалось Зое порядочной дурью. Единственное объяснение этой непостижимой холодности было то, что Угрин предпочитал женщинам мальчиков. Таких идиотов Зоя много повидала в Константинополе. А может быть, он был влюблен сам в себя, словно Нарцисс, от любви к которому нимфа Эхо иссохла так, что от нее остался лишь голос? Конечно, если любишь только себя, то никто другой не нужен. И любовные ласки можно расточать себе самому, глядя при этом в зеркало и наслаждаясь своей несравненной красотой…
А может быть, Угрин вообразил себя новым Иосифом Прекрасным? Дурные примеры, говорят, заразительны!
Долго добивалась Эльжбета своего возлюбленного. А потом узнала, что Угрин украдкой от нее умудрился постричься в монахи. И тогда терпение ее закончилось, любовь обернулась ненавистью. Она велела оскопить недоступного красавца. Чтобы вино его страсти, коего не удалось испить ей, уж не досталось никому в мире, никакой другой женщине!
Говорили, Угрин воротился в Киев и стал жить там в Печерском монастыре. Но судьба этого скопца мало интересовала Зою. Он получил то, что заслужил. А вот Эльжбета… Не сказать, до чего Зое было жаль несчастную Эльжбету. Сколько страданий ей пришлось претерпеть! Мыслимо ли ради мужчины, нет, ради мальчишки, пусть даже самого красивого на свете, так унизиться! И, что самое ужасное, ничего не получить взамен – кроме дурной славы, которая расползлась по всему миру.
И Зоя решила, что умрет от любви, но не унизится перед обожаемым юношей. Михаил никогда не узнает, какую страсть пробудил в ней. Вот если он сам станет умолять ее и признаваться в чувствах…
Может быть, она и впрямь умерла бы от несбывшейся любви, словно от неведомой болезни, однако Иоанн оказался, на счастье, весьма проницательным. Он достаточно много повидал в жизни, чтобы распознать, какой хворью томима императрица. Не прошло и двух дней, как Михаил рухнул пред ней на колени и стал рассказывать, как безумно любит ее. Жить без нее не может! Просто умирает! Зоя радостно поверила – и вполне отдалась своей безумной страсти. Наконец-то она была счастлива!
Своим счастьем влюбленная императрица захотела одарить всех. И прежде всего – своего обожаемого Михаила. Наиболее достойным подарком для него был бы, конечно, трон. Но трон уже занят Романом…
Зое стоило только намекнуть на то, что муж слегка зажился на этом свете. Иоанн ловил каждое ее слово. И почти немедленно Роман III утонул в банном бассейне. Учитывая, что воды там было по колено, это показалось людям очень странным. Еще более странным выглядело его лицо, оно стало распухшим и почерневшим, как будто император не утонул, а задохнулся. Но о таких странностях болтать было небезопасно. Умер человек и умер, подумаешь, с кем не бывает?
Зоя вполне могла бы царствовать одна – вдове это разрешалось, – однако она хотела вознаградить Михаила за то счастье, которое он ей даровал. И спустя самое малое время она венчалась вторично, – так в Византии появился новый император – Михаил IV
Пафлагонянин. Увы, вся любовь его к Зое закончилась, лишь только он услышал на Ипподроме приветственные крики, величавшие его императором. Ипподромом называли в Константинополе великолепное сооружение, напоминавшее римский Колизей. Там происходили конные испытания и другие развлекательные зрелища. На каменных скамьях, воздвигнутых в форме амфитеатра, помещалось до ста тысяч зрителей. Когда на трибуне появлялся император, его приветствовали оглушительными криками. Они-то и вскружили голову Михаилу настолько, что он забыл, и кто он, и, главное, кому обязан этим незаслуженным величием.
Однако вскоре Михаил заболел. Он и прежде был слаб здоровьем, а теперь его начала бить падучая, преследовали призраки. Император безмерно каялся, что отчасти оказался виновен в смерти Романа Аргира. Он почти не выходил из церкви – ну, разве что для того, чтобы совершить паломничество к святым местам. Теперь фактическим правителем империи стал Иоанн. К этому он и стремился с самого начала. А всеми покинутая Зоя искала новой любви.
И вот тут-то в Константинополь возвратилась дружина викингов, которые все это время были заняты укреплением пошатнувшейся империи.
Где только ни пришлось потрудиться викингам во славу Византии! Гаральд топил в Эгейском море африканских пиратов, бился с сарацинами на брегах Евфрата, а потом сражался в Нильской долине под командованием Георгия Маниака, знаменитого полководца. Он побывал и в Сицилии, где встретился с патрицием Кевкаменом Катакалоном, который затем был отправлен на Русь послом и не отказался отвезти в Киев послание от Гаральда – для князя Ярослава (точнее, для его дочери). Кстати сказать, Гаральд часто отсылал письма к Киев, и не просто письма. Туда он отправлял всю свою военную добычу. Ярослав обязался беречь ее до возвращения викинга, который богател буквально на глазах придирчивого киевского князя.
Между прочим, отправляя все свое добро в Киев, Гаральд поступал очень предусмотрительно… но об этом позже.
Катакалон оказал Гаральду также и протекцию. Когда Византия установила перемирие с египетским халифом, который в ту пору владел Палестиной, Гаральд и его дружина были посланы охранять восстановление храма Христа. Рекомендовал викингов для этого именно Кевкамен Катакалон.
Страшное запустение увидел Гаральд в святой земле. После войны греков с сарацинами она лежала в развалинах. Викинги охраняли рабов, которые возводили разрушенные стены храма Христа, хотя, впрочем, сарацины свято соблюдали условия договора и даже помогали доставлять строительные материалы и воду в эти пустынные места. Куда большей опасности натерпелись и строители, и охрана от разбойников, которые промышляли по дороге в Иерихон. Вместе с воинами халифа викинги очистили этот путь, который отныне стал безопасен для странников.
Да уж, много чего навидался Гаральд! Он даже искупался в Иордане, чтобы смыть грехи, но, несмотря на свою легендарную храбрость, не решился войти в черные воды Мертвого моря, полного серы, которая упала с небес во время сожжения Содома и Гоморры гневом Господним.
Срок договора викингов с Византией между тем подходил к концу. Гаральд не раздумывал, возобновлять его или нет. Настала пора возвращаться в Киев!
Мы, други, летали по бурным морям, От родины милой летали далеко! На суше, на море мы бились жестоко, И море, и суша покорствуют нам! О други! Как сердце у смелых кипело, Когда мы, содвинув стеной корабли, Как птицы, неслися станицей веселой Вкруг пажитей тучных Сиканской[9] земли! А дева русская Гаральда презирает…Мыслями викинги были уже далеко от Византии. Однако именно в это время истосковавшаяся, печальная императрица увидела предводителя северных наемников, этериарха[10] Нордбрикта (Гаральд, как мы помним, назвался этим именем) – и мир для нее словно бы воскрес и засиял во всей красе. Она вдруг почувствовала отвращение к своим темноволосым, темноглазым, низкорослым, пухленьким и изнеженным любовникам. Теперь ее влекло только к этой грубой силе, воплощенной в образе голубоглазого и светловолосого высоченного богатыря с могучим разворотом плеч и твердым, крепко сжатым ртом. Императрица велела Иоанну доставить к ней Нордбрикта.
Евнуху не привыкать было исполнять поручения такого рода. Даже после того, как Михаил Пафлаго-нянин ударился в благочестие и больше не навещал опочивальню Зои, она редко спала одна. Не кто иной, как именно евнух, приводил к ней молодых мужчин. И каждый раз сердце Иоанна сжималось от ужаса. А вдруг императрица пожелает, чтобы какой-то из ее любовников сменил на троне Михаила? Вдруг тот в одночасье умрет – по ее воле? Ни у кого это не вызовет недоумения, ведь о хворях императора всем известно. Строго говоря, оно бы и с Богом, думал иногда евнух, которому и самому осточертел припадочный, капризный братец, но если на трон взойдет совершенно чужой человек, что будет тогда с ним, с Иоанном? Его многие недолюбливали, а еще больше народу откровенно ненавидело… Не захочет ли новый император прикончить человека, который слишком много знает о дворцовых тайнах?
Больше всех Иоанн опасался Константина Мономаха, красавца-атлета родом из Далласы (между прочим, именно на его дочери Марии был женат сын Ярослава Мудрого Всеволод). Константин был вдобавок еще и очень умен, из тех краснобаев, ворчал про себя Иоанн, которые легко обвивают словами сердце любой женщины. И евнух даже обрадовался, когда узнал, что Зоя призвала к себе Нордбрикта. Всем известно, что этот варвар безнадежно влюблен в какую-то девицу из племени скифов, наверное, столь же долговязую и бледнолицую, как он сам. Иоанн знал все, что творилось при дворе, знал он и то, что многие патрицианки порою зазывали Нордбрикта к себе в гости. Он являлся, иногда оставался на ночь… но этим все и ограничивалось, хотя некоторые дамы влюблялись в него и потом не давали ему прохода. Но он никогда не соглашался на второе свидание. В этом была какая-то загадка, которая занимала многих, но разгадать которую не мог никто.
И Иоанн решил присутствовать при свидании Нордбрикта с императрицей. Во-первых, он хотел выведать, если получится, тайну викинга, во-вторых, хотел знать, как будет вести себя императрица. Что, если она по уши влюбится в варвара и пообещает ему престол? Тогда, провожая Нордбрикта из ее покоев, можно, словно невзначай, устроить ему какую-нибудь пакость. Например, провести из дворца в обход, через сады, кривые тропы которых оканчивались глубокими обрывами. На дне же пропастей торчали острые камни. Человек, сорвавшийся туда, не имел надежды выбраться – он разбивался насмерть! Можно подкинуть в опочивальню Нордбрикта ядовитую змею. Можно устроить так, чтобы он оступился, упал с лестницы и сломал себе шею. Или использовать старый, проверенный способ – угостить Нордбрикта вином, в который подмешана хорошая толика быстрого и милосердного яду. Иоанн знал массу способов отправить человека на тот свет – причем так, что ни у кого не возникнет никаких подозрений!
Само собой, о присутствии его при свидании никто знать не будет: у Иоанна было одно секретное местечко для наблюдения.
И вот Нордбрикт у Зои. Разодетая так, что все ее соблазнительные формы откровенно просвечивали под легкими, развевающимися тканями, благоухающая, словно куст роз, она завела с варягом милый, веселый разговор, во время которого превозносила его силу, мужественность, верную службу, обещала щедрую награду и вздыхала о том, как печально ей будет расстаться с таким великолепным воином и красивым мужчиной, ничего не получив от него на память. Не может ли он сделать ей небольшой подарок?
– Что желает государыня получить от меня, недостойного ее милости и расположения? – удивился Нордбрикт.
– Прядь твоих роскошных волос, – промурлыкала Зоя. – Я перевяжу их золотой лентой, и неведомо, что будет сверкать ярче – золотая парча или золото твоих кудрей.
Нордбрикт не без гордости отбросил за плечи свои длинные светлые волосы (на взгляд Иоанна, они были чрезмерно густы и жестки, словно конская грива, вдобавок перепутаны ветром, как солома в скирде, да и цвета такого же!) и ответил, что не может исполнить просьбу императрицы.
– Отчего же? – огорчилась та.
– Волосы людей имеют магическую силу, – ответил Нордбрикт. – У нашего народа есть сага о злобном Локи, который похитил прядь волос громовержца Тора, навел на него порчу и едва не завладел после этого молотом грома. Весь Асгард, город богов, был в опасности! К частью, волшебница Идунн пригрозила, что не даст Локи золотых яблок, благодаря которым боги сохраняют вечную молодость. Локи испугался и вернул Тору его волосы. Жуткая история, верно? Я очень хорошо помню эту сагу и опасаюсь, что какой-нибудь мой враг наведет на меня жестокую порчу через подаренную государыне прядь.
– Ты считаешь меня своим врагом? – изумилась Зоя.
– Нет, госпожа. Но я опасаюсь, что найдутся люди, которые приревнуют меня к венценосному благорасположению и захотят навредить мне.
– Пожалуй, ты прав, – кивнула Зоя, поразмыслив. – Хорошо, пусть твои магические волосы остаются при тебе. Тогда подари мне кое-что другое.
– Все, что государыня пожелает, – с поклоном («Наконец-то ты догадался поклониться императрице, варвар несчастный!» – проворчал про себя Иоанн.) ответствовал Нордбрикт.
Зоя всмотрелась в его красивое, недоброе лицо, а потом, не говоря ни слова, пошла к своему ложу и улеглась на него. С того места, где прятался Иоанн, было отлично видно, как она разбросала в стороны свои легкие одеяния и раздвинула ноги.
Нордбрикт несколько мгновений стоял неподвижно, как если бы не сразу сообразил, что от него требуется.
Видимо, Зое ожидание показалось слишком долгим, потому что она нетерпеливо вздохнула.
Иоанн хихикнул в своем укрытии. Он помнил, как один молодой дуралей, удостоенный приглашения к ложу императрицы, счел, что слишком хорош для любовницы, чья первая и даже вторая молодость уже миновали. Он скорчил презрительную гримасу и выскочил за дверь, не удостоив Зою даже словом… но прошел по коридорам Священного дворца, а также по этой жизни не более десятка шагов. Рядом с ложем находился шнур, соединенный с колокольчиком, висевшим в покоях тайной стражи. Если раздавался звон, это означало, что человек, вышедший из покоев императрицы, недостоин более жить.
Зоя вздохнула второй раз, еще более нетерпеливо, и тогда Нордбрикт взялся обеими руками за свой пояс и расстегнул его. Отложив пояс, он приблизился к ложу и спустил свои кожаные штаны, туго облегавшие его мускулистые ноги. Встал на колени меж нежных колен императрицы – ну а потом случилось то, чего желала Зоя.
Евнух, позевывая, смотрел на содрогающиеся тела и ждал, когда эти двое перестанут заниматься ерундой. Самое интересное должно было начаться потом, когда отзвучат стоны удовлетворенного желания.
И вот наконец это произошло.
Переведя дух, викинг поднялся и начал натягивать штаны.
– Куда ты спешишь? – обволакивающим, мягким голосом проворковала Зоя.
Иоанн тихонько хмыкнул. Давненько он не слышал такого голоса императрицы. Видимо, этот белый медведь доставил ей немалое удовольствие.
– Госпожа, меня ждут мои воины, – ответил викинг почтительно, но при этом холодновато, как если бы он мгновение назад всего лишь играл с императрицей в шахматы. – Я им вождь и отец, а отец не может оставить своих детей надолго.
– Хорошо, я понимаю, – покорно вздохнула Зоя, чуточку надув губы. – Эти мужские забавы… Но ты придешь ко мне завтра в эту же пору.
Нордбрикт мгновение помолчал, а потом ответил непреклонно:
– Надеюсь, я не разгневаю государыню, если скажу – нет?
– Что? – не поверила ушам Зоя. – Я… я не понравилась тебе? Ты что, считаешь, я нехороша для тебя? Слишком стара?!
В голосе ее зазвенели слезы.
– Прекрасная госпожа, – ласково ответил Нордбрикт. – Ты похожа на пышноцветущую розу. Мало отыщется женщин, столь же нежных и щедрых в любви, как ты. Но… быть может, ты слышала о том, что я хочу жениться на дочери киевского князя Ярослава?
– Еще бы! – фыркнула Зоя. – Твои песни об этой чрезмерно горделивой девице известны всем! И что? Какое это имеет отношение ко мне? К нам с тобой?
– Я прославил свою любовь, – пояснил Нордбрикт. – И сам прославился благодаря ей. Что же скажут обо мне люди, если узнают, что я променял великую любовь на богатство, почести и беззаботную жизнь в чужой стране? Моя слава непобедимого воина и верного возлюбленного будет запятнана изменой. Прости, госпожа! Но я должен уйти.
Он поклонился и зашагал к выходу.
Иоанн видел, как Зоя резко села в постели и, надув губы, с выражением обиженного ребенка смотрела вслед уходящему любовнику. Потом потянулась туда, где был прикреплен тайный шнур…
«Так его!» – беззвучно похлопал в ладоши Иоанн.
И в это время Нордбрикт обернулся:
– Государыня… Я чувствую спиной твой печальный взгляд. Но попытайся понять… Одна ночь – это случайность. Две ночи – это уже связь. Между людьми протягиваются незримые нити, которые трудно, а иногда невозможно разорвать. Я не хотел бы оставить рану в твоем сердце – но и сам не хотел бы остаться раненым. Пойми меня и прости.
С этими словами он наконец вышел. Зоя проводила его задумчивым взглядом и откинулась на постель. Иоанн видел, что к шнуру она так и не притронулась. А по губам ее теперь бродила легкая, нежная улыбка.
«Ох и хитер этот варвар! – завозился в своем убежище Иоанн. – Небось то же самое он говорил всем женщинам, на ложе которых восходил лишь единожды, а потом оставлял их напрасно вздыхать о его неутомимом орудии. Теперь императрица тоже будет пребывать в убеждении, что он оторвался от нее с величайшим трудом, и если бы не данное северной княжне слово… Она еще уверит себя в том, что сама пожертвовала собой ради счастья возлюбленного. Есть ли более целительные снадобья для уязвленной женской гордости, чем убежденность в собственном благородстве? Она будет думать, что, возлежа со своей женой, Нордбрикт мечтает о красавице гречанке, о ней, о Зое… Да, зря я считал его белым медведем, у которого только и есть, что острый меч на боку да увесистая дубинка меж ног! Оказывается, и среди северных дикарей встречаются умные люди».
Евнух на некоторое время успокоился. И все же он видел, какие взгляды бросает Зоя в сторону золотоволосого гиганта, когда видит его в карауле. Да и не больно-то верил Иоанн в человеческое благородство. Поэтому он приложил все усилия, чтобы, во-первых, дружине варягов не предложили продлить договор о службе в Византии. А во-вторых, заставил Зою озаботиться судьбой империи. Поскольку брат Михаил сделался совсем плох и в любую минуту мог отправиться на суд к престолу Господню, Иоанн убедил императрицу, что после смерти второго мужа ей вряд ли удастся найти третьего. Жизнь дороже трона, рассудят придворные – и мало кто захочет жениться на «черной вдове». Чтобы сделать свои доводы более убедительными, Иоанн велел садовникам изловить паучиху, которая называлась именно так – «черная вдова». Эти паучихи прославились тем, что убивали своих самцов. Иоанн показал насекомое Зое.
С отвращением посмотрев на жирное, круглое, многоногое существо, императрица велела паучиху раздавить, а сама всерьез задумалась. Да, если она вновь останется вдовой, ее могут устранить от власти и сослать в монастырь. А ведь если поступить так, как советует мудрый евнух: усыновить племянника Михаила и потом короновать его, – можно фактически оставаться императрицей при этом юнце. Кроме того, красивых мужчин на свете много… Кто знает, может быть, со временем удастся забыть в чьих-нибудь объятиях непреклонного Нордбрикта? Но для этого надо любой ценой избежать монастыря!
Итак, Зоя усыновила Михаила Калафата, и совсем скоро после этого он стал Михаилом V Калафатом: прежний император умер в одном из своих покаянных паломничеств. Между прочим, прозвище нового государя означало название того ремесла, которым Михаил и его предки занимались с незапамятных времен. Они смолили корабли! Таким образом, на трон византийских императоров взошел простолюдин.
Ах, если бы черны были только руки его! Таким же оказалось и сердце.
Ему не нужны были никакие опекуны. Тем более не больно-то молодые опекунши! Приемную мать и ее советника, евнуха Иоанна, он незамедлительно выслал из столицы и заточил в дальние монастыри.
Вот и свершилось то, чего больше всего боялась Зоя…
Как всякий человек, внезапно и без усилий взметнувшийся из бедности к вершинам неимоверного богатства, Калафат был невероятно расточителен – и столь же фантастически скуп. Он без раздумий швырял деньги на свои прихоти – но при этом охотно отнимал их у других. Ему вдруг показалось, что этериарх Нордбрикт и его воины чрезмерно разжились на византийских хлебах. Велел чиновникам перепроверить, вся ли воинская добыча была сдана варягами в казну, не утаили ли чего. А в ожидании результатов проверки приказал заточить Нордбрикта в темницу. На всякий случай, чтобы не сбежал.
Впрочем, сведущие люди во дворце говорили другое. Якобы Калафат узнал, какую нежную склонность питала к варвару Зоя, – и побоялся, что этериарх поднимет свою дружину против императора, чтобы освободить несправедливо сосланную любовницу, вернуть ее на престол – а там, кто знает, может быть, и повластвовать вместе с ней.
Сказать по правде, у Гаральда возникали такие мысли. Нет, не о престоле – Византию вообще и Священный дворец в частности он не называл иначе чем гадюшником и меньше всего желал сидеть бы на троне, со всех сторон окруженном ядовитыми змеями. Но ему было бесконечно жаль Зою – такую нежную, такую слабую… Ее заточение он считал вопиющей несправедливостью.
И неизвестно, как бы повернулось дело, не швырни Калафат его в темницу.
В ту самую, со змеей в углу. То есть от змей Гаральду все же не удалось уберечься!
Проделали это быстро и в строгой тайне – византийцы вообще были мастера на такие штуки. Дружина ничего не знала о судьбе своего вождя. Викинги не могли представить, где его искать. Вздумай они обыскивать дворец, на это ушло бы несколько месяцев, настолько запутаны были его переходы, особенно подземные тюрьмы.
Помог случай. Зою подданные очень любили, а Калафата презирали и ненавидели. Вспыхнуло народное восстание против нового государя, императрицу вернули в Константинополь. А в суматохе выпустили из тюрем всех заключенных. Простился со своей подружкой змеей и Гаральд. До конца службы оставалось еще полмесяца, однако викинги сочли себя свободными от всех обязательств. Всю военную добычу, которую удалось сохранить от императорских чиновников, быстро погрузили на две галеры (добавив к этому то, что удалось награбить в охваченном сумятицей дворце – в качестве возмещения ущерба!) и вышли в море столь поспешно, что Гаральд даже не помахал на прощание Зое.
Увы… Покинуть Константинополь оказалось не так-то просто.
Передняя галера была уже близка к выходу из бухты Золотой Рог в открытое море, когда раздался крик впередсмотрящего:
– Гаральд! Нам не выйти в море! Смотри!
Предупреждение запоздало. Гаральд уже и сам видел тяжелый маслянистый блеск меж синих волн залива. Он и раньше слышал о ловушке, которую соорудили греки, чтобы сделать Золотой Рог неприступным для чужих кораблей, подходящих к Константинополю. Но если нельзя войти в бухту, то нельзя и выйти из нее!
С каждым мгновением цепь поднималась все выше, натягивалась все сильнее. Еще немного – и она ударит галеру по днищу, потом по борту…
Гаральд оглянулся, окинул бешеным взглядом берег. В рассветной мгле рассыпаны тысячи огоньков. Мельканье факелов, зарева пожаров… Да, смута в Константинополе не утихает. Викинги подлили столько масла в ее огонь, сколько могли. Лишь благодаря этому и ушли!
Гаральд содрогнулся, но апрельский прохладный ветерок был здесь ни при чем. Эта заградительная цепь в бухте Золотой Рог отливала тем же тусклым блеском, что и тело змеи, шипевшей в углу его темницы…
Он представил, как галера возвращается на берег, увидел дружину перебитой, увидел себя в той же каморке наедине со змеей… то-то небось рада будет повидаться с ним вновь!
А Эллисаф он потеряет навсегда. Ну уж нет!
Гаральд велел перенести весь груз на корму и скомандовал дружинникам перейти туда же. Гребцы налегли на весла, и галера вползла носом на цепь, медленно поднимавшуюся из волн, закачалась на ней.
– Гребите! Еще! Сильнее! А теперь всем на нос! – закричал Гаральд, когда середина галеры осела на цепь.
Дружинники бросились исполнять команду. Корма взлетела вверх – и судно переползло через цепь.
Свободны!
Однако вырваться из бухты удалось не всем. Когда вторая галера попыталась повторить рискованный маневр, цепь уже натянулась слишком сильно, и корабль разломился пополам. Мало кому удалось спастись. Выловив товарищей из волн и наскоро пропев молитвы над теми, кто остался лежать на дне, корабль Гаральда двинулся на север.
Нас было немного на легком челне; А море вздымалось, я помню, горами; И Гелла[11] зияла в соленой волне. Но волны, напрасно яряся, хлестали: Я черпал их шлемом, работал веслом. С Гаральдом, о други, вы страха не знали И в мирную гавань влетели с челном. А дева русская Гаральда презирает…О нет, теперь его никто не презирал! Сам Ярослав Мудрый встретил викинга с почтением и без споров отдал за него старшую дочь – честно говоря, ей давно пора было замуж. Одно время думали, что Елизавета не дождется храброго викинга, а выйдет за другого. Это произошло, когда в Киеве нашли приют, подобно другим изгнанникам (тому же Гаральду, венгру Андрашу I и прочим), сыновья разбитого датчанами английского короля Эдмунда Железный Бок. Звали их Эдвин и Эдуард – этот последний известен в истории как король Эдуард Исповедник.
Впрочем, Елизавету и Эдуарда связывали только самые нежные дружеские чувства. Вернее, Эдуард смотрел на нее как на дочь. Словом, дело между ними не сладилось, сакс вернулся в свою страну, а Елизавета стала ждать Гаральда.
И вот он возвратился! Теперь, после громких подвигов в дальних странах, его называли Гардрадом – Смелым[12], и они с невестой нетерпеливо считали дни и часы, остающиеся до свадьбы.
С другой стороны, дольше ждали: целых десять лет!
На дворе стоял 6551 год от сотворения мира (1043 год от Рождества Христова). Все дальше и дальше в прошлое уходили воспоминания о службе Гаральда в Константинополе. Кое-какие вести долетали, конечно, до Киева, но теперь викинга мало волновало, что Михаил Калафат был ослеплен по приказу возмущенной Зои. Однако все же Нордбрикт радовался, что императрица вернулась на престол. Некоторое время она делила трон с сестрой своей Феодорой, которая принуждена была на некоторое время покинуть монастырь, но наконец мирская жизнь стала ей совсем невмоготу. Тогда Зоя поспешно вышла замуж за своего бывшего любовника Константина Мономаха (прозорливый евнух Иоанн как в воду глядел!), отныне звавшегося императором Константином IX. С ним она была почти счастлива, ибо Константин был добрым человеком и, даже заведя молодую любовницу Склирину, девушку из знатного византийского рода, все же не оставлял своим вниманием ложа жены. А Зое только этого и надо было от жизни: почет днем и сильный мужчина ночью. Так что все уладилось в ее судьбе к лучшему.
Гаральд искренне надеялся, что эта милая женщина не таила на него зла. Он ведь ничего не знал о потайном шнуре… А впрочем, Зоя его так и не коснулась, этого опасного шнура, так что тут и говорить не о чем.
Между тем настал-таки долгожданный день, когда Гаральда обвенчали с Елизаветой. Однако молодоженам скоро предстояло расстаться вновь: Гаральд должен был отправиться в Норвегию – вернуть себе наследственный трон. В это время на нем восседал его племянник – король Магнус. Вообще-то, у Гаральда с ним были прекрасные отношения, но власть портит людей… Вполне могла завязаться война.
Разумеется, Гаральд не хотел подвергать жену тяготам пути и боевой жизни. Елизавета пока осталась в Киеве. Чтобы она чувствовала себя независимой, Гаральд на прощанье вручил ей козлиную шкуру, набитую серебряными монетами. А сам отправился в Норвегию.
Воевать, по счастью, не привелось. Магнус встретил странника-воина очень радушно. Честно говоря, этому просвещенному королю немало наскучили тяготы власти. Между прочим, интересное совпадение: Магнус в юные годы немало лет провел при дворе киевского князя Ярослава. Именно там он приохотился к изучению чужеземных языков и чтению мудрых книг. Вернувшись на родину, он разработал судебник, названный «Серый гусь» – по цвету пергамента, на котором был написан. Кое-что для этого судебника король норвежский почерпнул из государственного устройства Киевской Руси.
Гаральд, конечно, не отличался такой просвещенностью, как Магнус, однако все же именно он открыл в Упсале знаменитый университет. Так или иначе, воин и мудрец успешно дополняли друг друга на троне, пока в 1047 году Магнус не умер. Тогда Гаральд стал единственным правителем Норвегии. В это время Елизавета уже два года жила в северной стране и родила двух дочерей – Марию и Ингигерду.
Приехав к мужу, она обнаружила, что туманные россказни о его любовных похождениях, которые доходили до нее и из Византии, и из Упландии[13], не все сплошь лживы. При дворе жила красивая наложница Тора, и она даже родила королю сыновей Олафа и Магнуса…
Сердце Елизаветы сжалось от ревности. Почудилось, что в невозвратную даль канули те времена, когда Гаральд посвящал ей «Висы радости». Но пришлось смириться: мужская природа иная, чем женская! Елизавета поступила как истинно мудрая женщина: она просто не обращала внимания на Тору и вела себя так, будто ее и вовсе не существует. Она приняла на себя все королевские заботы и даже крестилась у священника-латина[14], приняв новое имя – Эмма. Теперь ее называли то Эллисаф, то Эмма.
А вскоре заезжий звездочет предсказал Гаральду, что смерть ему принесет женщина, которая подведет его в бою. И храбрец стал поосторожнее в обращении с прекрасным полом. Тора между тем умерла, и больше никто не отвлекал внимания Гаральда от Эллисаф. А она в благодарность за это воспитывала Олафа и Магнуса как родных сыновей.
Елизавета с мужем жили в любви и согласии двадцать лет. Все это время Гаральд Гардрад был королем, которого называли могущественным, сильным, твердым разумом. Современники уверяли, что не было на свете никого, кто сравнился бы с ним мудростью и в то же время храбростью. Хотя он был суров и порою жесток с теми, кто противился его воле.
Поскольку Гаральд был ярым приверженцем христианства, церковь удостоила его высокой чести: служить хранителем гроба Олафа Святого, короля, который был канонизирован за свои мучения и подвиги. Каждые двенадцать месяцев Гаральд стриг волосы и ногти святого, отраставшие и после его смерти.
Настал 1066 год. И вот скучно стало Гаральду мирно сидеть на троне, захотелось тряхнуть стариной и изведать каких-нибудь приключений. Он отправился в Англию… Иные, впрочем, уверяют, что поехал он не сам по себе, а позвал его на помощь герцог Тостиг, брат английского короля Гарольда Годвинсона, который взошел на престол после смерти Эдуарда Исповедника. Гарольд изгнал брата из его владения Нортумбрии за жестокость в обращении с населением, и Тостиг был готов на все, чтобы отомстить. Он был сладкоречивым вруном, который оболгал брата, – и, увы, как следует заморочил голову норвежцу. Гаральд Гардрад выступил против английского короля, уверенный, что помогает благому делу. Он собрал дружину и двинулся в путь на доброй тысяче драккаров[15]. Но жажда вновь услышать ветер, веющий над полем битвы, сыграла с ним дурную шутку.
Елизавета не захотела расставаться с мужем и отправилась вместе с ним, взяв с собою и дочерей. Однако когда норвежские драккары достигли Оркнейских островов, супруги вспомнили предупреждение звездочета. Бог его знает, какой смысл он вкладывал в эти слова о предательстве женщины! Вдруг королева окажется захвачена врагами и Гаральд погибнет, пытаясь освободить ее?
Вообще, были и другие предзнаменования, на которые следовало обратить внимание. Будто бы кто-то видел на оконечности какого-то скалистого острова старуху в лохмотьях, которая махала вслед кораблю руками и выкрикивала что-то недоброе. Ну сущая вёльва[16], которая пророчит Рагнарёк[17]!
На всякий случай Елизавета с дочерьми остались на Оркнеях и принялись с трепетом ждать известий от своего господина.
Норвежцы высадились на севере страны – в Йоркшире, – а навстречу им уже двигался Гарольд Годвинсон. Войска сошлись у Страффордского моста. Надо сказать, что тут встретились не только два великих воина высокого роста и богатырского сложения, но и два великих поэта. Для начала они обменялись не ударами, а поэтическими вызовами. Гарольд Английский воспевал саксонских ратников, бывших хлебопашцев или ремесленников, которые с топорами встали на защиту своих очагов. А Гаральд Норвежский пел о своих воинах-героях, которые устали от тишины и не будут прятаться за щитами:
Кто воин в душе, Тот ищет упоенья В любви и битвах На корабле морском. Не тишины, а бури Прекрасной ищет он. Пусть враг не ждет Коленопреклоненья! Не прячься, сердце, за щитом! Внемли, как рог зовет на бой, Грохочет в небе гром…Гаральд воспел также свой непобедимый меч Ярицлейв – надо сказать, что викинги любили называть оружие и доспехи именами друзей и великих воинов, а также возлюбленных. Меч звался именем киевского князя. Боевой топор именовался, конечно, Олаф Святой. Боевые рукавицы звались в честь Марии и Ингигерды. Ну а кольчугу свою – великолепное изделие норвежских мастеров, сплетенную настолько плотно, что никакая стрела не могла бы пробить звеньев! – Гаральд назвал именем жены. Не тем, прежним, православным, а новым: Эмма.
Случилось так, что, выезжая покрасоваться перед англичанами, Гаральд вдруг упал с коня, который испугался полевой мыши, выскочившей из своей норки. Конечно, это привело англичан в восторг, а норвежцы помрачнели. Это было дурное предзнаменование!
Английский король, как ни был зол на своего брата-предателя, вспомнил в эту минуту об узах крови и послал своих людей к вражьему войску поговорить с Тостигом. Он просил его одуматься, обещал полное прощение, если тот оставит вражеские ряды. Клялся, что отдаст ему треть королевства…
Честолюбивый Тостиг нахмурился. Трети королевства ему было мало!
– А что брат обещал моему союзнику, королю Гаральду Норвежскому? – спросил он, желая выиграть время для раздумья.
– Семь футов английской земли! – закричал рыцарь, приехавший на переговоры. – Или чуть-чуть побольше – ведь он такого высокого роста!
Эта насмешка возмутила Тостига до глубины души, и он яростно закричал:
– Скажи моему брату, что сын Годвина не предаст сына Сигурда!
На этом переговоры закончились.
И вот началось сражение. Воины с обеих сторон воистину сражались как львы! Гаральд Гардрад был в центре битвы, и в это время стрела, выпущенная меткой рукой английского лучника, вонзилась ему в горло.
Увы! Сплетена-то его кольчуга была плотно и надежно, а вот вырез у нее оказался слишком глубок. Гаральд захлебнулся собственной кровью. Так Эмма предала своего господина и стала причиной его смерти. Предсказание сбылось!
Гибель вождя, который казался непобедимым, повергла норвежцев в трепет. Однако они продолжали сражаться под командованием Тостига, мечтая отомстить за своего конунга. Однако победить разъяренных англичан было уже невозможно. Вскоре был убит и мятежный Тостиг.
Тогда норвежцы поняли, что проиграли. Олафу, сыну Гаральда, кое-как удалось собрать их и увести с поля битвы. Викинги спешно погрузились на драккары (из тысячи, приплывших к английским берегам, отчалили только двадцать четыре, настолько сокрушительным было поражение!) и увезли тело своего конунга на Оркнейские острова, где их встретила Елизавета, одетая в глубокий траур… по дочери Марии. Потом выяснилось, что девушка неожиданно скончалась именно в ту минуту, когда отец погиб в бою.
На драккаре под черным парусом (таков был обычай в северных странах, если с поля боя везли убитого конунга) Елизавета отправилась в обратный путь – в Упсалу. Это было последнее странствие ее неистового мужа…
Конечно, Елизавета не могла знать, что историки будущего назовут его северным Одиссеем. Она знала только, что жизнь ее и счастье закончились. Королем теперь станет Олаф. А она… она выдаст замуж Инги-герду – и тогда спокойно сможет отправиться вслед за ненаглядным мужем. Надо только набраться терпения и подождать часа их загробной встречи.
Она хорошо умела ждать. Ведь ждала целых десять лет, пока Гаральд вернется из Византии. А теперь осталось недолго. Елизавета ощущала это всем своим надорванным сердцем. Незряче смотрела в темно-зеленые морские волны, делая вид, что это не безмерная печаль, а свирепый ветер выбивает из ее глаз слезы, и беззвучно шептала:
Вы, други, видали меня на коне? Вы зрели, как рушил секирой твердыни, Летая на буром питомце пустыни Сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне? Железом я ноги мои окриляя, И лань упреждаю по звонкому льду, И, хладную влагу рукой рассекая, Как лебедь отважный, по морю иду! А дева русская Гаральда презирает…* * *
Елизавета искренне верила в то, что не заживется на этом свете. Но… человек предполагает, а Бог располагает. Год Эллисаф носила траур по мужу, а потом стала женой датского короля Свена II.
Прекрасная славянка
Анна Ярославовна и король Генрих I Французский
– Я надеюсь, что именно вы король? – с некоторым испугом спросила она, откинувшись назад и переводя дух после пылкого поцелуя.
Он взглянул на ее влажные, припухшие губы и ответил, думая только о том, что отныне может целовать эти свежие губы столько, сколько ему заблагорассудится:
– Да, моя красавица. Я – король.
Эти слова были первыми, которыми обменялись при встрече король Франции Генрих I и его невеста – только что прибывшая из Киева русская княжна Анна Ярославовна.
В один из майских дней 1051 года от Рождества Христова по дороге, ведущей к французскому городу Реймсу, неторопливо двигался караван повозок и всадников. Поселяне, работавшие на полях, лежавших вблизи дороги, с любопытством разглядывали проезжавших.
Это были светловолосые, светлоглазые, высокого роста люди, одетые, на французский взгляд, очень странно. Они с любопытством оглядывали окрестности. И при этом старались держаться как можно ближе к девушке, сидевшей на высокой золотисто-рыжей кобылке. Сразу видно было, что это не только их госпожа, но и соплеменница, потому что она тоже была светловолоса и светлоока, со вздернутым носом и широко расставленными глазами. Длинные косы девушки, перевитые синими и алыми лентами, были почти такого же цвета, как грива кобылки. Поселянам не дано было знать, что когда скандинавские скальды воспевали эту красавицу в своих песнях, то называли девушку за ее цвет волос Рыжей. Она была в диковинном безрукавном синем платье, а под ним – тонкая сорочка с пышными длинными рукавами. Маленькая круглая шапочка с меховой оторочкой ловко сидела на ее гордой головке. Выглядело все это богато и роскошно, да, впрочем, ни у кого не возникало сомнений, что таким длинным обозом, под такой мощной охраной могут путешествовать только очень богатые господа.
– А ведь это русскую невесту везут нашему королю! – вдруг с изумлением сказал какой-то пейзанин – один из тех проныр, которые, неведомо каким образом, умудряются всегда быть отлично осведомленными о секретах самых высокопоставленных особ. – Король-то наш снова задумал жениться!
– Ну уж она точно ему не родня! – с удовольствием прекращая работу и разгибая натруженную спину так, что ее груди дерзко уставились в небо, сказала его жена.
Муж с удовольствием осмотрел внушительные телеса жены, потом взглянул на точеный стан всадницы и огорченно покачал головой:
– Она не понравится Анрио[18]. Нет, не понравится. Ну что это за груди, ты только посмотри! Их и не разглядишь. Небось и не нащупаешь. А известно, что наш король любит кругленьких…
– Может, предложишь ему меня? – блудливо усмехнулась супруга, перехватив жадный взгляд муженька. – А почему бы нет? И кругленькая, и мы с ним, уж конечно, не родственники!
Настроение у ее господина и повелителя изменилось так резко, доселе рассеянный взгляд его налился такой лютостью, что чрезмерно веселая молодка сочла за благо прекратить опасные беседы и принялась ретиво махать мотыгой.
Поселянин суровым взором проводил удаляющийся караван, потом, малость отмякнув, шлепнул женушку по пышному заду и тоже взялся за работу, пробормотав философски:
– Да бес с ними, с ее грудями. Главное, что не сестра!
Сей поселянин и его игривая супружница, между прочим, не просто так чесали языками по адресу своего bon roi[19]. Они обсуждали важнейший государственный вопрос!
Суть же вопроса состояла в том, что королю Франции Генриху Капету отчаянно не везло в личной жизни. В отличие от его предков, между прочим. Он был внуком основателя новой династии Капетингов Гуго Капета, сменившего на троне окончательно захиревших Каролингов. Герцог Франции и граф Парижский Гуго Капет был сыном герцога Гуго Великого и дочери короля Германии Генриха Птицелова. Первый Капет, женатый на прелестной женщине по имени Аделаида Аквитанская, изменял ей с некоей особой, имени которой хроники нам не сохранили. Второй из
Капетов, Робер Благочестивый, оказался отлучен от церкви за слишком пылкую любовь, которую он всю жизнь питал к герцогине Бургундской, Берте… увы, замужней женщине. Вынужденный из государственных соображений жениться на Констанции Аквитанской, он нашел ее некрасивой, сварливой, жестокосердной, мстительной и алчной.
Впрочем, одной заслуги у Констанции, как ни крути, не отнимешь. Она родила Роберу сыновей: Анрио и Робера. Старший впоследствии и сменил на троне отца, сделавшись Генрихом I и унаследовав невезение отца в том, что касалось интимной стороны жизни. Нет, не в том смысле, что он пылал страстью к замужней даме. Совсем наоборот! Он любил свою невесту, дочь немецкого императора Конрада II, но это была платоническая любовь – к тому же на большом расстоянии. Бедняжка умерла еще до того, как встретилась с женихом. Это произвело на двадцатипятилетнего Анрио настолько тяжелое впечатление, что он десять лет искал себе подходящую жену, опасаясь вновь надорвать свое сердце. И вот наконец ему повезло. Принцесса Матильда, племянница императора Германии Генриха III, вышла за него замуж. Но через три месяца после свадьбы Матильда умерла!
Это было просто проклятье какое-то! Опять искать жену! Делать ему больше нечего!
А делать было-таки чего. Почти все царствование Генриха I прошло в попытках хоть как-то укрепить престиж своего маленького королевства. По сути, Генрих был королем только Парижа и Орлеана, а сама Франция в то время представляла собой разрозненные феодальные владения. Генрих боролся против своего младшего брата Робера и матери, мадам Констанции, которые норовили оттягать у него Бургундию – и оттягали-таки, против графов Валуа, которые беспрестанно норовили вырваться из-под власти короля, против германского императора Генриха III за владение Лотарингией. Даже единственный его союзник, герцог нормандский Робер-Дьявол, и тот в уплату за верность вытянул у него Вексен!
И все же Генрих чувствовал: ему было бы легче жить, если бы, возвращаясь после всех этих кровопролитных боев, он знал, что на башне королевского замка его встречает жена. Не какая-нибудь там наложница, каких у него было множество. Супруга! Анрио отчаянно тяготел к благопристойности и мечтал о детях. Но для этого сначала нужно было жениться.
На ком?!
Это только в сказках перед принцем выстраиваются в ряд красавицы из больших и маленьких королевств, а он ходит меж ними, размышляя о том, что готов жениться на каждой, но надо выбрать только одну. Хотя… принцесс в больших и маленьких королевствах и в описываемое время было полно. Но вот беда! Все они находились в той или иной степени родства с Анрио. А надо сказать, что в то время церковь запретила все браки между близкими родственниками. И не зря! Ведь короли, желая увеличить свои владения, женились в основном на своих кузинах – двоюродных, троюродных, четвероюродных сестрицах, племянницах, тетушках… О дурных последствиях для потомства они нисколько не заботились – нипочем не желали заглядывать в будущее! Это, между прочим, стало причиной фактического вырождения династии Каролингов: потомков Карла Великого называли Кроткий, Лысый, Заика, Простоватый… Все короли так или иначе были связаны родственными узами. И где им было искать высокородных невест? Не на пастушках ведь жениться! Это только в песнях да сказках хорошо, а в жизни, увы…
– Да что мне, в Турцию посылать за женой?! – закричал в сердцах Анрио после того, как десять кандидаток на звание королевы французской были отвергнуты потому, что приходились ему родственницами. Более того! Его прошлый брак с Матильдой теперь оказался, можно сказать, запрещенным, ибо она тоже приходилась ему какой-то там дальней родней. И ни одна из ее многочисленных сестер и кузин ему в жены не годилась. А ведь на Германию была его последняя надежда. И, горестно пошутив насчет Турции, он вдруг подумал, что это может оказаться вовсе не шуткой…
– Ну уж сразу и в Турцию! Зачем такие крайности? – пробормотал его родственник Бодуэн, с которым король обсуждал свое тяжкое положение. И поморщился: в сад, где они беседовали, доносились горестные вопли из окна замка. Это рыдала одна из любовниц Анрио – Клотильда. Несколько минут назад Анрио испробовал на ней крепость своих кулаков. Между прочим, это только считается, что быть королевской любовницей почетно. Быть любовницей Анрио было довольно опасно. Их имелось у французского короля несколько, и каждой частенько приходилось быть битой. За что? Да за то, что этот дурень папа римский запретил браки между родственниками до седьмого колена!
Анрио и Бодуэн отошли на несколько шагов подальше, где не так слышны были причитания Клотильды, и Бодуэн снова заговорил:
– Зачем уж прямо в Турцию? Другие страны есть! Например, Рабация.
– Это где? – испуганно спросил Анрио, который обладал массой несомненных достоинств, но только не переизбытком учености.
– На крайнем севере, – со знанием дела ответил Бодуэн. – А впрочем, лучше спроси епископа Готье Савуара. Он не зря носит прозвище Всезнайки[20].
Епископ из города Мо Готье Савуар не зря носил прозвище Всезнайки! Ему и впрямь была известна масса интересных вещей, о которых он немедленно сообщал королю. Так, Готье рассказал, что, во-первых, Рабация на самом деле называется Русь и живут там русы или славяне. Во-вторых, она находится не на крайнем севере, а всего лишь на северо-востоке. Столица Руси – город Киев. Правит в нем князь Ярослав, который, как ни странно, носит почти то же прозвище, что и он, Готье: Мудрый. Говорят, у этого князя есть дочери в возрасте невест, но каковы они собой, хороши или нет, этого Готье не знает. До таких пределов его собственные мудрость и образованность не простираются.
– Да какая разница! – возбужденно закричал Анрио. – Главное, что они мне не родня!
– Это уж точно! – хмыкнул Бодуэн, а Готье почтительно поклонился:
– Воистину так!
– Слава Иисусу! – провозгласил король. – Теперь вот что, Готье: готовься к путешествию.
– Я могу вернуться в Мо? – обрадовался епископ, которому очень не нравился Париж.
– Какой Мо? Кто говорит о Мо? – досадливо сморщился король. – Ты немедленно едешь в Рабацию, то есть в эту, как ее… – он нетерпеливо пощелкал пальцами. – Ты должен просить у князя Ярослава руки одной из его дочерей. Понятно? И давай поскорей собирайся, пока кто-нибудь не перехватил у меня славянскую невесту!
Прошло несколько минут, прежде чем Готье смог закрыть свой разинутый от изумления и ужаса рот. Но с королями, как известно, спорят только дураки, а он все-таки был прозван Всезнайкой…
Вот так и случилось, что в 1044 году из Парижа на Русь отправился епископ Готье Савуар в сопровождении рыцаря Гослена де Шавиньяка де Шоне. Ни король, ни его посланные не сомневались, что «эти северные, точнее, северо-восточные варвары» с большой радостью отдадут свою принцессу во Францию.
Однако их ожидало немалое разочарование. А точнее – очень большое. Их ожидал отказ.
И Ярослава Мудрого, ответившего Анрио вежливым, но непреклонным отказом, можно было понять! Киевская Русь в эту пору была преуспевающим, крепким государством, к тому же широко раскинувшимся от Днепра до северных морей.
Одержав под Киевом битву с печенегами, князь Ярослав заложил на месте сражения великолепную церковь и назвал ее Святою Софией Митрополитской – в подражание константинопольской Софии. Точно так же в подражание Константинополю он воздвиг в новых, расширенных стенах Киева Золотые врата. Оба эти сооружения поражали своим великолепием приезжих – даже иностранцев. По приказанию Ярослава переводились божественные книги с греческого на славянский язык. Скоро в Киеве собралась одна из самых внушительных мировых библиотек рукописных книг. Знаменитые художники приезжали расписывать сооруженные по приказанию Ярослава храмы, а лучшие певцы греческие учили русских церковников согласному хоровому пению. Слава русских торговых городов распространялась по миру.
Ярослав, как человек весьма образованный и начитанный, про Францию, конечно, слышал, однако не самое лучшее. Величие страны, похоже, осталось в прошлом. Незначительное какое-то королевство, да и эту мелочь рвут на части соседи. Король безуспешно пытается укрепить и расширить свои владения, но слишком слаб для этого. Влияния на другие государства Франция не оказывает ровно никакого.
То ли дело Германия! Породниться с Германией – это дорогого стоит. Потомки киевских князей будут царствовать в Польше (через сестру Ярослава Марию-Доброгневу, которая замужем за Казимиром), в Венгрии (через дочь Ярослава Анастасию – она теперь жена венгерского короля Андраша I), в Швеции (через дочь Ярослава Елизавету, которая вышла за Гаральда Норвежского), в Саксонии (сын Ярослава Игорь женат на Кунигунде, дочери маркграфа Саксонского). Хорошо бы посадить их и на трон Германии! Честолюбивый Ярослав поглядывал на германского кесаря Генриха. Кесарь был вдов. Человеку нужна жена. Почему бы ею не стать Анне Ярославовне?
Ярослав отправил к императору Генриху, который жил в это время в Госларе, послов с предложением руки своей дочери. Это было в обычае того времени. В согласии Ярослав не сомневался. Именно в это время он и отказал Генриху Французскому, так что Готье Всезнайка отправился от Ярослава Мудрого несолоно хлебавши.
Анрио был очень огорчен полученными известиями. Ему уже снились возбуждающие сны о красоте славянской принцессы. Он уже видел ее в своем замке, на своем ложе – женой, возлюбленной, матерью своих детей! Как ни странно, отказ киевского князя его не оскорбил, а только раззадорил. Видимо, эта девица и впрямь чрезвычайно хороша, если ее не хотят отдавать за него, за короля французского!
А в это время император Генрих Германский отказал Ярославу. У него были другие планы относительно своего брака! Ему гораздо выгоднее казалось жениться на Агнессе Аквитанской, чтобы с помощью родовитых и влиятельных герцогов Аквитании укреплять влияние римской церкви в Европе.
Об отказе Генриха Германского стало известно Генриху Французскому. Это нисколько не унизило Анну Ярославовну в его глазах. Анрио прекрасно понимал, что такое государственные интересы. Он очень обрадовался известию. Дело в том, что за эти годы, прошедшие после первого сватовства к дочери киевского князя, Анрио продолжал искать жену в больших и маленьких королевствах, однако, как проклятый, везде натыкался на кузин. Они стали кошмаром его жизни, эти многочисленные кузины! И он вновь попросил в 1048 году руку дочери князя Ярослава.
Сначала произошел обмен письмами, затем формальное сватовство. На сей раз в Киев отправились не только епископ Готье и рыцарь Гослен де Шавиньяк де Шони. Их ряды были усилены Роже, епископом Шалон-сюр-Марн. К его преосвященству король питал особое доверие. И Роже не подвел! На сей раз посольство оказалось удачным.
Не то чтобы за это время Ярослав поумерил гордыню… Нет, он просто взглянул на происходящее с другой стороны: а ведь союз с Парижем еще больше укрепит его позиции перед заносчивым Дарьградом-Константинополем!.. Через Святослава, Изяслава, Анастасию, Елизавету, Марию-Доброгневу Русь вошла в довольно хорошие отношения с Римом. Союз с Генрихом Французским эти отношения упрочит. С Царьградом Ярослава связывал только брак Всеволода, женатого на Марии, дочери императора Константина Мономаха от первого брака. Пусть Византия знает, что, если у нее с Киевом общая религия, это еще не дает ей права беспрестанно диктовать свою волю во внутренних и внешних делах. Анна выйдет за француза – и это будет очередным щелчком по носу заносчивым грекам!
Вот так и произошло, что послы не только получили согласие киевского князя, но и отправились в обратный путь не одни, а прихватив с собой невесту для Анрио, Генриха I Французского: княжну Анну Ярославовну.
Путь для Ярославовны был выбран кружной, долгий. Не ради безопасности, а ради того, чтобы повидаться с родней: в Гнезно – с тетушкой Марией-Доброгневой, а в Эстергоме, в Венгрии, – с сестрой Анастасией.
Всю длинную-предлинную дорогу – через Гнезно, Краков, Прагу, потом в сторону на Эстергом, оттуда до Ренесбурга по Дунаю в ладье, затем через Вормс и Майнц по суше во Францию – Анна утешала себя словами Казимира, короля польского, о том, что мало найдется стран, столь же прекрасных, как Франция. И горы там кудрявы и зелены, и леса изобильны дичью, и виноградники урожайны, и лето жаркое и длинное, и зимы, можно сказать, нету… Ну, леса и дичь – это все и дома есть, а вот долгое, жаркое лето и виноградники… Хорошо, наверное, жить в стране, где почти нет снега. Анна не любила зиму.
И вот наконец путешественники оказались во Франции. Еще день-два, размышляла Анна, – и она встретится с человеком, о котором узнала за время пути много интересного. Король Генрих – отличный наездник и сильный мужчина. Может быть, он не ослепительный красавец и не столь сведущ в науках и богословии, как его отец, Робер Благочестивый, однако деятельный и трудолюбивый король, который радеет о благе своей страны. Это богатый государь, у которого в собственности не только угодья и виноградники, но и многонаселенные города. У него собственный монетный двор. Словом, он будет отличным мужем для киевской княжны.
Со своей стороны, Анна не сомневалась, что станет ему хорошей женой. Во всяком случае, будет очень стараться! Для начала она всю дорогу учила с помощью своих спутников французский язык. Поскольку Анна прекрасно знала латынь, это далось ей без особого труда. Она уже вызубрила первые слова, которыми будет приветствовать в Париже будущего супруга: «Государь! Я прибыла из дальних стран, чтобы сделать вашу жизнь счастливой! Видя в вас одни только непревзойденные достоинства, я обещаю вам любовь и верность, но и сама жду от вас доброты, любви и верности».
– Sir, je suis arrivee… – снова и снова твердила она. – Sir, je suis arrivee des pays lointains…[21]
– Впереди Реймс, – сказал епископ Роже, ехавший рядом с Анной. – Оттуда недалеко и до Парижа. Король, наверное, уже встретил посланного мною гонца и…
Вдруг епископ осекся и, приподнявшись на стременах своего мула (оба епископа, как и подобает их сану, проделали весь путь на животных, не имеющих способностей к продолжению рода), почти испуганно всмотрелся вперед. Сверху, с холма, неслась кавалькада.
Развевались синие и красные плащи всадников, по каменистой дороге звонко стучали копыта, слышались приветственные крики. Всадник на белом коне вырвался вперед.
– Иисусе! – воскликнул Роже. – Да ведь это король!
Он вскинул руку, останавливая караван, однако Анна невольно покрепче сжала коленями бока своей лошадки, та послушно двинулась вперед и скоро оказалась впереди всех. Всадник на белом коне тоже сделал резкий жест, останавливая сопровождающих. Теперь белый конь и золотистая кобылка одни двигались навстречу друг другу.
И вот они остановились. Темно-карие мужские и светло-зеленые женские глаза с одинаковой тревогой уставились друг на друга.
Король покачал головой, и мессир Роже, пристально наблюдавший за ним издалека, облился холодным потом. Однако в следующее мгновение разглядел улыбку на устах монарха и понял, что это вовсе не было движение неодобрения. Король таким образом выражал восхищение по поводу того, что ему так бесконечно повезло!
Наконец-то повезло…
Да, Анрио просто глазам своим не поверил, увидев эту светлоокую красавицу. Ни одна из его пресловутых кузин ей и в подметки не годилась! Не говоря уже о наложницах, которые уже успели вдоволь насплетничаться о дикости славянок и их уродстве.
Ничего себе, уродство! Да это просто Венера… нет, судя по безупречной посадке верхом, по прямому стану и гордо вскинутой голове – Диана-охотница!
Король и сам был заядлым охотником. Не в силах долее сдерживать свой восторг, он соскочил с коня, швырнул поводья, не глядя, успеет ли паж принять их, и кинулся к гостье. И прежде, чем она успела что-то понять, Анрио с силой, удесятеренной радостью, буквально выхватил невесту из седла, прижал к себе и припал к ее губам.
Анна обмерла. Впервые в жизни ее целовал мужчина! Не легонько прикасаясь губами ко лбу, как это делали отец и братья, а захватив в плен ее рот. И ей нравились, ей очень нравились те ощущения, которые от всего этого рождались в ее теле. Так вот, оказывается, что такое поцелуй!
Она попыталась ответить на него, и, вероятно, ей это удалось, потому что объятия короля стали еще теснее.
Короля?.. Пресвятая Богородица, да точно ли короля она целует так пылко? А вдруг это какой-нибудь разбойник?! Или просто приближенный государя?! Что о ней подумают!
Анна отстранилась и не без испуга уставилась в возбужденно блестящие карие глаза. Какими это словами она хотела начать знакомство?
«Sir, je suis arrivee des pays lointains…» – хотела было сказать Анна, однако вместо этого смущенно пробормотала:
– J'espere que c'est vous le roi?[22]
– Oui, ma belle![23] – прошептал Анрио, и Анна вздохнула с нескрываемым облегчением.
Вот так они и встретились.
Со свадьбой тянуть не стали. Король, потребовавший, чтобы прекрасная невеста дальше ехала рядом с ним, направился в Реймс. Город показался Анне, привыкшей к просторному Киеву, тесным и грязноватым, однако именно здесь, в церкви Святого Креста, со времен Хлодвига венчались на царство французские короли, но церемония бракосочетания, тем паче – с чужестранной принцессой, должна была совершиться впервые. И сам король, и реймский епископ Ги с большим почтением относились к Анне – ведь ее близкие родственники, дядья, стояли у престола Господня! В то время невинно убиенные окаянным Святополком князья Борис и Глеб уже были причислены клику святых, а то, что их удостоила этого греческая, а не римская церковь, особой роли не играло.
Одежда, которую сшили для королевской невесты, явилась чудом рукодельного искусства. Она была вишневого цвета, украшена золотыми лилиями – символом французских королей – и оторочена белоснежными русскими горностаями.
Разумеется, Анна с охотой надела новый наряд и усыпанные жемчугом голубые шелковые туфельки, также сшитые нарочно для церемонии…
И вот венчание свершилось. После пира во дворце архиепископа Анрио наконец стал обладателем молодой и красивой жены, которая должна была родить ему детей.
Надо сказать, что его надежды сбылись: в 1052 году Анна родила Филиппа, затем Гуго и Робера.
Теперь она была очень крепко прикована к Франции. Но никак не могла привыкнуть к ней и писала отцу, Ярославу Мудрому:
«В какую варварскую страну ты меня послал; здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны».
К счастью, муж не мог прочесть ее писем. И не только потому, что Анна писала на чужом языке. Анрио вообще не умел ни читать, ни писать. Все хартии король подписывал латинской буквой S, перечеркнутой косой чертой, то есть ставил так называемый сигнум, заменяющий подпись. А вот Анна знала латынь (ей лично писал сам папа римский), умела и читать, и писать по-латыни.
Да, ее первые впечатления о Франции были безотрадны…
Париж в те времена был невелик, но уже носил это звучное имя, хотя первоначальное название этого города, вернее селения, было другим: Lutecia Parisiorum, Лютеция Паризиорум, то есть Водное жилище пари-зиев. Это «водное жилище» располагалось на острове Ситэ в самом центре Сены, именуемой в те века Сек-ваной, на латинский манер. А паризии были одним из кельтских племен, в древние времена населявших территории Европы. Теперь память о них сохранилась лишь только в названии французской столицы. С 358 года во всех письменных источниках название Лютеции стало заменяться другим: Civitas Parisiorum, Город паризиев, а затем просто – Parisia, Паризия, Paris – Париж!
С одной из трех башен королевского замка в Париже открывался вид на весь город. Внизу протекала Сена. По ее зеленоватой воде плыли челны торговцев и рыбаков. Вдали возвышалась гора Мучеников… На низком правом берегу располагались предместья, доходившие до развалин аббатства св. Мартина. Ниже стояли водяные мельницы. Древняя римская дорога, продолжавшая улицу Св. Мартина, уходила далеко на юг, мимо руин на холме св. Женевьевы, заросших плющом…
Жизнь королевы Анны проходила в основном в заботах о детях. Король Генрих частенько отсутствовал: безопасность королевства требовала неусыпного внимания. На границе с Нормандией было неспокойно… Возводили новые замки и оборонительные укрепления, а старые починяли. По весне то там, то здесь вспыхивали стычки, а то и начинались военные действия.
Это, конечно, были чисто мужские игры, но, когда Генрих возвращался в Париж, он почти не расставался с женой и с охотой прислушивался к ее советам. Бесспорно, что король любил Анну. Он считал, что Господь достойно вознаградил его за долгие годы ожидания.
Но любила ли его Анна? А кого ей было еще любить, как не мужа, своего господина и отца ее детей? То чувство, которое составляло основу жизни ее сестры Елизаветы: пылкая страсть к своему избраннику, Гаральду Гардраду, – было ей неведомо. Ведь сестра выходила замуж по горячей любви и собственному выбору – Анна же по воле отца, из сугубо государственных соображений. Она была женой, матерью, государыней – и такая жизнь доставляла ей немалое удовольствие. Ведь она была дочерью не кого-нибудь, а Ярослава Мудрого! Давая советы мужу, она как бы наравне с Генрихом участвовала в управлении государством. То, что это отнюдь не выдумка, подтверждается не только тем, что на многих хартиях Генриха I стоят приписки: «С согласия супруги моей Анны», «В присутствии королевы Анны» и т.д. Не будь она такой, какой была, вряд ли слух о ее уме и удивительной образованности пронесся бы по Европе, вряд ли папа римский Николай II писал бы ей в 1059 году: «Слух о ваших добродетелях, восхитительная дева, дошел до наших ушей, и с великой радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным усердием и замечательным умом».
Прежде всего, конечно, папу римского приводило в восхищение то, что Анна была очень благочестива и славилась благотворительностью.
Анна не все время проводила в Париже. Иногда, если в государстве было спокойно, король и двор объезжали владения. Кавалькада, обоз растягивались по дороге, как длинная змея. В каждом из королевских замков были сосредоточены запасы продовольствия как раз для таких случаев. А в это время пополнялись запасы в парижском замке. Путешествие тянулось от весны до осени. Король и королева разбирали тяжбы, проверяли отчеты прево[24], посещали монастыри, куда непременно жертвовали драгоценные сосуды или дарили целые селения.
Вот так однажды, путешествуя по своим землям, Генрих и Анна приехали в Санлис.
Генрих благоволил к этому городу и его жителям: ведь именно здесь некогда была предложена корона Франции предку его, Гуго Капету. Санлис был хорошо укрепленный городок, с пятью высокими крепостными башнями, стоявший чуть в стороне от проезжей дороги, в дубовом лесу. Некогда здесь были римские владения, и с тех времен еще сохранились руины храмов и арены. Впрочем, кажется, этим следам античности недолго оставалось радовать глаз, потому что их камни и мраморные плиты использовали для строительства нового королевского замка и монастырей.
Именно здесь, в Санлисе, с благословения королевы, на ее пожертвования и даже при ее участии (она вложила в основание камень, как некогда поступал ее отец) был построен женский монастырь св. Винсента – построен на том месте, где раньше стояла старая, развалившаяся часовенка св. Винсента Сарагосского. Монастырь стал внушительным сооружением, которое строилось больше десяти лет, а перед входом в него была установлена статуя его основательницы[25].
И говорят, что именно здесь пред благочестивые очи королевы предстал, явившись из своего замка Крепи, один из самых могущественных феодалов Франции – Рауль, граф де Крепи де Валуа, де Вексен, д'Амьен, де Бар-сюр-Об, де Витри, де Перони и де Мондидье. Владения графа были настолько обширны и богаты, что он мог позволить себе вести жизнь, независимую от королевских милостей. Вообще это был редкостный гордец и нахал. Да оно бы полбеды! Рауль славился и смелостью, и жестокосердием. Немало пролил крови, подавляя малейшее возмущение пейзан[26] в своих землях. А однажды разграбил и сжег почти дотла город Верден лишь потому, что епископ Верденский не заплатил ему как сеньору положенной дани в двадцать ливров.
Этот обворожительный внешне, но душевно скорее отталкивающий, чем привлекательный человек разглядывал королеву отнюдь не с почтением, а оценивающе. Интересно, какие ее качества он оценивал? Уж, наверное, не тонкий ум, не благочестие и доброе сердце. Гораздо больше Рауля взволновала стройность стана королевы Анны, нежность и испуг, которые он безошибочно прочел в глазах этой женщины, родившей троих детей, но не ставшей более опытной в любовных делах, ибо она знала всего лишь одного мужчину – своего мужа, а Генриха нельзя было назвать галантным, утонченным кавалером. А вот Рауля можно было назвать не только так. Покинутые им дамы честили его заядлым сердцеедом, который сам сердца начисто лишен, жестоким распутником, безжалостным насмешником… и лучшим любовником из всех, которые только жили в то время во Франции.
Конечно, королева и граф виделись и раньше. Рауль приезжал в Реймс, на коронацию Анны. Бывал и в Париже. Отношения их по-прежнему были абсолютно благопристойны внешне, однако Санлис отчего-то сделался любимым местом отдыха Анны. И всякий раз, когда она, одна или с мужем, приезжала в Сан-лис, там непременно оказывался граф де Крепи. Он словно бы угадал, что благочестивая жизнь наскучила королеве, и непременно привозил с собой всякий раз жонглеров и трубадуров – чтобы потешить слух Анны не только унылыми рассказами о жизни святых, но и нежными, пылкими историями любви. Особенно нужны были ей эти развлечения, чтобы утешиться после смерти младшего сына, Робера.
А Генриху некогда было и горевать самому, и утешать жену. Франция того времени была замком, построенным на песке. Никак нельзя было точно угадать, кто тебе больший враг: кесарь ли германский, который жаждет оттягать у тебя Лотарингию, или какой-нибудь барон, желающий выйти из-под королевской власти и не платить подати в казну. Особенно тяжелым положение Генриха стало после того, как он поссорился с Вильгельмом, сыном герцога нормандского Робера-Дьявола. Когда герцог отправился паломником в Иерусалим (где и умер), Генрих стал опекуном Вильгельма. Однако спустя годы отношения между ними настолько испортились, что король принял сторону врагов Вильгельма, поддержал восстание его вассалов. Произошла битва при Сент-Обен, где в засаду, устроенную Вильгельмом, попал – и полег там весь цвет французского рыцарства. Сам Генрих едва избежал смерти.
Честно говоря, все стычки с Вильгельмом были обречены на поражение. Но ведь Генрих не мог знать, что связался с одним из величайших воинов Европы, которого впоследствии назовут Вильгельмом Завоевателем и который после знаменитой битвы при Гастингсе покорит Англию, став ее королем.
Так или иначе, после сражения при Сент-Обен Генрих забеспокоился за судьбу своей короны. Он начал подозревать в Вильгельме лютого волка, который ни перед чем не остановится. И решил закрепить права своего потомства на французский престол. Поэтому 23 мая 1059 года в Реймсе прошла коронация наследного принца Филиппа, которому едва исполнилось семь лет. Вел церемонию архиепископ Реймский Жерве, а почтили ее своим присутствием два папских легата: Гуго, епископ Безансонский, и Эрманфруа, епископ Сиона (святой град в эту пору вновь находился под властью сарацин, и только звание епископа напоминало о мечтах Рима вновь завладеть Иерусалимом и Гробом Господним).
Мальчик, запинаясь и сбиваясь, повторял вслед за архиепископом священный текст присяги:
– Я, король Франции, обязуюсь помнить, что тремя королевскими добродетелями являются благочестие, справедливость и милосердие… Клянусь не предаваться в благополучии гордыне, с терпением переносить невзгоды, принимать пищу только в часы, указанные обычаем для трапезы…
Потом архиепископ совершил обряд миропомазания: коснулся золотой иглой, на конце которой было немного миры, чела маленького короля, затем груди, а потом правой и левой руки.
Между прочим, Генрих как в воду смотрел, устроив коронацию Филиппа. На следующий год во время похода в Нормандию, против Вильгельма, он вдруг занемог до такой степени, что слег – и уже не смог подняться. Не боевая рана свалила его с ног – обострилась давняя болезнь печени, а усугубило ее горе от поражения под Варавилем.
Он лежал в замке Витри-о-Лож, неподалеку от Орлеана. Королева, которую известили о болезни супруга, немедленно выехала из Парижа. Она спешила как могла – но опоздала. Ей досталось только перевезти мертвое тело в аббатство Сен-Дени и похоронить там.
Так завершилось то, что началось майским днем на проезжей дороге – началось испуганными словами прежде не целованной русской княжны:
– Я надеюсь, что именно вы король?
И вот теперь ее король умер…
С того дня прошло десять лет. С тех пор Анна изменилась, повзрослела… но отнюдь не постарела. Облаченная в лиловые одежды – в то время цвет траура французских королей, – она смотрела в драгоценное венецианское зеркало – подарок мужа еще ко дню венчания. Смотрела – и изумлялась оттого, что печаль, слезы, страх и отчаяние ничем не повредили свежести щек, ясности взора, пышной яркости кудрей. Волосы у нее были все такими же рыжими, ни сединки! Унылое и тоскливое слово «вдова» никак не подходило к ней.
Она жалела мужа, слов нет. Но еще больше жалела себя, оставшуюся теперь одинокой, никому не нужной.
Строго говоря, это было не совсем так.
По завещанию мужа Анна стала опекуншей маленького короля Филиппа. Эти обязанности делил с ней родственник Генриха и его друг Бодуэн, могущественный сеньор. Его авторитет был настолько велик, что именно пример Бодуэна, безоговорочно присягнувшего Филиппу, подействовал на остальных феодалов. Никто и пикнуть не смел, чтобы оспорить наследственные права сына Генриха. Да их и оспорить было невозможно.
В заботах о взрослеющем сыне и укреплении государства прошло пять лет. К этому времени было закончено строительство монастыря св. Винсента. И Анна вдруг заметила, что ее сын уже давно не ребенок, а красивый юноша – и вполне сложившийся человек, полновластный король страны, и он больше не желает прятаться за спинами своих опекунов, тем более если один из них – женщина. Даже если это его мать.
Анна стала бояться, что они с сыном начнут ссориться, если она слишком часто будет предъявлять свои материнские права. И сочла за благо уехать в Санлис – под тем предлогом, что хочет передать новому монастырю часть своих владений. Филипп не возражал: ведь это была собственность его матери.
Она задержалась в Санлисе. В Париж шли письма о том, что заботы о новом монастыре требуют ее попечительства. Филипп не требовал от матушки отчета, однако Анне не столько перед ним, сколько перед самой собой хотелось придать своей задержке оттенок благопристойности. Но дело было не в монастыре, а в том, что Анна вдруг ощутила новую, прежде не знакомую ей радость жизни.
Оказывается, это так прекрасно – быть богатой, красивой и… свободной! Свободной от чувства долга, которое преследовало ее всегда: по отношению к мужу, ребенку, своему положению. Теперь она ощущала себя почти как в юности, в Киеве, – вот именно что почти, ибо там она была незрелой юной девушкой, еще не знавшей жизни и того, чего хочет от этой жизни, а здесь – тридцатипятилетней женщиной в расцвете красы и желаний. Срок траура по Генриху давно истек (а в ее душе, наверное, он истек еще раньше!), и Анна могла позволить себе принимать в своем замке в любимом Санлисе людей, с которыми ей было хорошо и приятно. Это были окрестные сеньоры, которые наперебой стремились выразить вдовствующей королеве не столько свое почтение, сколько восхищение.
«Ей воздавали должное не только как королеве, но и как женщине», – изящно выражался виконт Кэ де Сент-Эймур.
Лишь самой себе Анна могла признаться, что собирает столько народу лишь для того, чтобы среди этого множества незаметно и безбоязненно мог появиться лишь один.
Но, впрочем, эти слова – незаметно и безбоязненно – совершенно не подходили к этому человеку. Во-первых, граф Рауль де Крепи не мог бы остаться незамеченным даже в тысячной толпе. Во-вторых, он никого и ничего не боялся.
Граф Рауль происходил по побочной линии от самого Карла Великого, то есть принадлежал к прошлой королевской династии Каролингов. Он был из числа тех вассалов, которые не прочь подставить ножку своему сеньору. И, казалось бы, сейчас, когда на троне неокрепший юнец под опекунством слабой женщины, самое время для скандального графа половить рыбку в мутной воде, оттягать для себя некоторые привилегии. Да хотя бы уменьшить размер королевской дани на владения де Крепи. А то и мятеж поднять. Однако… он не смел. Более того – он даже не помышлял ни о чем таком.
От страха. Все-таки было, было нечто, чего боялся даже этот на редкость самоуверенный человек! Это – неблагосклонность и равнодушие Анны.
Но она вовсе не была к нему равнодушна.
Когда этим двоим стало вдруг понятно, что веселая, дружеская взаимная склонность перешла в любовь? Таили они ее от себя и друг от друга? Ну, разве что Анна – и то лишь потому, что граф Рауль был женат.
Они никогда не говорили о мадам Алиеноре-Хакенез де Валуа де Крепи. Она никогда не появлялась в замке Анны, хотя многие бароны приезжали со своими женами. Алиенору-Хакенез сюда не звали, а приехать незваной она не могла. Эта милая, хорошенькая простушка до дрожи боялась слов «король» и «королева» и была рабски влюблена в своего красивого и жестокого супруга. Она до сих пор не могла опомниться от счастья, что является его женой. Это значительно поднимало ее в собственных глазах, хотя Рауль предпочел ее другим невестам лишь за обширные земли в Амьене и других местах, которые она принесла мужу в приданое.
Рауль жил собственной жизнью и порою даже забывал, что у него где-то там, в Крепи, есть жена. А теперь он вообще был способен думать только об одной женщине на свете. Об Анне!
В конце концов Рауль осознал, что жить без нее не может. Этот человек был прирожденным воином, захватчиком, он привык с бою брать все, чего желал. Граф явился в королевский замок как раз тогда, когда королева отправилась на прогулку. Она бродила по дорожкам сада, плавно переходящего в лес, и грезила о Рауле, как вдруг он внезапно предстал перед ее глазами, словно был призраком, который она вызвала некими волшебными словами. Анна смотрела на явившегося пред ней графа – смотрела и не могла насмотреться!
И внезапно Анна поняла, что это никакой не призрак. Потому что призраки не сжимают в объятиях живых женщин. И их поцелуи не могут быть такими пылкими, что у этих женщин начинают подгибаться ноги. И призраки не могут подхватывать этих женщин на руки, мчаться с ними к ждущим коням, подсаживать драгоценных красавиц в седло и вспрыгивать позади. И, наверное, кони призраков уносятся в какие-нибудь заоблачные выси или проваливаются в бездну преисподней, но отнюдь не скачут во весь опор, сшибая зеленые ветви при дороге, в Крепи, чтобы остановиться, взрыв землю копытами, возле церкви…
Рауль принял Анну с седла и, держа на руках, какое-то мгновение смотрел ей в глаза. Глаза были испуганными, но и только. Она не рвалась, не кричала, не звала на помощь. Счастливо улыбнувшись, Рауль широкими шагами двинулся в церковь, крича:
– Отец мой! Где вы, отец мой?
Услышав голос сеньора, попечением которого существовали весь приход, церковь да и сам священник, выбежал кюре.
– Немедленно обвенчайте нас! – приказал Рауль. Анна, которую он по-прежнему держал на руках, вздрогнула, но Рауль воспринял это как знак прижать ее к себе еще крепче. Что он и сделал.
Не сразу у ошеломленного кюре прорезался голос:
– Обвенчать вас, говорите вы, сударь? Но как же… осмелюсь напомнить вам о графине Алиеноре…
– Я помню о ней, – резко прервал его Рауль. – Делайте, что вам велено.
– Но вы уже повенчаны с одной женщиной! – почти в отчаянии вскричал несчастный кюре. – Как же я могу венчать вас с другой?! Наш всемилостивейший Господь…
– Вы что, боитесь, что наш всемилостивейший Господь не умеет считать до двух и запутается в моих женах? – глумливо хмыкнул Рауль. – Не беспокойтесь, ему недолго придется ломать себе голову, ибо завтра же я начну процедуру развода с графиней.
– Тогда, быть может, стоит повременить с венчанием до ее окончания? – робко предложил кюре и в ужасе зажмурился от гневного крика графа:
– Подождать?! Ты прекрасно знаешь, нечестивец, что согласие на развод может дать только папа римский! А его согласия ждут годами! Но я не могу жить без этой женщины. Понимаешь? Я умру, если она не станет моей. А она не согласится жить со мной во грехе. Поэтому – поэтому немедленно венчай нас, или…
– Побойтесь Бога! – простонал кюре.
– Я советую тебе побояться меня! – процедил Рауль, и это было последним доводом, который окончательно вышиб у бедного кюре почву из-под ног.
– Пройдите к алтарю, – прохрипел священник. – Надеюсь, венчание свершится по взаимному согласию?
Этими словами он попытался сохранить подобие достоинства. Ответ он знал заранее. Ведь если женщина не хочет принадлежать мужчине, она не будет цепляться за него так, словно его объятия – это последнее прибежище в ее жизни!
Нет, ну откуда бедному кюре было знать, что объятия Рауля – и впрямь последнее прибежище в жизни Анны?!
…Ей чудилось, она первая из всех живущих на земле постигла истину: вслед за ночью приходит утро, а после тьмы всегда светит солнце. То, что происходило с ней в объятиях Рауля, не имело названия в человеческом языке, не имело цены – то есть за это душу не жаль было отдать на поругание врагу рода человеческого, а не только имя – на осмеяние!
А впрочем, никто не решился бы смеяться над матерью короля и над человеком, подобным сеньору Раулю де Крепи. Но их осуждали – что да, то да. Мужчины – прежде всего из-за того, что страстно желали бы оказаться на месте графа. Женщины – из-за того, что безумно завидовали Анне. Бодуэн откровенно радовался: его влияние при Филиппе упрочилось. Филипп привык верить, что все, сделанное его матушкой, – хорошо и правильно, а потому в его присутствии никто и слова не смел молвить в осуждение ее величества королевы Анны. Бурно выражали свое негодование лишь первая мадам Рауль и папа римский.
Дело в том, что буквально на следующий день после венчания с Анной Рауль явился в тот из своих многочисленных замков, где скучала покинутая супруга, и приказал ей немедля отправляться в монастырь.
– Почему?! – в ужасе вскричала несчастная.
– Потому что вы мне изменяете, – выпалил Рауль. – Не трудитесь спорить, у меня есть доказательства! Я отлично помню, как вы строили глазки тому бродячему жонглеру, три года назад! Так вот – больше я вашего беспутства терпеть не намерен. Отныне я вам не муж, а вы мне – не жена!
Алиенора оторопела. Какие глазки? Какой жонглер? Она была чудом супружеской верности! Однако Рауль считал, что в любви, как на войне, все средства хороши, а потому прибегнул к такой вот, с позволения сказать, военной хитрости. Рыдая, Алиенора отправилась в монастырь – и лишь там спустя некоторое время до нее дошли вести о том, кто кому на самом деле изменил.
Возмущению графини не было предела. Она незамедлительно отправилась в столицу католического мира – просить поддержки у папы римского. Поскольку поездки в те времена были трудны, путешествовала она довольно долго, а тем временем ее муж с новой женой все больше влюблялись друг в друга. Они были неразлучны и настолько откровенно наслаждались своей любовью, что постепенно заткнули рты всем сплетникам.
Тем временем Алиенора не без труда добилась приема у святейшего отца.
– Вы напрасно покинули то, что было вам столь дорого, дочь моя, – проговорил тот. – Советую вам вернуться во Францию, а я приму все меры, какие могу.
Честно говоря, новый папа – Николай II к этому времени умер, и на его место заступил Александр II – не вполне поверил рыдающей женщине. Он вообще относился к ним недоверчиво, тем паче – к их слезам. И он написал епископу Реймскому Жерве (тому самому, который несколько лет назад венчал на царство Филиппа) с просьбой подтвердить слова графини де Крепи.
Тому ничего не оставалось, как сделать это. Папа римский вспомнил, что его предшественник писал к королеве Анне восхищенные письма, пожалел, что женщины столь непостоянны в добродетелях своих. Он обратился со словами осуждения к графу де Крепи. Рауль получил послание от святого отца, где ему предписывалось немедленно расстаться с Анной и вернуться к жене.
Разумеется, граф отказался.
Это было сделано в таком вызывающем тоне, что Александр II счел себя оскорбленным. Пылая праведным гневом, он отлучил Рауля де Крепи от церкви, а его брак с Анной объявил недействительным.
Отлучение от церкви было в ту пору страшной карой. Однако для этих двоих ничто в мире не имело значения – кроме них самих. Рауль не собирался расставаться с Анной. Да и ее прежнее благочестие дало немалую трещину под гнетом мирских соблазнов! Супруги (или все же любовники?) продолжали всюду являться вдвоем. Более того! Они постоянно появлялись и в королевском дворце, ибо Анна сочла необходимым подружить сына и возлюбленного. Филипп отнюдь не был ханжой и охотно принимал Рауля. Думал он при этом не столько о благопристойности, сколько о благе королевства: ведь де Крепи был влиятельным сеньором.
Отлично относился к Раулю и второй сын Анны, Гуго. Робер тоже очень любил его, и именно Гуго сделался наследником его владений в Крепи. Гуго Великий, граф Вермандуа и Крепи, стал впоследствии одним из предводителей крестового похода, прославился в битвах при Дорилеуме и в Каппадокии.
Именно сыновья были главной поддержкой Анны в ее необъявленной войне против святого престола, поддержкой ее любви к Раулю. Французы не знали, смеяться им над этой парой, негодовать ли по поводу ее откровенной страсти – или восхищаться ею. В конце концов люди просто смирились. Смирился и Рим.
У Анны и Рауля не было детей, зато были счастье и любовь. Их супружество – воистину безоблачное – длилось двенадцать лет. Прервала его внезапная смерть Рауля. Произошло это в Мондидье. Графа свело в могилу больное сердце – оказывается, он был вовсе не так уж бессердечен, как полагали его прежние любовницы. Но Анна поняла это еще раньше.
А теперь она, словно впервые, прозрела новую истину: день сменяется сумерками.
Сумерки счастья, сумерки жизни… Рауль умер в 1074 году – Анне в это время было около пятидесяти. Жизнь сердца для нее закончилась. Но мать по-прежнему была нужна своим сыновьям. В ее советах, в ее зрелой мудрости, в ее любви нуждался король Филипп, человек, наделенный мелкими пороками и, как показала история, неспособный вершить государственные дела. Несмотря на то что он был уже женат и имел сына, который затем станет королем Людовиком VI Толстым, Филипп только с матерью мог обсуждать поистине важные вопросы управления страной. По сути дела, это была единственная женщина, которой он доверял. Именно поэтому на многих документах той поры, подписанных королем Филиппом, стоит подпись его матери королевы Анны.
Последняя такая подпись Анны относится к 1075 году. Видимо, именно тогда сумерки все же сменились для нее непроглядной тьмой вечности, ибо день всегда переходит в ночь, а всякий свет рано или поздно гаснет.
* * *
На ее статуе в монастыре св. Винсента были выбиты слова, которые утверждали, что Анна вернулась на землю своих предков. Едва ли! Чего ей было искать в стране, которую она покинула столь давно? В ту пору на Руси было тяжко. Сыновья Ярослава не удержали наследия отцовского, страну трепали жестокие войны – и междоусобные, и с половцами. Нет, едва ли Анна вернулась в эту уже чужую ей страну.
В XVII веке в аббатстве Виллье некий монах (имени его история не сохранила) отыскал могилу королевы Анны. То есть он так уверял. На могиле был изображен герб Анны: лилия и ворота крепости, увенчанные короной. Может быть, это были Золотые врата Киева?
Может быть…
Жертва вечерняя
Евпраксия Всеволодовна и император ГенрихIV
– Прошу вас продолжать, дочь моя.
Папа Урбан II разомкнул уста первый раз. В негромком голосе прозвучала тревога. Наверное, испугался, что вдруг да провалится грандиозная затея, учиненная на этом просторном поле в Пьяченце, где собралось без малого тридцать тысяч человек. Прелаты церкви съехались со всех концов католического мира. Ведь нынче здесь должна была состояться высшая церковная кара – предание анафеме ослушника, пособника диавольского, гордеца и кощунника, распутника и развратника, какого прежде не знала история.
Императора германского Генриха IV.
За все, за все воздастся ему нынче! За то, что многие годы люто огрызался на волю Рима и не желал признать ее. За то, что в прихотях своих противопоставил себя узаконениям Божеским и человеческим, a в иных впрямую следовал велениям самого сатаны.
Многие годы боролся Рим с этим новым Люцифером. Но никакая сила не могла пошатнуть Генриха! Так не странно ли, что окончательно низвергнуть его сможет вот эта молодая женщина с мучительно стиснутыми руками у груди и глядевшая на собравшихся серыми глазами, которые словно бы отразили цвет ненастного неба? Про нее говорят, что она родом из дикой и загадочной Руси. Будто бы дочь первого герцога этой страны и какой-то степной дикарки. И теперь она стала орудием Господним… Поистине неисповедимы пути его!
– Не молчите. Не молчите, Адельгейда! – послышался пронзительный шепот за спиной.
Это Матильда, графиня Тосканская. Наверное, тоже боится, что ее ставленница испугается, откажется от своих слов. Или вдруг ею овладеет стыд. Или, чего доброго, пожалеет Генриха… За то время, что они были знакомы, Матильда не раз убеждалась, что бывшая императрица Германская воистину непредсказуема.
Да, беспокойство этих людей было не напрасным. Она и в самом деле на миг утратила былую решимость.
– Ради всего святого… – беспомощно пролепетал кардинал, стоявший рядом с молодой женщиной.
При этих словах Адельгейда, только что отрешенно замершая, встрепенулась.
Ради всего святого? Вот именно! Она сделает это ради того святого, что еще живо в ее душе. И пусть ей придется осквернить уста свои и слух собравшихся, но все это будет совершено во имя святой цели.
– Первый раз это случилось в Вероне, в замковой часовне, – заговорила она негромко. И на огромном поле мгновенно установилась такая тишина, что каждое ее слово разносилось далеко вокруг. – Мы пришли туда ночью. Горело только несколько свечей, люди все были в черных плащах с капюшонами. Может, они боялись друг друга, поэтому скрывали лица. Может, стыдились того, что будут свершать. А может быть, этого требовало их таинство. Среди них был епископ… Когда начали служить мессу, он держал в руке не крест, а козлиную ногу с копытцем и благословлял нас ею. Кругом звучали какие-то непонятные слова. Потом я узнала, что это христианские молитвы, произносимые наоборот. С конца до начала. Не молитвы, а заклятия служителей Вельзевула. Меня заставили выпить вина. Потом я очнулась лежащей на алтаре. И увидела, что рядом стоят мужчины, которые уже совлекли с себя черные плащи. Они были наги. Среди них был мой супруг, кесарь. И тот епископ. Он сказал мне, что я жертва вечерняя…
– Жертва вечерняя! – выкрикнул кто-то возмущенно. – Святотатцы! Кощунники!
Собравшиеся зашумели.
Адельгейда воспользовалась этим, чтобы перевести дух. И подумала: «Добродетельные жены прославляются преданностью мужьям своим и добрыми делами. Благочестивые – благочестием. А мое имя отныне будет сопрягаться с легендарным распутством, в коем я неповинна… Зачем я здесь? Зачем я рассказываю им все это? Ради чего?!»
И тут же пришел ответ.
«Ради всего святого!» – напомнила она себе мысленно.
Но что святого оставалось в ее жизни? В ее душе?
Только отрывочные воспоминания…
* * *
Что же она помнила? Например, то, что прежде звалась Евпраксией. Отца помнила, князя киевского Всеволода. То есть это он потом стал князем киевским, а в год рождения Евпраксии[27] княжил в Переяславле.
Князь Всеволод был необычайно красив – это Евпраксия тоже помнила. Огромные серые глаза, золотистые волосы, тонкие черты… Мать была совсем иная: с узкими черными глазами и длинными черными косами – румяная, горячая, порывистая половецкая княжна, окрещенная Анною. Прежде Всеволод был женат на византийской царевне. Марии. Ее отцом был император. Константин Мономах! Мария родила Всеволоду сына Владимира[28] и дочь Янку. А от половецкой княжны Всеволод имел сына Ростислава и двух дочерей – Евпраксию и Екатерину.
Каждая из них с самого детства знала, что будет выдана замуж на чужую сторону. Издавна велось на Руси – брать в жены иноземок и отдавать дочерей за чужестранцев. Ведь все отпрыски княжеские – родня кровная. Кому охота, чтобы потомство появлялось на свет уродливое да болезненное, как это частенько случается у близкой родни? Вон папа римский – тот вовсе запретил европейским государям браки между родственниками до седьмого колена. Конечно, русским он не указ, у них и своя голова есть на плечах. И без его указа всё как надо сообразили! Мир крещеный велик и обширен: сыщутся невесты и женихи и в Византии, и в Венгрии, и в Германии, и в Польше, ну а коли не сыщутся – всегда можно добавить в кровь русскую горькой, пряной настойки крови половецкой.
Князю Всеволоду везло: невесту для сына Владимира, английскую принцессу Гиту Годвинсон, нашла сестра Всеволода Елизавета, бывшая королева Норвежская, ныне королева Датская. Ну а жениха для Ев-праксии сыскала вдова ее дядюшки Вячеслава Ярославовича Ода фон Штаден. После смерти мужа она вернулась в Саксонию, встретилась с одним из своих дальних родственников, маркграфом Удольфом фон Штаденом, и возобновила прежнее знакомство. У маркграфа был сын Генрих, к которому Ода относилась как к сыну, и поэтому неудивительно, что после смерти Удольфа она взяла на себя заботу об устройстве дальнейшей судьбы Генриха.
Опасения русских князей насчет кровосмешения не могли не возыметь влияния на трезвомыслящую саксонку. Глядя на Генриха фон Штадена, который не зря носил прозвище Длинный (он отличался чрезмерно высоким ростом и весьма невыразительной внешностью), Ода размышляла, что его сын окажется еще более неказистым. Особенно если Генрих женится на дочке какого-нибудь германского барона или графа: костистой, невзрачной, некрасивой… Ода вспомнила русских красавиц, своих родственниц по мужу, – и взялась за дело.
Как раз тогда большого выбора у свахи не было: только три дочери Всеволода, ставшего уже князем Киевским. Однако старшая, Янка, была просватана за Константина, сына византийского императора Константина Дуки. Младшая, Екатерина, – еще дитя малое. Оставалась средняя, Евпраксия, во внешности которой сочеталась спокойная, просветленная красота отца (Всеволод считался самым привлекательным среди братьев Ярославичей) и дикая яркость матери-половчанки. Девочке двенадцать лет – ну что ж, самое время выходить замуж! И чем же плохо выйти за Генриха фон Штадена, маркграфа Саксонского?
Он был первым, кто посватался к Евпраксии. И Всеволод сразу дал согласие. Коли женщина, как учит церковь, сосуд греха, то пусть из этого сосуда пьет ее законный супруг. Евпраксии всяко надо выходить замуж, так чего тянуть, если уже сейчас есть завидный жених?
Киевское духовенство было против этого брака. Это прежде русские святые отцы охотно благословляли своих духовных дочерей на браки с иноверцами-католиками. Но совсем недавно было провозглашено знаменитое разделение церквей, и священники с пеной у рта отстаивали чистоту своей религии – западной или восточной, католической или православной. Митрополит киевский даже грозил Всеволоду за готовность отдать дочку католику, да еще какому! Генрих фон Штаден был известен как ярый истребитель славянских племен, обитавших в Германии.
Это не возымело действия. На князя словно бы дурман нашел!
– Бог соединяет королей различных народов узами, дабы их миролюбием родственным скрепить желаемый этими народами покой, – бормотал начитанный Всеволод (его некогда прозвали пятиязычным чудом за обилие знаний!). – То слова Теодорика Великого[29], и не нам спорить с великим человеком!
– Господь тебе судья за то, что губишь дочь, – сказал в конце концов отчаявшийся митрополит киевский. – Когда спохватишься, будет уже поздно.
Он как в воду глядел.
И вот из Саксонии в Киев прибыл посланник маркграфа фон Штадена – барон Рудигер: прибыл, чтобы свершить брачный обряд по всем правилам. Ведь властелин не мог выезжать из своей земли ради женитьбы. Однако и невеста не могла отправиться к супругу в чужие земли без соблюдения свадебного ритуала. Одно дело, когда путешествует замужняя дама, супруга маркграфа. Другое – едет невинная девица, которая может стать добычей всякого лихого человека. Поэтому между Рудигером и Евпраксией сыграли ненастоящую свадьбу и даже провели так называемые покладины. Евпраксию возвели на ложе – подобие супружеского. Посол приблизился к ней и прикоснулся коленом к ложу.
Теперь брак считался окончательным и завершенным. Можно было отправляться в путь! И взять с собой приданое – столь роскошное, что оно ошеломило всех, кто видел эти многочисленные обозы. Двигались телеги, запряженные конями, а среди них шли какие-то диковинные животные, лишь отдаленно похожие на лошадей: если бывают лошади с такими маленькими головками, на таких длинных ногах, да еще с двумя горбами. Эти животные были щедро навьючены роскошными одеяниями, драгоценными камнями и прочими богатствами, но двигались с завидной легкостью. Это были верблюды. В Киевской Руси они никого не удивляли – восточные купцы привозили свой товар только на верблюдах, – ну а в Европе народ таращил на них глаза и разражался восторженными восклицаниями.
Евпраксия ехала от Киева в Краков, потом через Чешский лес в Прагу, оттуда завернула в Эстергом, к венгерской королеве, тетушке Анастасии-Агмунде, а оттуда по Дунаю надлежало плыть в Регенсбург, уже в Германию. По этой же самой дороге чуть более тридцати лет назад проехала другая тетушка Евпраксии – Анна, чтобы выйти замуж за короля Франции Генриха I. Евпраксия, как ни была невинна и послушна, не могла не задумываться о том, что и Анастасия, и Анна стали королевами. Да и старшая сестра Янка совсем недавно отправилась в Византию, чтобы сделаться супругой будущего императора. А она, самая красивая из дочерей Всеволода, будет всего лишь графиней на самой окраине Германской империи. А ведь тоже могла бы выйти за какого-нибудь короля!
(Ее словно бы кто-то услышал тогда. Потому что она и впрямь станет королевой, вернее, императрицей! – но человек никогда не бывает вполне доволен своим жребием, и тогда Евпраксия начнет мечтать о совершенно противоположной участи, о том, чтобы поменяться жребием со старшей сестрой Янкой, жениха которой, Константина, отстранят от престола, передав власть его брату, и отправят в монастырь; вслед за ним примет постриг и его русская невеста…)
Евпраксия ехала по Германии и то восторгалась невиданными местами, то ужасалась. Здесь все живут в камне! Каменные дома, улицы камнем мощены, нигде не пробьется ни травиночки, народ жадно таращится на богатый обоз, который не разместился ни в замке маркграфа, ни в трех других. Фон Штаден так боялся, чтобы не разграбили приданого жены, которое теперь стало его добром, что беспрестанно метался от замка к замку, тщательно пересчитывая возы. Он только недавно почуял вкус настоящего богатства – благодаря дальней родственнице графине Оде, которая вернулась из Киева тоже с богатейшим обозом. И теперь еще прибавилось добра!
Впрочем, надо отдать должное Генриху – красота невесты порадовала его чуть ли не больше ее приданого. Он желал, чтобы эта красота принадлежала ему немедленно, еще до того, как Евпраксия достигнет установленного законом шестнадцатилетнего возраста, однако это оказалось невозможно. И графиня Ода, и те из приближенных маркграфа, которые были наделены разумом, отлично понимали, что первая брачная ночь может стать вообще последней для этой хрупкой двенадцатилетней девочки. И Генриха с великим трудом уговорили подождать еще четыре года.
Евпраксия должна была провести эти годы в Кведлинбургском женском монастыре.
Здесь обучались и проходили воспитание дочери наизнатнейших особ Германии. Его основала Матильда, племянница императора Генриха III.
В Кведлинбурге Евпраксия училась немецкому языку и латыни у самой Адельгейды, аббатисы, которая была так образованна, что читала не только Псалмы: «Господи, взываю к Тебе, услышь меня: внемли гласу моления моего, когда взываю к Тебе. Да будет молитва моя, яко кадило пред Тобою. Прими из рук моих, жертва вечерняя!» – но и отнюдь не божественное из Вергилия или Горация:
О том, что ждет нас, брось размышленья, Прими, как прибыль, день дарованный Судьбой, и не чурайся, друг мой, Ни хороводов, ни ласк любовных!Стихи были хоть и смущающими, но понятными. А в Псалмах Евпраксия многое не понимала. Все хотела спросить Адельгейду, что это значит – жертва вечерняя, но робела.
А чего робела? Ведь аббатиса была еще довольно молодая и очень красивая женщина. Монашеский наряд придавал ей какое-то особое, отрешенное и в то же время порочное очарование. Адельгейда была сестрой нынешнего германского императора Генриха IV.
– Отчего вы не замужем, сударыня? – спросила ее как-то раз Евпраксия. – Отчего сразу отдались Господу, не попытав счастья в миру? Вы с вашей красотой и богатством легко нашли бы себе жениха и в ближних к Германии странах, и у нас, на Руси.
Адельгейда ответила, что такова была воля отца, которую она не посмела нарушить.
Это Евпраксии было понятно: воистину непререкаема воля родительская! Не точно ли такая же воля завлекла ее из милого, солнечного Киева в эти одетые камнем земли?.. После того разговора она прониклась к Адельгейде искренним сочувствием, доверием, относилась к ней, как младшая сестра к старшей – с восторгом, нежностью и почитанием. И решила: когда придет время окреститься в католическую веру, она выберет для себя имя наставницы, станет Адельгейдой.
Евпраксия не знала, что аббатиса ей солгала. Участь монахини принцесса выбрала сама, ибо не видела для себя другого пути после того, как ее брат Генрих в компании со своим приятелем бароном Заубушем изнасиловал сестру – тогда еще совсем юную, почти такую же, как Евпраксия. Адельгейда хотела было утопиться, но побоялась греха. А еще побоялась скандала. Она боготворила брата, считала его высшим существом, которому дозволено все, даже поругание невинной сестры. И скрыла его и свой грех в Кведлинбургском монастыре. Удовлетворение своему тщеславию она нашла в том, что стала аббатисой – и наставницей невинных дев. Вроде этой глупенькой и доверчивой русской красавицы.
Тем временем минуло три года из условленных четырех, и вот до Кведлинбурга долетела весть, что Евпраксия стала вдовой, не успев стать женой. Маркграф Генрих фон Штаден погиб в одном из своих набегов на славянское селение.
Евпраксия сама не знала, что почувствовала при этом известии. Не горе – мужа она побаивалась, ничуть не любила, – но и не облегчение. Она растерялась, ибо не знала, что теперь делать. Маркграфом сделался брат Генриха фон Штадена, Людовик, который и слышать не хотел о какой-то там вдове брата. То есть в Германии для нее места не было. Наверное, придется возвращаться на Русь. А что делать там? Идти в монастырь…
В монастырь идти не хотелось! Она и так жила в монастыре, но здесь… здесь мало что напоминало унылое благочестие. Это был как бы огромный замок, куда постоянно приезжали самые разные гости. Иногда это были весьма высокие особы. Никогда не знаешь, кого увидишь в трапезной.
Вот так – неожиданно для Евпраксии – в этой самой трапезной появился однажды невысокий худощавый человек с горделиво вскинутой головой. Он был одет в черное – блистала только золотая цепь на груди. Его твердый рот прятался в рыжеватых усах и короткой бородке, а взгляд бледно-голубых глаз был властен и холоден. Под этим взглядом девушке отчего-то захотелось сделать реверанс – самый глубокий из тех, каким ее учила Адельгейда. И вместе с тем ей хотелось встретить этот взгляд. Евпраксия никак не могла разобраться в странной сумятице своих чувств, и прошло немалое время, прежде чем она поняла, что влюблена в этого властного человека.
Он имел право быть властным, так как был Генрихом IV, императором Священной Римской империи… То есть это был брат аббатисы Адельгейды.
Тот самый брат…
Евпраксия, понятное дело, по-прежнему ничего о том давнем, позорном случае не знала. Что она вообще знала о тридцатисемилетнем Генрихе – кроме того, что он недавно похоронил нелюбимую жену, а теперь, наконец, впервые в жизни чувствует себя так, словно среди зимы набрел в заснеженном лесу на цветущий куст шиповника и видит распустившуюся на нем дивную розу?
Розой была для Генриха IV юная вдова-маркграфиня. То есть это он так говорил. А Евпраксия впервые услышала от мужчины слова любви – и радостно поверила им. И она не заставила Генриха долго ждать согласия в ответ на его предложение стать его женой и императрицей.
Вот это был брак, способный удовлетворить любое тщеславие! И Евпраксия, конечно, не ожидала, что он вызовет такое негодование отца.
Она была изумлена. Почему это князь киевский брызгал гневом? Не он ли хотел для дочери завидного жениха? Так разве сыщешь завиднее германского императора?
Евпраксия ничего не знала о своем женихе. А Всеволод знал, что у германского императора была самая скандальная репутация на свете. Весь остальной мир был о ней наслышан!
Генрих стал императором, как говорится, «когда темя еще не заросло». Он был малым ребенком, когда умер его отец, Генрих III, и власть перешла в руки вдовы императора, Агнессы Савойской, и четырехлетнего сына. Опекунами его стали архиепископы Адальберт Бременский и Ганно Кельнский. Благодаря этим опекунам Генрих стал порочен морально и физически – а главное, проникся презрением к религии как к силе, руководящей поступками и потребностями человека. Кроме того, Генрих – хоть убейте! – не мог понять, почему его политику, его дела, жизнь его страны и его собственную должны определять какие-то люди, сидящие в Риме.
Неприязнь Генриха к Риму усугублялась еще и тем, что отцы церкви никак не хотели давать ему развода с ненавидимой им Бертой Савойской, на которой его просто принудили жениться еще в ранней молодости.
Присутствие жены, впрочем, его ничуть не сдерживало в распущенности – скорее озлобляло. Берта родила ему двух сыновей, Конрада и Генриха, однако отношения супругов напоминали то поле смертельной битвы, то цирковую арену. Иногда – и то и другое враз…
Против чего Рим не мог бы ни в коем случае возражать, так это против предлога для развода, против супружеской измены. Сам Генрих дал Берте столько поводов, что ее развели бы с мужем, захоти она этого, раз сорок или пятьдесят. Но Берта чувствовала себя на престоле вполне удобно. К тому же она была добродетельна. И тогда Генрих решил ее сподвигнуть на эту самую измену. Он сговорился с неким придворным, который вдруг начал изображать неземную страсть, которую у него якобы вызывает императрица.
Берта наблюдала за этим не без иронии: во-первых, потому, что не верила в неземную страсть, во-вторых, она ожидала от своего супруга любой гадости и подозревала, что дело тут нечисто. Какое-то время лживые ухаживания продолжались, потом Берте надоела эта игра, и она решила положить этому конец. Императрица сказала своему обожателю, что нынче же ночью впустит его в свою опочивальню. Обожатель мгновенно сообщил об этом Генриху, и тот явился в назначенный час, готовый уличить изменницу. Он собирался убить ее на месте преступления – так, на всякий случай, чтобы уж наверняка избавиться от жены.
На условный стук поклонника императрица отворила дверь. Но тут Генрих, опасавшийся, что не увидит того, что его больше всего интересовало, под покровом темноты ужом скользнул в покои жены. Берта его мгновенно узнала – и немедленно захлопнула дверь перед носом обожателя. Тот остался в коридоре ни с чем. А Берта схватила первое попавшееся, какую-то скамеечку, на которую обычно ставила ноги, – и принялась охаживать пришельца. Призванные на помощь служанки похватали поленья, приготовленные для растопки камина, и присоединились к ней.
– Подлец и негодяй! – кричала Берта что было мочи. – Ты задумал обмануть своего императора! Ты прокрался к его жене с низкими, гнусными намерениями! Погоди, я немедленно расскажу обо всем супругу!
Генрих, который все это время был занят в основном тем, что загораживался от ударов, улучил мгновение крикнуть, что жаловаться не стоит, ибо он и есть супруг!
Берта сделала вид, что не верит ему, и призвала служанок удвоить силу ударов.
Королева не щадила ни его головы, ни остального тела, била его куда попало! Уполз император, что называется, чуть жив, долго отлеживался, оправдываясь тем, что упал с коня, а Берта с превеликим удовольствием выражала ему свое сочувствие.
Надо сказать, что после этого Генрих оставил жену в покое и смирился с ее присутствием. Но внимания ей никакого не оказывал – прежде всего потому, что всерьез занялся борьбой с Римом. В это время папой был Григорий VII. За непослушание он объявил Генриху анафему.
Императору пришлось откровенно туго. Он признал себя побежденным. Среди зимы Генрих явился в итальянский город Каноссу и, во власянице стоя на коленях у ворот замка, где находился папа, принялся молить о прощении. Папа был просто счастлив.
Этот замок принадлежал графине Матильде Каносской-Тосканской. Она принялась молить за Генриха: все же император на коленях, как-то неловко, право… Тогда папа снизошел до того, чтобы принять-таки поверженного противника, протянул ему ногу и позволил облобызать туфлю – и отпустил Генриху грехи.
Получив отпущение грехов, Генрих не только восстановил свою власть в Германии, но и вторгся в Италию, захватил Рим. Ненавистный Григорий VII к тому времени отправился в мир иной, и на его место был выбран Урбан II, но ему пришлось бежать и просить о помощи итальянских феодалов и норманнов, которые находились в это время в Южной Италии. Соединенные силы (к ним примкнула и Матильда Тосканская) выгнали Генриха из Италии, но в Германии власть его держалась крепко. Весьма утешало его и то, что опостылевшая Берта наконец умерла.
Именно в это время он и встретил прекрасную Евпраксию, до такой степени не похожую на всех женщин, виденных им прежде, что Генрих пожелал как можно скорее обвенчаться с ней, объявить ее императрицей и даже приказать молиться за нее во всех церквах.
Но честолюбие и даже непослушание Риму в глазах его невесты еще не были таким уж страшным грехом. Об этом знали все. Гораздо страшнее было то, что Генрих пытался скрыть…
Евпраксия восхищалась своим женихом – и разочаровалась в супруге в первую же ночь. Он не смог воспользоваться красотой и покорностью жены. Он гладил, тискал, мял ее тело все с большей страстью, перешедшей в ярость, но тем дело и кончилось. Наконец он осыпал девушку – она так и осталась невинной после этой ночи! – непристойными упреками. Евпраксия в жизни ничего подобного не слышала! Она и не подозревала, что должна что-то делать, дабы вызвать у мужа желание. Она и подумать не могла, что обманула его ожидания, потому что оказалась ледышкой!..
Генрих удалился из ее покоев и оставил ее в слезах – снова и снова переживать укоры мужа и терзаться сознанием собственной вины. А на самом деле, никакой вины ее не было. Генрих за годы безудержного распутства, которому он предавался где мог, когда мог и с кем мог – он славился как один из величайших развратников своего времени! – изрядно порастратил свою мужскую силу. И нужны были средства посильнее, чем нежные ласки невинной, неопытной девушки, чтобы возбудить его. Евпраксии еще предстояло узнать об этом.
Императору дозволено было все. Его забавы – самые позорные, низменные! – вызывали восхищение верноподданных придворных, алчущих подачек с господского стола – пусть даже подачки эти отдавали гнильцой. Приближенные охотно разделяли распутные пристрастия своего господина. Ведь это соучастие поднимало их до него – а его опускало ниже низшего предела. Конечно, они чувствовали себя равными и своему господину – особенно когда он позволял им восходить на ложе к императрице!
Ну, это чересчур возвышенно сказано: восходить на ложе. Валять ее где попало и как попало, словно последнюю шлюху…
Да, Евпраксии пришлось испытать и это. Супруг ее мог вновь ощутить себя мужчиной только после того, как на его глазах молодые, полные сил красавцы насиловали его жену. А потом, после вспышки вожделения, приходил в себя. Генрих раскаивался. За этим следовали приступы опустошительной, изнурительной ревности, и снова, снова была во всем виновата покорная, одурманенная зельями Евпраксия – Адельгейда…
Сначала ее опаивали тонкими винами, настоями трав. Опаивали тайно. Потом она привыкла к распутству и стала считать его необходимой частью жизни императорского двора. Да и могла ли она думать иначе? Ведь на ночных бурных сборищах, когда все принадлежали всем, она встречалась с самыми неожиданными людьми, с теми, кто днем носил личину благопристойности и даже святости. А ночью не было ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни простолюдинов, ни праведников, ни монахов. Оставались только грешники, еретики, служившие черные мессы во время своих разнузданных деяний. В сумятице плоти сближались герцоги и служанки, конюхи и маркграфини. Наравне с еретиками блудодействовали и монахи. Участвовала в таких сборищах и Адельгейда – аббатиса Кведлинбургского монастыря. Все вместе предавались разнузданному свальному греху: стоило погаснуть огням, каждый хватал как можно быстрее первую попавшуюся женщину и совокуплялся с ней, и эти совокупления считались признаком святости и благочестия.
А почему бы и нет? Всем известно, что даже в святом Риме от веку грешили так, что богобоязненные люди в ужасе отвращали взоры свои от папского престола. Несусветный разврат, мужеложство…
Император Генрих считал свои распутные сборища протестом против власти Рима. Он служил во время черных месс дьяволу именно потому, что не хотел служить Богу. Его никто не мог остановить – и меньше всего слабая женщина, которую он взял в жены и вверг в бездну греха.
Это происходило и во время сборищ в часовне, и в ее собственной опочивальне, куда Генрих приводил здоровых, полных сил молодых людей и принуждал Евпраксию – императрицу Адельгейду! – отдаваться им.
А что ей было делать? Видимо, страх перед смертным грехом самоубийства был страшнее беспрестанно свершаемого греха прелюбодеяния – свершаемого по приказу мужа.
И вот однажды Адельгейда поняла, что беременна. У Генриха уже было двое вполне взрослых детей от первого брака. Однако он все же обрадовался беременности жены. На какое-то время императрицу окружили заботой, ее берегли, ее не принуждали к участию в сладострастных сборищах. Но потом Генрих начал осмысливать случившееся. Он вспомнил, сколько мужчин принимала Адельгейда до него и одновременно с ним. В нем вновь пробудилась ревность. Да еще Адельгейда сама как-то бросила в ярости, озлившись за что-то на мужа (да уж, было за что!): она, дескать, сама не знает, от кого беременна.
Строго говоря, так оно и было, но зачем болтать такое? От чрезмерной ненависти к Генриху, надо думать. А может статься, она и сама не хотела ребенка, зачатого в одну из тех безумных ночей, когда она была всего лишь жертвой, жертвой вечерней, приносимой не Богу, а людям.
Беречь Адельгейду перестали. Когда Генрих отправился в Италию через Альпы, он вынудил жену следовать за собой. В ее положении это было очень тяжело, однако Адельгейда сама мечтала, чтобы с ней случился выкидыш. Выкидыша не произошло, ребенка она выносила, однако в положенный срок он родился мертвым.
Евпраксия не удержалась – зарыдала над беспомощным и ни в чем, конечно же, не повинным существом, однако про себя думала, что это наилучший выход. Вырасти ненавидимым и матерью, и отцом – что может быть хуже?
Смерть ребенка Адельгейда про себя считала подарком судьбы. Жутко звучит, но что поделать? А вскоре она получила еще один подарок – столь же двусмысленный и странный. Подарком этим был приезд в Верону, где тогда жила императрица, старшего сына Генриха – принца Конрада.
Когда Евпраксия поглядела на Конрада, она вспомнила своего отца. Нет, не из-за сходства между ними, хотя оба были редкостными красавцами. Если прежде она глушила в себе потаенную горечь на отца, который так беспощадно распорядился ее судьбой, то теперь возненавидела князя Всеволода. Ведь в то время, когда он просватал дочь за Генриха фон Штадена, первую причину всех ее несчастий, в императорском дворце подрастал этот светлый юноша, у которого до сих пор нет ни жены, ни невесты. А ведь ею могла бы стать она, Евпраксия! Почему отец не отдал ее Конраду?
Смешно, наверное, было так негодовать на судьбу, однако Евпраксия никак не могла перестать делать это. Особенно когда видела рядом Генриха и Конрада, когда сравнивала их манеры, их голоса, их обхождение, даже их манеру есть! И чем дальше, тем сильнее зрело в ней желание восстановить справедливость, получить то, чем она была обделена всю жизнь.
А обделена она была любовью…
Сначала Евпраксии чудилось, будто она ждет от Конрада лишь нежной дружбы. Как если бы они были дети, встретившиеся на некоем острове посреди бурного жизненного моря! Однако они не были детьми, ни он, ни она.
Бог весть, думал ли Конрад, что дальние верховые прогулки его с красавицей императрицей приведут к тому, к чему они все же и привели. Но несомненно одно: Евпраксия-Адельгейда искушала его сознательно и неотвратимо. Слишком много узнала она о радостях плоти за свою жизнь. И не могла уйти от своей природы: чувственной, развратной женщины (пусть ставшей такой против своей воли, но ставшей!). А он был полон жалости к очаровательной и несчастной красавице, которую вынужден был называть мачехой, несмотря на то, что мачеха была младше его…
Они соединились лишь раз. Итог каждой встречи – расставание. Но Евпраксия не была готова, что они расстанутся так быстро! А Конрад…
Одному лишь Богу известно, что случилось с Конрадом после той единственной ночи. То ли его влечение иссякло, как только он получил желаемое. Или наоборот, он устрашился силы своего влечения к Адельгейде. Возможно, им вдруг овладел страх: а ну как дознается отец – ведь убьет сына, посягнувшего на его собственность, убьет и глазом не моргнет! А может, Конрад встревожился за женщину, которая стала соучастницей его обмана? Или не страх ощутил Конрад, а стыд за то, что обманывает отца? А может статься, он испугался Адельгейды. Того, что открылось в ней, испугался…
Между прочим, Генрих сделал все возможное, чтобы возбудить его отвращение к Аделыейде. Он знал сдержанность сына, стыдливость его (про себя изрядно презирал Конрада за это и называл ханжой), но как-то раз, опьянев после пирушки, притащил сына в опочивальню мачехи и предложил ему насладиться ее телом. Когда тот в ужасе закричал, что не может осквернить отцовское супружеское ложе, Генрих засмеялся и заявил, что он вовсе не отец Конрада: Берта, такая-сякая, прижила-де сына от герцога Рудольфа Швабского, на которого принц и впрямь был похож.
Может быть, именно эта постыдная сцена произвела решающее действие? Конрад стремительно и тайно исчез из Вероны. Бросил свою любовницу – и бросил отца.
Однако кое-какие слухи о его прогулках с Адельгейдой все же дошли до Генриха. И бешенство затуманило его разум.
Те, прежние мужчины, с которыми она совокуплялась на его глазах, по его воле, – это было совсем иное. Они все были объяты одним припадком священного безумия. К ним он ревновал инстинктивно, а теперь… теперь рвалось на части его сердце. У него не было доказательств, что жена изменила ему с его же сыном – он чуял это всем своим изощренно-распутным существом, потому что знал женщин вообще, а Адельгейду – лучше всех других знал.
Главным чувством этого человека – императора Генриха IV – была гордыня. Он привык уничтожать всех, кто оскорблял эту гордыню. Низводил с престола пап римских и сражался со своими баронами. Но уничтожить преступного сына и преступную жену он, увы, не мог, потому что не обладал доказательствами измены. Однако он возненавидел их так, как только мог ненавидеть этот человек – с той бурей страстей, которые бушевали в его душе.
Адельгейду он заточил в высокой башне. Охрана не позволяла его жертве покидать каморку на самой верхушке и тем более – спускаться. Единственной отрадой ее был маленький балкон, с которого она смотрела на окружающий и недостижимый мир. Единственным обществом ее были служанка, духовник – ну и птицы, которые слетались к ней со всех сторон.
Она провела в этой башне три года. И все это время длилось дознание, стала императрица любовницей принца или нет.
Усугубил положение Адельгейды и ожесточение Генриха сам Конрад. Он внезапно уехал из Павии, где стояло войско германского императора, в Тоскану и объявил, что переходит на сторону Матильды Тосканской против своего отца.
Это было не просто косвенное доказательство самых мучительных подозрений Генриха о связи сына с его женой. Это было колоссальное оружие в руках его врагов!
Нечего и говорить, что они приняли принца с восторгом. Его тотчас увенчали короной Италии (той самой короной, добиваться которой Генрих готовился с оружием в руках). Конрад стал своеобразным знаменем борьбы с императором! Для закрепления успеха Матильда лично сосватала ему нормандскую принцессу Констанцию. Свадьбу сыграли в замке Матильды, в Тоскане. Заодно сама Матильда вышла замуж за молодого герцога Швабского Вольфа, сына того самого пресловутого Рудольфа. Теперь враждебные Генриху силы верхней Германии и Италии объединились против него.
А виновной за все это в глазах императора была Адельгейда…
Во время заточения до нее дошло известие, что в Киеве умер ее отец, великий князь Всеволод. И как ни злобилась против него Евпраксия, как ни проклинала за то, что он продал дочь в чужедальнюю сторону, а все же замерло сердце. Она прекрасно понимала, что родство с правящим русским домом было ее единственной защитой. Теперь Генрих окончательно перестал соблюдать хотя бы зыбкую видимость приличий в отношении жены. Теперь у него были развязаны руки. В любой момент Адельгейду могут найти лежащей у подножия башни в луже крови – и найдется десяток свидетелей, готовых подтвердить, что императрица слишком любила смотреть на дорогу, перевесившись через перила, а ведь она, бедняжка, была подвержена частым и внезапным головокружениям…
Теперь ей следовало подумать не о чести, а о спасении жизни. Единственным человеком, которому Адельгейда более или менее верила, была ее служанка. Именно с помощью этой наперсницы и удалось заключенной императрице переправить в Тоскану письмо с призывом о помощи.
Многое видела в жизни графиня Матильда, однако она не поверила своим глазам, когда получила и прочла это письмо. Надо сказать, что авторы латинских хроник называли ее новой Деборой, сравнивали ее военные победы с победами Израиля над амалекитянами. Хронисты были, конечно, людьми заинтересованными. К примеру, один из них, монах Доницо, жил в Каноссе, в замке Матильды, и медленно, но верно сочинял поэму под названием «Vita Mathildis», то есть «Жизнь Матильды», снабжая рукопись изысканными буквицами, заставками и концовками… Нечего и говорить – Матильда привыкла к восхвалениям, поверила, что Бог за нее и с нею, однако втихомолку побаивалась, как бы настроение у Всевышнего не переменилось и он не переметнулся на сторону заклятого врага Матильды.
И Господь не подвел! Не только не переметнулся сам, но, напротив, привел к Матильде самых близких императору людей. Удача, какая неслыханная удача! Сначала сын Генриха, потом его жена… «Заточена в башню, бедняжка!» – восклицала сочувственно графиня Тосканская, а сама потирала руки: «Повезло, повезло, повезло!»
Матильда сразу догадалась, каким образом теперь можно непоправимо испортить жизнь германскому кесарю, опозорив его. Но сначала надо было освободить Адельгейду. Герцог Вольф Швабский, муж Матильды, разузнал о том, как охраняется императрица, передал ей весть и однажды в условленный час с отрядом испытанных воинов ворвался в башню, перебив стражу. Императрица была освобождена и переправлена в Каноссу. В ту самую, у врат которой Генрих несколько лет назад стоял на коленях, вымаливая прощение папы. Видимо, привезя Адельгейду именно сюда, императору тонко давали понять, что его ждет новое унижение – и теперь прощения он не добьется.
Здесь Адельгейду встретили со всеми почестями, подобающими императрице. Поклониться ей приехал Конрад и его жена Констанция.
Адельгейда встретила своего мимолетного возлюбленного бестрепетно. Слишком многое выдули из ее души те ветры, которые насквозь пронизывали башню, где она томилась три бесконечных года.
Теперь ею владело одно только желание: отомстить Генриху – и обрести покой. Она не сомневалась, что события эти должны следовать именно в таком порядке. Но как отомстить?
Матильда, бывшая не только гораздо старше Аделгейды, но и гораздо опытней ее в искусстве ведения войны и нанесения решающего удара, подсказала – как. По ее совету Адельгейда написала грамоту, в которой изложила все жалобы на мужа. Пришлось написать многое – не щадя себя. Прежде всего – о ночных таинствах еретиков-распутников. Матильда позаботилась о том, чтобы грамота императрицы была размножена переписчиками и разослана всем епископам – не только немецким, но и всем прелатам католического мира. Это был безумный канцелярский труд, однако «новая Дебора» добилась, чтобы он был исполнен более чем быстро.
Уже в апреле 1094 года в Констанце в Швабии состоялся германский церковный собор, который обсудил жалобу императрицы и признал Генриха виновным в святотатстве и неслыханном разврате. Но этого врагам императора было мало. Матильда представила Адельгейду Урбану II, и тот уговорил молодую женщину через год выступить на всеобщем церковном соборе в Пьяченце.
Адельгейда согласилась. Она была настолько измучена постыдными воспоминаниями, что жаждала избавиться о них, выплеснуть из души, поведав обо всем людям. Вдобавок, это ведь не просто люди, а отцы церкви. Она будет не просто говорить о своем позоре, но как бы исповедоваться тридцати тысячам духовников сразу. Каяться принародно в грехе… А главное – отомстит!
Когда Адельгейда вышла в это «чистое поле», где яблоку негде было упасть от невероятного множества собравшихся людей, страх овладел ею. Страх и оторопь. Наконец-то осознала она то, что следовало понять давно: вовсе не эти люди помогают ей отомстить Генриху. Именно она – орудие их мести! Для них она, с ее израненной душой и поруганным телом, существует лишь постольку, поскольку поможет сверзить с заоблачных высей нового Люцифера.
Ну что ж, пусть так. Она сделает все, чтобы грохот от его падения оказался оглушительным!
– Первый раз это случилось в Вероне, в замковой часовне. Мы пришли туда ночью. Горело только несколько свечей, люди все были в черных плащах с капюшонами. Может, они боялись друг друга, поэтому скрывали лица. Может быть, стыдились того, что будут свершать. А может, этого требовало их таинство. Среди них был епископ… Когда начали служить мессу, он держал в руке не крест, а козлиную ногу с копытцем и благословлял нас ею. Кругом звучали какие-то непонятные слова. Потом я узнала, что это христианские молитвы, произносимые наоборот. С конца до начала. Не молитвы, а заклятия служителей Вельзевула. Меня заставили выпить вина. Потом я очнулась лежащей на алтаре. И увидела, что рядом стоят мужчины, которые уже совлекли с себя черные плащи. Они были наги. Среди них был мой супруг, кесарь. И тот епископ. Он сказал мне, что я жертва вечерняя…
Императору Генриху IV была вновь провозглашена анафема, его окончательно отлучили от церкви и лишили престола. После многолетних попыток восстановить прежнее положение, после многочисленных сражений подточенное напряжением здоровье Генриха не выдержало. Он умер в августе 1106 года. Сложил оружие!
Рим наконец-то победил.
Адельгейда узнала об этом… в Киеве. Она жила тут уже почти десять лет. И беспрестанно вспоминала тот пасмурный день – небо было серое-серое! – когда она вывернула душу наизнанку перед десятками тысяч людей. О, к ней отнеслись снисходительно, как и подобает святым отцам. На нее даже не наложили епитимьи. Она ушла с этого поля под Пьяченцей как христианская святая, которая невредимой вышла из клетки со львами.
Нет, не потому не тронули ее львы, что пожалели. Просто они насытились, просто забыли о ней.
Да, в Пьяченце все мгновенно забыли об Адельгейде, как только она перестала быть нужной папе Урбану, Матильде, герцогу Вольфу, даже Конраду… Он уехал в Милан с явным облегчением, что больше никогда не увидит этих серых глаз, которые мешали ему жить спокойно.
Некоторое время Адельгейда еще оставалась в Пьяченце, однако ежесекундно ловила на себя жадные, любопытные взгляды. Эти взгляды ползали по ней, словно кровососущие насекомые! Вдобавок дошли слухи, что Генрих не намерен спустить жене своего неслыханного позора, намерен похитить ее и расправиться с ней. В Пьяченце уже видели каких-то подозрительных людей…
Матильда помогла Адельгейде покинуть Италию, щедро снабдила деньгами на дорогу. Злые языки болтали, что сделала она это отнюдь не по доброте душевной. Просто молодой супруг Матильды, Вольф, начал вдруг подозрительно волноваться в присутствии императрицы, бледнеть и краснеть, совсем перестал уделять внимание жене, а все бродил поблизости от крыла замка, где жила Адельгейда. Уж не захотел ли и он отведать того же пряного вина, от коего опьянел однажды Конрад?
Поэтому, поразмыслив, Матильда сочла за лучшее «помочь» Адельгейде.
После долгого путешествия та добралась до Венгрии, где доживала свой век тетушка Анастасия. У королевы хватало своих забот и без племянницы, за которой тянулись богомерзкие слухи, словно затасканный по грязи шлейф платья. Адельгейда хотела бы уехать на Русь, но как?
В это время в Венгрии вспыхнула смута, сын Анастасии, король Шалмон, был низложен. К новому королю Коломану прибыло посольство из Руси. Когда послам пришло время возвращаться, с ними вернулась и Адельгейда.
Ее приютила старшая сестра – Янка. Она к тому времени стала настоятельницей Андреевского монастыря, но Боже мой, до чего же бревенчатые избушки, прилепившиеся на крутых склонах Андреевской горки, в яблоневых садах, непохожи были на каменные кельи Кведлинбургского монастыря! До чего же непохожа была круглолицая, румяная Янка на бледную, нервную, зловещую Адельгейду!
О том, что ждет нас, брось размышленья, Прими, как прибыль, день, дарованный Судьбой, и не чурайся, друг мой, Ни хороводов, ни ласк любовных!Все это осталось в далеком, невозвратном, забытом прошлом. О Горации здесь и слыхом не слыхали. У Янки были другие заботы. Она открыла в своем монастыре первую на Руси школу для девочек. Их обучали письму, чтению, пению, необходимым для ведения дома ремеслам.
Янка и Евпраксия часто коротали вечера вдвоем – эти две сестры, жизнь которых протекла вдали друг от друга. Иногда Евпраксия пускалась в воспоминания, обходя откровенные, постыдные сцены. А Янка читала ей псалмы – особенно часто тот, непостижимый и загадочный:
– Господи, взываю к Тебе, услышь меня: внемли гласу моления моего, когда взываю ми к Тебе. Да будет молитва моя, яко кадило пред Тобою. Прими из рук моих, жертва вечерняя. Положи, Господи, печать на уста мои, и от беды огради меня. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия… Лишь к Тебе, Господи, обращены очи мои. На Тебя я уповаю, не отыми душу мою. Пусть в сети свои попадут грешники, а я в одиночестве пред Тобою пребуду, пока не достигну конца жизни…
– Что это значит? – снова и снова спрашивала Евпраксия. – Что значат эти слова?
– Молящийся просит Владыку нашего благоволительно принять прошение его, – объясняла Янка. – Свои помышления он уподобляет благовонным курениям из кадила, потому что они тонки и приносятся Богу единым умом. А дела, представляемые под образом рук, уподобляет жертве, потому что они имеют как бы более доблести в сравнении с мысленными приношениями. Говорит же: жертва вечерняя, потому что в добрых делах упражняться должно до конца.
Евпраксия то слушала, то не слушала. Генрих умер, умер… Жизнь кончилась, кончилась… Ей уже не удастся упражняться в делах добрых до конца! Просто не успеть. Она все чаще слышит тихие шаги Смерти у дверей своей кельи. О, как перехватывает дыхание до мучительной боли в груди. Однажды вот так замрет от страха сердце – и не забьется вновь…
* * *
О том, когда это все же свершилось, о том, когда достигла конца жизни Евпраксия, императрица Священной Римской империи, есть строка в «Ипатьевской летописи»:
«В лето 6617 (1109) выпало преставиться Евпраксии, дочери Всеволода, месяца июля 9 дня, и положено было тело ее в Печерском монастыре у южных дверей, и сооружена была над ней божница, где лежит тело ее».
Вот и свершилась она, жертва вечерняя.
Ожерелье раздора
Софья Палеолог и великий князь ИванIII
– Тебе, Елена Стефановна, сноха любимая, богоданная, желаю даровать в знак милости и любви драгоценную златую сажень[30]. Чтоб красота твоя дивная и чудная в той сажени еще пуще заблистала ради услады очей наших…
Софье почудилось, что притворная улыбка прилипла к ее губам, как в бане липнет к распаренному телу мокрый березовый лист. Ее и впрямь в жар бросило от слов мужа. В жар – и в холод.
Да он что, с ума на старости лет сошел?! Забыл лета свои, забыл чин свой? Забыл, сколько чужих глаз на него глядит, забыл, сколько ушей слышит эти совсем не родственные, ох, совсем не отеческие льстивые словеса, которые он щедро расточает жене сына?
В знак милости и любви… любимая сноха… услада очей наших… Ой, сладко, ой, приторно – челюсти так и сводит! А она… она играет своими тусклыми карими глазками, которые всегда напоминали Софье изюминки, торчащие из пасхального кулича. Личико у невестки – ну точно как тесто перепеченное. А из него изюминки торчат. И где сыскал великий князь эту самую красоту, дивную и чудную?! Ошалел старый дурень! Ошалел при виде тугих щек и смуглой шеи этой волошанки[31]!
А она, эта молоденькая дурочка! Она ведь тоже ошалела от такого внимания свекра. От щедро изливаемой на нее благосклонности. Забыла о скромности, забыла, что глаза потупить надобно, румянцем залиться стыдливым, рукавом завеситься либо краешком фаты… Глазки-изюминки сейчас напоминают двух юрких зверьков: так и скачут, так и мечутся из стороны в сторону. То на мужа глянет, Ивана Молодого – с пугливым торжеством: видишь ли, как меня твой батюшка чествует? Ценишь ли?.. На свекра смотрит с рабским почтением, так и ест глазами. Но на самом донышке, если приглядишься, увидишь и потаенно женское… А третья сторона, куда нет-нет да и метнутся глазки-зверушки, это великая княгиня Софья Фоминишна. Вроде бы свекровь, да не совсем, потому что не родная мать князю Ивану Молодому, а лишь мачеха. Ну а коли так, небось смекает Елена Волошанка, значит, с ней можно не больно-то считаться. Ее можно и обойти почтением. И метнуть на нее откровенно торжествующий взор: видишь, куда ветер дует, ты, старуха?..
Старуха, конечно, старуха… Никуда не денешься – недавно сравнялось тридцать пять лет. А этой молоденькой сучке едва восемнадцать. И она уже успела родить Ивану Молодому сына. Сделать великого князя московского Ивана Васильевича[32] дедом. А великую княгиню Софью Фоминишну, значит, бабушкой.
Бабкой!
Тьфу!
Хотелось прикрикнуть на мужа, который токует на троне, словно старый тетерев перед молодой тетеркой. Хотелось окрыситься на ненавистного и ненавидящего пасынка, прогнать с его лица злорадное выражение. А больше всего хотелось провести ногтями по румяным щекам Елены Волошанки.
Однако ни одно из этих чувств не отразилось на лице великой княгини. Знатные византийцы детей своих учили скрывать свои чувства и самого лютого врага встречать радушной улыбкой. Софья была так поглощена обидой, так старалась не забыть уроки своих воспитателей и не ударить лицом в грязь перед противной Волошанкой, что в первую минуту начисто упустила главное: ожерелья, которое князь Иван Васильевич собрался подарить снохе, в казне больше не было.
Знала об этом лишь она, великая княгиня Софья! И лишь она была в этом виновата…
Но стоило только вспомнить, как все остальные чувства, только что снедавшие ее, отлетели, как сухие осенние листья. Остался лишь страх.
Тот самый страх, под гнетом которого она жила с того самого дня, как стала женой великого князя московского.
* * *
Удивительно – так сильно она не боялась даже в детстве, а уж детство ее никак нельзя было назвать безоблачным! Разве что до пяти лет, пока она жила с отцом – морейским деспотом[33] Фомою Палеологом и матерью. Родной брат византийского императора
Константина XII, Фома тайно мечтал, что когда-нибудь один из его сыновей унаследует трон, а дочери будут выданы за самых знатных иноземных принцев. Особенно завидную участь он пророчил Зое – она была любимицей отца.
Увы, Фома Палеолог смотрел на жизнь не вполне трезво. Византия в это время была уже не та, что в старину. По сути дела, от нее остался лишь Константинополь – все остальное было захвачено Османской империей. И все честолюбивые планы деспота морейского и прочих византийцев рухнули, когда турецкий султан Магомет II взял Константинополь. Увы, изнеженные, трусоватые жители столицы не пожелали взяться за оружие и защищать свой город. Пять тысяч из ста – вот и все войско, которое удалось собрать императору Константину. Он и сам был убит на улицах своего города.
Вскоре пришел черед пасть и Морее, и ее главному городу – Мистре. Палеолог увез семью на остров Корфу, а сам отправился в Рим – просить помощи у католиков. Его приняли с распростертыми объятиями – ведь Фома привез папе драгоценную, священную реликвию: голову апостола Андрея, которая прежде хранилась в Константинополе. Фактически в лице Фомы рухнула на колени перед католиками православная церковь… Папа пришел в такой восторг, что предоставил семье Палеолога ежемесячное содержание в триста золотых монет…
Зое было пятнадцать лет, когда умерли ее родители. Отныне за детьми Палеолога начал приглядывать кардинал Виссарион, принявший сан константинопольского патриарха. Это ничего, что сам Константинополь теперь во власти магометан! Виссарион тешился своим новым званием и был весьма доволен тем, что ему предстоит обратить в истинную веру не одну заблудшую в православии душу. Но при всем своем фанатизме это был незлой человек. И он искренне советовал Зое, в черных глазах которой видел неженский ум:
– Если будешь следовать заблуждениям своих предков, тебе только и останется, что перебиваться с хлеба на воду в каком-нибудь захудалом монастыре. Так и проведешь жизнь в нищете и забвении. Но если ты преклонишь колени перед престолом святого Петра, тебя ждет иная участь! Ты происходишь из старинного царского рода, – тебе найдут мужа – герцога или принца, ты возвысишься до прежнего положения своих родителей, а может быть, и превзойдешь его!
Зоя внимательно смотрела на него своими огромными черными глазами. У нее были удивительные глаза – не блестящие, а матовые, словно дымкой подернутые. И эта дымка надежно скрывала все те мысли, которые роились в ее гладко причесанной смоляной головке. Но Виссарион отлично понимал, что девочка сейчас торопливо просчитывает свои выгоды. Эти греки – прирожденные торговцы. Все они одинаковы – что знать, что простолюдины. Он не сомневался, что эта умница сделает правильный выбор. И когда на ярких губах Зои мелькнула легкая улыбка, Виссарион понял: выбор сделан! И радостно улыбнулся в ответ.
Но кардинал слишком давно служил святой церкви и, по сути дела, стал бесполым существом. Он совершенно не знал женщин. Он не разглядел потаенного лукавства Зоиной улыбки…
Надо отдать должное кардиналу Виссариону – он искренне искал для Зои хорошего мужа. И начинал высоко, очень высоко – с короля французского и герцога миланского. Однако обоих совершенно не заинтересовала какая-то принцесса-бесприданница. Тем паче оба оказались поклонниками женщин изящных, нежных, легких, воздушных, словно сильфиды.
Зоя Палеолог на сильфиду никак не походила. Она была невысока ростом и при этом полненькая, кругленькая. Утонченными были только черты ее лица, но отнюдь не формы тела. Ей нечем было прельстить ни этих женихов, ни каких-то других, даже совсем уж захудалых правителей вроде кипрского короля Якова II или итальянского князя Карраччиоло – да, Виссарион дошел до того, что засылал сватов и к ним! Зоя угрюмо вспоминала свои честолюбивые мечты: а она-то надеялась превзойти пышностью брака сестру свою Елену, королеву Венгерскую! Неужели придется идти в монастырь?
Да, похоже, ее католические молитвы не доходили до бога. И Зоя, поняв это, взмолилась словами тех молитв, которые помнила с детства! Она просила Господа позаботиться о бедной сироте, всеми заброшенной и забытой, обреченной на бесцветное увядание. Она просила дать ей мужа, для которого неважным будет ни отсутствие приданого, ни изобилие ее девических телес. Пусть для него имеет значение только древность ее славного рода, безупречность ее происхождения, только вера ее отцов!
Похоже, она обратилась к небесам именно в то мгновение, когда Всевышний отверз свой слух к мольбам малых сих.
* * *
Марья не дождалась мужа. Умерла – внезапно, мучительно…
Иван взглянул на труп – и не поверил глазам. Это не могла быть его жена, нежная, хрупкая, словно весенний цветок. Смерть чудовищно изуродовала ее! Великий князь только раз приподнял край пелены, покрывавшей мертвое тело, – и поспешил вновь опустить драгоценную ткань.
Отошел от гроба, с трудом подавляя страх, горе, желание проклясть небеса – всё вместе.
Как она могла покинуть его? Почему? Ей было лишь двадцать пять, и пятнадцать лет из этих двадцати пяти она принадлежала Ивану! Князь московский и княжна тверская были помолвлены еще в детстве, потом стали супругами. Они были вполне счастливы, не ссорились, у них подрастал сын Иван… ему сейчас девять. Сын был единственный – это томило Марию, она чувствовала себя виноватой, что не может затяжелеть вновь. Боялась, муж прогневается за то, что неплодна отныне…
Это и стало причиной ее гибели.
Долго допрашивать да расспрашивать не пришлось: великий князь очень быстро узнал все, что хотел. Воспользовавшись отлучкой мужа в Коломну, Мария Борисовна попросила свою прислужницу Наталью Полуехтову сыскать ей какую-нибудь знатную ворожею, чтобы та дала чадородное средство. Ворожея сообщила, что средство у нее такое есть, и потребовала принести ей пояс великой княгини. Якобы надо пропитать его чародейным зельем, а потом навязать на платье и носить не снимая сколько-то дней.
Ох, даже нескольких часов не проносила заколдованный пояс Мария Борисовна: вдруг лишилась чувств и вскоре умерла.
Взбешенный Иван Васильевич велел прогнать Полуехтову Наташку и мужа ее Андрюшку вон со двора, потребовал на расправу злокозненную ворожейку, да ее и след простыл: сбежала из Москвы, лишь только пронесся слух о смерти великой княгини.
– Ты не только меня бросила! – с тоской шептал Иван, закрыв глаза и видя перед собой милое, покорное лицо Марьи. – Ты сына бросила! И как теперь жить? Сызнова жену искать, а Ванюшке – мать? Да где ж я ее сыщу, чтоб была такая, как ты?!
Спустя год, когда минул положенный срок траура, он начал поиски новой невесты, однако вскоре убедился, что такой, как Марья, больше не отыщет. Да и зачем терзаться, живя с подобием, коли не можешь добыть подлинника? Лучше бы найти совсем другую женщину!
Он как раз утвердился в этой мысли, когда в Москву прибыло посольство из Рима.
В великокняжеском дворце насторожились. Католики прибыли к православным не с торговым делом? Удивительно сие. Может, не встречаться с ними? Пускай уезжают восвояси, несолоно хлебавши! Пусть знают гордость московитов! Ишь, разогнались – со свиным-то римским рылом в русский калашный ряд!
Потом стало известно, что посольство состоит из православных греков – бывших подданных Византии, ныне раздавленной турецкою пятою. Прослышав, что пред ним предстанут собратья по вере, Иван Васильевич согласился принять их. Ему сразу понравился Юрий Траханиот, глава приезжих. Говорил он так красиво да складно, как умели это делать только византийцы, великие мастера морочить головы. Но стоило Ивану Васильевичу вникнуть в смысл этого нагромождения словес, как он только усилием воли удержал изумленный возглас. Оказывается, греки приехали, чтобы предложить ему жену! И даже лик ее, запечатленный на деревянной доске, привезли!
Иван посмотрел на изображение – и не смог сдержать восхищенной улыбки. Ох, каковы очи у девицы Зои! Огонь! А румяные щеки и полные вишневые губы? А косы черные, которые змеями сползают на плечи и струятся ниже подколенок? А изобильные стати?
Не преувеличил ли малевальщик? Неужто у нее и в самом деле так сверкают глаза? Неужто она и в самом деле столь роскошна грудями и бедрами?
Нежная, болезненная худышка Марья Борисовна мигом померкла перед этим буйством плоти. Имя «Зоя», знал Иван Васильевич, по-гречески значит – жизнь. Да, сама жизнь – новая, счастливая жизнь! – смотрела на него…
Опытный царедворец Траханиот не сдержал облегченного вздоха, увидав, что взор молодого князя (Ивану Васильевичу было в это время двадцать восемь лет) вспыхнул откровенным вожделением.
Чудеса, да и только. Именно то, что отталкивало европейцев, одним ударом сразило этого полудикого русского царя. Казалось, для него даже не важно, что в жены ему предлагают не просто черноокую толстуху, а последнюю византийскую царевну!
Но в это мгновение великий князь Московии поднял на лукавого грека свои светлые, голубые глаза – и Траханиот сразу понял: этот человек все видит, все слышит и все отлично понимает. Великий князь уже просчитал про себя несомненные политические выгоды брака с греческой принцессой, отпрыском византийских императоров, благосклонность Рима… У него стремительный, острый, истинно государственный ум, у этого московита. Наверное, они станут с Зоей хорошей парой, ведь девчонка очень умна. То есть найти общий язык они непременно найдут. Ну а если им при этом будет сладко почивать вместе – так это и вовсе превосходно!
* * *
Сначала сватовство шло как по маслу. Итальянец Джанбатиста Делла Вольпе, прижившийся в Московии под именем Ивана Фрязина, отправился в Рим и сообщил о согласии великого князя московского жениться. Он встретился с Зоей и описал ей будущего супруга.
Девушка пришла в восторг. Она почти не видела в
Риме высоких светловолосых и светлоглазых мужчин, но питала к ним тайную слабость. Она была уверена, что сможет быть счастлива с этим человеком!
Однако на пути ее счастья возникли нежданные препоны, и виновно было в этом католическое духовенство. Папа римский потребовал от Московии присоединения к Уставу Флорентийскому. Согласно его установлениям, все православные державы попадали в зависимость от католического Рима, который осуществлял верховную власть над местными патриархами. Диктовалось это высшими соображениями: необходимостью борьбы с исламом, который набирал силу и завоевывал мир.
Однако великий князь московский вовсе не собирался в угоду Риму унижать православных священников, а тем более не намеревался портить отношения со своими союзниками-мусульманами: османами. Они еще понадобятся Московии для борьбы с Ордой и заносчивыми ливонцами. А невеста… что ж, она хороша, но, быть может, сыщется на свете и другая толстушка с огненными очами и пухлыми губками, которая пожелает стать его женой?..
Впрочем, окончательного отказа в Рим отправлено еще не было – за недосугом. Новгородское боярство желало отойти от Москвы – необходимо было его усмирить и показать, кто на Руси хозяин и господин.
А в Риме Зоя сходила с ума от тревоги за свою участь. Она рыдала и стенала, представляя себе грядущее монастырское затворничество. Она не хотела идти в невесты ни к католическому Христу, ни к православному! Она хотела быть невестой великого князя Ивана!
Искренне привязанный к ней и до смерти огорченный ее слезами кардинал Виссарион досаждал и досаждал папе Павлу II, поэтому в конце концов требования Рима смягчились. О присоединении к Уставу
Флорентийскому речи уже не шло. Хитрые католики надеялись в этом смысле на Зою. Ей самой предстояло привести в истинную веру заблудших московитов.
Зоя согласилась. Она согласилась бы на что угодно, лишь бы выйти замуж! Она смирилась даже с тем, что ей придется зваться не Зоей, а Софьей – своим вторым именем, более привычным для русского слуха и даже почитаемым: ведь храм Софии в Константинополе был святыней всего православного мира, в его же честь была названа и знаменитая Киевская София. Кроме того, этим именем звали бабку князя московского[34], и это тоже следовало учитывать.
Наконец дело было слажено. Состоялось даже предварительное обручение – как и велели старинные обычаи. Сторону жениха представлял Иван Фрязин.
Когда дошло дело до обмена кольцами, Фрязин озадачился: кольца для невесты он не привез. На Руси сего в заводе не было – кольцами меняться не при венчании, а уже при обручении.
Ну что ж, обошлись без колец. Главное, что были произнесены все необходимые слова. И теперь Софья могла подойти под благословение папы, получить от него в качестве приданого кошель с шестью тысячами дукатов – и отправиться в дальний путь.
Кардинал Виссарион искренне горевал, прощаясь с нею, – и в то же время радовался ее браку. Он уже видел, как его воспитанница приводит к подножию престола святого Петра толпы и толпы вновь обращенных московитов… Он все уши прожужжал девушке, излагая свои честолюбивые планы!..
Софья выкинула их из головы в то же самое мгновение, как стены Рима скрылись вдали. Она возвращалась к вере своих отцов – и больше не намерена была отступать от нее.
Ну, разумеется, кардинал Виссарион не мог не навязать ей в сопровождающие католического прелата. Им оказался папский легат Антонио Бонумбре, который страшно кичился возложенной на него миссией сопровождать воспитанницу Рима.
Софью очень заботило, чтобы не расхвораться в пути (чем дальше двигались на север, тем холоднее становилось) и чтобы в целости и сохранности довезти свое небогатое имущество: несколько возов со старинными книгами на греческом языке, священными реликвиями дома Палеологов[35], много ярких платьев, остатков былой роскоши морейских деспотов, – и рукодельные принадлежности. Она еще в детстве выучилась прекрасно вышивать – в Византии вышиванье было весьма любимым и почитаемым искусством как придворных дам, так и монахинь. Софья достигла большого мастерства в этом рукоделии.
Путешествие было трудным, но запомнилось Софье на всю жизнь. Впервые она почувствовала себя не бедной приживалкой, а персоной весьма значительной. Жители городов Священной Римской империи встречали ее радушно, провожали почтительно. Конечно, Софья понимала, что дело не столько в ней, сколько в предстоящем браке с московским государем. И она молила Бога помочь ей заслужить любовь и расположение мужа.
Из Рима выехали 24 июня 1472 года, но только к 1 сентября достигли польского города Любека. Отсюда предстояло морем плыть до Ревеля[36]. Пришлось Софье претерпеть одиннадцатидневное мотание по волнам (осенняя Балтика не жалует мореплавателей)… И снова потянулись обозы в Московию. Вот наконец и Псков! Это уже была Русь, Московия.
И только тут Софья поняла, как благосклонен к ней добрый Бог. Разряженные в пух и прах псковские бояре, которые встречали ее… Роскошные пиры, которые задавали в ее честь, – такие пиры, что сыты и пьяны были все, до самого последнего слуги… А подарки будущего супруга ей и ее дамам, чтобы не мерзли на осенних ветрах?!
Столько шуб у Софьи в жизни не было! Больше всего ей полюбились горностаевая, покрытая алым бархатом, и соболиная, с верхом из роскошной парчи. Откуда-то из глубин памяти выглянула перепуганная девочка Зоя и прошептала на ушко царской невесте, что в Риме и даже в Византии каждая из этих шуб обошлась бы в целое состояние. Даже те крытые сукном лисьи и беличьи шубы, которые получили приближенные Софьи, стоили безумных денег!
«Неужели так будет всегда? – смятенно думала византийская царевна. – Боже, благодарю тебя!»
Однако в небесах из-за ее персоны продолжались тяжбы. И соперничество двух религий не могло не сказаться на земных делах. В Москву ежедневно прибывали гонцы, сообщая о том, где находится поезд царевны. И вот в русской столице стало известно, что патер Антонио не выпускает из рук католический крест и намерен ввести Князеву невесту в Москву под сенью этого креста.
Кто-то из бояр миролюбиво советовал претерпеть такие мелочи. Кто-то возмущался. Пока Иван Васильевич раздумывал, как поступить, митрополит Филипп заявил:
– Если латинский крыж внесут в Кремль, меня здесь больше не увидят никогда.
Угроза была серьезная. К тому же великий князь и сам не хотел пресмыкаться перед католиками. Он послал именитого боярина навстречу поезду невесты и велел уговорить Антонио Бонумбре убрать крест. Однако все доводы боярина ни к чему не привели. Наглядевшись в фанатично горящие очи папского легата, боярин наконец плюнул на уговоры и просто-напросто вырвал крест из его руки.
Легат онемел. Дар речи нашелся только у Ивана Фрязина, однако ему дорого пришлось заплатить за попытку вступиться за Антонио: слуги боярина избили бедолагу Фрязина, а заодно – под горячую руку! – отняли у него все, что он вез из Италии.
Фрязин и Бонумбре кинулись к Софье умолять о заступничестве. И… обоим показалось, что на них вылили несколько бочек ледяной воды.
– Со своим уставом в чужой монастырь не ходят, – сказала Софья, смиренно потупив свои чудные глазки. – Оставьте меня. Я не намерена из-за всяких мелочей ссориться со своим будущим супругом.
«Всякими мелочами» были не только оскорбленные Фрязин и Бонумбре. В тот же разряд входили и католический крест, и обещания, данные Риму, и благословение папы, и сам престол святого Петра…
Именно тогда в голову легата Антонио закралась мысль, что с внедрением католической веры на Руси могут возникнуть некоторые осложнения. Может быть, с этим придется повременить…
Вскоре он поймет, что повременить придется как минимум навсегда.
Папский легат был отослан в Рим. Напоследок он попытался еще раз воззвать к великой княгине, однако это было все равно, что прошибать стену лбом. Для Софьи отныне не существовало прошлое. Только настоящее и будущее. Только ее новая жизнь!
И ее страх…
Конечно, ее не могло не смутить, что Россия так холодна и безрадостна в осеннюю пору. Где оливковые рощи и виноградники? Где теплое солнце?.. Но зато Софья никогда прежде не видела снега, который показался ей восхитительным, хоть и очень холодным на ощупь.
Конечно, ее не могло не разочаровать, что Русь, оказывается, – страна деревянно-избяная, да и вся Москва такова. Даже царский дворец был всего лишь кучкой бревенчатых строений, соединенных переходами… Но зато Софья могла внушить своему мужу, что его стольный град должен быть перестроен и сделаться одним из красивейших в мире.
Конечно, ее не могло не огорчить, что митрополит московский Филипп вдруг проникся к ней непонятной враждебностью и даже отказался венчать великого князя с византийской царевной – она-де слишком долго прожила в католической стране и не могла не подпасть под пагубное влияние латинов. И все же она стала женой князя Ивана – и какая разница, кто совершил обряд?
Конечно, ее не могло не опечалить, что у мужа оказался почти взрослый сын от первого брака. Зато сам князь Иван был так нежен с женой, так ласков! Софья полюбила его всем сердцем и не сомневалась, что и муж очарован ее глазами, ее повадкою, ее умом и добротой. Супружество открыло для нее бездну новых блаженных ощущений. Софья поняла, что может быть истинно счастливой с этим светлоглазым человеком. С нею он был любящим мужем и страстным мужчиной. А уж когда их супружество увенчается рождением сына…
При одной мысли об этом Софью охватывал страх.
Она почувствовала себя беременной очень скоро – не прошли напрасно те пылкие ночи, во время которых она узнала столько нового и о человеке, который стал ее супругом, и о себе самой. Но у княжеской четы родилась дочь, которая умерла через несколько дней. Вторые роды тоже были неудачны. Да и потом вновь родилась девочка. Она выжила, однако это был отнюдь не столь желанный Софьей сын…
Кто искренне, от души, сочувствовал княгине, кто лишь на словах, однако оказался во дворце человек, который не скрывал своего злорадства и трезвонил на всех углах: грекиня-де порченая!
Это был Иван Молодой, сын Ивана III Васильевича и Марии Борисовны Тверской.
Он не просто невзлюбил мачеху с первого мгновения – он люто возненавидел ее. Ведь их с Софьей объединяло одно чувство, которое было основой их существования: взаимный страх. Оба они представляли собой угрозу друг для друга.
Софья знала, что Иван – наследник престола. Случись что с великим князем – государем станет этот белобрысый узколицый мальчишка, и уж тогда ей с дочками один путь – в монастырь. Ей нужен был сын не только для того, чтобы доказать свое телесное здравие и душевную крепость, не только для того, чтобы порадовать любимого мужа. Ей нужен был сын, которого она сделала бы наследником князя Московского – в обход Ивану Молодому. И этим обеспечить свое будущее – свое и своих детей.
И пасынок отлично понимал причину того сдержанного огня, которым полыхали очи ненавистной грекини. Он видел, что отец очарован новой женой, прощает ей все, даже то, что Софья мечет дочек, словно кошка – котят. Княжич знал силу этой «ночной кукушки». И понимал, что при первом же удобном случае грекиня восстановит отца против сына. Особенно если у нее родится сын…
Значит, этот сын не должен родиться!
Пока Ивану Молодому не за что было упрекнуть небеса. Сына у княгини по-прежнему не было. Однако княжич не хотел рисковать…
И вот как-то раз одна из прислужниц Софьи начала, словно невзначай, заводить разговоры о том, что появилась-де на Москве знатная ворожейка. Знатна она многими хитростями, но в чем ей воистину нет равной, так это в ворожбе на сыновей. Какая бы мужняя женка ни пришла к ней, всякой поможет! И не было случая, чтобы после ворожбы не родился бы у молодайки именно сын. Девок-то любая-всякая настрогать может. А чтобы сына родить – тут особая благосклонность небес потребна. Ворожейка весьма горазда обеспечить эту самую благосклонность небесную…
Софья выслушала эти нашептывания раз, другой, третий… А потом спросила, как бы с той ворожейкой повидаться.
Сенная девка пообещала встречу такую устроить в самое ближайшее время. Софья со страхом и надеждой ждала этого. А тем временем решила спросить совета у мужа: идти ей к ворожейке или нет.
Оно конечно: ворожба – дело сугубо женское. Однако Софья еще не совсем уверенно чувствовала себя в этой чужой стране. Все-таки она не абы чья женка, а супруга великого князя. Как бы не попасть впросак, как бы не уронить тень на свое имя и звание…
Не иначе сам Господь Бог надоумил ее посоветоваться с мужем, хотя в первую минуту Софья ругательски изругала себя за такое решение. Она никак не могла понять, почему так разъярился великий князь. Он пригрозил заточить ее в темницу, сгноить в подземелье, высечь плетьми, смоченными в рассоле, а напоследок – придушить собственноручно, если только он узнает, что жена хоть в малой малости прибегла к услугам любой ворожеи. Даже если просто попросит погадать, будет ли завтра солнышко светить или дождик пойдет!
Софья сначала перепугалась, потом обиделась, потом стала рыдать. Когда князь Иван видел тяжелые слезы, которые заволакивали ее чудесные черные глаза, а затем медленно скатывались по щекам, он терялся, пугался и думал только о том, чтобы успокоить жену. Целуя и голубя ее, князь объяснил причину своего гнева. Так Софья узнала о том, что от нее прежде тщательно скрывали: о причине смерти его первой жены. О том, как Марья Борисовна была отравлена какой-то «знатной ворожейкой». И именно тогда, когда хотела зачать ребенка!
Софья едва чувств не лишилась от ужаса. Может быть, княгиню Тверскую извели случайно, но уж против нее-то, против великой княгини, злоумышляли сознательно!
Кто?
Софья хотела отдать сенную девку мастерам заплечных дел, однако вспомнила атмосферу византийских хитростей, среди которых прошло ее детство, и сделалась сущий мед и истинная патока. С притворной ласковостью принялась расспрашивать – откуда-де пошли слухи про ворожейку? Но девка врала и путала след. Только однажды и проговорилась: постельничий-де молодого князя сказывал…
Ну, об этом и самой можно было догадаться! Софья умна была – отлично видела, с какой лютой ненавистью поглядывает на нее Иван Молодой. Ей хотелось кинуться к мужу, нажаловаться ему, попросить правосудия, но, по зрелом размышлении, она решила затаить свою ненависть к пасынку. Не пойман – не вор. Разве он ответчик за то, что болтают промеж собой слуги? Иван Молодой от всего отопрется, а Софья только восстановит против себя мужа. Великий князь очень любил сына и наследника. Вот если бы Софья родила ему другого сына!..
Княгиня пакостную девку от себя удалила и постепенно убрала почти всю прежнюю прислугу из своего окружения. Она береглась как могла. Вспоминала, что у императора Константина, ее дядюшки, да и у отца, деспота морейского, были придворные отведыватели пищи: чтобы не подсыпали правителю ненароком злого зелья в яства! Но при русском дворе этого еще в заводе не было. Про себя Софья думала, что русская еда настолько нехороша и тяжела для желудка (ни овощей, ни фруктов, только и радости, что рыбы, самой дорогой и вкусной, вволю!), что и без яда можно загубить свое здоровье. И все же она окружала себя людьми лишь по своему выбору. Никаких посторонних! Теперь рядом были только гречанки и итальянки, прибывшие с ней из Рима. А из русских она брала к себе на службу только жен своих греческих приближенных: Траханиотов, Ангеловых, Ховриных, Ласкаревых, Головиных.
Это нравилось отнюдь не всем. Иван Молодой и его слуги ворчали на всех углах, мол, от иноземцев продыху нет во дворце! Когда эти наговоры дошли до великой княгини, она с приторной улыбкой (уж не с тех ли времен эта улыбка поселилась на ее лице несходно, прилипла к нему, как банный лист?!) заявила, что и впрямь слишком тесно в Кремле. Для великого князя московского приличны более роскошные и просторные покои. Давно пора показать миру все богатство русских князей! Построить такой дворец, который и глаз бы радовал красотой своей, и место бы в нем всем нашлось.
Иван Молодой только фыркнул презрительно. Иван Старший – прислушался и призадумался…
Он уже не раз и не два – сначала с изумлением, потом привычно – отмечал, что его молодая жена очень умна. И советам ее стоит следовать! На него огромное впечатление произвело то, что большую часть приданого Софьи составили старинные книги. Иван Васильевич был хоть и не большой книгочей – за недосугом средь государственных дел! – но книжников и людей грамотных высоко ценил. Однако князь привык, что книжники всегда мужчины, большей частью монахи. А тут его жена-красавица свободно читает огромные тома, покрытые пылью веков! Вдобавок слухи о ее знаменитой библиотеке уже ходили по Европе. Иноземные гости почтительно спрашивали великого князя, правда ли, что он обладает трудами Платона и Аристотеля, Цицерона, Аристофана и Вергилия, переписанными еще в глубокой древности, и что переплеты этих книг украшены драгоценными каменьями?
Иван Васильевич горделиво соглашался. Он и сам начал полистывать книги жены, дивясь, что какая-то исписанная бумага может вызывать столько восхищенных охов и вздохов. Каменья на переплетах – каменья дивные, что да, то да…
Не суть важно, ради сбережения окладов ли, страниц ли, однако Иван Васильевич разделил опасения супруги за судьбу библиотеки и отвел для книг подвалы церкви Ивана Предтечи у Боровицких ворот Кремля. Пожары были бичом Божиим на Руси, и сколько раз Москва от какой-нибудь жалкой лучинки сгорала – невозможно описать! Горели дома и храмы, страдал и Кремль. Конечно, права умная жена – царские палаты надобно заново отстраивать: на сей раз не из дерева, а из камня. На века!
Для начала перестроили покои великой княгини: сладили новую спальную горницу – чтобы было где разместить привезенные Софьей роскошные вещи и убранство из покоев ее отца. Соорудили и светлицу – чтобы сидели там девки-вышивальщицы, которых великая княгиня обучила лицевому шитью. Благодаря их трудам украшались и дворцовые покои, и – самое главное! – церкви. Покровы и пелены, выходившие из-под рук Софьиных вышивальщиц, радовали сердце и веселили глаз.
Поглядев на преображенные покои жены, великий князь решил, что и ему самому нужны новые горницы и палаты для приема иноземных гостей. Да и своих бояр невредно поразить роскошью и богатством!
А жена не уставала удивлять великого князя. Начали перестройку Успенского собора, чтобы затмил он красотой и величием все церкви русские! – однако почти готовое здание вдруг рухнуло. Митрополит начал втихаря верещать насчет проклятия Божьего, которое не замедлило настигнуть великого князя, женившегося на католичке. Иван Молодой туманно говорил о каких-то колдовских кознях. А Софья только потупила взор и тихо молвила, что Бог не может разрушить сооружение, возведенное во имя его же. Видимо, тут ошибка человеческая. Может быть, стоит спросить сведущего мастера?
По ее совету из Италии призвали известного зодчего Аристотеля Фьораванти. Мастер сразу понял, что собор развалился из-за дурно обожженного кирпича. Фьораванти изменил и качество обжига, и весь рисунок будущего храма. Для Софьи и Ивана новая церковь должна была стать как бы знаком нового возвышения, преображения Руси – сооружением воистину величавым! Фьораванти вполне удалось воплотить этот замысел. Отныне здесь венчали на царство, сочетали браком высоких особ, проводили самые важные богослужения.
После этого в Москву ринулись иноземные мастера: зодчие, живописцы, золотых дел мастера, оружейники, лекари – прибыл даже «органный игрец» монах
Иоанн (вскоре привезли и орган). Всех привечали. Всем находилось дело. Марко Руф и Петр-Антонио Солари построили палату для государевой казны и так называемую «набережную палату» для князя и княгини. В 1491 году они воздвигли Грановитую палату, попасть в которую можно было по роскошному Красному крыльду. Перестраивались в камне и остальные кремлевские сооружения. Возводились каменные стены и башни вокруг самого Кремля.
Менялись и придворные обычаи. Больше стало в них помпезного византийского благолепия. Ивану Васильевичу весьма льстило, что он через жену стал наследником византийского трона. И пусть трона этого больше и в помине не было, а все же великий князь сделал своим гербом двуглавого византийского орла. Себя он звал отныне самодержцем. Носил роскошные парчовые одежды. Изменения произошли и в придворном обращении.
Конечно, все это происходило не сразу, однако недоброжелатели великой княгини – и прежде всего Иван Молодой – бессильно наблюдали, что грекиня забирает все большую власть над своим супругом. Ее красота, ум действовали на него ошеломляюще. А уж когда княгиня родила сына…
Да, это произошло-таки – 25 мая 1479 года, спустя семь лет после бракосочетания Софьи и князя Ивана Васильевича. Увенчались успехом ее самые жаркие мечты, ее честолюбивые желания. Сын был необыкновенный, чудесный, самый лучший! Софья позаботилась о том, чтобы все знали: его рождению предшествовали удивительные события. Во время паломничества в Троицкую обитель, когда великая княгиня молилась у раки с мощами святого Сергия Радонежского, святой явился пред нею с прекрасным младенцем на руках и чудесным образом ввергнул младенца в недра молодой женщины.
Было это? Не было? О, Софья отлично усвоила искусство своих предков создавать вокруг имен святых и государей ошеломляющие слухи, которые потом повторялись в веках и постепенно становились правдивее самой правды.
Иван III устроил великие торжества по случаю рождения младенца, которого окрестили Василием. Софья пригласила из Рима в Москву своего брата Андрея. Он привез дочь Марию, и великая княгиня рада была оказать бедным родственникам покровительство, явить свое могущество и богатство. Она быстро сосватала хорошенькую Марию за князя Верейского и подарила молодым роскошное золотое ожерелье – сажень, которое некогда принадлежало Марии Тверской. Софье и в голову не могло прийти, что она не вправе это делать. Драгоценности первой жены наследует вторая – ну это же само собой разумеется!
Она даже не сообщила мужу о подарке. Решила, что незачем ему забивать голову такими мелочами.
И если даже терзало ее какое-то беспокойство, оно было сущим пустяком по сравнению с тем страхом, который после появления на свет сына вновь охватил ее душу.
Софья думала, что рождение мальчика излечит ее от этого страха. Однако вышло так, что она стала бояться еще сильней. Теперь уже не только за себя, но и за Василия. О, как хотела Софья, чтобы он когда-нибудь получил право зваться Василием II! Уже сейчас было видно, что отец полюбил его. Однако Иван Молодой ненавидел сводного брата и даже не находил нужным скрывать это. Вслед за Василием родился Юрий, и Софья снова увидела ненависть, исказившую лицо княжича.
Очевидно, Иван Васильевич тоже замечал это; он не уставал повторять, что Иван, и только Иван будет его наследником, его преемником, а вслед за Иваном – его сын. Пусть великий князь унижал таким образом жену, однако в то же время обеспечивал ее безопасность.
Иван Молодой приободрился, когда зашел разговор о его будущем сыне. Но чтобы появился сын, надо сперва жениться… В жены ему была выбрана дочь Стефана Великого, господаря Валахии[37]. Стефан был старинным другом и союзником великого князя московского, к Елене Волошанке Иван Васильевич относился как к дочери. Однако ревнивые глаза Софьи видели совсем иное в этом отеческом расположении, в этом восхищении мужа красотой молоденькой снохи…
Стефан был известен своей приверженностью к православию, поэтому русская церковь одобряла этот брак, и, когда Софья присутствовала на пышной свадьбе пасынка, ее впервые ужалила горькая обида за прошлое, за ту скомканную, как бы украдкой совершенную церемонию – собственное венчание.
Елену радостно приняли и при дворе, и на Москве. А на великую княгиню посматривали либо снисходительно, словно звезда ее уже закатилась, либо с откровенной неприязнью. Софья знала, что народ до сих пор не может простить ей поспешный отъезд, вернее, бегство из Москвы, когда в 1480 году к столице подошло войско татарского хана Ахмата…
Как будто ей нравилось быть женой ордынского данника! Как будто это не оскорбляло ее саму и память ее предков! В Европе откровенно презирали русских, Русь называли подордынскими землями, не хотели брать отсюда невест, пусть даже первых раскрасавиц. Софья уже подумывала о будущем старшей дочери Елены – за кого она выйдет замуж, когда войдет в возраст? Неужто и к тому времени великий князь московский будет ездить в Орду за ханскими ярлыками и водить под уздцы ханского коня?..
Гордость Софьи бунтовала. И при этом ее не оставлял ужас перед Ордой. Не только русские настрадались от гнета татар – Софья не могла забыть впечатлений детства. Толпы магометан, воинственных, кровожадных турок, рыщущих по стране… Гибель близких, родных… Она боялась этих воспоминаний, как маленькая девочка может бояться своих снов. И вот однажды ночные кошмары воплотились в дневную явь: хан Ахмат шел на Москву!
Софья потребовала у мужа позволить ей и детям уехать из столицы. Князь Иван прекрасно понимал жену. В случае поражения быть великой княгине рабыней, а малолетним княжичам – ханскими рабами. Юрий только что родился, его еще от груди не отняли. Что будет с ним?.. И даже если отобьются русские, но сам Иван Васильевич падет в бою, Софье и ее детям солоно придется при новом правителе – Иване Молодом.
Великий князь бесконечно любил жену и их детей. А потому решил дать Софье возможность не только спастись, но и, в случае чего, начать новую жизнь, не будучи зависимой от чьих-то милостей. Она уехала из столицы на Белоозеро, увозя под надежной охраной детей – и казну Московского великого княжества. Да, доверие великого князя было неизмеримо высоко!
Узнав об этом, Иван Молодой впал в неистовство. С его легкой руки начали распространяться самые гнусные слухи о Софье.
– Когда приехала царевна со своими приближенными, вся наша земля замешалася! – судачили в дворцовых закоулках. За этот отъезд (а вернее, за любовь и жалость к ней великого князя!) ее, слабую, перепуганную женщину, мать маленьких детей, клеймили таким позором, как будто она была закованным в латы богатырем, показавшим спину слабейшему врагу!
Слава Богу – несчастье Софьи и всей земли Русской скоро кончилось. Два войска – русское и татарское – стали на противоположных берегах реки Угры, притока Оки, и простояли чуть не сутки, устрашая друг друга. Хан не решился принять бой и отошел в Орду. Эта не состоявшаяся битва получила название «стояние на Угре», а с татарским игом было покончено окончательно. Теперь Иван Васильевич с полным правом мог зваться царем всея Руси!
Софья вернулась в Москву. К прежним радостям и бедам. К прежним сварам и дрязгам. К прежней, с трудом скрываемой ненависти. И к прежним страхам.
Отчего-то чуялось ей недоброе… Нечто еще более грозное, чем даже наступление ордынцев.
И очень скоро осуществились самые мрачные предчувствия Софьи.
Иван Молодой женился, но этого мало: проклятущая Волошанка – вот уж плебейка, хоть и тщится строить из себя истинную патрицианку! – понесла от него с первой же ночи. Зимой 1483 года сыграли свадьбу, а осенью она родила сына, которого окрестили Дмитрием.
Софья искусала себе губы до крови, поняв, что Василий еще дальше отодвинут от престола. Софья в ярости изгрызла ногти, наблюдая, как радуется муж рождению внука, какими милостями осыпает он этот «перепеченный кулич» с глазками-изюминками – сноху (а про жену родную, которая теперь рожает сыновей год за годом, словно забыл!). И Софья чуть не умерла от ужаса, когда муж во всеуслышание объявил, что намерен одарить Елену Стефановну золотой саженью…
* * *
Конечно, скрыть, куда девалась сажень, не удалось: казначей сразу признался, что отдал ожерелье великой княгине. Да и Софья считала ниже своего достоинства что-либо отрицать. В ответ на упреки она выказала лишь высокомерное удивление, что ей, великой княгине, не принадлежат эти драгоценности…
Ненависть между Софьей и Иваном Молодым вспыхнула с новой силой. Елена Волошанка добросовестно подливала масла и подбрасывала дровец в огонь. Не остался в стороне и князь Верейский, жена которого и получила в подарок злополучную сажень. Вместо того чтобы исполнить приказ Ивана Васильевича и вернуть ожерелье, он ударился в бега и нашел спасение в вечно враждебной Литве.
Снова закружили вокруг великой княгини пакостные слухи. Ее обвиняли чуть ли не в католическом заговоре: ведь Литва – страна католиков. Близких Софье итальянцев ввергли в узилища, а на нее саму наложили опалу.
Софья не сомневалась, что Волошанка опоила свекра каким-то зельем. Ну мыслимое ли это дело: за какой-то кусок золота лишить жену своей милости. Да ладно бы только жену – неприязнь Ивана Васильевича распространилась и на детей, словно они были совершенно чужими ему.
Софья боялась не только за рассудок мужа – она боялась и за его жизнь. Что-то было в маленьких, невыразительных глазках Елены, что подсказывало проницательной грекине: эта смуглая девка ни перед чем не остановится. Она и по трупам пойдет! Как бы не извели сынок и его женушка Ивана Васильевича!
От переживаний Софья заболела. Она была беременна, когда ее настигла опала, и от волнения преждевременно разродилась девочкой, которая вскоре умерла. Если Иван Васильевич и раскаялся, то он это очень тщательно скрывал от жены. Правда, стал почаще захаживать в ее покои. Его вела не только жалость – его влекло к любимой, все еще любимой женщине. Оказывается, можно гневаться на непослушную, упрямую бабу – но при этом отчаянно желать ее. Он даже оставался у жены на ночь. Но потом уходил с видом раскаявшегося грешника, оставляя Софью в слезах.
Ну и ничего хорошего из таких мучительных отношений не вышло. В 1485 году княгиня родила сына, и едва его успели окрестить Иваном, как младенец умер.
И тут стена ожесточения, которую с таким рвением возводили вокруг великого князя его сын и сноха, рухнула. Иван Васильевич утирал слезы жены и сам плакал с ней. Как никогда раньше он почувствовал, что свет белый ему не мил без этой женщины.
Софья вышла из своего затворничества – к плохо скрываемой ярости Ивана Молодого и Волошанки. Теперь она снова принимала вместе с великим князем иноземные посольства, блистая на этих приемах роскошью наряда, красноречием, умом, знаниями. Великий князь московский лишь улыбался в усы, когда ему говорили, что с его супругой не может сравниться ни одна европейская государыня.
Разумеется, у него могла быть только такая жена! И он властен над ее жизнью и смертью, он один!
Великий князь опять начал прислушиваться к советам Софьи и по ее просьбе принял на службу семью итальянца Джованни Раля (Ивана Ралева). Его сыновья Димитрий и Мануил стали русскими послами в Венеции.
Однако великий князь московский по-прежнему метался между женой и сыном. Он пожаловал Ивану Молодому Суздаль и Тверское княжество в вотчину, так что Софье не грозило каждый день сталкиваться со своими ненавистниками в Кремле. Однако при этом имя Ивана Молодого чеканилось теперь на монетах рядом с отцовским. Перед ним преклонялись, перед ним заискивали…
Никто не знает, сколько слез пролила Софья перед ликом Пресвятой Богородицы, моля, чтобы та смилостивилась над детьми Софьи Палеолог и заступилась бы за них перед своим сыном Иисусом!
Бог весть, молитвы помогли или что-то иное. Может быть, просто завершился на небесах срок, отмеренный для жизни княжичу Ивану Молодому? Бог весть!
Он вдруг расхворался. На ногах у него выступили и расползлись язвы. Это была некая разновидность проказы – крымка, крымская болезнь, как называли ее, поскольку зараза пришла с юга. Язвы гноились, нарывали, ноги покрывались струпьями. Откуда и каким образом взялись язвы на ногах Ивана Молодого – неведомо. Может быть, сапоги пошили из плохо выделанной кожи больного животного? А может, была тут чья-то злая воля?
Неизвестно.
Сначала пользовали княжича русские лекари: врачевали по старинке травяными отварами. Но тут как раз воротились из Венеции братья Ралевы и привезли с собой для Москвы зодчих, литейщиков, пушкарей, лекарей.
Среди этих последних был некий «жидовин Леон», который взялся излечить княжича и самонадеянно заявил:
– Когда не удастся мне поставить на ноги молодого господина, то пусть моя голова с плеч слетит!
Это произвело впечатление. Лекарь вызывал всеобщее доверие… Но отчего-то Леон не нашел другого средства, как ставить на изъеденную язвами кожу скляницы, то есть банки, да делать на ноги припарки. От всего этого Иван Молодой в страшных мучениях умер.
Поскольку чертов жидовин был привезен в Москву братьями Ралевыми, к которым благоволила Софья, Иван Васильевич снова разъярился на жену. Учинили дознание: а не было ли тут преступного заговора? Но никаких концов не нашли, пришлось успокоиться на том, что Леон был всего лишь самонадеянный невежда. С ним поступили согласно его же пожеланию: снесли ему голову с плеч.
Софье стоило великих трудов выказывать приличествующую случившемуся скорбь и скрывать радость и облегчение. Грех, что и говорить, однако сколько раз злоумышлял против нее пасынок? Уж попадись она и ее дети на расправу Ивану Молодому – он бы ее не помиловал! Ну а в его смерти великая княгиня неповинна, Господь Бог это видит и знает. А если она и обмолвилась неосторожно при верных людях: ах, как бы не стало поперек пути Василия этой досадной помехи? – ее ли вина в том, что кто-то сии слова на ус намотал?..
Ночная кукушка с новой силой принялась куковать в уши князю: Василий-де заслуживает большего, чем быть всего лишь удельным князем при собственном племяннике. Дмитрий и младше его, и неказист, и умом беден…
Иван Васильевич слушал и отмалчивался. Он не мог в угоду жене – пусть даже самой лучшей из женщин! – поменять установленный порядок престолонаследия: по прямой линии, от отца к сыну, от сына к внуку. Все, что он мог сделать для горячо любимого им Василия, это дать ему в кормление Тверское княжество – отняв его у сына Волошанки.
Это уже можно было считать большим достижением, и Софья на некоторое время успокоилась. Она отлично знала, что нельзя погонять лошадей слишком ретиво. К тому же оба они с мужем были заняты большим событием – свадьбой дочери Елены, которую отдавали за литовского короля Александра. Это была любимая дочь Софьи – разве только Василия она любила больше Елены. Ах, как хотелось, чтобы судьба дочери в чужом краю сложилась счастливо! Софья извелась в мыслях о ее будущей жизни – словно чувствовала, что этот династический брак, осложненный разницей религий (родители настрого запретили Елене переходить в католичество, и это оскорбляло ее мужа и весь народ), принесет русской княжне только горе и беду.
А тут еще Москва горела – страшно горела!
Не последней заботой была и ссора Ивана Васильевича с братом, угличским князем Андреем Васильевичем. Князь Андрей не послал свою дружину на подмогу Менгли-Гирею, союзнику великого князя, и Иван так осердился, что сгноил брата, прозванного отныне Горяем, в темнице. Та же участь постигла его сыновей.
Эта история снова напугала Софью. Уж, казалось бы, она отлично знала человека, с которым прожила столько лет в любви и согласии, а все же порою он поворачивался самой неожиданной для нее стороной. Проявлял необъяснимую, варварскую жестокость. Надо быть осторожнее с ним. Иван Васильевич не терпел, когда к его воле относились пренебрежительно. Только безусловная покорность поможет Софье добиться своего!
Она и была сама покорность. И видела, что Иван Васильевич все чаще задумчиво поглядывает на Василия. Как бы оценивает его. И как бы одобряет…
И вдруг весть – как гром среди ясного неба: великий князь окончательно решил передать великокняжеский московский стол Дмитрию.
Произошло это во время поездки Ивана Васильевича в Новгород. В поездке его сопровождал Дмитрий и верные ему люди.
«Опоили! Лишили разума!» – вновь начали роиться в голове Софьи привычные мысли.
Ах, опоили? Ну а что, если и ей попробовать пойти тем же путем, каким пошли ее враги?
Самые верные великой княгине слуги и служанки искали по Москве ворожеек, которые взялись бы сварить зелье, убивающее человека наповал и не оставляющее при этом следов. Тем временем Василий и преданные ему люди решили бежать из Москвы на Белоозеро, где так и хранилась государственная казна, и захватить ее. Если Дмитрий умрет, можно будет воротиться в Москву. Если же у великой княгини ничего не получится, то княжич прихватит казну и бежит в Литву.
Софья забыла главное правило лукавых византийцев: удается только тот заговор, который хранится в тайне до последнего мгновения.
Увы… кто-то подслушал их с Василием разговоры. Кто-то донес об этом Елене Волошанке, в которой уже видели мать-государыню. Волошанка мгновенно отправила гонца к свекру с доносом, представив дело так, что первой жертвой заговора должен был пасть именно он, великий князь…
Иван Васильевич знал, насколько всепоглощающе любила Софья сына. Он иной раз даже ревновал к этой материнской любви, понимая, что сын всецело царит в сердце матери. И сейчас князь вполне дал волю не только обиде на свое неблагодарное семейство, но и этой неразумной ревности.
…Первыми слетели головы тех, кто помогали Василию устраивать побег. Некоторых из них вовсе четвертовали на льду Москвы-реки. В прорубях были утоплены лихие женки-ворожейки, найденные по воле великого князя.
Василий и Софья ждали своего смертного часа. Пока их держали запертыми в покоях, а во дворце плела интриги Елена Волошанка. Ее прислужницы тихонько, очень умело распространяли слухи, что после неминуемой казни грекини и ее сына великий князь возьмет себе новую жену.
Кого? Елена была слишком умна, чтобы называть свое имя. Однако намеков в этом направлении было сделано более чем достаточно! Волошанка позаботилась, чтобы все они дошли до ушей Софьи, и ни один не достиг бы слуха великого князя. Она боялась спугнуть дичь прежде времени. Но не сомневалась в успехе! Особенно после того, как Дмитрий Иванович был объявлен наследником престола.
О, это был миг великого торжества Елены! Однако Елена была слишком умна, чтобы выразить свое злорадство открыто. Она видела, что вспыльчивый, но отходчивый Иван Васильевич вновь исполнился жалости к мятежной жене. Он был однолюб, ему было невыносимо жить без ее близости и любви. «Да, – подумала Елена Волошанка, – кажется, с казнью грекини и новой свадьбой великого князя придется повременить…»
Ну что ж, Елена кое-чему научилась в общении с вечно улыбчивой свекровью. Она тоже прилепила улыбку себе на уста и ничем не выражала неприязни к великой княгине. Ничего, утешала она себя, в конце концов, свекор – уже глубокий старик (Ивану Васильевичу было в это время 58 лет, однако Елене очень хотелось считать его дряхлым старцем!), он на свете не заживется. Надо только подождать.
Единственное, в чем она позволила себе выразить свое торжество и победу, было вышиванье красочной, роскошной пелены, которую она собиралась подарить какому-нибудь богатому храму. На этой пелене Елена вышила великого князя рядом с внуком его Димитрием, поодаль – сыновей Ивана Васильевича, а уж совсем вдали – фигуры Софьи и Василия. Себя Елена изобразила тоже рядом со свекром. И над их головами были изображены нимбы. То ли святые стоят, то ли молодые под венцами… Так Волошанка выдала свои самые тайные, самые сокровенные мечты.
Когда эту пелену увидала Софья, она только усмехнулась печально. Ее уже не могли уязвить такие мелкие бабьи пакости. Спасибо, что Волошанка их с Василием изобразила рядом… Да, в ревности, которую великий князь испытывал к сыну, было зерно истины. Софья была из тех женщин, которые страстно и преданно могут любить лишь одного мужчину.
Сына или мужа. Только не обоих. Одного!
Она когда-то без памяти любила мужа, но слишком много обид привнесли бурные волны жизни в их отношения. Слишком много осталось недоговоренным, невыясненным, непрощенным. Теперь вся страсть ее души, вся преданность, весь ум, хитрость, лукавство – все принадлежало лишь Василию.
Софья уже почти смирилась с тем, что потерпела поражение. Однако судьба распорядилась иначе. Волошанка сама себе напакостила, да как!..
Уверясь, что отныне она все равно что государева мать, Елена стала интересоваться делами великого княжества, подражая в этом Софье. Однако она была хоть и хитра, да упряма, она всячески подчеркивала дружеские отношения великого князя с господарем Стефаном, своим отцом, который вел непрерывную войну с Литвой. В эту войну Волошанка пыталась вовлечь и Ивана Васильевича. А ведь его дочь была замужем за литовским королем Александром!
Все разлады меж двух государств самым роковым образом отражались на судьбе королевы Елены Ивановны. Она написала об этом матери, и Софья резко бросила упрек мужу:
– Пора не только о чужой крови радеть, но и о собственной позаботиться!
Сначала Иван Васильевич непомерно удивился. Они так давно не разговаривали, эти супруги, которые когда-то дня не могли прожить друг без друга! Не разговаривали вообще ни о чем. Так что даже этот упрек показался Ивану Васильевичу отрадным, потому что пробил стену глухого молчания, которая незаметно воздвиглась меж ними. А еще эти резкие слова были похожи на рывок, который сдернул какую-то пелену с глаз и разума великого князя. Он, словно внезапно прозревший человек, огляделся вокруг – и наконец-то понял, сколько глупостей натворил за последнее время.
Он увидел, что любимая жена и старший сын его в немилости. Он увидел, что его княжеством управляет хитрая и злонравная женщина, которая еще недавно казалась ему воплощением добросердечия, – его сноха. Волошанка, осознал великий князь, уже почти не считается с ним, заставляет его вредить собственной семье, жене, детям. А еще меньше считается с ним ее сын, мальчишка, которого он, великий князь, назначил своим соправителем.
Теперь Дмитрий смотрел на деда как на помеху и только и ждал мгновения, когда сможет обрести полную свободу от его докучливых советов. Дмитрий жаждал единовластия, он порою даже не трудился сдерживать досаду на этого старика, который зачем-то еще цепляется за власть, за трон, вообще за жизнь!
Иван Васильевич немедленно назначил своим соправителем старшего сына, а внука от власти отстранил. Нет, Димитрий вроде бы по-прежнему оставался наследником… однако почему-то именно Василию было доверено командовать русским войском, выступившим в Литву. Заставили развязать войну и постоянные жалобы Елены Ивановны, и литовские князья, бежавшие на Русь за спасением от притеснений. Василий сражался так храбро, действовал так разумно, что полностью вернул себе благосклонность и доверие отца. А между тем Дмитрий отсиживался за кремлевскими стенами да знай мечтал о том, как он развернется, когда сделается полновластным великим князем. Софья, словно хищная птица, зорко следила за недругами, высматривала их малейшие промахи и немедленно сообщала о них мужу – мягко, хитро, ненавязчиво. Она его не принуждала действовать – она тайно подстрекала его. О, ее византийская родня осталась бы довольна!
Странные все-таки люди – мужчины, думала потом, когда все осталось позади, Софья. Они упрекают женщин в мелочности, а сами каковы? Ну не смешно ли, что решающую роль в свержении Волошанки и ее сына с того пьедестала, на который они сами себя возвели, сыграло не ее откровенное и жадное злонравие, даже не ее связи с новгородцами, мечтавшими об отделении от Руси. Роковую роль сыграли итальянские пушкари!
Пушкари, серебряных дел мастера, другие ремесленники, которых Софья давно уже пригласила из Италии, пропали в пути. Вдруг выяснилось, что их задержал у себя господарь Стефан Валашский. Четыре года итальянские мастера рабски трудились на него и на благо его страны, а между тем Елена Волошанка старательно делала вид, что ни сном ни духом не знает об их судьбе. Мало того, она еще шипела, дескать, а может, великая княгиня никого и не вызывала из Италии? Может, забыла сделать это – по своей старушечьей забывчивости?..
Узнав о том, как провели его сноха и сват, Иван Васильевич обиделся с пылкостью ребенка – однако последствия этой обиды были очень далеки от детских шалостей!
Отныне – начиная с 1500 года – Дмитрий был совершенно отстранен от всех государственных дел. Великим князем его называть было не велено. Этого самовлюбленный юнец не стерпел. Он начал грубить деду, да так, что остатки его добродушия и любви иссякли окончательно. Иван Васильевич наложил на него и на Елену Волошанку опалу и велел заточить в тюрьму. Это случилось 11 апреля 1502 года, а спустя три дня наследником и преемником государя «всея Руси» был назначен Василий Иванович, сын Софьи Палеолог.
Наконец-то она могла вздохнуть спокойно… Но вот беда – жить спокойно она отвыкла. Ее изощренный ум, ее отважное, словно бы даже не женское сердце начали томиться и болеть. В холе, воле и покое Софья выдержала только год, а потом навеки покинула своего дорогого сына – и мужа, которому наконец-то вернула свою любовь.
Близость смерти сделала ее сердце всевидящим. Она очистилась от ревности и даже прониклась жалостью к Елене. Теперь соперница была беспомощна… А может быть, это была не жалость? Может, Софья просто поняла, как вернее уничтожить Волошанку? Не жестокостью, а великодушием! По просьбе жены Иван Васильевич выпустил Елену из заточения и выслал к отцу. Ну а Дмитрий оставался узником.
Иван Васильевич пережил жену только на полтора года и умер в 1505 году. Она не могла жить в покое, он не мог жить без нее…
Но самое удивительное, что и Елена Волошанка вскоре умерла, тоже в 1505 году! Видимо, ей было тоскливо на этом свете без своей врагини и соперницы. Ну, уж теперь-то они могли без устали оспаривать друг у дружки ожерелье раздора, ибо в распоряжении у них была вечность.
Бешеная черкешенка
Мария Темрюковна и ИванIV Грозный
В тот сухой октябрьский день выехали на большую соколиную охоту. Царь Иван Васильевич Грозный[38] был в золоченом терлике[39], в котором его поджарая фигура смотрелась особенно привлекательно. Он и сам напоминал хищную птицу, да и чувствовал он себя по-соколиному легко и свободно. Как-то вдруг все отошло-отлетело: и незабываемая потеря возлюбленной жены Анастасии, и надоедливые приставания бояр: жениться-де сызнова надобно, и предательство бывших друзей, Андрея Курбского и Алексея Адашева, непорядки на литовской границе. Все забылось – осталось лишь это просторное поле, свист ветра, багряные рощицы вдали, веселый людской гомон, нетерпеливая собачья разноголосица – да нахохлившиеся под своими колпачками-клобучками соколы.
На одного из таких соколов и косился беспрестанно Иван Васильевич со смешанным чувством восхищения и досады. Это был белый кречет, одна из лучших ловчих птиц. Кречета держал на рукавице сокольник недавно появившегося при дворе князя Темрюка Черкасского. Сокольник был совсем еще мальчишка, юнец безусый, сидевший на белом же скакуне и сам являвший собой зрелище не менее великолепное, чем редкостный кречет. Черты юного лица, чудилось, проведены резцом по слоновой кости.
Стремя в стремя с этим юнцом ехал единственный сын Темрюка, Салтанкул, недавно перекрестившийся в Михаила.
Гости начали поглядывать на царя с нетерпением.
Пора начинать охоту!
Иван Васильевич благосклонно улыбнулся Черкасскому.
– Ну что, Темрюк Айдарович, пускай своего красавца!
Донельзя польщенный таким предпочтением, князь поклонился царю, приложив руку к сердцу, но не ломая косматой шапки (и он, и вся его свита постоянно были, по их обычаю, с покрытыми головами), и что-то быстро приказал красавцу-сокольнику. Тот сверкнул ответной улыбкой, привычным движением распутал связанные лапки птицы и сдернул яркий клобучок.
– Айда! – Мальчишка вскинул руку так резко, что на какое-то мгновение всем почудилось, будто он вылетит из седла вслед за подброшенным вверх кречетом, который стремительно взмыл, в одно мгновение превратившись в маленькое, почти неразличимое пятнышко.
Царь свистнул – и тотчас началось…
Заливисто лая и размахивая пушистыми хвостами, борзые расстелились по полю, опоясали рощицу, гоня затаившихся зайцев. Трещали трещотки, били барабаны, гудели горны и свистели дудки. Шум стоял неимоверный!
Иван Васильевич, заразившийся общим азартом, бросил случайный взгляд на пригожего сокольника – и ахнул. Видимо, мальчишка наклонился поднять упавшую плеть, а конь испугался рева труб – и понес висящего на седле боком всадника.
Не думая, что делает, Иван Васильевич с силой ударил пятками своего вороного и погнал следом.
Тем временем сокольник, обладавший, как и положено черкесу, невероятным мастерством наездника, сумел-таки забросить тело в седло, вцепился в поводья двумя руками и натягивал их изо всех сил, заламывая голову скакуна, осаживая его на задние ноги и направляя к деревьям. Тут конь невольно сбавил скорость, и сокольник чуть не на скаку соскользнул на землю. Споткнулся, с трудом устояв на ногах, и сильно огрел коня кулаком по носу. Потом сокольник проворно обмотал повод вокруг ближней березки, прикрутив морду коня почти вплотную к стволу, и выхватив из-за пояса длинную плеть, с размаху ударил скакуна по голове. И другой раз, и третий, и снова…
Бока коня уже были покрыты кровавыми полосами, один глаз затекал кровью, а маленький черкес прыгал вокруг, как бес, с непостижимой ловкостью уворачиваясь от копыт, и продолжал наносить удар за ударом, что-то бессвязно крича.
Кровь ударила царю в голову! Спешился, набежал на мальчишку сзади и, рывком обернув к себе лицом, с силой вытянул дикаря хлыстом.
Мальчишка рухнул на колени, перегибаясь назад и закидывая голову, да так и замер в странной, изломанной позе.
Застучали рядом копыта. Царь обернулся – и едва успел отпрянуть, чтобы бешено несущийся всадник не стоптал его конем. Это был Салтанкул Черкасский. Словно не видя государя, спрыгнул с седла и припал к обеспамятевшему сокольнику. Подхватил его под тонкий стан, попытался поставить на ноги, суматошно выкрикивая:
– Кученей! Кученей! Очнись!
«Кученей? Что такое? – изумился царь. – Имя? Но ведь это женское имя! Нет, быть того не может!»
Ноги сокольника подламывались, руки висли, голова запрокидывалась. И вдруг косматая шапка соскользнула, а из нее… Иван Васильевич даже отпрянул испуганно: почудилось, клубок черных змей из той шапки вывалился. Но нет – это поползли, змеясь, черные скользкие косы. Девичьи косы.
Девка? Эти черкесы выдавали за сокольника девку?!
Ярость на собственную глупость, на наглость этих дикарей, посмевших глумиться над хозяином – да над кем, над самим государем, оказавшим им честь, пригласившим на царскую охоту! – лишила Ивана Васильевича разума. Сцепив кулаки, он обрушил такой удар на затылок Салтанкула, что и потом, спустя много времени, дивился, как это не перешиб шею будущему шурину. Но крепка оказалась черкесская башка: Темрюкович только крякнул – и сунулся носом в землю, уронив девку.
Царь подскочил к ней и, все еще не веря, разорвал на груди бешмет и шелковую, под горло сорочку.
Ох ты, как ударило по глазам, какие белые голуби выпорхнули на волю, ранее туго сдавленные одеждой! Бросилась в глаза родинка под левой грудью, большая, выпуклая, похожая на третий сосок.
Так вот почему Салтанкул беспрестанно льнул к этому «сокольнику». Он притащил на царскую охоту свою любовницу!
Возмущенный государь нашарил в траве ту же плеть, которой эта тварь терзала коня, и от всей души опоясал тонким кровавым следом ее тело.
Девка выгнулась дугой, испустила хриплый крик и открыла глаза. Ни следа от тумана беспамятства! Этот взгляд ожег Ивана Васильевича, и какое-то мгновение он стоял недвижимо, не веря тому, что прочел в этих раскосых черных очах. Не страх, не ненависть. Отчаянный призыв и страсть!
Испугавшись чего-то, он снова ударил – на сей раз слабее, потому что руки не слушались. Девка взвилась, будто змея, ставшая на хвост, и так же, по-змеиному, обвилась вокруг царя всем телом. Он выронил плеть, стиснул ее – даже захрустели косточки стройного тела! Впился в губы. Холодные, тугие, они отвечали так, что у царя подкашивались ноги. Чудилось, в жизни не бушевало в груди такого темного, мрачного пламени, как сейчас, когда полуголое, избитое тело льнуло к нему!
Иван Васильевич повалил ее, рухнул сверху и попытался растолкать ноги коленями, однако Кученей вдруг начала сопротивляться, и сопротивлялась люто – стискивала зубы, вывертывалась, шипела и царапалась, будто дикая кошка. Но где ей было противостоять разохотившемуся, распаленному мужчине! Навалился, прижал к земле, уже, считай, одолел, как вдруг она гибко вытянула руку и вцепилась в его же собственный отброшенный кинжал. Прижала в своему горлу, лицо вмиг стало строгим, отрешенным:
– Пусти, не то зарежусь!
Голос звучал так по-девчоночьи отчаянно, русские слова выговаривались так смешно, что у Ивана Васильевича мгновенно остыло все в теле. Он ей почему-то поверил, поверил сразу. Зарежется, как Бог свят, зарежется!
Поднялся на ноги. Она тотчас вскочила, ожгла огненным взором – и кинулась к Салтанкулу. Затрясла, затормошила. Иван Васильевич думал, она пытается привести княжича в сознание, однако Кученей просто вытряхнула бесчувственное тело из бешмета и торопливо напялила его, скрыв свои лохмотья.
Иван Васильевич перевел взгляд с ее лица на лицо беспамятного Темрюковича и спросил, уже почти уверенный в ответе:
– Он тебе кто?
– Брат родной.
– Видать, крепко брат тебя любит?.. – спросил с подначкою, но в ее точеном лице ничто не дрогнуло.
– У нас все братья сестер любят крепко, глаз с них не сводят, не дают в обиду.
– А ты, значит, дочка князя Темрюка? Она кивнула, глядя исподлобья.
– А знаешь, кто я?
Кученей ничего не ответила, только вскинула пренебрежительно брови:
– Я ведь только женщина. Ничего не знаю. Государь усмехнулся. А ведь с этой девчонкой не соскучишься! И какая красота, Боже, ну какая же чудная, неописуемая красота…
– Тебе с косами больше пристало, чем в шапке, – буркнул он, смущаясь вновь проснувшегося желания. Вот же ведьма, околдовала она его своими холодными, скользкими губами, что ли?!
Девушка потупилась. Так они стояли какое-то время друг против друга, не зная, что делать и что говорить. Потом Кученей подобрала с травы свою косматую шапку, встряхнула ее и нахлобучила, заботливо скрыв под ней косы. Подошла к коню брата и вскочила в седло, не заботясь более ни о своем привязанном, избитом белом скакуне, ни о Салтанкуле, который начинал слабо постанывать – приходил в себя.
Иван Васильевич смотрел на нее, вдруг ощутив себя брошенным, одиноким ребенком. Страшно не хотелось, чтобы она вот так, просто повернулась – и уехала, исчезла!
Девушка, словно нарочно, на него не глядела – подняв голову, напряженно всматривалась в небо. И вдруг с радостным горловым кличем:
– Кагаз! – вскинула руку.
«Кагаз» значит «вернись», это слово Иван Васильевич знал: слышал, как сокольники черкесские подзывают своих ловчих птиц. Он уже устал нынче удивляться и только головой покачал, когда с неба пал белый кречет и осторожно опустился на протянутую руку Кученей.
* * *
Когда государь объявил о своем решении взять в жены дочь Темрюка Черкассого, княжну Кученей, иные бояре чуть ли не за кинжалы хватались – чтобы тут же, на царском дворе, горла себе от великого позора перерезать. «Вновь Орда на нас грядет!» – кричали старики. Нет, что и говорить, в давние-предавние времена брали киевские князья за себя половецких красавиц, если не находилось невест заморских. Матушка самого Юрия Долгорукого была половчанка. Однако чужестранные невесты были нужны русским князьям зачем? Чтобы не было браков меж близкой родней, чтобы не хирело потомство государей русских. Последней чужеземкой-царицей была бабка нынешнего царя, Софья Фоминишна Палеолог – византийская царевна. Правда, в его матери Елене Глинской тоже играла малость чужой крови, но ведь Глинские давно покинули Литву, обрусеть успели. И первую жену, Анастасию, царь взял себе из родовитой русской фамилии Захарьиных. Но уроженок Кавказа никогда среди княжеских жен не велось!
– А вот велось, – запальчиво возражали знатоки давно минувших дел. Некогда грузинка Русудан, тетка знаменитой царицы Тамар, была замужем за князем Изяславом Мстиславичем Киевским. Она же спустя несколько лет сосватала своей племяннице сына князя Андрея Боголюбского, Юрия Андреевича, который стал грузинским царем Георгием.
Конечно, это было очень давно, лет этак четыреста тому назад, но ведь было же! Недаром сказано в Святом Писании, что нет на свете ничего нового, чего бы не было под солнцем. Но, с другой стороны, Русудан была царевна, а эта Кученей кто такая? Хоть и кичатся Черкасские: ведут-де они свой род от кабардинского князя Инала, происходившего от султанов египетских, – для русских бояр родство это – тьфу на палочке. Многие из них могут исчислить свое происхождение с времен поистине незапамятных, от самого Рюрика (и государь – в их числе), а сей Инал помер какую-то сотню лет назад, так что сам Темрюк Айдаров, отец Кученей, всего лишь правнук его. Это ли древность? Это ли родовитость? Вдобавок, ходили по Москве всякие слухи про то, что Кученей эта совсем не затворница, в тереме не сидит; будто дает князь Темрюк Айдарович такую свободу дочери, что как бы она до греха не довела, та свобода…
Впрочем, бояре, судача, словно переполошенные старые сплетницы, старались, чтобы эти пересуды не доходили все же до ушей князя Черкасского. Тяжелый нрав Темрюка был известен, Салтанкул-Михаил тоже прославился своей лютостью и буйством: казалось, не было на Москве человека, с которым он не сцепился бы бранно. Да и царь словно бы ошалел: подать ему черкешенку, и все тут! Насилу уговорили выждать, пока минет год со дня смерти царицы Анастасии, чтобы за это время обучить Кученей потребным царице повадкам, а потом крестить по православному обряду. И вот наконец весной 1562 года в Успенском соборе государь всея Руси Иван IV Васильевич вновь сделался женатым человеком.
…Если правду говорят, что души покойных могут иногда посещать места прежних обиталищ, то душа царицы Анастасии Романовны должна была с великой тоской взирать на свою любимую светлицу, уставленную некогда ткацкими и вышивальными станами, пяльцами, изумляющую взор множеством искусных изделий. Черкешенка Кученей, которую после крещения звали Марией Темрюковной, не была приучена ни к какому женскому рукоделью, поскольку воспитывалась вместе с братом по-мужски. Ей нравились, конечно, красивые богатые ковры, но только восточные, с цветами и узорами, а покровы церковные и шитые жемчугом иконы наводили на нее тоску. Боярыня Воротынская, старшая над светличными девками и боярышнями, была ныне удалена с мужем-воеводою в ссылку, на Белоозеро, прежние умелицы разогнаны, станы вышивальные и пяльцы вынесены вон за ненадобностью. По стенам развесили чучела птиц, и на самом почетном месте красовался белый кречет, умерший недавно от старости.
Из царедворцев особым расположением Кученей пользовался только государев лекарь Бомелий. Она ненавидела ближних, доверенных людей мужа – Афанасия Вяземского и Малюту Скуратова, не верила им. А вот лекарю – верила. И не за его врачебное искусство, а поскольку он оказался очень умелым чучельником. Кроме того, Елисей Бомелий, вернее Элоизиус Бомелиус, был в России таким же чужаком, как и Кученей, и она всегда привечала лекаря в своих покоях, находя особое удовольствие в том, чтобы обучать его своему языку. Способный к чужим наречиям Бомелий вскоре весьма бодро залопотал по-черкесски. Кученей была напрочь лишена женской застенчивости и с охотой рассказывала лекарю о своем самочувствии, радостно хохоча, когда он принимался шутливо горевать: мол, лечить ему у царицы совершенно нечего. Молодая черкешенка, несмотря на худобу, была и в самом деле здорова, как лошадь. Но она была немало изумлена тем, что никак не может зачать ребенка от царя. Бомелий, знавший все сокровенные тайны царицына тела, немало изумился бы, если бы ребенка все же удалось зачать… Но лекарь благоразумно помалкивал, и Кученей продолжала лелеять страстные надежды. Однако что-то не ладилось дело.
Шло время, и супруги все больше отдалялись друг от друга. Оба – и Иван Васильевич, и Кученей – скоро поняли, что обманулись, ошиблись в своих ожиданиях.
Царь искал у дерзкой красавицы не только постельных утех, в которых ей не было равных, – он надеялся найти в ней такую же милую, отзывчивую, всепонимающую душу, какая привлекала его в незабвенной Анастасии. Но если первая жена Ивана Грозного была ангелом, ненадолго сошедшим с небес на землю, то вторым браком он сочетался с истинной дьяволицей. Никакие заботы мужа, никакие его беды, болезни, горести, а также радости или достижения для нее не существовали. Когда Кученей все же давала себе труд о них задуматься и озаботиться, то лишь постольку, поскольку это касалось ее и ее нужд. Муж ссорится с ненавистными боярами и насаждает в стране опричнину – это поможет Кученей добиться для своего любимого брата Салтанкула звания окольничего или нет? Чтобы сломать сопротивление думы и народа, царь вместе с семьей уезжает на неопределенный срок в Александрову слободу, покидает государство без пригляду – но позволит ли он жене взять своих девушек, которые развлекали ее, любительницу скоромных забав как с мужчинами, так и с особами одного с собой пола?..
Смиренниц невинных не водилось среди этих смелых, дерзких девушек, которых Мария Темрюковна долго подбирала для своего окружения, отсеивая затворниц и праведниц и не обращая ни малейшего внимания на родовитость. Для парадных выходов и приемов у нее имелось сколько угодно почтенных боярынь, однако самыми ближними были вот эти пятеро. Если и ходили смутные слухи о не всегда пристойных забавах, которым предается молодая государыня в своих покоях, то доподлинно, толком никто ничего не знал: девки царицыны горой стояли друг за дружку, а прежде всего за госпожу, храня тайны своих игрищ.
Одной из любимейших царицыных забав была игра в ворона и голубок.
Облаченная в черный шелковый кафтан и мужские шаровары (когда могла, царица предпочитала одеваться по-мужски, а в собственных покоях женского одеяния никогда не нашивала, чувствуя себя в нем, словно в оковах и веригах одновременно), Мария Темрюковна металась по просторной палате, а девицы, полураздетые, в одних тонких исподних рубахах, должны были от нее убегать.
Черная вороница Мария Темрюковна была проворна и ловка. Каждую пойманную голубку она награждала поцелуем в губы, и порою этот поцелуй затягивался, словно ни жертва, ни вороница не могли прервать удовольствие. При этом Кученей гладила голубку в таких укромных местечках, так умело ласкала, что девка потом едва стояла на ногах. Однако от этих бесстыжих ласк девки не утрачивали девства, и, когда какая-нибудь любимая царицына наперсница выходила замуж, ее окровавленные простыни с гордостью предъявлялись посрамленным гостям, мигом заглушая все пакостные шепотки.
Конечно, женские ласки для распутной Кученей были всего лишь пресной водичкой по сравнению с терпким вином мужских объятий. Не зря, не зря государь с самой первой встречи бешено ревновал жену к ее собственному брату! Именно Салтанкул был ее первым мужчиной. Они стали любовниками в ранней юности. Но потом, когда Темрюк Черкасский задумал перебраться в Россию, он призвал к себе опытную повитуху, о которой было известно, что она мастерски превращает потаскух в невинных девиц, и велел ей зашить ложесну Кученей, да так, чтобы никто и заподозрить не мог, что она давненько утратила девство. Князь Черкасский, который был старше дочери всего на пятнадцать лет (его женили совсем мальчишкой), и сам не мог спокойно смотреть на ее поразительно красивое лицо, у него тоже горела кровь при мысли о ее волнующем теле, но он понимал, что может найти утешение у других женщин, в то время как прекрасная Кученей принесет ему нечто большее, чем мимолетное наслаждение: богатство и высокое положение. После этого он от души выпорол сына и дочь: Салтанкула – чтоб не смел больше трогать сестру, Кученей – чтоб покрепче сжимала свои стройные ножки перед мужчинами. Обоих унесли чуть живыми. Повитухе же полоснули по горлу лезвием, дабы не сболтнула лишнего, и Темрюк начал готовиться к переезду в Московию.
За хлопотами он не заметил, что дети его усвоили тяжелый урок очень своеобразно: Салтанкул наряжал сестру в мужской наряд и забавлялся с ней противоестественным способом, словно с каким-нибудь пригожим мальчишкой из горного аула, среди которых находилось немало желающих доставить удовольствие молодому князю. Кученей же страстно полюбила боль, и чем сильнее охаживал ее плетью брат, тем более был уверен в ее наслаждении. Этого же она требовала и от мужа.
Кстати сказать, лекарь Бомелий, человек опытный и проницательный, при одном из осмотров догадался, что Кученей перенесла серьезное хирургическое вмешательство по женской линии. Именно старания повитухи привели к тому, что у нее вряд ли могли быть дети. Вдобавок сам Бомелий украдкой опаивал ее снадобьями, вообще исключающими всякую возможность зачатия.
Разумеется, он делал это не сам, не по своей злой воле, а по тайному указу государя – вернее, не указу, а намеку. Иван Васильевич очень скоро разгадал бешено честолюбивую натуру жены и всего ее семейства и прекрасно понимал, что рождение сына у второй жены будет означать неминучую смерть его сыновей от Анастасии: Ивана и Федора. По рассказам стариков, Грозный знал, как тягалась его бабка Софья Палеолог со своим пасынком Иваном Молодым, а потом и с сыном Ивана Дмитрием за наследственный трон, какие козни плелись при этом – кровавые козни! А Мария Темрюковна с братцем даже и исхитряться не станут – мигом отравят или задушат мальчишек, которые станут им помехою на пути к власти. А чуть позже или одновременно с сыновьями погибнет и сам Грозный… Именно поэтому он обрек жену на бесплодие.
Конечно, черкешенка вовсе не страдала от несбывшегося материнства. Сын ей нужен был всего лишь как средство достичь абсолютной власти и получить полную свободу действий. Она-то думала, что, сделавшись царицею, обретет волю вольную и сможет творить все, что ей заблагорассудится, однако слишком строги были правила теремной жизни того времени. Ох, как проклинала Кученей ту самую Софью Палеолог, мужнину бабку! Ведь до той поры, пока не пришла на Русь византийская царевна, обычаи были куда проще. Государыням, княгиням и боярыням дозволялось посещать храмы Божий вместе с мужьями, обедать за одним столом с мужчинами, гулять где захочется… Теперь же Кученей сидела в своих палатах, как птица в клетке, и одно было у нее развлечение: переодевшись, украдкой выскользнуть из Кремля на Поганую лужу, где происходили казни строптивцев-бояр, недовольных мощным засильем опричнины – нового детища Ивана Грозного, который пытался собрать Русь в единый государственный кулак. Вид крови, смертей, звуки мучительных стонов и криков пробуждали чудовищное вожделение царицы.
Свобода, недостижимая свобода… Она сводила царицу с ума!
Вот отцова мать Кученей – в ее честь Темрюк и назвал любимую дочку, – после того, как овдовела, велела построить себе двор поодаль от своего аула. Когда женское одиночество становилось невыносимым, уезжала туда, и по ее приказу нукеры, преданные госпоже, как псы, приводили к ней на ночь красивых пастухов и охотников. Им завязывали глаза, и никто не знал, куда их ведут, с кем проведут они ночь. Если гость не мог доставить госпоже настоящее наслаждение – а по слухам, она была так неутомима и жадна до мужской ласки, что иные юнцы умирали в ее постели, – его убивали. Но за тем, кто уходил живым, строго следили, и, стоило ему распустить язык, вскоре он получал удар кинжала под ребро.
Вот если бы Кремль принадлежал ей, Кученей… Если бы все те молодцы-опричники, которых муж сейчас собирает вокруг себя, чтобы давить боярство, принадлежали ей! Среди них были такие красавцы, что у Кученей становилось мокро между ног при одном взгляде на них.
Не будет этого никогда! Даже если она овдовеет. Умри Грозный, ее запрут в монастыре.
О Аллах, на что обрекла она себя, согласившись пойти за московского царя? Ее держат в клетке, в клетке! Здесь, в золоченой клетке Кремля, она и умрет с тоски…
Помог ей не кто иной, как Салтанкул. Новоиспеченный окольничий испугался, что обуреваемая бесами похоти сестрица выдаст себя царю, откровенно заведет любовников – и тогда разразится страшная буря, которая сметет всех Черкасских с лица земли. Салтанкул знал, что опала государева настигает всю родню того человека, на которого гневался царь. Еще свежа память о том, как уничтожались семьи предателей Адашева и Курбского! И Салтанкул решил по возможности утишать неистовое сластолюбие сестры. Не самолично – этак его через неделю на погост свезли бы! – а с помощью других мужчин.
По Москве пополз тайный слушок: завел-де Михаил Темрюкович у себя девку-черкешенку (с самого Кавказа привез!), которая в постели такое вытворяет, что и в самом скоромном сне не увидишь. Наши, дескать, бабы рядом с нею – просто перины сырые, немятые. И так-то она скачет, и этак-то выворачивается. Однако сношаться с нею возможно только ночью, под непроницаемым покровом тьмы и тайны. Да и то не всякому! Никто не мог понять, почему этого парня или мужчину Темрюкович до своей рабыни допускал, а этому давал от ворот поворот.
Ответ был прост: выбор делала сама Кученей.
…В последнее время самым любимым развлечением царицы стало смотреть женихов. От веку дворцовые девушки должны были приводить присватавшихся к ним на царицыно погляденье. В назначенный день и час будущий жених являлся в укромный покойчик и там высиживал на лавке или метался из угла в угол, зная, что в это время его придирчиво озирает из соседней горенки сквозь потайное отверстие в стенке сама государыня. Явиться собственнолично она могла только перед очень знатным человеком либо близким к царю, ну а женихов всяких там сенных девок да постельниц с вышивальницами смотрела потаенно.
Больше всего Мария Темрюковна радовалась, когда девушки-сироты просили ее саму найти им женихов. С полным на то правом она могла тогда отправиться в Грановитую палату, куда в обычное время вход был заказан, и глазеть в окошечко на холостых красавцев, собранных нарочно для смотрин у крыльца. Как правило, они заранее знали, какой именно невесте ищут жениха, и либо выставлялись как могли, если кус был лакомый, либо нарочно скромничали, держали глаза потупленными да стояли столбами в надежде, что не поглянутся ни царице, ни невесте. Впрочем, иные молодые глупцы не могли отказать себе в удовольствии похвалиться нарядом и повадкою просто так, не для дела, а лишь бы обратить на себя благосклонный взор этой таинственной особы – царицы, о красоте которой ходили легенды, но зреть которую дано было не каждому.
Но с просьбами выбрать жениха к Марии Темрюковне обращались очень редко, лишь когда невеста была совсем бедна и надеялась получить приданое от государыни. Ведь в таких случаях женихов царица приискивала из числа самых невзрачных уродов, на которых девушка сама и не глянет никогда. А тут, хочешь не хочешь, – придется идти под венец. Не спорить же с царицею! Поговаривали, что самое малое две девицы лишили себя жизни после навязанного им выбора, предпочли пламя адское жизни с малоумными да гугнявыми, которые пользовались особенным расположением Марии Темрюковны.
Да и смотрины уже выбранных женихов порою превращались в настоящую пытку. Никогда нельзя было заранее угадать, даст государыня согласие на брак или нет. Царица, которая девок своих бивала нещадно, драла как Сидоровых коз, порою вдруг преисполнялась такой заботы о них, что самый писаный красавец казался недостойным взять в жены ее служанку. И чем пригляднее был жених, тем вероятнее следовало ожидать царицына отказа…
А потом, когда молодец несолоно хлебавши брел из дворца, к нему подходил какой-нибудь весельчак из ближнего окружения Михаила Темрюковича и брался развеять тоску-печаль. Красавца ночью приводили с завязанными глазами в некий дом, а выпускали лишь под утро, ошалевшего, измученного, томимого одним только желанием: вновь испытать запретные, невероятные ласки.
Но как ни были осторожны Кученей и ее братец-сводник, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Однажды, расшалившись в ночных забавах, царица накалила в огне свой перстень и заклеймила кого-то из своих нечаянных любовников, словно норовистого жеребца. А перстень был непростой – двуглавый орел, государев герб. Парень оказался глазаст и умом крепок: живо сложил два и два, получил четыре – и до смерти перепугался. Невтерпеж ему стало, что государя, коему он обязан всеми благами и удачами (парень был из числа опричников, обласканных царем), подло обманывает его же собственная жена. Конечно, идти доносить на нее было все равно что самого себя на кол посадить, но парень знал грамоте и подкинул государеву псу Малюте Скуратову подметное письмо…
Надобно сказать, что Иван Васильевич давно уже охладел к жене и теперь не прочь был бы развязаться с ней. Но как? В монастырь сослать за бесплодие, как некогда отец, великий князь Василий Иванович, сослал Соломонию Сабурову? Можно бы, но больно хлопотно. Вот если бы Кученей померла невзначай… Однако что-то мешало ему отдать тайный приказ Бомелию – чтобы изготовил какое-нибудь смертное питие для царицы. Уж больно красива была эта дикая степная кошка! И лоно ее таило бездну наслаждений, что очень много значило для сластолюбивого царя.
Подметное письмо заставило Ивана Васильевича одуматься. Пощады за измену не будет! Однако Грозный при всей своей вспыльчивости и лютости был умным человеком. Он прекрасно понимал, что публичный позор жены сделается позором и для него самого. Был царь Грозный – а станет Смешным. Таким и прослывет в веках. Царица погибнет тайно, от причины непонятной… вот и пришло время отдавать приказ Бомелию. Но лишь после того, как царь совершенно удостоверится, что подметное письмо не лжет, а также после того, как изменница сослужит последнюю службу…
Среди бояр, недовольных нововведениями царя, изо всех сил противостоящих опричнине, был Иван Петрович Федоров-Челяднин, бывший глава Боярской думы. Государь очень хотел бы попрать этого дерзкого, богатого, уважаемого всеми человека. Он исподволь стал внушать Федорову-Челяднину мысль, что хочет сделать его не только думским, но и земским главою да еще и наградить черноземными землями. Поверивший этим посулам Федоров-Челяднин и не заметил, как отступился от прежних своих сотоварищей-бояр. Он так старался завоевать благосклонность государеву, что из кожи вон лез, указывая ему на недовольных, на «крамольников», как их теперь называли. При этом он чувствовал, что царь хочет от него чего-то еще, но не понимал, чего именно. Однако был готов на все!
И вот как-то Иван Васильевич разоткровенничался.
Он призвал Федорова-Челяднина к себе и начал разговор:
– Дошло до меня, что князь Михаил Темрюкович держит у себя дома какую-то девку.
– Да небось и не одну, – по извечной боярской привычке перебивать царя, не сдержался Федоров. – Как обойтись без женской прислуги?
– Ты дурня-то из себя не строй да не больно вольничай! – покосился на него Иван Васильевич. – Та девка не прислуга, а блудня, кою он своим ближним опричникам изредка попользовать дает. Может быть, ты и сам об этом что-нибудь слышал.
– Шел такой слух, – после некоторой заминки признался Федоров. – Что-то лопотали мои служилые, да я мимо ушей пропустил.
– А зря, – буркнул царь. – Впрочем, ладно. Исправишь это. Пойдешь ты к Михаилу Темрюковичу и скажешь ему, что хочешь ту девку иметь.
– Да куда мне ее? – испугался Федоров. – Домой, что ли? Моя боярыня меня со свету сживет!
– Сказал же – не ломай шута! – бешено крикнул Иван Васильевич. – Коли не по нраву мое испытание – катись из Александровой слободы в Москву и сиди там, трясись студнем, жди, дойдет до тебя опричник с топориком либо нет. Дойдет, не сомневайся! А я-то мыслил сделать тебя главою земщины…
Федоров громко, жадно сглотнул:
– Прости, великий государь! На все согласен!
– А коли так, – угрюмо сдвигая брови, молвил Иван Васильевич, – молчи да слушай. Пойдешь к Темрюковичу и плети ему семь верст до небес, обещай горы золотые, только уговори, чтоб он тебя к той непотребной девке хотя бы на одну ноченьку сводил. Наври чего-нибудь, дескать, с бабы твоей никакой сласти уже нету, а ты мужик в соку… мы ведь с тобой ровесники, кажись? Значит, тебе и сороковника еще нет, ну, какие наши годы! Опять же сказано: седина в голову – бес в ребро. Вот и вали все на этого неодолимого беса похоти, который искушает тебя денно и нощно. Словом, умри, но уговори Темрюковича отвести тебя к ней. Что уж ты там с ней станешь делать – сам смотри, хошь, мни ее почем зря, а хошь, рядом бревном лежи. Но только непременно пощупай ты у нее под левой грудью, есть ли там родинка затаенная, под вид как бы третий сосочек. Понял?
Ничего Федоров не понимал, ничегошеньки! Однако покорно кивнул:
– Все сделаю… все, что велишь, батюшка.
Спустя некоторое время Федоров сообщил государю, что просьба его выполнена. С девкою черкесскою он сошелся блудно, и хоть видеть ничего не видел – дело происходило в кромешной тьме, однако третий сосочек под грудью ее нащупал своими собственными руками.
Он не сказал, конечно, что ночь, проведенную с таинственной черкешенкой, он вспоминал часто – если уж совсем честно, ни на миг не забывал. Такое и в самом грешном сне не привидится, что с ним вытворяла соромница, и ушел от нее боярин почти с ужасом, ибо понял, что прежде не знал он женщин, хоть и прожил в законном супружестве четверть века, да и вообще брал баб, где и когда вздумается. Нет, не знал! Оказывается, это не покорные подстилки, как мыслил он ранее, а истинно бесово орудие искусительное. Сказывали пленные татары, что в восточных странах иные люди приохочиваются к особенному дурманному зелью, которое навевает им разные блаженные картины. Вроде бы зелье вдыхают в себя дымом, и доходит до того, что человек без дыма жизни себе не мыслит. Не из-за вкуса его или запаха, а потому, что благодаря этому дыму он чувствует себя совсем иным: молодым, счастливым и всесильным. Ночь с той девкой стала чем-то вроде пресловутого дыма. Первое время Федоров вообще ходил как чумной; небось, будь помоложе, пошел бы в слуги верные к князю Черкасскому, чтобы хоть изредка, как награду, получать от него власть над этим телом.
Потом угар развеялся, кровь малость поутихла, и
Федоров стал ждать от государя награды. И она не замедлила воспоследовать: велено ему было в полном парадном облачении явиться в Александрову слободу, а с собой привезти не кого иного, как царицу Марию Темрюковну, которую супруг желал видеть у себя. Иван Васильевич ненавидел Москву, царица же не терпела Александрову слободу. Однако делать было нечего – пришлось повиноваться мужу и отправиться в путь.
Провожатым Мария Темрюковна, видимо, была довольна. Тотчас по прибытии в слободу Федоров-Челяднин был зван на пир.
– …А что, Иван Петрович, – приветливо спросил государь, – хотел бы ты быть царем?
Федоров-Челяднин чуть не подавился утятиной. Больно вопрос дурацкий, не знаешь, что и сказать! «Нет» – на смех подымут, потому что не бывает таких дурней, которые отказались бы от царской власти, «да» – опять же обсмеют: куда ты, мол, со свиным-то рылом! А еще хуже, воспримут это «да» как покушение на царский трон.
Словом, Федоров не знал, что ответить. Поэтому он поелозил ширинкою по бороде, якобы смахивая последние крошки, и уклончиво молвил:
– А на что мне, батюшка, такими мыслями головку засорять, коли ты у нас есть? Ты на престоле сидишь – ты и царь!
– Что ж, по-твоему: царь только тот, кто сидит на престоле? – разочарованно воскликнул государь. – Не-ет, это было бы слишком просто! Ну вот поди сюда, Иван Петрович, сядь на мое место. Посиди, а потом расскажешь нам, почувствовал ли ты себя царем. А ну, подать сюда облачение государево!
Федоров и ахнуть не успел, как набежали прислужники и в одно мгновение на него были надеты кожух золотой парчовый, бармы[40] тяжелые, да еще и шуба соболья, крытая аксамитом[41]. Мгновенно взопрев, Федоров не устоял и от малейшего толчка в грудь плюхнулся на трон.
В одну руку ему сунули любимый царев посох, в другую – чарку с вином.
– Это тебе вместо державы и скипетра, – пояснил Иван Васильевич, который, вкрадчиво улыбаясь, стоял рядом. – Я ведь сии знаки государевой власти с собой не вожу, в Кремле оставляю, как и женку мою, которую ты, боярин… – Он запнулся, но тут же продолжил: – Которую ты, боярин, нынче сюда, в слободу, ко мне доставил.
Федорову почему-то показалось, что Иван Васильевич намеревался сказать нечто совсем иное, но что?
– И какова хороша показалась тебе государыня? – внезапно спросил царь.
Федоров опять суетливо заерзал:
– То царский кус, не наш. Я на государыню и взора не поднял, ехал в своем возке позади, для охраны.
Это была чистая правда. Федоров присоединился к царицыну поезду лишь за московской заставою. Мария Темрюковна сидела в парадной повозке, окруженная своими постельницами, прикрыв лицо фатою. Они с Федоровым лишь беглым словом перемолвились.
Правду сказать, ему было не до царицы. Лишь вчера доставили Федорову письма из Польши, от короля Сигизмунда-Августа. Король звал к измене жестокосердному государю, который не чтит своих верных шляхтичей, и недвусмысленно пообещал сделать Федорова-Челяднина своим наместником в Московии.
Наместником короля! То есть властителем московским! Как бы царем!
Федоров, прочитав сие, чуть голову не потерял. Что выбрать? Чьи посулы? Короля или царя? Сделаться наместником или главою земщины? Рассудив, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, он медлил с ответом в Польшу: ждал царской милости. А ему вместо милости какие-то вопросы дурацкие задают…
– Ты небось думаешь, что царь у тебя неблагодарный, да? – послышался рядом вкрадчивый голос, и Федоров вздрогнул так, что чуть не выронил чарку и посох. – Ты мне, дескать, верную услугу оказал, а я молчком молчу? Нет, Иван Петрович, я добро помню. Вишь, на трон тебя посадил. Ты небось и не мнил о такой чести, а? Или мнил? Только ты ожидал сего от Сигизмунда, короля польского? Ну какой же разумный человек возьмется поверить лживым ляхам? Только я могу человека на трон посадить! Только я! И не тебя одного – но и царицу твою.
– Ка… – тихо, сдавленно каркнул Федоров, хотевший спросить: «Какую царицу?!» – и голос его пресекся, когда он увидел входившую в трапезную Марию Темрюковну.
Вся в белом, мерцая многочисленными жемчугами, она была так ослепительно хороша, что у мужчин, редко видевших государыню, захватило дух. Держась необычайно прямо, нисколько не дичась восторженных взглядов, направленных на нее со всех сторон, она подошла к трону – и несколько оторопела, увидав на царевом месте, в царевом облачении не своего мужа, а другого человека.
– Что стала, Марьюшка? – насмешливо спросил Иван Васильевич. – Не признала нового государя? Ну что же ты, на дворе ведь не ночь, когда все кошки серы… Это боярин Федоров-Челяднин – помнишь, его? Нынче моей волею он царь всея Руси. Кланяйся государю в ножки, благодари его за милость.
– Какую еще милость? – высокомерно спросила Мария Темрюковна своим гортанным голосом.
– Ну как же! – воскликнул Иван Васильевич веселым голосом. – Как же ты забыла, любушка моя? Ведь он, великий царь, тебя, рабу свою, удостоил великой милости: сюда из Москвы привез, а кроме того… – И, подойдя к жене, он что-то шепнул ей на ухо.
Кученей изумленно воззрилась на мужа, и смугло-румяное лицо ее, только что цветшее и сияющее, вмиг сделалось мертвенно-бледным. Она покачнулась, схватилась за сердце…
– Эй, Михаила Темрюкович! – гаркнул царь, успевший поддержать жену. – Прими-ка сестру, неси ее в покои. И ты, доктор Елисей, пойди с ними, дай ей питья того целебного, что приготовил давеча. Да вино возьми послаще.
Появился Бомелий; скользнул непроницаемым взором по лицу государя, но не обмолвился и словом. Поклонился покорно и проследовал за Михаилом Темрюковичем, который легко, как перышко, нес обеспамятевшую сестру.
Федоров все это время сидел ни жив ни мертв. Он едва ли слышал хоть слово, едва ли замечал происходящее. Перед глазами мельтешили огненные колеса, в голове билось молотом: «Знает! Он все знает про польские письма! Пропала моя голова!»
Царь махнул рукой. Стольник подскочил к нему с чаркою, и Иван Васильевич жадно глотнул вина.
– Экая незадача, – сказал он, покачав головою. – Хотел рядом с тобою на трон свою царицу посадить, а она, вишь ты, сомлела. Но ты не горюй, великий государь! Найдем для тебя другую. Ничего, что будет она малость постарее да покривее. Зато такая не вовлечет почтенного человека в блудный грех.
Царь хлопнул в ладоши; по этому знаку распахнулись двери, и в них стремительно, словно ее изо всех сил толкнули в спину, влетела женщина в богатом боярском наряде, в жемчугом низанной кике и золоченой душегрее, отороченной соболем. Пирующие засмеялись над ее неловкостью. На трясущиеся, щедро нарумяненные щеки гостьи поползли слезы. Впрочем, лицо ее тотчас озарилось радостью.
– Батюшка мой, Иван Петрович! – вскрикнула она, всплеснув руками, но испуганно замерла, только сейчас разглядев, где и в каком виде восседает Федоров.
Боярин оторопело уставился на свою жену. Откуда она взялась? Уезжая в слободу, оставил семью в Москве. Что все это значит?
– Поди, поди сюда, царица всея Руси! – приветливо замахал рукою государь, и какой-то молодой опричник снова подтолкнул боярыню в спину. – Поди сюда, присядь. А ты, Иван Петрович, посунься малость, дай жене местечко. Зовут-то как? Зовут тебя как, боярыня?
– Марья… – пролепетала она трясущимися, бледными губами.
– Ишь ты! – изумился государь. – И та Марья, и эта. Как бы не перепутать, а, Иван Петрович?
Тот таращился непонимающе.
– Погляжу, ты, Иван Петрович, вообще путаник, – тем же веселым, приветливым голосом продолжал государь. – Свою жену с моей перепутал, земщину с наместничеством, Польшу с Московией, верность с изменою… Ты изменник и предатель, уж не взыщи. Малюта!
Скуратов оказался рядом с троном и, выхватив из ослабелой руки Федорова царев посох, вроде бы несильно ткнул его набалдашником в левый висок. Федоров тут же завел глаза, закинул голову, начал сучить ногами, но почти сразу притих и вытянулся. Иван Васильевич небрежно скинул его с трона, хотел сесть, да мешала стоявшая на пути боярыня Федорова. От всего увиденного она словно окаменела и смотрела вокруг неподвижными, пустыми глазами.
Нахмурясь и стиснув челюсти, царь махнул рукой. Малюта ударил еще раз.
– Унесите их, – сердито сказал Иван Васильевич. – Федорова псам бросьте, изменник и могилы не заслуживает. Бабу отпеть и похоронить по-людски, так уж и быть. Да, а платье мое… платье выкиньте. Я его больше не надену, негоже мне с чужого плеча обноски нашивать. Пусть и царские, – добавил он с кривой усмешкой, более напоминающей судорогу.
* * *
Царица после того пира занемогла и лежала без памяти под неусыпным приглядом доктора Елисея Бомелия. Иногда брата пускали к ней. Она была бледная-бледная, с черными подглазьями, сизыми губами и заострившимся носом – вмиг утратившая свою победительную, живую красоту. Сердце ее – Михаил Темрюкович сам слушал, приложив, как Бомелий, ухо к груди, – то пускалось вскачь, словно взбесившийся конь по горной тропе, то шептало что-то невнятное… прощальное! Кученей умирала.
Почему?! Салтанкул ничего не понимал. Что сказал ей царь? Да что бы ни сказал – разве можно умереть из-за одного слова?!
Так никто ничего не понял и не узнал. Померла царица Марья Темрюковна, красавица, распутница, дикая кошка, – ну и померла. Бомелий сказал – сердце-де вдруг остановилось. Ну что ж, ему, Бомелию, виднее. На то он и лекарь.
А Иван Васильевич Грозный навсегда зарекся брать жену из чужих земель!
Самозванка, жена Самозванца
Марина Мнишек и ЛжедмитрийI
Этот день он запомнил на всю жизнь…
В Брагин к князю Адаму Вишневецкому приехала его родня: брат Константин с женой Урсулой и сестрой жены, а также отцом обеих дам, воеводою сендомирским, – весьма важным, даром что низкорослым, шляхтичем. Готовилась охота. Это была любимая забава шляхты. Знатный пан не упустит случая пощеголять своими собаками, соколами да кречетами, ну а гости рады похвалиться блеском конских уборов, красотой скакуна, а главное – своей ловкостью и удальством!
На псарне шум и суета стояли небывалые. Народ бегал туда-сюда, грязи развезли – шагу не шагнуть! И вдруг вбежал какой-то хлопец с криком, мол, приезжая панна Марина Мнишек, сестра пани Урсулы Вишневецкой, желает взглянуть на щенят нового помета – с тем, чтобы отобрать себе добрую борзую. И через минуту во дворе появилась уже готовая к выезду в поле всадница на серой в яблоках, небольшой, будто точеной кобылке, а вслед за ней – и ее отец.
Шляхта принялась разметать грязь и пыль перьями своих шапок, слуги рангом пониже бухнулись на колени, ибо пан Юрий Мнишек был ближайшим другом прежнего короля, Сигизмунда-Августа, да и нынешним не обижен. Пан не чинясь спрыгнул с коня прямо в грязь да и скрылся в сарае, ну а вельможная панна, сидя в диковинном седле, замешкалась, даром что стремянной и коня придержал, и колено подставил, чтоб удобнее с седла сойти.
А куда сойти? Не в жидкую ведь кашу глиняную!
Григорий, стоявший с прочими на коленях, исподтишка косился на панну. Еще бы она не замешкалась, не желая запачкать в грязи свои крошечные замшевые сапожки! Райская птичка, а не девица. Сидит на тонконогой кобылке с блистающей, каменьями украшенной упряжью, – вся такая маленькая, словно куколка выточенная, для охотничьей забавы в мужской костюм наряженная. Девка в шароварах! Такой уж обычай был в Польском королевстве, приводивший даже средового[42] толстого монаха в немалое смущение, а уж о молодых хлопцах, конечно, и говорить нечего! Берет ее был украшен перьями и такими же самоцветами, как упряжь лошади. Носик у панны Мнишек был маленький, дерзкий, а глаза – ох, какие же у нее огненные глаза…
Григорий подавил пылкий вздох – словно очухался. Сорвался с места, скинул с плеч кунтуш – и швырнул его как раз на то место, куда ступила бы панна Мнишек, если бы решилась сойти с лошади.
Она только раз на него глянула, а Григорию почудилось, что в него ударило молнией. Так и закачался! Но тут недогадливая дворня будто проснулась: все кинулись срывать с плеч свитки, да азямы, да кунтуши и кидать наземь, так что скоро по двору протянулась словно бы ковровая дорожка, по которой и проследовала на псарню ясная панна, на испачкав своих маленьких ножек и не посадив ни малого пятнышка на синий бархат своих широких шаровар. А потом обратно по тому же ковру прошествовала, прижимая к груди крошечного толстолапого кобелька и шепча ему какие-то ласковые слова. За ней протопал отец, а потом оба ускакали с заднего двора. Панна Мнишек даже не удостоила Григория новым взглядом.
Впрочем, она вообще ни на кого из людей не смотрела – только на своего щеночка.
Слуги принялись разбирать свою одежду, отряхивать, чистить, и лишь Григорий оставался неподвижным. Его кунтуш вовсе втоптали в грязь, так что не надеть. Поэтому Григорий еще долгое время стоял в одной рубахе, а тут неожиданно задул северный студеный ветер, который принес дождь со снегом. Охота по причине непогоды отменилась; своры загнали во двор, собак надо было накормить (перед охотой их для резвости и остроты нюха выдерживали голодными) – словом, хлопот было немало. Вот тут-то, видать, Григория и прохватило ветерком да сквозняком. К вечеру он занемог, а к ночи совсем слег…
Его спутник монах Варлаам со страхом всматривался в пылающее от жара, вспотевшее лицо и думал: «Мать честная… как бы не помер!»
– Эй, Гришка, – осторожно потряс хворого за плечо. – Не помирай, а? Очухайся!
Тот медленно разомкнул веки, и на Варлаама глянули горячечно блестящие глаза.
– Князя мне… позови, – выдохнул Григорий. – Князя Вишневецкого.
– Да ты что? – всплеснул толстыми ладонями Варлаам. – Очумел? Видали! Князя ему! Мыслимое ли дело: приду к пану и скажу, псарь-де Гришка просит вас к своей милости пожаловать. И что он со мной после этого сделает? Мало оплеухой наградит, а то и в холодную сошлет. Выпороть прикажет.
– Сходи… – выдохнул Григорий. – Во имя Господа Бога!
– Невеликое мне дело – сходить. Да разве господин меня послушается? Ну кто ты есть таков, чтобы пан к тебе пошел? Он – вельможа, князь Вишневец-кий, а ты кто? Гришка, вот и все!
Между покрасневшими, опухшими веками словно бы синяя молния сверкнула. И голос больного вдруг зазвучал твердо, ясно, отчетливо:
– Да, он князь. А я – никакой не Гришка. Я законный государь земли русской, царевич Дмитрий.
Вслед за этими словами, от которых у Варлаама челюсть ниже плеч отвисла, Гришка раскрыл дрожащими, слабыми пальцами рубаху на своей груди и показал крест из чистого золота, осыпанный драгоценными каменьями, и со слезами объявил, что сия святыня дана ему крестным отцом, князем Иваном Мстиславским.
* * *
На этого русского холопа Гришку и его толстого спутника, монаха Варлаама, поначалу никто и не обращал внимания. Мало ли голи перекатной нанимается на службу в богатые имения! Однако из Григория получился отменный псарь. У него обнаружился особенный дар врачевать заболевших собак, а свору свою князь Вишневецкий любил чуть ли не больше, чем иных людей, поэтому очень скоро Гжегош (так Григория называли поляки) сделался незаменим.
А Варлаам вовсе перестал узнавать своего спутника. Из скромного монашка, который вместе с ним бежал из Москвы, из Чудова монастыря, тот все больше превращался в подобие шляхтича – пусть и безденежного, и не родовитого, и кое-как одетого, даже без сабли, – необходимой принадлежности истинного шляхтича. По-польски Григорий трещал теперь небось скорей, чем по-русски. Научился стрелять из лука и арбалета, а также из пищали. Скакал верхом и выделывал разные причуды в седле, что твой татарин! Шляхтичи скоро прослышали о небывалой ловкости Гжегоша и не гнушались ввязываться с ним в излюбленные шляхтой состязания: на лету подбить птицу, да непременно в голову; попасть пулей или стрелой в написанное на бумаге слово; перепрыгнуть с разбега через высокий забор; вскочить на коня, не коснувшись луки седла. Гжегош побеждал в этих состязаниях играючи. Бывало, бросится в седло – и ударится в такой скач, что чудится: прочие кони словно бы на месте стоят и лишь копытами перебирают. Но всего больше славы было ему за то, что он стрелял без всякого промаха. Бывало, заставит кого-нибудь держать между растопыренными пальцами поднятой руки монету, а сам выстрелит – и в монету попадет. Никогда промаху не давал!
Тем человеком, который держал монету, был чаще всего Варлаам… Правда, сначала он отказывался из страха лишиться руки и быть вовсе застреленным, приняв пулю в голову, но когда понял, что паны ставят на выигрыш-проигрыш немалые деньги, начал даже подзуживать Григория ввязаться в новый спор, который паны шляхтичи на французский манер называли – пари. Так что скоро у бывших питомцев Чудова монастыря завелись деньжата, и им не приходилось больше донашивать чужие обноски – разжились своим собственным платьем. Варлаам купил малороссийское одеяние, ну а Григорий иначе как в польское больше не одевался.
И все же вот так, вдруг, назваться наследником русского престола! Да еще предъявить в доказательство крест!..
Конечно, ничем хорошим это не кончилось. Князь Адам приказать избить Варлаама и вышвырнуть вон дерзкого лгуна Гжегоша, который небось где-то украл драгоценность. Тот, впрочем, исчез прежде, чем до него добрались слуги князя. Исчез… но чтобы объявиться снова. Теперь он не нашел ничего лучшего, как написать тайное послание прекрасной панне Марине и подкинуть его в ее окошко.
«Лучезарной панне Марине Мнишек, ослепившей взор мой и в одно мгновение, подобно Цирцее, обратившей меня в своего покорного, верного, до смерти преданного раба», – так был, совершенно в духе того времени, надписан бумажный свиток, и Марина сперва задохнулась от этих дерзких и в то же время трепетных слов и лишь потом сообразила, что они написаны не по-польски, а по-латыни.
Это было уже интересно: на латинском языке писать простые люди никак не могли. Она развернула бумагу и прочла:
«Поверьте, прекрасная дама: тот несчастный, который до безумия любит вас, дал бы выпустить себе по капле всю кровь, чтобы подтвердить правдивость каждого своего слова. Вы взошли на тусклом небосклоне моей жизни, словно ослепительная звезда, любовь к вам окрылила меня. Благодаря вам я понял: настало время сознаться, открыть свое истинное имя. Довольно влачить жалкий жребий, навязанный мне убийцей моего отца и гонителем моей матери, пора смело взглянуть в глаза своей Судьбе, принять ее поцелуй – или тот губительный удар, который вновь низвергнет меня, ожившего мертвеца, в царство призраков, откуда я вышел ненадолго, поскольку тень отца моего меня воодушевила.
Знайте, панна Марина, что, будь я тем, кем меня привыкли считать окружающие, то есть наемным хлопцем Гжегошем или беглым монахом Григорием, я предпочел бы умереть от безответной любви к вам, но не осквернить ваш слух своим убожеством. Но обстоятельства моего происхождения позволяют обратиться к вам почти на равных, ибо я есть не кто иной, как младший сын царя Ивана Васильевича, прозванного Грозным, и его жены Марии Нагой. Имя мое Димитрий Иванович, и если бы сложились обстоятельства в мою пользу, я воссел бы на российский трон и звался бы Димитрием Первым…»
Марина не поверила своим глазам и показала письмо сестре, а Урсула немедленно позвала мужа своего Константина – и самого Адама Вишневецкого.
Вишневецкие были истые пясты[43], а потому в чистом поле или в бальной зале отличались куда лучше, чем перед грифельной доской или чернильницей. Им потребовалось некоторое время, чтобы вникнуть в смысл письма, а когда это наконец произошло, братья призадумались.
Неужто не врет парень? А если врет, то уж больно складно… Чем черт не шутит, ведь чего только в жизни не бывает! Не поговорить ли с Гжегошем?
Они встретились со странным холопом и допросили его. Он говорил так убедительно, что братья почти поверили и решили свести его с отцом Марины – Юрием Мнишеком.
* * *
Даже если бы странный монах, называвший себя царевичем Димитрием, не влюбился с первого взгляда в дочь воеводы сендомирского, он в своей авантюре едва ли нашел бы себе союзника лучшего, чем пан Юрий Мнишек.
Пану Юрию было в описываемое время около пятидесяти лет, однако никто не посмел бы назвать его не только старым, но даже и пожилым человеком, потому что в поле, на охоте или в бою, а также в бальной зале этот невысокий плотный шляхтич мог дать фору любому молодому кавалеру. У него были игривые глаза, вкрадчивый голос, прихотливый ум, приятные манеры – и неуемная жажда авантюр.
Появление непризнанного русского царевича было для него просто даром небесным, тем паче что в дело замешалась любовь, и к кому? К его старшей дочери Марине!
То впечатление, которое произвела на Димитрия сдержанная, изысканная красота Марины, было оглушающим, ослепляющим. Проведя жизнь по монастырям, Димитрий не знал женщин. В пути до Южной Руси он мимоходом общался с несколькими – из числа тех, которые отдавали тело за деньги. После встреч с ними мужское естество его разгорелось: теперь он не пропускал уже ни одной доступной красотки, вскоре сделавшись их любимцем. Однако очи Марины словно бы отравили его. С этой минуты он хотел только ее, ее одну, и, хотя плоть его порою бунтовала, одна лишь мысль, что слухи о его распутстве могут дойти до прекрасной панны, вынуждала его к суровой сдержанности. Он покинул прежних любовниц ради нее – и не считал это слишком большой жертвой.
Кто же была эта девушка, которая совершенно овладела душой и умом загадочного претендента?
Когда сестра панны Марины Урсула выходила замуж за князя Константина Вишневецкого, находились завистники (прежде всего – завистницы!), которые откровенно посмеивались над Мариной. Ну как же, младшая сестра пошла под венец раньше старшей! Это ли не позор? Тем паче что панна Марина не больно какая красавица. Маленького роста, сложения невидного: довольно сухоребрая. Только и есть что тонкая талия да волосы роскошные… Однако нос у нее длинноват, губы тонкие. Брови, правда, хороши… Но совершенно не за что считать ее признанной чаровницей. Эх, зря она отказала такому-то и такому-то! Как бы не засиделась в девках!
Панна Марина знала о пересудах, но отмалчивалась с самым высокомерным видом. Для нее все эти «такие-то» были мелкая сошка.
Да что они! Сам король Сигизмунд некогда предлагал панне Марине – весьма недвусмысленно! – сделаться его любовницей. Само собой разумеется, она отказалась. Королевская постель ее не влекла. Вот если бы Сигизмунд предложил ей трон…
И правильно сделала, что отказалась. Дождалась-таки своего часа!
Пан Юрий Мнишек хорошо знал дочь. Страдания от разбитого сердца – это не для нее. Тщеславие и религиозность – вот были две движущие силы ее натуры. Она хотела бы уподобиться какой-нибудь католической святой, прославиться обращением в истинную веру огромных масс приверженцев другой религии. Например, православной… Сделаться московской царицей! Привести за собой на Русь легионы католических священников! Содействовать отторжению от Московии северных и западных земель – содействовать таким образом новому расцвету Речи Посполитой!
Это были ее заветные мечты, в свете которых не имело почти никакого значения, на самом ли деле посватавшийся к ней человек – московский царевич, сын Грозного, или авантюрист.
Марина не больно-то внимательно слушала его рассказы, начисто опровергавшие официальное объяснение этого события, распространяемое правительством Годунова. По нему выходило, что царевич Димитрий погиб еще 15 мая 1591 года в Угличе. Мальчик якобы невзначай зарезался ножичком. Ходили, правда, слухи, что убили его по приказу Бориса Годунова, однако это не меняло сути дела: младшего, последнего сына Ивана Грозного вот уже больше десяти лет не было в живых. Каким же образом и откуда возник этот Димитрий? Воскрес из мертвых?
История, рассказанная претендентом, была совершенно неправдоподобна – и весьма убедительна в одно и то же время. Якобы сразу после смерти Ивана Грозного, когда, по наущению своего шурина Бориса Годунова, новый царь Феодор Иоаннович удалил последнюю жену Грозного, Марию Нагую, в Углич с малолетним сыном, этот самый сын был тайно выкраден верными людьми. Предводительствовал ими друг и любимец Ивана Грозного Вельский. В деле были замешаны бояре Романовы – родственники первой жены Грозного, Анастасии, – которые ненавидели выскочку Годунова и провидели, что тот ни перед чем не остановится в своей неистовой жажде власти. Вельский скрытно увез царевича Димитрия в Нижний Новгород (сам Вельский был выслан туда воеводою), где тот и воспитывался, а потом отправлен под присмотр патриарха Иова – в московский Чудов монастырь, где он рос под именем послушника Григория. А вместо него в Углич, с ведома царицы Марии Нагой, был привезен сын бедного боярина Богдана Отрепьева-Нелидова, Юшка, то есть Юрий. Именно на него было совершено покушение по приказу Годунова. Но брат Марии Нагой спас раненого мальчика, к которому успел привязаться, и тайно увез его из Углича к боярину Александру Романову. А в Угличе похоронили пустой гроб. Царю было составлено донесение о смерти царевича – на том шум и затих.
Димитрий мало что знал о дальнейшей судьбе Юшки Отрепьева. Известно было только, что нравом удался он буен, дерзок, разгневал Романовых, а потому его постригли в тот же самый Чудов монастырь, где прятали законного наследника престола. Самое удивительное, что пострижен был он тоже под именем Григория.
Тем временем Димитрию, который доселе ничего не ведал о своей настоящей судьбе, было открыто его подлинное имя. Он немедленно решил вернуть отцовский престол. Однако в России, трепетавшей под тиранией Годунова, трудно было найти союзников, поэтому Димитрий (Гришка) напросился в попутчики к монаху Варлааму, который мечтал попасть в Святую землю, и отправился в Польшу. Именно здесь, у давних и вечных неприятелей России, он надеялся найти поддержку своим честолюбивым планам, посулив полякам все, что только можно было посулить, в награду за поддержку.
Марина рассуждала так: если отцу, князьям Виш-невецким, королю и сейму угодно оказать свое доверие Димитрию, дать денег и помочь сформировать войско, которое пойдет завоевывать Москву и свергать с престола Бориса Годунова, – почему ей, женщине, следует сомневаться в истинности слов этого человека?!
Ее дело – не дать золотой рыбке сорваться с крючка!
И она старалась как могла.
Она играла с Димитрием, применяя все мыслимые и немыслимые женские хитрости. Была кокеткой и недотрогой, манила и отталкивала, обещала и нарушала обещания. Он был в ее руках послушной глиной, тряпичной куклой. В этой ошалелой, нерассуждающей, мальчишеской любви с самого начала было что-то роковое. Безвозвратное!
А Марина не была влюблена. Все, что она делала, она делала по наущению своего отца, который умел смотреть далеко вперед.
Поклонники Марины, у которых из-под носа ускользала богатая, хоть и не в меру заносчивая панна, готовы были разорвать на части этого невесть откуда взявшегося царевича вместе с его притязаниями. Однажды любовь к прекрасной Марине довела Димитрия до дуэли.
Случилось это на пиру, заданном Юрием Мнише-ком в честь русского царевича.
Гости, крепко подвыпив, то и дело вздымали до краев наполненные кубки:
– Виват Димитрию!
На все это с отвращением смотрел молодой и пригожий кареглазый шляхтич, чье размещение на дальнем конце стола безошибочно доказывало его убогое общественное положение. Он один из всех не наливался вином под самую завязку, не стучал кубком об стол и не выкрикивал здравицы претенденту. Он глядел на москаля с нескрываемой ненавистью, а когда взор его перебегал чуть левее, где, по другую руку отца, сидела панна Марина Мнишек, и без того смуглое лицо молодого человека становилось темнее тучи, и он старел на глазах.
Это был один из князей Корецких – какой-то дальний родственник воеводы Мнишека, безденежный, промотавшийся до последних шаровар пан. Он давно и безнадежно вздыхал по воеводиной дочери. Сейчас молодой шляхтич был вне себя и нарывался на ссору.
Но вот начались танцы. Эта забава была любима поляками ничуть не меньше, чем охота, не меньше, чем война!
Дамы, уже переодевшиеся для бала, входили в зал попарно, сверкая множеством украшений, пленяя взор дорогими кружевами. Они плавно подходили к мужчинам и кланялись. Урсула Вишневецкая сделала реверанс царевичу (она была замужняя дама и могла себе позволить протанцевать с холостяком без ущерба для своей репутации), а ее сестра Марина присела перед отцом. Внимательный глаз не мог не заметить печали, слегка отуманившей черты названного Димитрия, когда он убедился, что его парою будет не Марина, однако после перемены партнеров царевич все же оказался перед возлюбленной панной.
И прошептал:
– Панна… вы не ответили на мое письмо.
– Я не отвечаю на подобные послания, – сухо промолвила Марина, делая вид, что смотрит в другую сторону.
Они разошлись; несколько танцевальных па Димитрий проделал с Урсулой, а Марина – с отцом, который быстро, недовольно шепнул ей что-то.
Неведомо, о чем шла речь между воеводой и его любимой дочерью, однако при следующей перемене фигур она взглянула на Димитрия чуть поласковей, и он, лишившийся из-за ее холодности дара речи, вновь обрел его.
– Панна, прекрасная панна… – забормотал Димитрий. – Моя звезда привела меня к вам; от вас зависит сделать ее счастливою.
– Ваша звезда слишком высока для такой простой девушки, как я, – с легким вздохом отвечала Марина, однако глаза ее сверкнули таким огнем, что Димитрий рухнул на колени перед ней и самовольно потянул ее руку к губам с видом умирающего от голода и жажды одновременно.
Марина, не привыкшая к проявлениям такой страсти у своих прежних благовоспитанных поклонников, слегка испугалась.
– Моя рука, – проговорила она дрожащим голосом, – слишком слаба для вашего дела. Вам нужны руки, владеющие оружием, а моя может только возноситься к небесам вместе с молитвами о вашем счастии и вашей удаче.
– О да, молитесь за меня, – пылко прошептал царевич. – Молитесь, и я посвящу вам жизнь! Только дайте мне знак, что мои слова не отталкивают вас!
Девушка отвела глаза, некоторое время танцевала с отцом, однако, когда вновь оказалась напротив Димитрия, из женской руки в мужскую скользнула записка, переданная столь стремительно и проворно, что заметили ее не более десятка лишь самых приметливых дам.
Они значительно переглянулись. Ого! Во время бала панне Марине записку писать было негде, значит, цидулька была заготовлена заранее… Можно не сомневаться, что в ней назначено свидание.
Ай да панна Мнишек! Ай да скромница! Ай да недотрога!
Впрочем, каждая из дам втихомолку полагала, что царевич стоит того, чтобы ради него поступиться кое-какими правилами приличий. Он был, бесспорно, некрасив; однако кроме обаяния, связанного с его таинственным, трагическим прошлым и тем блистательным будущим, которое могло открыться перед ним, он обладал и другими достоинствами, и перед ними не могло устоять большинство женщин. Он был ловок, отважен, здоров и так и пылал мощным юношеским жаром. Но главный соблазн был – страстная любовь, которую он, несомненно, испытывал к дочери сендомирского воеводы. Проницательные люди могли бы увидеть, что, намеренно сводя эти два юных существа, пан Юрий Мнишек руководствуется только расчетом; его дочь, по всей видимости, тешит свое непомерное честолюбие. Но претендент отдает ей всю свою душу!
Что и говорить, не одна прекрасная дама и девица возмечтала в то мгновение, чтобы именно на нее смотрели с таким жаром эти голубые глаза…
Димитрий и Марина больше не приближались друг к другу, но беспрестанно обменивались взглядами, которые говорили красноречивее всяких слов.
Они были так заняты взаимным созерцанием, а гости так увлеклись наблюдением за ними обоими, что никто не обращал внимания на Вольдемара Корецкого, который с ненавистью переводил глаза с Димитрия на Марину.
Гости вернулись за стол. Димитрий завороженно смотрел на блюдо, где возлежал огромный сахарный двуглавый орел, а на другом блюде возвышался московский сахарный кремль с позолоченными куполами церквей. А уж когда Димитрий узрел свое собственное подобие на троне и в Мономаховой шапке, то все могли заметить, что он с трудом удержался от слез.
Однако вскоре на его лице отразилось другое чувство. Это было неприкрытое беспокойство. Иногда он охлопывал свои зарукавья или пазуху, стараясь делать сие незаметно.
– Прошу прощения… Пана москаля донимают блохи или вши? – вдруг выкрикнул Корецкий громким голосом, явно нарываясь на скандал.
– Я всего лишь потерял некую важную бумагу и теперь пытаюсь отыскать ее, – спокойно проговорил Димитрий. – А что касается блох и вшей… Пан, верно, по себе судит, – усмехнулся он, легоньким щелчком сшибая что-то с рукава зарвавшегося Корецкого.
Пану Вольдемару бы уняться, уйти с глаз долой, но нет: ему словно вожжа под хвост попала.
– Потерял важную бумагу? – выкрикнул он еще громче, чем прежде. – He эту ли? – Корецкий выхватил из-за рукава какую-то бумагу.
При виде ее панна Марина вдруг резко встала и вышла из залы. За ней последовала обеспокоенная сестра.
Между тем Корецкий с довольной ухмылкою развернул письмо и прочел:
– «Вы много страдаете: я не могу быть безответною к вашей благородной, искренней страсти. Победите врагов ваших и не сомневайтесь, что в свое время ваши надежды увенчаются и вы получите награду за ваши доблести». Охо-хо, пан москаль! Следует быть осторожным, разбрасываясь нежными посланиями прекрасных дам! Ведь так очень просто можно сгубить безупречную репутацию одной недотро…
Корецкий не договорил, а может, и договорил, но последних слов никто не слышал: их заглушила звонкая пощечина, которую отвесил ему Димитрий. Молодой шляхтич не снес удара и рухнул на пол, вдобавок еще отлетев к стене. В следующую минуту Димитрий проворно шагнул к нему, поставил ногу на грудь поверженного противника, не давая двинуться, потом выхватил из его руки письмо и, склонившись к лицу все еще не очухавшегося от удара Корецкого, проговорил – негромко, но отчетливо, так, что слышно было в самом дальнем уголке залы:
– Я вызываю тебя, сударь. Сабли или пистолеты – что угодно. Немедленно. Сейчас! Прямо здесь!
Вслед за этим он убрал ногу с груди Корецкого, схватил того за плечи и рывком поднял с полу.
А между тем паны, опытные в подобных делах (ведь в те неистовые времена частенько случались дуэли по поводу и без повода, и каждый знал, как вести себя при внезапно вспыхнувшей смертельной ссоре), уже вывалились из залы на улицу и вывели противников. Было решено стреляться – гостям не терпелось узреть победителя, а рубка на саблях может затянуться.
Перепуганный Мнишек и глазом моргнуть не успел, а уж две сабли были воткнуты в землю, означая барьеры, и секунданты разошлись к противникам.
Адам Вишневецкий был распорядителем дуэли. С веселой улыбкою, словно собравшимся предстояло увидеть не смертоубийство, а некое представление скоморохов или бродячих лицедеев, он развел противников к барьерам и приказал:
– Сходиться после счета «три», стрелять на счет «десять»! Господа противники готовы?
«Господа противники» отсалютовали пистолетами. Корецкий тяжело дышал и пытался улыбнуться, Димитрий был наружно спокоен, только раз или два вскинул глаза к небу. Впрочем, человек внимательный мог бы заметить, что он взирал вовсе не на Господние пределы, а на верхние окна замка, словно пытался рассмотреть, наблюдает ли кто-то из домочадцев пана воеводы за поединком.
– Внимание! – выкрикнул князь Адам, поднимая руку с зажатой в ней шапкою, а потом продолжил: – Раз… два… три…
На счет «три» Димитрий двинулся вперед. Ни он, ни пан Адам как бы не заметили, что Корецкий-то кинулся к противнику еще на счет «раз»!
Шляхтичи возмущенно вскричали: «Стой! Куда!», однако князь Адам и бровью не повел, и ропот возмущения замер. Надо думать, князь Вишневецкий знал, что делал.
– Четыре… – продолжал распорядитель. – Пять… Шесть… Семь…
Грянул выстрел! Это Корецкий не дождался окончания счета. Пуля укоротила перо на шапке москаля, однако тот отмерил под счет пана Адама еще три шага, медленно поднимая руку, и спустил курок не прежде Вишневецкий выкрикнул, взмахнув своей саблей:
– Десять! Пли!
Выстрел отшвырнул Корецкого назад, пистолет вышибло из его руки наземь. Пан Вольдемар со стонами тряс рукой, с ужасом глядя на противника.
И он, и зрители понимали, что москаль его просто пожалел!
Униженный этой жалостью Корецкий вскочил и кинулся на противника, занося кинжал, выдернутый из-за голенища.
Какой-то миг Димитрий стоял перед ним полностью безоружный, но тут секундант его, Константин Вишневецкий, выдернул из-за своего пояса заряженный пистолет и бросил ему с криком:
– Держи!
Как показалось зрителям, Димитрий непостижимым образом нажал на курок, едва коснувшись оружия, еще пока оно пребывало в воздухе, и только потом, после выстрела, поймал пистолет.
Так или иначе, но пуля попала в клинок и вышибла его из руки Корецкого, а сила выстрела вновь повергла ошалелого шляхтича наземь.
На сем дуэль и кончилась. Дерзкий шляхтич был прощен Димитрием и навеки удален из Самбора.
Известие о благородстве Димитрия и о его умении стрелять с поразительной меткостью немало способствовало его популярности в Польше!
Тем временем братьям Вишневецким и воеводе Мнишеку удалось собрать в Самборе великое множество шляхтичей, привыкших проводить большую часть жизни на коне и в поле; им не привыкать было воевать. К тому же тут выгорала и большая прибыль, а ляхи, известно, всегда и везде прежде всего считали будущую прибыль. Сам король Сигизмунд, ревностный католик, готов был поддерживать Димитрия, чтобы ввести в лоно католической церкви Российское государство, сие было клятвенно обещано названным Димитрием.
О да, он обещал многое. Служба каждого шляхтича, каждого наемника должна быть щедро вознаграждена, а уж какие выгоды получали его ближайшие сподвижники, Мнишеки, Вишневецкие и сам польский король – от таких посулов Иван Грозный небось в гробу переворачивался, когда слышал, сколь просто готов «сыночек» расточить отцово достояние.
Братья Вишневецкие захлебывались от восторга, что именно они открыли для Речи Посполитой это сокровище – русского царевича. Хозяин Самбора, воевода сендомирский Мнишек, был более сдержан, однако и он лелеял далеко идущие планы: дочь воеводы сендомирского – замужем за русским царем.
Однако царем Димитрию еще предстояло сделаться…
Он ездил в Краков, где встречался с самим польским королем (по протекции Мнишека, понятное дело!), он уговаривал сейм послать войско в Московию, он уверял иезуитов, будто готов привести Россию в католичество за помощь в восстановлении своего трона… в конце концов он сам принял ради этого католичество!
Однако желанную красавицу Марину он мог получить только в одном случае: если взойдет на московский трон. Более того! Воевода сендомирский сохранял за собой право и тогда отказать Димитрию в руке дочери…
И вот 15 августа 1604 года Лжедмитрий выступил на Москву с польским войском.
Марина осталась пока что в Польше. Честно говоря, она не очень верила, что ее жених одолеет своего противника. Однако обаяние имени сына Грозного было слишком сильно, да и ненависть в народе к выскочке Годунову уже достигла предела. А когда Борис Годунов 13 апреля 1605 года внезапно умер, а потом на сторону Лжедмитрия перешел царский воевода Петр Басманов, имевший колоссальное влияние в войсках, успех дела Лжедмитрия можно было считать решенным.
Однако и после того, как жених Марины вошел в Москву и даже был венчан на царство, Мнишек продолжал держать дочь в Польше. Вся разница, что она жила теперь в Кракове вместо Самбора. Лжедмитрий торопил ее с выездом, слал щедрые подарки – Мнишек не спешил отпустить Марину в Россию.
Дело в том, что Димитрий пока не выполнил ни единого обещания, данного в Польше. Например, насчет передачи Юрию Мнишеку Смоленского и Северского княжества в наследственное владение, а также лично панне Марине полагался миллион злотых и Новгород и Псков со всеми ближними землями и уделами; насчет заключения вечного союза между обоими государствами; насчет свободного въезда иезуитов в Россию, строительства католических церквей… Да мало ли надавал обещаний этот мнимый царевич. Пан Мнишек тогда пошучивал: «Царь Иоанн Грозный намеревался пришить нашу Польшу к своей России, словно рукав к шубе. Ну не смешно ли, что благодаря его сыну мы пришьем Россию к Польше, словно шубу к рукаву!»
Конечно, мысль заманчивая. Но хитрый пан Мнишек понимал: если иголкой служит Димитрий, то ниткой, которая доподлинно скрепит, сошьет этот союз, является панна Марина.
Мнишек хотел заставить Димитрия сперва выполнить свои посулы, а только потом отпустить к нему дочь. Однако он не учитывал главного: если раньше брак с Мариной был выгоден Димитрию, поскольку на этом основывалась поддержка поляков, то теперь, когда он воцарился в Москве, Марина была ему не нужна. Более того! Ближайшее окружение Димитрия в ножи встречало мысль о его будущей свадьбе с полькой, католичкой. Ей-богу, Димитрию гораздо охотнее простили бы даже брак с дочерью Бориса Годунова, Ксенией… тем паче, что эту удивительную красавицу он уже сделал своей наложницей.
Когда весть о том, что Ксения живет в государевых палатах, в Кремле, дошла до Мнишека, пан Юрий понял, что теперь золотая рыбка могла запросто сорваться с крючка!
Он немедленно отправил письмо московскому царю.
«Есть у вашей царской милости неприятели, – писал Мнишек после витиеватых и приличных приветствий, – которые распространяют о поведении вашем молву. Хотя у более рассудительных людей эти слухи не имеют места, но я, отдавши вашему величеству сердце и любя вас, как сына, дарованного мне от Бога, прошу ваше величество остерегаться всяких поводов, а так как девица Ксения, дочь Бориса, живет вблизи вас, то, по моему и благоразумных людей совету, постарайтесь ее устранить от себя и отослать подалее…»
Между строк Димитрий прочел недвусмысленную угрозу: или ты расстаешься с Ксенией, или никогда не увидишь Марину.
Но вопрос о выборе для Димитрия не стоял. Марина была венец его трудов, венец его стараний, его заслуженная награда, не менее желанная, чем московский престол. Он готов был на все, лишь бы удержаться на троне. Конечно, первым шагом к этому могло бы стать удаление всех поляков и разрыв с Мариной…
Но он и так нарушил уже слишком много обязательств, данных в свое время в Самборе и Кракове.
Отказаться от Марины? Это немыслимо.
Как ни мила была ему Ксения, Димитрий без раздумий отправил ее в монастырь. А в Краков отбыл дьяк Афанасий Власьев, которому было приказано обручиться с панной Мариной от имени русского царя. Это был старинный, свято соблюдавшийся обычай.
На обручении, проходившем в Кракове чрезвычайно пышно, в присутствии короля, кардиналов и сановников, Власьева спросили, не давал ли Димитрий обещаний другим женщинам. Посол ответил уклончиво:
– Коли и давал, мне про сие неведомо.
А когда вопросы сделались более настойчивы, вывернулся с неожиданной ловкостью:
– Ну сами посудите, вельможные господа: кабы обещался государь другой невесте, на что б ему гнать меня в вашу Польшу?!
Не зря ходили слухи, будто посланец русского царя не столь уж прост и весьма искушен в дипломатических увертках (он начинал службу еще при Грозном!), даром что рожа у Власьева при этих словах была совершенно дурацкая. А потом он начал падать крыжем[44] наземь всякий раз, когда упоминалось имя царя Димитрия, обертывал руку платком, прежде чем прикоснуться к руке Марины, объясняя, что недостоин касаться будущей государыни российской, и всячески остерегался, чтобы платье его не коснулось платья Марины (в самом деле, исключительно роскошного, из белой парчи, затканной жемчугами и сапфирами), сердито надувался оттого, что обрученная невеста его господина, уже почти царица, целовала руки польскому королю, как бы подчеркивая подчиненное, зависимое положение России от Польши, – словом, вел себя как истинный шут гороховый, смешивший окружающих своими глупыми выходками, и непонятно было, правду ли он сказал насчет верности Димитрия своим обетам или отвел всем глаза.
Однако лишь только до Мнишека дошел слух, что Ксения Годунова отправлена в монастырь, как он начал немедленно готовить дочь к выезду в Москву. И вот наконец поезд польской невесты тронулся в путь.
Свита самого пана воеводы, конная и пешая, состояла из 445 человек и 411 лошадей. В свите Марины было 251 человек и столько же лошадей. Почти все шляхтичи также имели своих слуг, иной раз их число доходило до полусотни. Патер Помасский, исповедник Марины, не пожелал расстаться со своей духовной дочерью; к нему присоединились семеро бернардинцев. Бернардинцы откровенно косились на иезуита Савицкого, который, единственный из «сынов Игнатия Лойолы», попал в свиту панны Мнишек.
Были здесь также в большом количестве торговцы: суконщики, ювелиры, искавшие случай и место для выгодного сбыта своего изысканного товара. Аптекарь из Кракова Станислав Колачкович вез разнообразные лекарства.
Станислав Мнишек, брат Марины, вез с собой 20 музыкантов и шута из Болоньи, Антонио Риати… Так что ни много ни мало, а около двух тысяч путников, полных надежд на удачу и наслаждения, хотя и не без опасений за будущее, двигались к цели – к Москве.
Путь был труден. В маленьких деревушках путешественники рассеивались на ночлег кто куда, по черным избам. Многие ставили палатки, потому что мест для такой толпы не хватало.
Но уже в Смоленске для Марины был воздвигнут, особый двор, а встречали ее несколько десятков тысяч человек. Здесь было все смоленское духовенство с
Ь иконами и хлебом-солью. На стенах обширной крепости Смоленской стояло до двух тысяч стрельцов.
В числе встречающих были князь Василий Рубец-Мосальский и Михаил Нагой. Против второго Марина ничего не имела против, ведь он был братом матери Димитрия, а стало быть, его дядею, а вот при виде Мосальского с трудом сдержала ненависть. Ведь именно этот человек в свое время привел к Димитрию на ложе Ксению Годунову – оставив ее в живых, вместо того чтобы убить вместе с матерью и братом! О чем думал Димитрий, присылая Мосальского встретить свою обрученную невесту? Что он хотел дать ей понять? На что намекнуть?
– О Бог мой, панна, моя дорогая панна, ради чего вы забиваете свою хорошенькую головку всякой ерундой? – всплеснула руками любимая фрейлина Барбара Казановская, когда после долгих расспросов госпожа наконец-то открыла ей причину своей печали. – Мужчины вообще ни о чем не думают, разве вы этого не знали?
Марина покачала головой. Димитрий думал о ней, это несомненно! Разве иначе прислал бы для своей невесты более полусотни белых лошадей с бархатными попонами и три кареты, обитые внутри соболями? При этом было множество других подарков.
Она впервые задумалась о том, что уже совсем скоро, недели через две, состоится их с Димитрием свадьба и их многолетне-однообразные отношения – пылкие с его стороны и прохладные с ее – должны будут совершенно измениться. Они станут супругами, возлягут на ложе, и Марина узнает, что такое мужская любовь…
Невеста въехала в Москву 3 мая 1606 года. Первой ее целью было посещение Вознесенского монастыря, где жила инокиня Марфа – бывшая царица Марья Нагая, мать царевича Димитрия.
Еретичку привезли с великой пышностью. Монахини, коим велено было стать двумя рядами вдоль ведущей к крыльцу дороги, глядели сурово и изредка неодобрительно бормотали, мол, ничего подобного в жизни не видели: ни благочестивая Ирина Федоровна, жена царя Федора Ивановича, ни Мария Григорьевна, супруга Бориса Годунова, не являлись в это святое место в сопровождении такой роскошной свиты, под гром музыки и восторженные крики. Одно слово – полячка безбожная прибыла!
И как нарочно, над монастырем вдруг закружилась туча сорок. Монахини крестились, отворачивались: издавна на Руси сорока – птица нечистая, ведьмовская. Полячка же улыбалась во весь свой тонкогубый рот, даже ручкой помахала птицам. Те покричали и улетели. Только тогда монахиням удалось вновь вздеть личины спокойствия и радушия.
Царица Марфа тоже изо всех сил старалась держаться если не доброжелательно, то хотя бы приветливо. Но когда вышла на крыльцо и увидела царскую невесту в этих ее непомерных юбках, с которыми та еле управлялась, напоминая корабельщика, который не может сладить в бурю с парусом… И что в ней нашел Димитрий?! Ведь посмотреть не на что, ни росту, ни стати. От горшка два вершка, в поясе тоньше, чем оса: ветер дунь – переломится. На узеньких плечиках полячки громоздился огромный, круглый, в гармошку собранный воротник, так что пышно причесанная голова, на которую лишь в самую последнюю минуту догадались накинуть флер (мыслимое ли это дело – вступать на святое подворье, в монастырские пределы простоволосою!), чудилось, лежала на этом воротнике, словно на блюде. Тут хочешь не хочешь, а вспомнишь отсеченную голову Иоанна Крестителя, которую несла на блюде Иродиада. Нет, сама эта Маринка-безбожница и есть Иродиада-плясавица. Своими глазами царица Марфа не видела, но долетали до нее слухи, будто Маринка – великая мастерица пляски, для нее нарочно музыканты и в покоях, и тронных залах играют, только пляшут не скоморохи, а сама невеста государева, да и царь Димитрий от нее не отстает.
А молоденькая девушка в черном платье и с большим белым воротником держалась очень уверенно перед этой преждевременно состарившейся, изможденной, печальной женщиной, черный плат которой был застегнут так накрепко, что врезался в щеки. Ведь это была матушка ее супруга, вдова царя Ивана Грозного. А Димитрий – его сын…
Тут Марина неприметно вздохнула. Увы, Димитрий, каким он был в Самборе и Кракове, и тот, с которым она увиделась в Москве, – это два разных человека. Прежним он становится, только когда говорит с ней о любви, но стоит навести разговор на интересы святейшего престола в России или выполнение щедрых предсвадебных обещаний относительно отхода западных княжеств к Речи Посполитой, как ясные глаза Димитрия темнеют и становятся столь же лживо-непроницаемыми, как у истинного иезуита!
Тут Марина спохватилась, что молчание ее пред лицом матери государя несколько затянулось, а реверанс оказался куда глубже, чем она намеревалась сделать, так что все это весьма походило на крайнее замешательство.
Вот еще! Никакое замешательство не может быть свойственно Марине Мнишек, русской государыне Марине!
Она дерзко вскинула голову, обвела взором скорбные лица монахинь, которым только благочестие не давало проявлять открыто ненависть к гостье, а потом широко улыбнулась инокине Марфе. И вновь склонилась пред ней в самом глубоком из всех реверансов, так что колено почти коснулось пола. Пусть теперь кто-нибудь скажет, что Марина проявила недостаточную почтительность к своей свекрови.
А впрочем, мать Димитрия еще не считает себя свекровью Марины. Для русских девушка – по-прежнему всего лишь невеста их государя. Обряд в Кракове, проведенный по законам католической религии, для них недействителен. Венчание по православному обряду еще впереди – именно поэтому Марине и предстоит унылое времяпрепровождение в этой обители!
Ну что ж, как говорят обожаемые отцом иезуиты, цель оправдывает средства!
И вот панна Марина Мнишек сделалась царицею Русского государства, а на другой день, 8 мая, венчалась с царем Димитрием – на сей раз по православному обряду.
Да, все происходило именно в таком порядке, и Марина, которую две боярыни под руки выводили из церкви, чтобы следовать в столовую избу, думала, что прежде никому еще, ни одной царице московской, не было оказано такой чести, как ей. Ни Софье Палеолог, жене Ивана III, ни Елене Глинской, ради которой великий князь Василий Иванович натворил столько безумств, ни Анастасии, любимейшей жене Ивана Грозного, ни Ирине Годуновой, которой муж ее, Федор Иванович, был необычайно предан, ни Марье Григорьевне Годуновой… Они все были мужние жены, царицы лишь постольку, что стали женами царей. Их не короновали. А Марина была венчана на царство даже прежде венчания с государем! Теперь она была как бы независима от брачного союза. В случае развода она осталась бы царицей, а если бы Димитрий умер, она могла бы царствовать без него. Она была миропомазана, она возложила на свои кружевные воротники бармы Мономаха, она прошла чрез врата, доступные только государям!
И вот сегодня она венчалась с царем по православному обряду.
Невеста нынче была одета по-русски. Все были потрясены роскошью русского царицына платья. Бархатное, вишневого цвета, с длинными рукавами, оно было столь густо усажено драгоценными каменьями, что местами трудно было различить цвет материи. На ногах Марины были сафьянные сапоги, унизанные жемчугом, с высокими каблуками; голова была убрана золотой с каменьями повязкой, переплетенной с волосами по польскому обычаю. Говорили, что повязка эта стоила семьдесят тысяч рублей, но Марина уже устала удивляться окружающей ее роскоши.
Ничего подобного, никогда, даже в самых смелых своих мечтаниях, даже при получении необыкновенно щедрых и богатых подарков Димитрия, она прежде не могла вообразить. До сих пор у нее начинала кружиться голова при воспоминании о въезде в Москву, обо всех этих сотнях встречавших ее бояр, князей, стольников, стряпчих, стрельцов, детях боярских[45], и все разряжены, кругом все сверкает, искрится на солнце… А люди, люди! Персы, грузины, турки в толпе… да есть ли здесь русские?! Даже одного арапа увидела Марина, однако отец пояснил, что это ее собственный арапчонок, дарованный ей совместно и отцом, и женихом. Карета Марины была запряжена двенадцатью белыми лошадьми в черных яблоках. Карета снаружи была алая с серебряными накладками, позолоченными колесами; внутри обита красным бархатом. Марина сидела на подушках, унизанных жемчугом, и все ее белое платье было усыпано жемчугом и алмазами…
Но варварская роскошь не радовала, а почти пугала. Марина вдруг впервые ощутила ту высоту, на которую вознесла ее судьба. С того мгновения, как невзрачный хлопец бросил ей под ноги свой кунтуш – и сердце! – жизнь ее стала одним непрерывным взлетом. Как же больно будет сорваться! Нет, борони Боже! Однако не шло из головы тягостное предзнаменование: когда отец, воевода сендомирский, въезжал в Кремль, белый конь, который вез его, вдруг пал…
Русские тоже злословили над дурной приметой. А поляки, те, кто были допущены к обряду венчания, втихомолку пересказывали другим странности, которые они видели. Много смеху вызвало то, что чашу, из которой пили новобрачные, потом бросили на пол, и тот, кто первый наступит на осколки, будет главенствовать в семье. Видимо, опасаясь непредвиденного, первым ступил на осколки патриарх, и шляхтичи снова начали тревожно шептаться о том, что, кажется, католическая вера не будет в чести при дворе.
Другие московские обычаи также раздражали гостей. При выходе из храма дьяки сыпали на павшую наземь толпу «золотой дождь» из испанских дублонов и серебряных монет московской чеканки. Даже бояре не брезговали подбирать золото. Но когда один такой дублон упал на шляпу Яна Осмольского, пажа панны Марины, тот пренебрежительно стряхнул ее. Русские так и ахнули от столь непочтительного отношения ляха к милостям государя!
Чудилось, воздух дрожал не только от приветственных криков, которыми встречал народ новобрачных, но и от беспрерывного столкновения (словно клинки скрещивались!) недоброжелательств русских и поляков.
Наконец новобрачных привели в столовую избу, посадили вдвоем и стали подавать им кушанья. Когда подали третье кушанье, к новобрачным поднесли жареную курицу; дружко, обернувши ее скатертью, провозгласил, что время вести молодых почивать.
Воевода сендомирский и тысяцкий (им был князь Василий Шуйский) проводили их до последней комнаты. При этом у царя из перстня выпал драгоценный алмаз, и его никак не могли отыскать.
Многими это было воспринято как самое зловещее предзнаменование…
Ни Марина, которая отыскала для себя в браке новые и неведомые радости (она поняла, что мужчины годятся не только для того, чтобы красивыми словами говорить о своей любви), ни сам Димитрий, упоенный наконец-то исполнившимися мечтаниями, даже не подозревали, что эти предзнаменования окажутся вещими.
* * *
Русское боярство втайне готовило заговор против Лжедмитрия. Главою его стал Василий Шуйский – он когда-то подтвердил смерть жившего в Угличе малолетнего Димитрия, который будто бы сам невзначай зарезался, а вовсе не был убит.
Когда все было готово к свержению Лжедмитрия, народ был поднят на бунт под тем предлогом, что поляки-де замыслили убийство царя…
Димитрий был слишком доверчив. Он не слушал предостережений своего соратника Петра Басманова и никогда не проверял действий Шуйского. Вот так и вышло, что охрана покоев Димитрия была сокращена до тридцати человек. Когда мятежники ворвались в Кремль, оказалось, лжецаря защитить некому, кроме нескольких человек немецких драбантов-наемников да бесстрашного Басманова. Петр был убит, драбанты полегли до единого, а потом настала очередь Димитрия. Схватив алебарду, Димитрий начал сражаться, в то же время отчаянно выкрикивая, в надежде, что услышит жена:
– Сердце мое, зрада[46]!
Однако что он мог один против толпы? Жестоко израненного, полуживого Димитрия вытащили на площадь, глумились над ним, называли самозванцем и расстригою, а он до последней минуты требовал привести из Вознесенского монастыря инокиню Марфу…
Этого Шуйский и его приспешники не могли допустить. Однажды бывшая царица Мария уже подтвердила права самозванца на престол, признала в нем своего сына. Если она сделает это снова… И дьяк Григорий Валуев застрелил Димитрия.
Теперь заговорщики могли вздохнуть с облегчением – и попытаться потушить пожар, зажженный их же усилиями.
Они старались успокоить мятежников, которые в это время громили дома поляков, беспощадно убивали их хозяев. Шуйский наконец-то спохватился, что грозный польский король может не простить смерти своих соотечественников и двинуться на Русь войной. Воевать Шуйский был совершенно не готов. Поэтому он озаботился судьбой еще не убитых поляков – и дал себе труд вспомнить о царице…
Что же происходило в это время с Мариной?
…Этот сон снился ей часто и всегда пугал до дрожи. Чудилось, Марина поднимается по крутой высокой лестнице, и чем выше поднимается, тем круче становится лестница. Вот она уже почти прямо стоит, к небесам вздымается… и вдруг Марина с ужасом обнаруживает, что лестница бумажная! Она складывается под ногами, как гармошка, и Марина летит, летит со страшной высоты…
Марина захлебнулась криком и проснулась. Сразу повернулась в ту сторону, где спал Димитрий. Скорее прижаться к нему, обрести покой в его объятиях!
Однако постель была пуста, Димитрия не было рядом. И Марина поняла, отчего проснулась: не прекращая, гудели колокола. Но, заглушая набатный звон, неслись со всех сторон крики, вопли ужаса, призывы о помощи.
И в ту же минуту до нее долетел голос Димитрия – словно бы откуда-то сверху, с небес грянуло предупреждение:
– Сердце мое, зрада!
– Димитрий! – отчаянно закричала Марина, заламывая руки, но никто ей не ответил.
Зрада! Димитрий сказал: зрада! Значит, это мятеж… Москали восстали.
Нет! Нет! Этого не может быть! Ведь только вчера они так чудесно веселились. И тем ужаснее оказалось пробуждение.
Кто-то начал стучать в дверь, крича:
– Государыня! Панна Марина! Милостивая моя госпожа! Отвори!
Марина открыла. Это были Янек Осмольский и Барбара Казановская.
– Где мой супруг? Где Димитрий? – первым делом спросила Марина.
– Не знаю, – ответил Барбара. – Басманов убит, вот все, что мне извест…
Она не договорила. Слова о гибели Басманова, которого Марина знала как ближайшего друга и наперсника мужа, сразили царицу. Это было все равно как услышать о гибели Димитрия!
У нее словно бы разум отшибло. Оттолкнув Барбару, Марина выбежала из опочивальни, проскочила сквозь толпу своих женщин – простоволосых, полуодетых, бестолково мечущихся из комнаты в комнату, – и вылетела в сени. И замерла, прильнув к стене: за поворотом гремела сталь о сталь, слышались страшные крики – там сражались. Там уж точно смерть!
Повернулась к другой лестнице, еще пустой, слетела по ней легче перышка.
Позади что-то кричал Осмольский, но Марина не обращала внимания.
Пусть кричат, пусть зовут. Где-то здесь двери в подвал. Там можно схорониться и отсидеться. Там, где они с Димитрием играли в прятки. Ее не найдут, ведь только Димитрий знает, где она спряталась. И когда все кончится, он придет за ней…
Кое-как открыла тяжелую дверь, проскользнула внутрь, но, сколько ни тащила дверь на себя, плотно закрыть ее сил не хватило.
Она какое-то время таилась в темноте подвала, но страх не уходил. В щель между неплотно прикрытой дверью и стеной врывались звуки разгоравшегося мятежа. Вскоре Марине почудилось, что со всех сторон на нее надвигаются люди и они что-то шепчут, шепчут…
Нет, здесь оставаться нельзя. Прежде чем Димитрий ее отыщет, она не один раз сойдет с ума от темноты, страха, неизвестности!
А там, наверху, ее не тронут. Кто посмеет поднять руку на царицу? Это она только в первую минуту растерялась от испуга, от криков, от исчезновения Димитрия. Надо вернуться, одеться и сказать этим безумным москалям…
Однако она мгновенно поняла, что ее никто не станет слушать.
Со всех сторон валили люди. Одетые в простую одежду, простолюдины и более богатые, наверное, дьяки. У всех были безумные лица, все что-то кричали. Марина вжалась в стену. На нее никто не обращал внимания, она тихонько, бочком-бочком продвигалась к лестнице. По ступенькам вверх-вниз сновали люди. Закрывая голову руками, бежал какой-то обезоруженный алебардщик из числа драбантов ее мужа, за ним гнались московиты, свистя и улюлюкая, как на псовой охоте. Мужики вошли в такой раж, что сшибли Марину со ступенек. Она упала, тотчас вскочила, чтобы не быть раздавленной их здоровенными ножищами.
– Где их поганая царица? – вдруг завопили за поворотом. – Подать сюда проклятую еретичку!
Марину точно кнутом ожгло.
Ее ищут! Ее сейчас найдут, схватят. А ведь она почти раздета. Ее распнут прямо здесь, на ступеньках, словно последнюю тварь, которая отдается за деньги, потому что бегает по дворцу полунагая.
Чувство собственного достоинства, прежде подавленное животным, нерассуждающим страхом, ожило в ней с такой внезапностью, что у Марины будто крылья выросли. Она побежала по лестнице, не обращая внимания на снующих туда-сюда людей, на кровь, обагрившую стены и ступени.
– Где царица? Подать сюда царицу! – неслось со всех сторон, но Марину словно накрыла шапка-невидимка. Никем не замеченная, никем не остановленная, она воротилась в свои покои – и лицом к лицу столкнулась с Барбарой Казановской, которая тут же схватилась за свою госпожу обеими руками и замерла, не в силах совладать с переполнявшими ее чувствами. Слезы так и хлынули из ее глаз, но стоило Марине приказать с привычной холодностью и непререкаемостью:
– Одеваться! – как Барбара мгновенно очнулась.
– Девки! Платье государыни! – рявкнула она.
Фрейлины бестолково суетились, совершенно потерявшись от царившего вокруг ужаса и исчезновения государыни. Казалось, даже ее возвращение не способно было привести их в чувство.
– Барбара, где Мустафа? – спохватилась Марина о своем арапчонке, подаренном ей отцом. Она выбралась из вороха юбок и поворотилась спиной к Барбаре, которая проворно начала шнуровать лиф ее платья.
– Не знаю, его никто сегодня не видел. Может быть, спрятался где-то?
– Уж не убили ли, борони Боже? – пробормотала Марина, морщась, когда фрейлина пани Хмелевская, чесавшая ей волосы, слишком сильно потянула щеткой. – Да не надо громоздить никаких кренделей, заплетите косу и сверните узлом, довольно будет на сегодня. Где же бедный Мустафа? Ведь эти москали почитают его за бесенка, как бы и в самом деле не убили! А где же Димитрий, где мой супруг? Нет, что нынче за день…
Она прижала пальчики к вискам, как вдруг отворилась дверь, и в комнату вбежал Ян Осмольский. Одним махом он задвинул засовчик и только тогда повернулся к государыне:
– Беда, моя ясная панна. Беда! Они сюда идут, тебя ищут, прячься! Беги через умывальную, спасайся!
В ту же минуту враз послышались удары в двери умывальной и в ту, через которую только что вбежал Янек.
– Бежать некуда… – пробормотала Марина, чувствуя, что ею опять овладевает ужас.
– Ну, может обойдется, – с трудом улыбнулся Ян, видя страх царицы и жалея ее. – Сюда они войдут только через мой труп!
Он обнажил саблю, отшвырнул ножны, чтобы не мешали, и стал напротив двери. В ту же минуту грянул залп со стороны коридора, и от двери полетели щепы. Пронзительно вскрикнула фрейлина Хмелевская и начала оседать на пол.
– Ванда! Боже мой, Ванда ранена! – взвизгнула Марина, увидев, что седые волосы окрасились кровью. – Одна из пуль попала в нее!
Кинулась к Хмелевской, подхватила, пытаясь удержать, но не смогла и вместе с подоспевшей Барбарой осторожно опустила тяжелую пани Ванду на пол. Рядом попадали девушки – никто из них не был ранен, однако они береглись от новых выстрелов, а иных просто не держали от страха ноги.
И тут вдруг Марина сообразила, что Ян Осмольский находился еще ближе к двери, чем Хмелевская. Не ранен ли он, не упал ли?
Оглянулась и вздохнула с облегчением. Янек так и стоял против двери.
И тут же вздох замер в груди Марины. Что это с Яном? Почему он так наклонился вперед? Почему опирается на свою саблю, вместо того чтобы держать ее наготове?
Иисусе… он тоже ранен! Пол вокруг него забрызган кровью! Да ведь Ян сейчас упадет!
В это мгновение раздались торжествующие крики. Дым от выстрелов рассеялся, и нападающие увидели, что дверь разломана, а из комнаты им никто не отвечает пальбой. Чьи-то руки просунулись в щели и отодвинули засов, вернее, просто сорвали его.
Дверь распахнулась. Словно во сне, Марина увидела, как Ян медленно вскинул саблю, покачнулся – и упал под градом обрушившихся на него ударов клинков, топоров, дубинок.
Он лежал на пути мятежников, и, чтобы вломиться в комнату, им и впрямь пришлось переступить через его труп. Его топтали, об него спотыкались, наконец отшвырнули на середину комнаты, к царской кровати.
Да кто он был для этих нападавших? Просто какой-то щеголеватый панок, который вздумал было показать геройство, но не успел поднять саблю, как оказался застрелен, а после изрублен в капусту.
Ян Осмольский больше жизни любил свою ясную панну. Вот и отдал ради нее жизнь!
Марина знала об этой безнадежной страсти, которую Янек не в силах был утаить. Но у нее даже не было времени поплакать о погибшем юноше, таком красивом, таком бесстрашном… таком любимом! Тайно любимом…
Звуки окружающего мира вернулись к ней вместе с грубым окликом:
– Эй вы, польские шлюхи! Где ваш царь, где ваша царица?
В то же мгновение какой-то тяжелый ворох обрушился на Марину, и все стемнело вокруг.
– Откуда мне знать, где царь! – услышала она прямо над собой голос Барбары и завозилась было в душной темноте, однако получила чувствительный тычок в бок и сообразила, что темный ворох – это юбки Барбары, которая прикрыла ими царицу, чтобы спрятать ее от толпы, так что надо сидеть и молчать!
Марина затаила дыхание.
– Не знаю я, где царь! – твердила Барбара. – А царицы здесь нет, она ушла к отцу, там ее и ищите.
– Найдем! – мрачно посулил мятежник, и вдруг захохотал: – Мужики, гляньте! Сколько девок, и все растелешились! Не нас ли ждете?
– Подите, подите прочь, – испуганно начала твердить Барбара, и Марина почувствовала, что ее укрытие как-то странно заколыхалось. – Не троньте меня, побойтесь Бога!
Юбки Барбары начали подниматься, ноги ее испуганно затопотали. Послышался ее истошный визг, и Марина змейкой скользнула в сторону, к кровати.
Она не надеялась, что этот отчаянный маневр удастся, но помогло распростертое на полу тело пани Ванды Хмелевской: под его прикрытием Марина скрылась между пологом и кроватью, забилась в щелку, словно мышка, не дыша, смотрела на то, что творилось вокруг.
Толпа мужиков набилась в комнату и приступила к ее девушкам. Мужики шли на них, растопырив руки, словно кур ловили. На каждую бросалось сразу несколько, валили на пол, двое или трое держали, один насиловал – торопливо, в несколько стремительных движений достигал своего удовольствия и быстро уступал место сотоварищу. В этом было даже не любост-растие, а желание непременно опоганить девушек, взять их любой ценой, пусть даже ценой их жизни: потому что некоторым приставили к горлу ножи и только так сумели подавить их сопротивление. Марина вдруг поняла: для этих простолюдинов насилие – не злодеяние, а что-то сродни грабежу, словно навалились на барский стол, украли с него жареное мясо или сладкое печиво, какого отродясь не пробовали… Так же и здесь.
Марина больше не могла видеть этого. Зажмурилась, скорчилась на полу, молясь лишь об одном: чтобы никому не пришло в голову заглянуть за кровать. Если ее найдут… Господи, не допусти!
Неведомо, сколько просидела она так, безостановочно принося всякие мыслимые и немыслимые обеты и одновременно проклиная, однако все же подняла голову.
Сначала показалось, что она находится на поле брани, где валяются искалеченные тела раненых и убитых. Но это были ее фрейлины, которыми наконец-то пресытились их мучители и оставили несчастных в покое. Ни одного московита не было больше в комнате, и женщины слегка приободрились. Кто был покрепче, вроде Барбары, сами поднялись на ноги и помогали подняться подругам. Глаза пани Хмелевской неподвижно смотрели в потолок, и Марина вдруг поняла, что она умерла.
Господи великий! Верная пани Ванда, которую Марина помнила около себя с самого детства, покинула свою госпожу! И Янек умер… и, наверное, еще многих, многих из тех, к кому была привязана сердцем, сегодня утратила Марина.
О судьбе мужа она боялась даже подумать.
– Где государыня? – вдруг воскликнула Барбара. – Матка Боска, где панна Марина?! Что с ней?
– Я здесь, – с трудом разомкнула запекшиеся губы Марина, выбираясь из своего убежища. – Со мной ничего, ничего…
Она не договорила и с криком ужаса отпрянула за спину Барбары: в дверях появилась фигура какого-то мужчины.
Напуганные до полусмерти девушки кинулись по углам. Марина с жалостью увидела, что они еле передвигают ноги.
– Где ваша госпожа? – встревоженно крикнул мужчина, и Марина узнала его: это был боярин Борис
Нащокин, знакомый ей со времени венчания на царство. – Где пани Марина?
Перед этим боярином Марина не могла обнаружить своего страха. Выступила вперед.
– Я здесь, сударь, – произнесла высокомерно. – Что ты желаешь мне сказать или передать? Или просто явился полюбоваться на то, что натворили твои псы?
– Это произошло против нашей воли, – угрюмо принялся оправдываться Нащокин. – Клянусь Господом Богом, что ничто подобное не повторится.
Сердце Марины забилось где-то в горле. Она заметила, что Нащокин ни разу не назвал ее царицей или государыней и ни разу не упомянул о Димитрии.
– Где государь? – спросила она, с трудом справившись с комком в горле. – Где мой супруг? Я приказываю проводить меня к нему!
Злоба исказила красивое лицо Нащокина:
– Твой муж, самозванец и расстрига, убит. И довольно вам, ляхам, приказывать нам, русским! Кончилось ваше время!
Марина качнулась, но Барбара подхватила ее под локоть и помогла устоять.
Нет, держаться! Не показывать москалям своей слабости, не унижаться перед ними!
О Матерь Божия, Димитрий убит… Она утратила его, ради которого перенесла столько, столько… ради кого явилась в эту варварскую Москву!
А ведь сегодня, именно сегодня народ московский должен был приносить присягу Марине как царице!
Вдруг раздались тяжелые шаги, и в комнату вошел князь Василий Шуйский.
Окинул взглядом разорение, царившее здесь… и Марине показалось, что князь с трудом сдержал злорадную улыбку.
– Ты уже слышала, что Отрепьев убит? – спросил спокойно. – Тебя будут охранять, потом отведут к отцу. Что бы ты хотела взять отсюда с собой? Назови только то, что принадлежало тебе. Все подарки, сделанные тебе самозванцем, награблены у московитов, поэтому их отберут у тебя.
Марина раздвинула губы в деланой улыбке. Лишилась мужа, лишилась царства, лишилась Янека… неужто Шуйский ждет, что Марина Мнишек, русская царица Марина, станет цепляться за тряпки?!
– Я хочу, чтобы мне вернули моего арапчонка, – холодно сказала она и отвернулась от Шуйского.
* * *
Еще когда тело Димитрия лежало на Красной площади и подвергалось глумлению черни, князь Василий Иванович Шуйский был призван на царство.
Поляков больше не убивали и не грабили. Юрий Мнишек скоро оправился после смерти зятя и рассудил, что, поскольку дочь его теперь свободна, почему бы ей все-таки не стать царицей, не сделаться женой овдовевшего к тому времени Шуйского? И короновать ее вновь не надо будет… Но у Шуйского были свои мечты. Марина его не интересовала.
А кто таков был Шуйский в ее глазах? Не более чем узурпатор, захвативший престол при живой царице! И он должен, должен быть свергнут, сброшен, низвержен. Русский трон принадлежит Марине Мнишек!
– Они думают, я потонула в перевороте? Канула в безвестность? – с трудом разомкнув пересохшие от ненависти и горя губы, произнесла Марина. – Нет! Этого они не дождутся. Я – русская царица! Я царица – и останусь ею до смерти!
Слышавшая это Барбара Казановская молчала/ Она знала: панна Марина не прощает ничего, никому и никогда. Она будет мстить за свое поругание, за свою исковерканную судьбу. Мстить – даже если окажется, что это будет стоить ей жизни.
Да что такое жизнь? Это малость. Богобоязненная, истовая католичка Марина Мнишек будет мстить, даже если ей придется заложить душу дьяволу!
Восемь лет Марина пыталась вернуть себе то, что, как она считала, принадлежит ей по праву. Она, видимо, и впрямь заложила душу дьяволу – иначе разве удалось бы ей продержаться так долго? Она вышла замуж за Гришку Отрепьева – того самого Юшку, который некогда заменил царевича Димитрия в Угличе и теперь вновь назвался его именем. Отрепьев распустил слухи, что Димитрий не убит, что он спасся после мятежа. Он собрал польское войско и двинулся на Москву. Марина была нужна ему как истинная царица. Он был нужен Марине, чтобы добиться престола. Им обоим было наплевать на ту страшную смуту, в которую они и Шуйский, обуреваемые жаждой власти, ввергли Россию. И эта смута поглотила их всех…
Погиб Лжедмитрий Второй, умер в польском плену Шуйский, а Марина все еще билась как рыба об лед в тщетной надежде победительницей войти в Москву. После смерти Отрепьева она стала женой атамана Ивана Заруцкого, который, точно также как и первый Лжедмитрий, сделался жертвой отчаянной, нерассуждающей, роковой страсти к этой женщине. Он отдал все силы, всю жизнь, чтобы снова возвести на престол Марину и ее сына Ивана (Янека, она называла его Янеком!), рожденного… от кого? От второго Лжедмитрия? От Заруцкого? Или еще от какого-то мужчины, которого опьянила и свела с ума Марина?
Все это не суть важно. Важно другое. Все их многолетние усилия оказались бессмысленны, и даже дьявол не помог… В июле 1614 года (в это время в России воцарился уже новый государь – Михаил Романов) в Москву ввезли плененных мятежников: Заруцкого и Марину. С ними были сын Марины и Барбара Казановская, которая не покинула свою госпожу до смерти.
Четырехлетний Янек был повешен. Заруцкого посадили на кол.
А Марина…
Участь ее покрыта туманом.
Смерти Марины не видел никто. Да, погасло это мимолетное сияние, но так и не известно наверняка, удавили ее в тюрьме либо она сама умерла – от тоски по своей воле. Еще говорят, что она обратилась в свою любимую птицу – сороку, да и улетела из Белокаменной неведомо куда.
Золушка ждет принца
Софья-ЕкатеринаII Алексеевна и ПетрIII
Золушка лежала в постели и нетерпеливо смотрела на дверь. Мерцала, оплывая, свеча в ночнике. Золушка ждала принца. Придет он? Или нет? Ох, хорошо, кабы не пришел… «Нет, нет, – тут же отреклась Золушка от собственного малодушия, – что я такое говорю? Пусть он придет. Пусть придет, и пусть все наконец случится. Ничего, я это вытерплю. Я уже столько терпела, что как-нибудь справлюсь и с этим. Не знаю как, но справлюсь. Я должна. Я должна! Только бы он пришел!»
Вспомнилась последняя ночь, которую принц провел в ее постели. У Золушки страшно болела голова – до такой степени, что пришлось раньше времени встать от ужина, извиниться, сославшись на нездоровье, и уйти в свои покои. Принц на это почти не обратил внимания: он был занят флиртом с герцогиней Курляндской. Оскорбленная тем, что это безразличие к ней мужа всеми замечено, что ее жалеют, Золушка упала на постель и расплакалась. Она была горда и не могла выносить чужой, обидной жалости, в которой – она это знала совершенно точно! – всегда было немало тайного злорадства.
Она плакала, пока не уснула. Но стоило ей успокоиться и забыться, как появился принц. Он немедленно разбудил жену, однако вовсе не потому, что решил справиться о ее самочувствии. На это ему было совершенно наплевать! Ему очень хотелось поговорить о герцогине Курляндской. Главным достоинством ее в глазах принца было то, что она была дочерью не русских родителей и говорила только по-немецки.
«Уродина! – мстительно подумала Золушка. – Глупая уродина!»
Правда, у герцогини были довольно красивые глаза и волосы яркого каштанового цвета, однако эти достоинства не затмевали, а, напротив, подчеркивали ее недостатки. Она была низкоросла и мало сказать что кривобока. Герцогиня Курляндская была горбата! Однако это отнюдь не охлаждало принца. Он вообще предпочитал уродливых женщин, подобно своему дальнему родственнику, шведскому королю, который, как рассказывали, не имел ни одной любовницы, которая не была бы либо горбата, либо крива, либо хрома.
Золушка терпела влюбленный лепет супруга сколько могла. Но когда он завел речь о том, что с такой женщиной, как горбатая герцогиня, он мог бы быть истинно счастлив, она едва не умерла от злости.
«Ты мог бы быть счастлив? – с ненавистью думала Золушка. – Как, скажи на милость, ты можешь быть счастлив с женщиной, если ты не в силах сделать счастливой ее? Что бы ты делал, оказавшись в одной постели с твоей ненаглядной уродиной? Тискал бы ее горб, только и всего? Да если бы она узнала о тебе то, что знаю я… Ты ведь не мужчина! Ты несчастный, глупый, злобный венценосный урод, а не мужчина!»
Разумеется, у нее хватило ума не выпалить это в лицо принцу. С тех пор как Золушка сделалась его женой, она много чему научилась, и прежде всего – вовремя промолчать. Поэтому она только зевнула нарочито и сделала вид, что засыпает.
Принц оскорбился. Эта невзрачная дурочка – он привык называть жену дурочкой, а красивой не считал ее никогда, ну разве что в юности по глупости, когда еще был ее женихом, – осмеливается отнестись пренебрежительно к его тайным, сокровенным признаниям?! Он злобно ткнул Золушку локтем в бок – несколько раз, да так сильно, что у нее дух занялся. Потом принц повернулся к ней спиной и, сердито посопев, заснул. А она давилась слезами всю ночь, стараясь не всхлипывать громко, – не потому, что опасалась разбудить мужа: когда он засыпал, его нельзя было разбудить даже звоном колоколов или стрельбой из пушек, а не только такой малостью, как женские слезы! – а потому, что могли услышать слуги и пожалеть Золушку. Или позлорадствовать ее горю…
И все-таки сейчас она ждала принца и хотела, чтобы он навестил ее. Потому что дела Золушки были плохи. Потому что она была в опасности. Потому что только эта ночь с нелюбимым, противным, можно сказать, ненавистным принцем могла спасти ее репутацию, а то и жизнь.
А принц все не шел.
Золушка нервно стиснула край простыни. Она была из тонко выделанного, шелковистого льна. Ей нравились такие простыни. И вдруг Золушка, по странной причуде памяти, вспомнила, какие ужасные простыни были на ее брачном ложе…
Боже ты мой, да ведь она уже семь лет замужем за принцем! И такое ощущение, что все эти семь лет прошли на этих толстых, жарких, колючих простынях. Они совершенно не подходили к той теплой летней ночи, наступившей вслед за днем ее свадьбы. Золушка вся извертелась на этих простынях в ожидании принца, с которым она нынче обвенчалась. Ей было неудобно, ей было страшно. А принц все не шел да не шел.
Золушка не знала, что ей делать, как вести себя в брачную ночь. Встать? Оставаться в постели? Ее никто не просветил на сей счет, даже матушка, которая казалась чем-то недовольной. Впрочем, она была недовольна всегда, если предпочтительное внимание оказывали Золушке, а не ей. А поскольку здесь, при петербургском императорском дворе, главной персоной была все-таки Золушка, а отнюдь не матушка (какое безобразие, вы только подумайте!!!), то матушка была недовольна постоянно. Вот и сейчас – простилась с Золушкой как с чужой, глубоким реверансом, – и ушла вместе с придворными дамами.
Вдруг раздался стук в дверь. Золушка испуганно приподнялась, попыталась изобразить счастливую улыбку, но это был не принц, а ее новая камер-фрейлина по фамилии Крузе. Она очень весело объявила, что принц скоро придет. Вот только дождется, когда ему подадут ужин.
Золушка почувствовала, что тоже очень хочет есть. За весь день она и крошки проглотить не могла, пила только воду – и от волнения, и потому, что неловко ощущала себя в страшно тяжелом платье из глазета, расшитого серебром. Платье стояло колом, мешало двигаться и немилосердно щипало кожу даже сквозь корсет. А как мучил Золушку надетый на нее венец! Голова болела так, что пришлось упросить императрицу позволить снять его. Конечно, ей было не до еды. Но почему никто не подумал подать ей поесть потом?
Она хотела попросить камер-фрейлину принести хоть что-нибудь, хоть куриную ножку или кусочек сыру, однако промолчала: ничего она не дождется от Крузе, та и шагу не сделает без позволения императрицы. А императрица уже спит. Все нормальные люди давно спят! Ведь у них же не брачная ночь. Счастливые…
За стенкой послышались шаги, и камер-фрейлина испуганно выскочила в другую дверь.
Вошел принц. Он снял шлафрок и остался в длинной ночной рубахе. Осторожно прилег рядом с Золушкой и чинно вытянул руки поверх атласного, подбитого пухом одеяла.
Невзначай коснулся ногой ее ноги и сердито сказал:
– Какие холодные у вас ступни, сударыня! Золушка торопливо поджала колени и спрятала под себя ладони, потому что у нее и руки заледенели от волнения.
Принц покосился на распущенные волосы Золушки, на ее грудь, которая быстро поднималась и опускалась, – и хмыкнул:
– Ах, кабы здесь вдруг оказался ваш сынок! Каково было бы ему увидеть нас вдвоем в постели?
Золушка повернулась к нему недоуменно: какой еще сынок, да нет у нее никакого сынка, у шестнадцатилетней-то девушки! И тотчас она жарко покраснела, поняв, кого имеет в виду принц. Сынком она шутливо называла камер-лакея принца, молодого красавца по имени Андрей Чернышев. А он называл ее матушкой, как и положено было по ее статусу. Принц всегда очень смеялся над этим. Он любил этого камер-лакея за его веселый нрав и удивительную красоту. Но с чего вдруг заговорил о нем сейчас? Разве это прилично? Между мужем и женой третий лишний, тем паче в первую брачную ночь…
Увидев, что Золушка смутилась, принц довольно захихикал. А потом вдруг широко зевнул и сказал:
– Ну, я спать теперь буду. Спите и вы!
Повернулся на другой бок и немедленно заснул, так и не коснувшись молодой жены. А Золушка не знала, смеяться ей или плакать.
Вот так брачная ночь!
Ей вспомнилось, как совсем недавно она и ее фрейлины спорили о различии полов. Самой Золушке было шестнадцать лет, фрейлины недалеко от нее ушли по возрасту и опыту, поэтому ничего толкового никто не выспорил. Золушка решила на другой день узнать у матери, в чем же это самое различие состоит. Вспыльчивая матушка немедленно изругала ее на чем свет стоит за этот вопрос, но под конец пробормотала что-то вроде: «Вот как повенчаетесь с принцем, так узнаете все у него!»
Ничего себе, узнала!
Золушка невесело усмехнулась. Похоже, она недалеко ушла в своем знании жизни от той смешной десятилетней девчонки, какой она впервые увидела принца. Это случилось… где же это случилось? Ну конечно, в Эйтинге, резиденции епископа Любекского, правителя Голштинии. Епископ привез из Киля своего питомца, герцога Карла-Петра-Ульриха, которому тогда было одиннадцать лет. Он показался ей каким-то тщедушным, а самое главное, пристрастным к спиртному. Впрочем, Золушка (кстати сказать, в те далекие деньки ее обычно называли Фике – уменьшительным именем от София-Фредерика-Августа) тогда мало обратила внимания на принца, ее гораздо больше привлекали сласти и фрукты, которые подали на десерт.
Конечно, она и представить себе не могла, что когда-нибудь станет его невестой, а потом и женой! Прежде всего потому, что твердо усвоила: она некрасива. Мать и отец, которые весьма заботились о ее добродетели, не уставали твердить ей это, поэтому Фике гораздо больше времени отдавала учебе, чем заботам о своей наружности. Сказать по правде, до тех пор, пока она не переехала в Петербург, город своего принца, она знать не знала о каких-то женских уловках вроде кокетства – слышала такое слово, ну и все, – и не подозревала, что способна нравиться красивым мужчинам.
А еще потому она не могла даже мечтать сделаться женой принца, что и в самом деле была Золушкой – единственной дочкой незначительного германского князька – Христиана-Августа Ангальт-Цербстского и его жены Иоганны-Елизаветы, урожденной Гол-штин-Готторнской. Золушка привыкла играть на улице с детьми горожан: сначала они с родителями жили в обыкновенном городском доме и только потом переехали в Штеттин, в некое подобие замка, лишенного даже намека на роскошь. Золушка рано поняла, что в ее отечестве, в Германии, титул ее отца ровно ничего не значит: таких мелких господ здесь было множество, вся страна была расчленена вдоль и поперек на игрушечные княжества, так что с крыльца одного замка можно было запросто увидеть башни другого. Отец вообще должен был сам зарабатывать свой хлеб и поступил служить в прусскую армию. Ее матушка всегда считала, что судьба ей недодала того, что она заслуживала, а потому тратила массу времени и измышляла множество интриг, чтобы убедить окружающих в собственной незаурядности.
А принц – о, принц! Он был не кто-нибудь, а внук великого русского царя Петра. Мать принца, Анна Петровна, была замужем за герцогом Карлом Голштинским.
Внук русского царя… это звучало ошеломляюще, загадочно. Впрочем… впрочем, Фике откуда-то знала, что и в ее происхождении есть нечто загадочное. Например, она отлично помнила, как ее возили в Брауншвейг и показали королю Фридриху-Вильгельму. Золушку-Фике ввели в комнату, где находился король; сделав ему реверанс, Золушка пошла прямо к матери и спросила:
– Почему у короля такой короткий камзол? Он ведь достаточно богат, чтобы иметь подлиннее!
Хоть король и смеялся над милой детской наивностью, но ему не понравились ни эти слова, ни сама маленькая девочка. А ведь он смотрел на нее очень внимательно. Потом, через много лет Фике поняла, почему. Ходили слухи, что настоящим отцом ее был вовсе не скромный Христиан-Август, а королевский сын, принц Фридрих, впоследствии известный как Фридрих Великий… Правда это или нет, знала одна только матушка Фике, однако Иоганна-Елизавета, как уже упомянуто, была великой интриганкой. Совершенно невозможно было понять, когда она врет, а когда говорит правду. «Нет, нет, что вы, я честная женщина, отец моей дочери – мой супруг, Христиан-Август! Но может быть, это Фридрих, а может, и кто-то другой…» Например, один из чиновников русского посольства в Париже, незаконный сын высокопоставленной особы, Иван Бецкой, с которым была коротко знакома искательница приключений Иоганна-Елизавета, некогда оказавшаяся во французской столице…
Золушка росла в германском захолустье, со всеми своими родственницами, этими унылыми, благовоспитанными кузинами и сумасшедшими тетушками, у которых всей радости в жизни были только их певчие птички, рассаженные по клеткам (как-то раз Золушка пожалела птиц и выпустила их на волю, так что тетушку едва удар не хватил!), с горожанками, которые с важным видом приходили в замок в гости, а матушка заставляла Фике в знак уважения целовать подолы их платьев… Однажды – она была еще совсем малышкой! – какой-то заезжий каноник, занимавшийся предсказаниями, изрек, что видит на ее ладони рисунок аж трех корон…
Может быть, это была шутка. Даже наверное шутка. Но – какова она была!
Шло время. Императрицей в России сделалась Елизавета Петровна, родная сестра матери принца, – стало быть, его тетка. У Елизаветы не было детей, да и замужем она не была. И она не нашла ничего лучшего, как сделать тщедушного Петра-Ульриха своим наследником!
Штеттин наполнился таинственными шепотками и намеками. Ведь матушка Золушки находилась в отличных отношениях с нынешней русской императрицей. Елизавета Петровна некогда, давным-давно, была невестой ее брата, герцога Карла-Августа Голштинского. Незадолго до свадьбы герцог внезапно умер, но трогательные воспоминания о нем Елизавета сохранила на всю жизнь. И когда Иоганна поздравила ее со вступлением на престол, императрица ответила ей весьма живо и нежно. Более того! Она попросила прислать портреты Иоганны и ее дочери!
Зачем?..
Эта весть произвела такое впечатление в Германии, что отцу Золушки Христиану-Августу было присвоено звание фельдмаршала. Как бы на всякий случай. Портреты, написанные придворным художником, отослали. А в ответ из России было прислано великолепное изображение императрицы, осыпанное еще более великолепными брильянтами. Штеттин и Берлин снова начали шушукаться, высказывая на сей счет самые смелые предположения.
И они оправдались! Елизавета написала своей несостоявшейся родственнице Иоганне Ангальт-Цербстской письмо с просьбой незамедлительно прибыть в Россию. И не одной – а с дочерью. То есть с Золушкой.
– Вы, ваше высочество, такого никогда не видели? – гордо спросил князь Нарышкин, камергер, сопровождающий из Риги в Петербург высоких гостей императрицы.
– Что? – давясь смехом, поглядела на него Фике. Она никак не могла надивиться на сани, в которых им предстояло ехать в русскую столицу. Это были самые удивительные сани на свете! Очень длинные, обитые красным сукном с серебряными галунами, они были устланы мехом, матрасами, перинами и шелковыми подушками, а сверху – еще и атласными одеялами. В этих санях, нарочно предназначенных для долгого зимнего пути, нужно было не сидеть, а лежать, и Фике не могла сообразить, как же в них забраться.
– Надо закинуть ногу! – ретиво пояснял Нарышкин, сопровождая свои слова усердными жестами. – Закидывайте же!
Фике помирала со смеху над его забавными телодвижениями и собственной неловкостью и долго еще хихикала украдкой, когда сани уже понеслись с невероятной скоростью.
– Не видели столько снегу? – говорил Нарышкин.
– Ах нет, – с жаром возразила Фике. – Видела, видела! Если бы вы только знали, какая с нами однажды приключилась ужасная история! Мы в декабре возвращались из Гамбурга на почтовых. В тот день вдруг повалил снег, и выпало его такое множество, что почтальон сбился с дороги. Пришлось ему выпрячь лошадей и поехать искать проводников в каком-нибудь ближнем селении. А мы остались в карете: мы с матушкой, моя воспитательница и горничная, да еще впустили туда двух наших лакеев, чтобы они не замерзли. Все это приключение началось около пяти часов вечера, а вернулся почтальон с проводниками только на рассвете. Они едва откопали нашу карету, она была почти погребена под снегом! Правда, матушка?
Фике повернулась к Иоганне-Елизавете, но та ее не слышала. С той минуты, как они с дочерью прибыли в Ригу и на каждом шагу им начали оказывать придворные почести, Иоганна была словно не в себе. У нее голова шла кругом! «Когда я иду обедать, раздаются звуки труб, барабанов, флейт. Я не могу освоиться с мыслью, что это делается для меня!» – упоенно размышляла она.
Но это делалось отнюдь не для нее. Это делалось для Золушки, ибо она ехала в Петербург, чтобы сделаться невестой принца.
Иоганна никак не могла поверить в то, что ее невзрачной дочке так повезло, и была намерена извлечь из случившегося как можно больше пользы для себя лично – и для Пруссии. Она хорошо помнила инструкции своего императора и намерена была как можно больше вызнать тайн русского двора. Поэтому, едва оказавшись в русской столице, она свела дружбу с французским посланником Шетарди и вместе с ним начала интриговать против влиятельного елизаветинского министра Алексея Бестужева, который был противником сближения России и Пруссии. На чувства и настроения дочери ей было совершенно наплевать. Фике станет женой наследника русского престола – разве это не предел мечтаний для Золушки? И не все ли равно, что собой представляет принц?
А в самом деле, что же он собой представлял, этот Карл-Петр-Ульрих?
После смерти матери его воспитывали нянюшки, а в семь лет их резко сменили учителя-мужчины. Про одного из них знающие люди говорили, что он годен воспитывать скорей лошадей, а не принцев. Да уж… Этот голштинец по фамилии Брюммер пользовался полной свободой и безнаказанностьюоразить невесту своей храбростью и принялся рассказывать о своих подвигах в войне с датчанами. Она спроси, зато своего питомца наказывал крайне строго. За малейшую провинность оставлял принца без обеда или ставил коленями на сухой горох. Он внушал такой ужас мальчику, что уже потом, после переезда в Петербург, принц боялся как огня его кулаков и, случалось, даже звал на помощь гренадеров, стоявших на часах, чтобы спасли его от сурового воспитателя.
Принц был одновременно наследником русского и шведского престолов, оттого его учили и русскому, и шведскому языкам. В результате он не знал ни одного, и даже его тетка, императрица Елизавета, которая отнюдь не отличалась переизбытком образования (например, она до конца своей жизни была убеждена, что до Англии вполне можно доехать посуху), ужаснулась, убедившись в круглом невежестве племянника. Она поручила его попечению профессора Штелина, однако даже этот знаток элоквенци[47], философии, логики, поэзии был не в силах изменить своего недалекого, ленивого, хитрого, грубого, трусливого питомца. Золушка была на редкость чистосердечна, и жених удивлял ее своей бессмысленной лживостью и хвастливостью. Однажды он захотел поразить невесту своей храбростью и принялся рассказывать о своих подвигах в войне с датчанами. Она спросила, когда же это было.
– За три или четыре года до смерти моего отца, – брякнул принц.
– Значит, вам тогда не было еще и семи лет, – сказала наивная Золушка, которая хорошо умела считать.
Принц рассердился и надулся.
Тогда ли поняла Золушка, насколько мелок и ничтожен ее жених? Или это произошло в другой раз? Поводов было множество. Например, Петр совершенно не стеснялся обсуждать с ней, как ей повезло, что выбор Елизаветы Петровны пал именно на нее. Ведь невестой русского принца могла стать саксонская принцесса или французская! Золушка должна очень высоко ценить благорасположение императрицы и принца!
Золушка ценила. А кроме того, она понимала, что на любовь принца ей рассчитывать нечего. Он просто не способен любить. Он был по сути ребенок, который обожал болтать о своих игрушках да солдатиках. Они с невестой никогда не говорили на языке любви! И если императрице, – которая, как успела понять проницательная Золушка, была весьма взбалмошна и непоследовательна, – все же взбредет в голову поискать для племянника другую невесту, на заступничество принца надеяться нечего. Он помашет ей вслед ручкой, пожелает приятного возвращения в Штеттин и обратит свою непостоянную неблагосклонность к другой искательнице счастья.
Но Золушка не хотела возвращаться в свое игрушечное княжество, к своему погасшему камину и к своей остывшей золе. Она хотела остаться в России!
Ей все нравилось здесь. И снег, подобного которому, конечно, не было в Пруссии. Там он выпал один раз – и нет его, растаял, а здесь лежал месяцами, белый и пышный, холодный и красивый. Ей нравились сани, в которых надо было ездить по этому снегу. И Золушка уже научилась забираться в них совершенно правильно. Ей нравился странный, призрачный город Петербург и роскошный, огромный и причудливый Зимний дворец – пусть даже пронизываемый сквозняками, неудобный и несуразный. Ей нравилась роскошная мебель – пусть даже ее приходилось перевозить с собой, когда двор отправлялся в Царское Село или перебирался в Летний дворец (в ту пору еще не было порядка меблировать всякое здание отдельно, обстановка была одна на все случаи). Ей нравилось, что в России всего слишком много – лесов, снега, необозримого пространства, комнат во дворце, народу на улицах, блюд на столе, платьев у императрицы… а у Елизаветы, надо сказать, было пятнадцать тысяч платьев и пять тысяч пар башмаков!
И сама императрица, непредсказуемая, суеверная, необязательная, очаровательная, приветливая, истеричная, смешливая, крикливая, властная, чувственная, набожная, обидчивая, улыбчивая, добрая, злая, щедрая, скупая, тоже нравилась Золушке. Ей очень хотелось, чтобы государыня полюбила ее. Ей очень хотелось, чтобы ее полюбила Россия!
Для этого, поняла Золушка, она должна была и сама сделаться русской. Если ее жениху угодно щеголять прусскими манерами – это его дело, он принц, ему прощается все. Но она, малышка Фике, Золушка из Штеттина, должна стать русской совершенно – от публичных речей до сокровенных молитв.
«Я хочу быть русской, чтобы русские меня любили!»
И она начала учиться. Так, как будто от результатов этой учебы зависела ее жизнь!
Однако в усердии своем она сама же подвергала эту жизнь опасности.
Чтобы повторить урок, заданный ее учителем Ададуровым, Золушка однажды проснулась среди ночи и принялась зубрить, бродя по комнате. Чтобы не клонило в сон, она нарочно ступала по промерзшим половицам босыми ногами. Наутро ее било в ознобе так, что она не могла ехать на обед к принцу, и даже ее м тушка, которая отнюдь не была склонна щадить дочь, забеспокоилась. Ночная зубрежка вылилась в жесточайшее воспаление легких, от которого Золушку лечили, шестнадцать раз отворяя ей кровь, под личным присмотром императрицы, пока не вышел, наконец, злостный нарыв.
А между тем история о маленькой чужеземке, которая чуть ли не до смерти заболела, когда учила русский язык и русские молитвы, занимала и двор, и петербургское общество. Кроме того, стало известно, что мать ее, считая дочь уже почти умирающей, хотела позвать к ней пастора, но девушка отказалась и попросила православного священника. Это всех умилило. Золушку жалели… а по-русски жалеть – значит, любить. Даже принц начал проявлять больше внимания к своей невесте. Правда, он навещал ее лишь для того, чтобы поведать о своей любви к фрейлине Лопухиной, матушку которой императрица недавно приказала сослать в Сибирь. Фике делала вид, что сочувствует девушке, но сочувствовала она себе. Может быть, именно тогда ей стало ясно, что между нею и женихом никогда не будет не то что любви, но даже и тени взаимопонимания? Он был глуп, он был безнадежно глуп и бессердечен… А впрочем, Золушка не стыдилась признаться себе, что русская корона привлекала ее больше, чем его особа.
При дворе за время ее болезни многое изменилось. Иоганна-Елизавета меньше беспокоилась за здоровье дочери, чем за успех своих интриг. И заигралась в эти опасные игры до того, что потеряла осторожность. Ее связь с маркизом де Шетарди, ее откровенное шпионство и непочтительность к императрице лично и к России вообще вызвали яростный гнев Елизаветы Петровны. Государыне было чем возмущаться! За ней не хотели признавать императорского титула, самые интимные подробности ее жизни, ее характера становились достоянием враждебных дворов, причем снабжались весьма оскорбительными комментариями. И в этих оскорблениях, в попытке расшатать благополучие ее внутренней и внешней политики, убрав министра Алексея Бестужева, были повинны не только француз Шетарди, но и почти родственница!
Грязные сплетники, вот кто они такие были. Грязные сплетники!
Шетарди был немедленно выслан. Иоганну не выгнали только потому, что приближалась свадьба принца и Золушки. Однако и речи о прежнем доверии между ней и императрицей не могло быть. Ей было предписано покинуть Петербург тотчас после венчания.
Теперь уже всякое лыко было ей в строку, тем паче что Иоганна не знала удержу своему эгоизму. Ей вдруг приспичило заиметь для себя отрез красивой материи, который был у дочери. Золушка лежала больная, в жару – мать не постеснялась выпросить у нее ткань. Эта маленькая история стала известна и вызвала новый прилив неприязни к Иоганне – и сочувствия к Фике. Государыня прислала ей взамен два роскошных отреза и приказала поспешить с крещением и миропомазанием. На место крестной матери будущей великой княгини претендовали самые блестящие дамы двора, но государыня сама пригласила для этого игуменью Новодевичьего монастыря, восьмидесятилетнюю подвижницу. Большей чести трудно было вообразить. Но чтобы еще сильнее доказать свое расположение, императрица заказала к этому событию для Золушки платье, во всем подобное своему: малиновое с серебром.
Но в этот день Золушка блеснула не только роскошью наряда. Она произнесла свой символ веры как нельзя лучше, громко и внятно, на русском языке почти без акцента и совершенно без ошибок. Неудивительно, что половина присутствующих в церкви облилась слезами умиления и восторга – и в их числе была сама Елизавета Петровна. Невольно вспоминали, как косноязычно произносил символ веры, как нелепо вел себя в день крещения принц! Он как был чужаком, так и остался. А эта тоненькая девочка стала своя!
Это событие было торжественно отпраздновано балами, маскарадами, фейерверками, иллюминациями, операми и комедиями в течение по крайней мере восьми дней. А потом императрица, великий князь и великая княгиня (да-да, теперь Золушка звалась великой княгиней и ее императорским высочеством!) отправились в Киев – в Печерскую лавру – каждый со своей свитой. И Золушку уже никто не называл смешным детским именем Фике. Отныне она звалась Екатериной Алексеевной.
И она с полным на то правом окунулась в вихрь придворных удовольствий.
Раньше, в детстве, уроки танцев казались Золушке довольно бессмысленным занятием. Теперь она стала без ума от танцев! С семи и до девяти утра она брала уроки у знаменитого учителя Ландэ, потом занималась с ним от четырех до семи вечера, ну а затем одевалась к маскараду – и снова танцевала чуть не до утра.
До этих забав была большая охотница и сама императрица. Елизавета Петровна постановила, чтобы на этих маскарадах, где присутствовали только приглашенные ею, все мужчины одевались женщинами, а все женщины – мужчинами. Зрелище по большей части было довольно убогое, хорошо в мужском платье выглядела лишь сама императрица. Она была высокого роста и хоть полновата, но чудесно сложена. Ноги у нее были очень красивые, и обтягивающие чулки подчеркивали их совершенство. Как-то раз Золушка не удержалась и сказала императрице: счастье-де, что она не мужчина, иначе вскружила бы головы очень многим женщинам и разбила бы несчетное количество сердец. Кстати сказать, и в женском платье императрица была очаровательна, а танцевала равно восхитительно что в том, что в другом наряде. Однако только на нее, переодетую, и можно было смотреть с удовольствием. Мужчины страшно злились, путаясь в юбках, а женщины рисковали быть опрокинутыми этими чудовищными колоссами, которые беспрестанно всех задевали. Однажды камер-юнкер Сивере опрокинул своими фижмами графиню Гендрикову и Золушку. Они даже встать сами не смогли, пришлось их поднимать!
Золушка тогда хохотала как сумасшедшая. Поначалу все это было ей необычайно интересно. Ведь ей было только пятнадцать лет, этой умненькой девочке! И она словно бы заново открывала для себя мир беззаботной юности, неумеренного веселья – и большого богатства.
А вот кстати о богатстве. Ей было выделено «на булавки» тридцать тысяч рублей в год, и это казалось баснословно огромными деньгами. Ведь Германия отпустила ее бесприданницей! Но очень скоро выяснилось, что сумма не так уж велика. С самого начала Золушка получила всего 15 тысяч, а на остальные деньги наделала долгов, которые очень рассердили императрицу. Но как было не наделать их?! Золушка старалась быть приятной всем, кто ее окружал, беспрестанно делала им подарки и подарочки, начиная с собственной матери и кончая фрейлинами. Она была расточительна прежде всего, потому, что презирала богатство. Деньги были для нее не цель, а всего лишь средство доставить себе и другим удовольствие. Кроме того, невозможно было жить при этом роскошном дворе – и не быть расточительной. Дамы меняли туалеты по крайней мере дважды в день. Такой порядок был установлен самой же Елизаветой Петровной, которая очень любила наряжаться и никогда не надевала дважды одного и того же платья. И Золушка была вынуждена следовать этим правилам.
Увы, при легкомысленном дворе нельзя не быть легкомысленной. Читать книги было некогда. Да и с кем их обсуждать? Не с великим же князем, который, по наблюдениям Золушки, все больше и больше впадал в детство… Он перенес оспу и стал совсем уж невзрачен на вид. Болезнь еще больше замедлила его умственное развитие, он сделался вовсе неукротим в своих прихотях, в грубости и жестокости. Он или обучал шагистике и ружейным приемам своих слуг, или играл в куклы: у него была целая кукольная армия, разодетая, само собой, на голштинский манер, и принц упивался полной покорностью этих солдат.
Мать все больше отдалялась от Золушки. Иоганна-Елизавета не могла перестать интриговать, она дружила только с людьми, которые не стеснялись втихомолку хаять императрицу, а Золушке это не нравилось… Мать обижалась и в свою очередь унижала дочь как только могла. Вздумалось той погулять со своими служанками среди ночи по саду (без единого мужчины) – это вылилось в грандиозный скандал, мать обвинила ее чуть ли не в распутстве. Золушка спросила матушку о различии полов – снова крик, снова упреки… Кажется, Иоганна испытывала истинное удовольствие, доводя дочь до слез.
Да, конечно, она продолжала оставаться самой настоящей Золушкой, которую мог уязвить всякий, кому не лень. На нее ябедничали фрейлины императрицы, ее бранила мать, ею пренебрегал жених… И уж конечно – ее донимала императрица, которая порою вмешивалась во всякую ерунду. Когда Золушку причесывали к венцу, Елизавета Петровна разбранила ее и куафёра[48] за то, что он вздумал завить ей челку. Полдня длилась маленькая война из-за этой несчастной челки, потом императрица устала и сдалась.
«Все изменится, как только я стану женой принца, – твердила себе Золушка. – Все изменится!»
Она ожидала волшебной перемены не только в окружающем, таком холодном, недобром, переполненном интригами мире. Она ожидала волшебной перемены в себе и в своих отношениях с принцем. Она перестанет быть Золушкой!
А ничто не изменилось…
После брачной ночи она осталась такой же, какой была. И все последующие ночи ничего не изменили, потому что хотя муж и спал отныне в ее постели, однако ночи их были безгрешны.
Золушка была слишком невинна и неопытна, она и знать не знала, что принц страдает небольшим телесным недостатком, который можно было бы устранить минутной операцией. И после этого ему ничто не мешало бы исполнять свои супружеские обязанности.
Надо сказать, что Золушка давно, еще до свадьбы, усвоила, что белый свет вообще и придворный круг в частности переполнены молодыми людьми, которые в десятки и сотни раз красивее, любезнее, веселее ее мужа. И все-таки поначалу она искренне старалась быть ему преданной, хорошей женой. Но вскоре поняла: если она полюбит этого человека, своего мужа, если станет домогаться его благосклонности, привяжется к нему, то сделается несчастнейшим созданием на земле. «По характеру, каков у тебя, ты пожелаешь взаимности; но этот человек на тебя почти не смотрит, он говорит только о куклах и обращает больше внимания на всякую другую женщину, чем на тебя; ты слишком горда, чтобы поднимать шум из-за этого, следовательно, обуздывай себя, пожалуйста, насчет нежностей к этому господину; думай о самой себе, сударыня!»
А потом Золушку вдруг посетила новая мысль: «Я никогда не буду любить того, кто не платит мне взаимностью!»
Сначала она испугалась этой мысли, ибо та означала, что Золушке, быть может, придется остаться одинокой. А потом она испугалась потому, что, возможно, Золушка готова любить иного человека – не мужа…
И Золушка порадовалась, что пока такого человека рядом с ней нет. Уж конечно, это не красавец Андрей Чернышев. Он был мил, но прост; к тому же его выгнали из дворца лишь за то, что Золушка как-то разговорилась с ним, стоя в дверях своей спальни. Только потом ей стало известно, что камергер граф Девиер, который увидел это и доложил императрице, давно имел тайный приказ следить за Чернышевым. Андрей пострадал из-за своей порядочности, которую не перенес принц. Любитель рискованных, глупых забав, он давно заметил потаенную нежность Андрея к Золушке и всячески подзуживал своего камердинера, чуть ли не вынуждал его подстеречь Золушку – и… На этом месте принц нервно потирал руки, глаза его начинали похотливо блестеть. Сначала Андрей просто отмалчивался, поскольку знал, что господин у него с придурью. А потом не выдержал и сказал, что Золушке суждено стать великой княгиней, а вовсе не госпожой Чернышевой.
Как ни был туп принц, он понял, что его очень изысканно оскорбили, и решил отомстить своему камердинеру, который оказался человеком чести, – в отличие от господина. Именно по его наущению следили за Чернышевым. Принц надеялся таким образом скомпрометировать жену и избавиться от нее.
Ну что ж, императрица убрала Чернышева и трех его братьев из дворца, угодив этим племяннику, однако опала никак не коснулась великой княгини, ибо ее невиновность и невинность были слишком очевидны.
За это принц еще пуще невзлюбил жену. И с еще большей горячностью отдался своим увлечениям. Конечно, ни фрейлин Лопухину и Карр, ни Шафирову и Воронцову, ни певичку-немку, ни госпожу Седрапарре, ни герцогиню Курляндскую, ни какую-либо другую женщину он не мог сделать своими любовницами в полном смысле этого слова. По той же причине, по какой не мог сделать женой Золушку! Однако он укладывал этих женщин в свою постель и развлекался с ними, как порочный подросток. А потом донимал рассказами об этих пошлых развлечениях Золушку.
Да и все его пристрастия были пошлы до крайности! Комната, где принц играл со своими куклами и устроил театр марионеток, имела общую дверь с одной из гостиных императрицы. Дверь всегда держали запертой. И вот как-то раз Петр услыхал за стенкой голоса. Он расковырял щелочку и увидел, что на половине императрицы накрыт стол, за которым сидят она сама и Разумовскиий, одетые более чем свободно – так сказать, по-утреннему.
Оказалось, что в этой комнате императрица завтракала со своим фаворитом и давним возлюбленным.
Петр пришел в необузданный восторг оттого, что увидел свою суровую тетушку в такой вольной обстановке, и позвал Золушку посмотреть на это. Однако та нашла, что подглядывать непорядочно, и резко отказалась. Принц привычно обозвал жену дурой и привел более покладистых и покорных фрейлин – посмеяться над императрицей.
Правда, смеялся он недолго, потому что эти подглядывания стали известны Елизавете. Грянула буря, какой принц не ожидал. Среди прочего Елизавета сказала ему, что у государя Петра I тоже был неблагодарный наследник. Для понимающих людей это было равносильно предупреждению, что голова принца может оказаться на плахе…
Он испугался и решил поближе присмотреться к своей жене, которая представлялась ему теперь отнюдь не дурой, а, напротив, очень хитрой. Ведь она умудрилась не вызвать неудовольствия императрицы!
Увы, прилив благосклонности со стороны мужа принес Золушке очень мало радости. Всю зиму он спал в ее постели, но при этом только и говорил о строительстве рядом со своей дачей дома, во всем напоминающего монастырь капуцинов. Чтобы не разгневать мужа, Золушка принуждена была раз сто перерисовывать план будущего здания.
Но это еще мелочь. С собой в супружескую спальню принц приводил свору своих собак. Собаки чесались, выли, распространяли жуткий запах… ночи Золушки стали мучением! А днем принц избивал собак, они снова выли, визжали, лаяли… Стоило своре умолкнуть, как Петр хватался за свою любимую скрипку, на которой он играл с искусностью дрессированного медведя. Главное, чтобы звуки получались как можно громче! Принц вообще очень любил шум. Особенно когда находился в подпитии, а в таком состоянии он находился почти постоянно. И с каждым днем напивался все сильнее. Во хмелю все его безумие только обострялось. Как-то раз он отдал приказ повесить крысу, которая съела игрушечного часового (он был вылеплен из теста), стоявшего перед картонной крепостью. Для вынесения приговора и приведения его в исполнение был собран настоящий военный совет из любимчиков принца – таких же уродов и недоумков, которые отлично потакали прихотям своего господина.
Иногда принц забавлялся, обучая Золушку ружейным приемам, пока она не научилась это делать с точностью самого опытного гренадера; иногда ставил ее на караул с мушкетом на плече у двери между их комнатами, и Золушка стояла так целыми часами…
Золушка порою удивлялась, как это она сама не сошла с ума при таком муже. Теперь она стала даже жалеть об отъезде матери. Пусть Иоганна-Елизавета была невыносима, но все же это был единственный родной, понимающий человек.
Одно утешение нашла для себя Золушка, одних верных и неизменных друзей – это книги. Начав с любовных романов, она чередовала их с более серьезным чтением. То это были произведения Вольтера, то исторические сочинения, а то, что под руку попадалось. Теперь в кармане платья у нее всегда была книга, и чуть что, Золушка самозабвенно утыкалась в нее, словно переносясь при этом в другой, куда более совершенный мир.
Одна беда, что от книги приходилось все-таки отрываться, чтобы лишний раз изумиться окружающему, посмеяться над ним, а то и ужаснуться…
Так, в один прекрасный день все дамы при дворе впали в страшное уныние. Произошло это потому, что императрице пришла фантазия заставить всех обрить головы. Спорить никто не осмеливался: однажды, не выдержав, что жена обер-егермейстера Нарышкина вызывает всеобщее восхищение своей красотой, Елизавета подозвала ее к себе на балу и при всех срезала у нее с головы прелестное украшение из лент, которое Нарышкина надела в тот день. Потом как-то раз она сама лично остригла завитые челки у двух своих фрейлин под тем предлогом, что не любит такие прически…
Итак, придворные дамы не осмелились перечить государыне и поспешили проститься с волосами. Взамен им были присланы от императрицы черные, плохо расчесанные парики, которые они принуждены были носить, пока не отрастут волосы.
Причиной сего самодурства послужило то, что императрица не могла смыть пудры со своих волос. А ей очень хотелось явиться на бал не с белыми, а с черными кудрями. И она решила, что лучше напрочь остричь их, только бы не появиться напудренной. Ну а придворные дамы обязаны были во всем следовать примеру своей повелительницы.
Избегла этого безумного примера только Золушка. Повезло ей потому, что она лишь недавно очень тяжело переболела, причем за время болезни потеряла все волосы, а сейчас они только-только начали отрастать.
В другой раз решено было, чтобы во время поездки на богомолье в Тихвин все дамы носили одинаковые собольи шапки – какого-то ужасного мещанского, провинциального фасона. Золушка умудрилась потерять свою шапку и натерпелась страху, что это обнаружится. К счастью, один из придворных, Чоглоков, где-то достал для нее похожую шапку, и императрица ничего не заметила. А Чоглоков был страшно горд и счастлив, что помог великой княгине, в которую был откровенно влюблен.
Да что невзрачный, глуповатый, унылый и женатый Чоглоков! В нее, в эту Золушку, влюблялись теперь очень многие. Она как-то необычайно похорошела, но дело было даже не в красоте, а в той живости, которую источало каждое ее движение. Она знала, что нравится, и нисколько не стыдилась этого. В этом и была ее сила. Никакого жеманства – всегда сияние глаз, улыбка, оживленные разговоры, готовность танцевать до упаду… Это было редкостью при дворе, где красавицы всегда стремились набить себе цену.
Императрица, озабоченная тем, что принц и его жена не очень ладят между собой, отправила их в гости к своей фрейлине Марье Чоглоковой и ее мужу – в Раев. Туда вдруг зачастил брат императорского фаворита (да и сам бывший фаворитом!) Кирилл Разумовский. Он приезжал почти каждый день, и его пылкие взоры были слишком красноречивы. Однако Золушка держалась безупречно, да и граф Кирилл был человеком скромным. А может быть, он просто побоялся гнева императрицы?..
Захар Чернышев, один из братьев, удаленных еще четыре года назад и возвращенный теперь ко двору, держался куда смелее. В то время в моде было обмениваться записочками – невинного и в то же время фривольного содержания. Записочки красавца Захара становились все менее невинными и все более фривольными. А потом они сделались и откровенно страстными!
Золушка понимала, что отчасти она сама виновата в таких нескромностях своего поклонника. Дело было не только в ее природной живости и очаровании. Помимо воли она вся источала жажду любви – а это мужчины безошибочно чувствовали. Золушка в глубине души ощущала, что она не просто живет – она каждый день надеется, что некое событие переменит однообразное течение ее жизни, она ждет чего-то…
Чего-то или кого-то?..
В это время в ее кругу появились два новых лица. Это были камергер Сергей Салтыков, сын одной из любимейших фрейлин императрицы, недавно женившийся, и его друг Лев Нарышкин. Нарышкин был одной из самых странных личностей, какие только приходилось встречать Золушке, и никто так не смешил ее, как он. «Это прирожденный арлекин, – размышляла Золушка, – и если бы он не был знатного рода, то мог бы зарабатывать своим комическим талантом». Он был очень неглуп, обо всем наслышан и являлся замечательным собеседником. Но лучше всего он умел заговаривать зубы Чоглокову, который пытался надзирать за великой княгиней, а в это время Салтыков обращался с пламенными признаниями к Золушке.
Так вот какова была причина его частых посещений! Любовь!
Золушка едва не лишилась чувств, когда услышала это признание. Ведь Салтыков был прекрасен, как день, а как он был красноречив, какую восхитительную картину будущего счастья он рисовал! Счастья, которое настанет, как только Золушка ответит на его страсть…
– А ваша жена, на которой вы женились по страсти два года назад и которая любит вас до безумия, – что вы на это скажете? – спросила Золушка – не потому, что была очень уж благонравна или благоразумна, а потому, что пыталась найти ту соломинку, за которую можно было ухватиться – чтобы не ринуться с головой в омут страсти. Ох, как ее тянуло броситься туда…
– Не все то золото, что блестит, – печально сказал Сергей. – Ах, кабы вы знали, как дорого я расплачиваюсь за миг ослепления!
Золушка слушала и думала, что, конечно, он самый пленительный кавалер на свете. Никто не мог с ним сравниться при дворе! У него не было недостатка ни в уме, ни в искусстве обольщения. Ему было 26 лет, он знал большой свет, а еще лучше знал женщин и великолепно умел с ними обращаться. Именно эта вкрадчивая опытность и делала его неотразимым в глазах бедной Золушки, которой до смерти надоел собственный инфантильный, грубый супруг. Этот самый супруг не умел быть любезным даже с теми, в кого был влюблен, а влюблен он был постоянно и ухаживал за всеми женщинами подряд, и только та, что звалась его женой, была исключена из круга его внимания. А тут Золушка вдруг встретилась с самым пламенным, самым нежным обожанием, о каком она могла только мечтать!
Она не спала ночь, а на другой день, на охоте, улучив минуту, когда все были заняты погоней за зайцем, Сергей Салтыков начал делать уже самые смелые признания. И не только признания… За несколько минут уединения Золушка успела узнать, к примеру, о поцелуях гораздо больше, чем за всю свою предыдущую жизнь.
– Ради Бога, уезжайте! – наконец закричала она, сама не зная, чего больше боится: то ли настойчивости Сергея, то ли собственной слабости, то ли внезапного появления кого-нибудь из охотников.
– Не уеду, пока не скажете, что я вам по сердцу, – страстно шептал Сергей, держа ее за руку.
– Да, да, только убирайтесь! – почти в отчаянии выкрикнула Золушка.
– Да?! – радостно повторил он. – Я это запомню! – И пришпорил коня.
– Нет, нет! – спохватилась Золушка, но он повторил:
– Да, да!
Золушка после его отъезда вздохнула свободнее. Все ее мысли о благоразумии, померкшие было в свете прекрасных глаз Сергея Салтыкова, вновь вернулись к ней. Она стала убеждать себя, что надо быть сдержанней и холодней. И даже подумала: какое счастье, что Салтыков сегодня же уедет! Вдали от него ей будет легче не думать о нескольких минутах сладостного смятения, когда она чуть не забыла обо всем на свете…
Однако каковы же были ее изумление и ужас, когда, вернувшись в дом, Золушка узнала, что Салтыков не уехал. И его вины в том не было: дом Чоглоковых стоял на острове, а нынче вечером разыгрался такой шторм, что волны доходили до самого крыльца. В этом Золушка увидела перст судьбы.
Ночью она лежала без сна в своей комнате, пристально глядя на дверь, словно ждала, что та вдруг откроется… Еще бы: ведь она сама нарочно оставила заветную дверь не замкнутой на ключ!
И она дождалась. Дверь открылась, на пороге возникла высокая мужская фигура. И в ту ночь Золушка, наконец, узнала все, что она так давно хотела узнать о различии полов…
Для нее настало безумное, странное время. Оно было наполнено и невероятным счастьем – и большой опасностью. Легко было обмануть тщеславных Чоглоковых, заморочить им головы насчет того, почему это блестящий камергер Салтыков зачастил в их унылую глушь. Однако многие отличались куда большей проницательностью. Что-то начал подозревать даже недалекий принц. Дошли пересуды и до ушей императрицы. Она вызвала принца и Золушку к себе в Петергоф (в компании с Чоглоковыми) и принялась присматриваться к молодой женщине. Видно было, что Елизавета только и ждет, на чем сорвать накопившееся раздражение.
Золушка, впрочем, сама дала повод к себе придраться. Начались с малого: с манеры ездить верхом. Неприличным считалось ездить по-мужски, свесив ноги по обе стороны седла, а английскую манеру сидеть боком Золушка терпеть не могла. С помощью бе-рейтеров, которые тоже не любили английские дамские седла и находили эту посадку опасной, ненадежной, она придумала седло, на котором можно было сидеть и так, и этак. И улучив момент, когда ее никто не видел, перекидывала ногу через седло и скакала как хотела. Верховую езду она любила до самозабвения и считалась одной из лучших наездниц.
Каким-то образом невинные хитрости Золушки и ее проделки с седлами стали известны императрице. Она застигла Золушку сидящей верхом по-мужски – вдобавок в мужском костюме, – и гневно выговорила:
– Вы ведете себя неприлично! Посмотрите на свой костюм! А как вы сидите! Если у вас не хватает ума уразуметь, что это бесстыдно, постарайтесь хотя бы понять: такая манера сидеть в седле не дает вам иметь детей!
Наверное, Золушка не удержалась бы от улыбки, услышав этот упрек от императрицы, которая и сама была одета в свой излюбленный мужской костюм. Однако она, несмотря на молодость, умела слышать недосказанное. Вдобавок, рыльце у нее было в пушку, и она страшно разволновалась, поняв, что ее тайна известна императрице.
Помощь пришла с самой неожиданной стороны – от Чоглоковой. Та испугалась упреков в том, что проворонила адюльтер, и от страха перешла в наступление против своей повелительницы.
– Ах, ваше величество! – выпалила она предерзко. – В том, о чем вы говорите, нет никакой вины ее высочества. Дети не могут явиться на свет без причины. И хотя их высочества живут в браке семь лет, а, все-таки причины между ними ни одного разу не было.
Императрица вытаращила глаза. Она не тотчас поняла, что имеет в виду Чоглокова. Но стоило ей понять…
По счастью, озабоченная тем, как вылечить племянника, Елизавета Петровна забыла о непристойном поведении Золушки. И гроза над ее головой на сей раз не грянула.
Порешили, что какое-то время Салтыков постарается не появляться у великой княгини, однако влюбленные недолго смогли вытерпеть в разлуке. Они продолжали встречаться. И однажды случилось то, что и должно было случиться: Золушка почувствовала, что беременна.
Вот это был удар! Известие не оставляло места для радости, ибо теперь только дурак не догадался бы, что Золушка изменяет мужу! Императрица, которая сначала озаботилась было состоянием здоровья племянника, уже забыла об этом, и принц по-прежнему ни на что не был годен в постели.
И тогда Салтыков понял, что он должен спасти возлюбленную. Спасти не только ее честь, но, может быть, и жизнь. А заодно и свою жизнь…
Спасение состояло лишь в одном: с Золушкой должен был провести ночь ее собственный муж. Как ни тошно было представлять это, как ни болело сердце у Сергея при мысли, что он отдаст возлюбленную другому (пусть даже на время, но отдаст!), однако другого пути не было.
И Салтыков взялся за дело. Помогал ему в этом Лев Нарышкин – не менее, а может быть, и более красноречивый, чем добрая сотня профессоров элоквенции.
Пора дать стране наследника – так начали обработку великого князя приятели. Давно пора подумать о судьбе династии, твердили они. Однако инфантильный принц слушал вполуха. Он не был готов стать отцом. И терпеть ради такой ерунды острую боль не собирался. Тогда приятели сменили тактику. Они начали рассказывать о том, чего принц был всю жизнь лишен. О том, что он мог получить – но так и не получил от нежной, застенчивой Лопухиной, грубоватой Воронцовой, смешливой немецкой певички, кривобокой герцогини Курляндской с ее прекрасными, в самом деле прекрасными глазами… Друзья с таким знанием дела, так ярко живописали плотские наслаждения, что великий князь, смертельно боявшийся боли и крови, решился рискнуть.
Теперь предстояло ковать железо, пока оно горячо. В тот же вечер Салтыков устроил пирушку, пригласив на нее самых близких друзей великого князя, и, когда винные пары сделали свое дело и принцу стало море по колено, в комнате появился приглашенный хирург.
Операция была сделана в одно мгновение, принц даже испугаться не успел. Его все поздравляли. Он был страшно признателен своим друзьям, особенно Салтыкову, и горел желанием немедленно испытать свои новые способности. Друзья, помирая со смеху, уговаривали его повременить, пока заживет порез. Однако принц в состоянии подпития совершенно терял разум. Его и прежде-то пьяного одолевало вожделение, а уж теперь он был не в силах с ним справиться. Ему нужна была сейчас женщина. Все равно какая. Первая попавшаяся девка!
Ничего другого и не ожидали от него Салтыков и Нарышкин. Они не сомневались, что ситуация сложится именно так. И в оба уха шепнули принцу, что нынче пачкаться со случайными девками вряд ли стоит. Тем более что у принца есть жена…
Почему-то упоминание о жене его воодушевило. Настолько, что он ринулся в ее опочивальню просто-таки сломя голову. Насилу Салтыков и Нарышкин удержали его – выпить на посошок. В бокал была влита щедрая порция снотворного.
О, эти два приятеля были истинными подмастерьями лукавого! А впрочем, их вела святая цель – защита чести женщины, которую Салтыков любил, а Нарышкин обожал. Ради нее приятели были готовы на все!
Между тем Золушка еще накануне была подготовлена письмом Салтыкова к мысли, что нынче муж может появиться у нее. Именно поэтому она рано отпустила своих девушек, легла и стала ждать, глядя, как мерцает, оплывая, свеча в ночнике.
Придет принц? Или нет?
Ох, хорошо, кабы не пришел…
«Нет, нет, – тут же отреклась Золушка от собственного малодушия, – что я такое говорю? Пусть он придет. Пусть придет, и пусть всё наконец случится. Ничего, я это вытерплю. Я уже столько терпела, что как-нибудь справлюсь и с этим. Не знаю как, но справлюсь. Я должна. Я должна! Только бы он пришел!»
Он должен был прийти, потому что дела Золушки были плохи. Потому что она была в опасности. Потому что только эта ночь с нелюбимым, противным, можно сказать, ненавистным принцем спасет ее репутацию, а то и жизнь.
В коридоре послышались торопливые, но неверные шаги. Дверь распахнулась – ввалился принц. Золушка приподнялась, простыня соскользнула с ее обнаженной груди. И тут вожделение принца достигло предела. Он свалился на постель и стиснул жену в объятиях…
* * *
Все сошло благополучно. Одурманенный вином принц мало что помнил: он не испытал особого наслаждения, но и боль его не мучила. Он был чрезвычайно доволен собой и видом простыней, испачканных кровью. На нем вечно все заживало, как на собаке, скоро он и думать забыл об операции и чрезвычайно гордился тем, что сделался, наконец, мужчиной и может обладать своими любовницами так, как давно хотел. Про себя он решил, что не будет обходить вниманием и жену…
Между тем Елизавета Петровна подозревала смутную подоплеку этой столь внезапно разразившейся «брачной ночи». Высказать свои мысли вслух она не могла – была слишком умна для этого. Однако втихомолку бесилась, вспоминая, как некогда, несколько лет назад, очаровательный Сергей Салтыков сделал вид, что не заметил влечения, которое она к нему питала. А Золушке вот посчастливилось!..
О, конечно, императрица давно уже утешилась в объятиях других мужчин, вот взять хотя бы красавчика Никиту Бекетова, а все же ревность нет-нет да и щипала за сердце. Немножко успокоилась Елизавета, лишь когда у Золушки во время переезда из Петербурга в Москву (ехали на большой скорости) случился выкидыш. «Ну уж в следующий-то раз она, конечно, забеременеет от собственного мужа!» – решила императрица и принялась с нетерпением ждать этого события. Однако ожидание затянулось…
Императрица с помощью самых близких своих дам принялась наводить справки и выяснила, что ни у одной из любовниц принца не было детей от него. Не исключено, что он вообще не способен стать отцом.
Вот это был удар… Судьба династии оказалась под угрозой. Императрица какое-то время не могла прийти в себя от ужаса. Ведь именно ради династии она пригрела под своим крылышком, а потом и объявила своим наследником этого голштинского племянничка, ради династии терпела его глупость, грубость, неблагодарность. И получить взамен такой афронт, си-речь такую плюху…
Если бы не способной иметь детей оказалась Золушка, Елизавета выкинула бы ее из России в два счета. Пусть возвращается в свое затрапезное германское княжество! Но Золушка недавно была беременна. И забеременеет снова – с ее-то железным здоровьем и сияющей молодостью. Забеременеет – было бы от кого!
И тогда Елизавета показала себя подлинной государыней-императрицей. Когда-то ее отец женился на бывшей полонянке, солдатской девке, и возвел ее на престол. Елизавета была истинной дочерью своего отца.
«Черт с ней, пусть беременеет от кого хочет, – подумала она обреченно. – Салтыков – это еще не самое большое зло. Он хотя бы хорошего рода. Ребенок будет с благородной кровью. Главное, чтобы эта глупенькая Золушка нормально родила!»
Теперь предстояло донести «высочайшее повеление» до Золушки, которая очень боялась попасть снова в неприятность и на какое-то время даже перестала встречаться со своим возлюбленным. Салтыков от обиды начал вовсю ухаживать за молоденькими фрейлинами. И между влюбленными пробежала очень большая черная кошка.
На помощь императрице пришла верная Марья Чоглокова. Она явилась к Золушке как-то под вечерок и, кося глазами от неловкости и важности своей миссии, завела разговор о том, что бывают случаи, когда государственные соображения должны взять верх над всеми другими, даже над законным желанием супруги остаться верной мужу, если он не в состоянии обеспечить спокойствие империи в вопросе о престолонаследии.
В это же самое время подобный разговор вел с Сергеем Салтыковым канцлер Бестужев. Таким образом Золушка получила санкцию на измену принцу.
Ну что еще можно сказать… Она снова перенесла выкидыш и только на третий раз смогла выносить ребенка. Родов ждала с нетерпением. И мечтала: ну вот теперь-то она, наконец, перестанет быть Золушкой!
Все произошло 20 сентября 1754 года. Рожала она тяжело. Настолько тяжело, что ребенок родился мертвым…
Все рушилось!
И все рухнуло бы, если бы не Елизавета.
Императрица находилась тут же, в Летнем дворце, недалеко от покоев молодой родильницы. Без преувеличения можно сказать, стерегла каждый ее вздох. И страшное известие она получила первая. Итак, ее планы дать стране родовитого цесаревича рухнули… Однако Елизавета была истинной дочерью Петра. Она отнюдь не стала предаваться горю. Мгновенно приняла новое решение о спасении империи. Отряд доверенных гвардейцев отправился в чухонскую деревню Котлы неподалеку от Ораниенбаума. В эту ночь там родился мальчик, и это стало известно императрице. Новорожденный был отнят от матери, отвезен в Петербург и передан из рук в руки Елизавете. А всех крестьян деревни Котлы и даже священника местной церкви в ту же ночь под усиленным конвоем сослали в Камчатку, их избы снесли и запахали само место, где стояли эти самые Котлы.
Пока все это происходило, было приказано палить из пушек Петропавловской крепости и сообщать, что у великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны родился сын.
На молодую мать больше никто не обращал внимания. Шесть дней после родов она пролежала почти без всякого ухода, а потом ей передали от Елизаветы подарок: ларчик, в котором лежало бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые она постыдилась бы подарить и своей камер-фрейлине. Ну что же: это значило, что, с точки зрения Елизаветы Петровны, большего она и не заслужила…
А еще это значило, что она продолжала оставаться Золушкой!
«Да кончится ли это когда-нибудь? – думала она, лежа на своей одинокой постели, всеми забытая, заброшенная, а слезы тихонько стекали по ее щекам и мочили комковатую, неудобную подушку. – Кончится ли?!»
* * *
Это кончилось спустя почти восемь лет, когда 6 июля 1762 года принц по тайному приказу жены был убит, а она взошла на трон.
Больше ее никто и никогда не называл Золушкой. Отныне имя ее было – императрица Екатерина II.
Великая Екатерина.
Развратница. И заговорщица в придачу!
Вильгельмина-Наталъя Алексеевна и Павел I
– Не скупись, красавица! Позолоти ручку! А я тебе такого жениха нагадаю!
– Вилли! – послышался голос сестры Амалии. – Вилли, она обращается к тебе, эта ужасная богэмьен[49]!
Голосок Амалии дрожал. В самом деле, какой ужас, какой кошмар, какой позор! Из всех трех принцесс, дочерей ландграфа Людвига Гессен-Дармштадтского, цыганка заговорила именно с Вильгельминой! Этого надо было ожидать!
Конечно, этого надо было ожидать. Ведь карета остановилась (форейторы искали чеку, выскочившую из колеса) неподалеку от цыган, сидевших вокруг своего костра. И нет ничего удивительно, что самая проворная из цыганок бросилась к богатой карете, предлагая дамам погадать. Занавески были отодвинуты по случаю сильной жары, и цыганка, само собой разумеется, обратилась к Вильгельмине, сидевшей у самого окна. Амалию и Луизу, трусливо забившихся в глубь кареты, она даже не видела. Потому и разговаривала только с Вильгельминой, которая осмелилась высунуть из окна руку и протянуть ее цыганке. И что она услышала!..
– Будешь, будешь королевой. Нет, императрицей! Будешь императрицей, вот помяни мое слово! Тебя полюбит несравненный красавец, и ты полюбишь его, и у вас родится сын… Но бойся ревнивой королевы, бойся злой королевы, бойся старой королевы! – выкрикивала цыганка, сверкая черными очами. – Ты уедешь в далекую страну, в далекую зимнюю страну!
– А ну, пошла прочь! – раздался крик с козел, и Вильгельмина увидела, как длинный кучерской кнут опоясал тщедушное тело цыганки – слишком худенькое для пышного вороха ее разноцветных юбок. Принцесса едва успела отдернуть руку – кони резво взяли с места, и цыганка мгновенно пропала из виду.
Вильгельмина откинулась на спинку сиденья и обнаружила, что сестры придвинулись к ней, силясь не пропустить ни единого слова из цыганкиных пророчеств. А когда Вильгельмина обернулась, и Луиза, и Амелия живо убрались на противоположный конец сиденья и сделали самые скучающие лица. Однако ядовитая зависть, которой были с малолетства переполнены все три принцессы Гессен-Дармштадтские, не позволила им сохранить спокойствие.
– Смотри-ка! С ума сойти! – тоненьким злым голоском пропела Луиза. – Она станет королевой! Нет, императрицей! Ее полюбит красавец! Какая чепуха! Зачем красавцам эта унылая уродина?
Вильгельмина только скривила презрительно губы. Вовсе она не уродина, и уж тем паче – не унылая. Она не визжит от восторга, когда выпадает возможность поездить верхом, или когда приходит приглашение на бал, или когда отец устраивает катания на лодках, – да, это истинная правда. Не визжит! Но не потому, что ей не нравится ездить верхом или танцевать. Ее бесит кудахтанье сестер, она не может видеть, как они всплескивают руками и закатывают от восторга свои блеклые глазки. Она не хочет уподобляться им. Она хочет быть другой!
И разве это плохо? Окажись она такой же трусихой, как Амалия и Луиза, к ней не подошла бы цыганка и не напророчила бы чудес, из-за которых сестрички просто изнемогают от зависти!
Честное слово, они вот-вот расплачутся!
– Не горюйте, барышни, – усмехнулась Вильгельмина. – Как только я стану императрицей, я приглашу вас обеих погостить и немедленно найду вам самых красивых и богатых женихов из своих владений.
Малышка Амалия, куда более добродушная, чем старшая сестра, радостно закатила свои небольшие светло-голубые глазки. Зато вредная Луиза сразу приняла высокомерный вид.
– Ох, какая добренькая! – противно засюсюкала она. – Да ты сначала стань этой самой императрицей! Веришь в какую-то глупую болтовню и нас с толку сбиваешь!
– Почему же это глупая болтовня? – вступилась Амалия. – Разве ты не знаешь, что цыганское гаданье всегда сбывается?
– Сбывается, если за него заплачено! – засмеялась Луиза. – А разве Вилли позолотила этой богэмьен ее ручку, как та просила? Нет! Значит, и гаданье не сбудется!
А между тем…
Они въехали в ворота замка и сразу поняли: дома что-то произошло. Матушка, Генриетта-Каролина, урожденная принцесса Цвейбрюкенская, мерила быстрыми шагами террасу. Это матушка-то, проповедница сдержанности и образец безупречных манер! ? Уж не случилось ли что-то ужасное? Уж не хватил ли удар батюшку?
– Девочки, скорей! Скорей! – замахала руками Генриетта-Каролина, когда дочки одна за другой выскочили из кареты и бросились к крыльцу. – Немедленно умываться, переодеться, причесаться. Даю вам полчаса времени. У нас гость! У нас такой гость!..
– Ну, матушка, не его же величество дядюшка Фридрих II прибыл с неожиданным визитом! – насмешливо протянула Вильгельмина. Она могла себе позволить быть чуточку – о, самую чуточку! – фамильярной при упоминании прусского короля: ведь его племянник и наследник Фридрих-Вильгельм был женат на их старшей сестре Фредерике.
– Нет, это не король. Но это… это что-то невероятное! Такой визит! – Матушка не могла больше хранить тайну. Обхватила всех трех дочек за плечи, притянула к себе: – Прибыл барон Ассенбург!
Сестры разочарованно переглянулись. Имя им ничего не говорило.
– Ну и кто же это? – осведомилась Луиза.
– Это русский посланник при германском дворе. Его направила к нам сама императрица Екатерина! Она велела… она велела барону повнимательнее присмотреться к вам, мои дорогие девочки!
– Зачем? – выдохнули «дорогие девочки» взволнованным хором.
– Затем, что… – начала Генриетта-Каролина, заикаясь от волнения. – Затем, что императрица Екатерина ищет невесту для своего сына! Сначала господин Ассенбург побывал у принцессы Луизы Саксен-Готской, но она отказалась перейти в православие, а это непременное условие императрицы. Потом барон Ассенбург побывал у Софьи-Доротеи Вюртембергской, однако же она еще сущий ребенок, ей всего лишь двенадцать. А императрице нужна взрослая, разумная девушка. Поэтому посланник ее величества Екатерины прибыл к нам. Он знал, что у нас три дочери на выданье. Я думаю, что одна из вас непременно, непременно подойдет для русского принца!
И тут Генриетта-Каролина остолбенела. Вместо того чтобы начать возмущаться, что их очередь настала лишь после знакомства Ассенбурга с другими претендентками, вместо того, чтобы начать яростно спорить, кто из трех красоток Гессен-Дармштадтских наиболее подойдет на роль невесты для русского принца, сестры молча переглянулись, а потом Амалия и Луиза вдруг побледнели и уставились на Вильгельмину с таким выражением, словно увидели призрак.
– Значит, эта богэмьен все-таки не наврала! – пробормотала Амалия. Луиза обиженно надула губы, а Вилли… Вилли, любимица матери, скромно, таинственно улыбнулась…
* * *
И все пошло как по маслу! Именно средняя дочь ландграфов Гессен-Дармштадтских Вильгельмина приглянулась посланнику русской императрицы. Именно о ней барон Ассенбург отправил Екатерине такое донесение: «Мать отличает ее. Она из всего молодого Дармштадтского семейства имеет наиболее грации и благородства в манерах и в характере, точно так же, как она имеет всего более находчивого ума. Наставники хвалят способности ее ума и обходительность нрава; она хотя холодна, но одинакова со всеми, и ни один из ее поступков не опровергнул еще моего мнения, что сердце ее чисто, сдержанно и добродетельно, но ее поработило честолюбие…»
Ах, Боже мой, господин Ассенбург оказался проницательней любой богэмьен, хоть и не смотрел на ладошку Вильгельмины! Он с первого взгляда различил главную черту хорошенькой принцессы. Но для будущей императрицы честолюбие – это совсем не такое уж плохое качество. Главное, как говорят полководцы, воля к победе. А все остальное приложится.
Екатерина Алексеевна осталась довольна донесением своего эмиссара. В этой девочке из захолустного германского герцогства она видела словно бы свое отражение. Именно такой была некогда она сама, Софья-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, – в чем-то неловкая, в чем-то смешная, ужасно испуганная, но безмерно честолюбивая. И когда императрица Елизавета Петровна пожелала сделать малышку Фике женой своего племянника Петра Федоровича, наследника русского престола, та поняла, что сбываются ее самые смелые мечты. Так пусть же сбудутся мечты и этой захолустной принцессы, пусть она навеки сохранит ту же признательность к русской императрице, какую Софья-Фредерика хранила к своей благодетельнице Елизавете Петровне, – несмотря на то, что их отношения вовсе не были безоблачны и благостны…
Конечно, императрица должна была посмотреть на Вильгельмину. Но письмом от 23 апреля 1773 года в гости в Россию она пригласила ландграфиню со всеми тремя незамужними дочками и тремя сыновьями – все-таки выбор должен был сделать сам Павел. Вдруг ему понравится не Вильгельмина, а другая сестрица? Чем черт не шутит!
Прекрасно зная, сколь скудна жизнь владельцев небольших германских княжеств, Екатерина приняла все издержки по путешествию на счет русской казны и послала Генриетте-Каролине 80 тысяч гульденов. Великая императрица, которая властно руководила огромной страной, ничего не могла пустить на самотек. Ритуал встречи гостей был продуман до мельчайших подробностей. Гессен-Дармштадтскому семейству предстояло самостоятельно прибыть в Любек, а уж там их ожидала, под командованием кавалера Крузе, флотилия из трех судов: «Св. Марк», «Сокол» и «Быстрый». Прием в Любеке и сопровождение ландграфини с семейством до Ревеля были возложены на генерал-майора Ребиндера, а сопровождение от Ревеля до Царского Села – на камергера барона Черкасова.
Генерал-майору и барону были даны Екатериной особые инструкции. В «секретнейших» пунктах инструкции Ребиндеру императрица выражала желание, чтобы он во время пребывания в Любеке и морского переезда подметил особенности характеров и душевных свойств молодых принцесс. Ландграфине он должен был дать понять, что от нее ожидается: во-первых, отсутствие лицемерия и ровное, ласковое обращение со всеми теми, с кем ей придется встречаться при дворе Екатерины; во-вторых, доверие к императрице; в-третьих, уважение к цесаревичу и ко всей нации.
К инструкции барону Черкасову приложена была бумага под заглавием: «Наставления императрицы Екатерины II, данные княгиням Российским». Они были составлены самой императрицей и представляли собой краткие правила для руководства той принцессе, которая будет «иметь счастье сделаться невесткой Екатерины и супругой Павла Петровича».
Ландграфиня зачитала «краткие правила» всем своим дочкам вслух.
– «Среди развлечений и забав принцесса, сделавшись женой Павла Петровича, всегда должна помнить то положение, которое занимает. А потому держать себя с достоинством и не допускать короткого обхождения, которое может вызвать недостаток почтительности», – начала она, слегка запинаясь от почтительности к той, чьей волею были начертаны сии строки, как вдруг ее перебила Вильгельмина:
– Неужели императрица думает, что вы, матушка, и наш батюшка не научили нас правилам приличия?
– Тише, дитя мое, – кротко ответила ландграфиня. – Конечно, ее величество так не думает. Слушай дальше. «Что касается тех денежных средств, которые будут отпускаться на ее расходы, то ими она должна пользоваться благоразумно, чтобы никогда не делать долгов».
– Кстати, матушка, а вы не знаете, сколько мне будет положено «на булавки»? – небрежно перебила Вильгельмина.
– Откуда же мне знать? – изумилась Генриетта-Каролина. – Об этом еще и речи не было! Ведь ты еще не только не жена, но даже не нареченная невеста принца Павла.
Луиза и Амалия, которые слушали «правила» с самым смиренным видом, сложив ручки на коленях и поджав губки, быстро переглянулись. Ай да Вилли! Не рано ли она начала показывать свой противный характер?
Погрозив пальчиком строптивой дочери, Генриетта-Каролина вновь поднесла к глазам бумагу, исписанную каллиграфическим почерком секретаря императрицы:
– «Сделавшись женой Павла Петровича, принцесса не должна слушать никаких наветов злобных людей против императрицы или цесаревича, а в деле политики не поддаваться внушениям иностранных министров».
Вильгельмина фыркнула:
– Мне кажется, государыня слишком много на себя берет! Неужели она будет шпионить за мной, своей невесткой, чтобы убедиться, как я себя веду?
– Замолчи, глупая девочка! – не сдержалась ландграфиня. – Если ты будешь так много болтать, ты никогда не станешь невесткой императрицы!
Луиза и Амалия сидели потупившись, однако их сердца, стиснутые корсетами, колотились, как пойманные в капкан зверушки. В принцессах пробудилась робкая надежда, что противная богэмьен все-таки ошиблась в своих предсказаниях. Вильгельмина забыла, что и у стен есть уши! Вдруг кто-нибудь услышит ее ехидные реплики и донесет Екатерине о том, как непочтительно ведет себя эта принцесса? Вдруг Екатерина обратит свой благосклонный взор на другую сестру?..
Похоже, в голову Вильгемины пришла эта же самая мысль, потому что строптивица наконец-то присмирела и молча внимала прочим наставлениям Екатерины, которые ландграфиня произносила с особым выражением почтительности и усердия:
«Так как праздность влечет за собой скуку, последствием которой бывает дурное расположение духа, надо стараться исполнять все свои обязанности, искать занятий в свободные часы. Чтение образует вкус, сердце и ум; если принцесса сумеет найти в нем интерес, то это будет, конечно, всего лучше; кроме того, она может заниматься музыкой и всякого рода рукоделиями; разнообразя свой досуг, она никогда не будет чувствовать пустоты в течение дня. Столь же опасно избегать света, как слишком любить его. Не следует тяготиться светом, когда придется бывать в обществе, но надо уметь обходиться без света, прибегая к занятиям и удовольствиям, способным украсить ум, укрепить чувства или дать деятельность рукам…»
К тринадцатому пункту «Наставлений» сестрицы уже начали клевать своими востренькими носиками, а между тем этот пункт был самым интересным:
«Следуя этим правилам, принцесса должна ожидать самой счастливой будущности. Она будет иметь самого нежного супруга, счастье которого она составит и который, наверное, сделает ее счастливою; она будет иметь преимущество именоваться дочерью той императрицы, которая наиболее приносит чести нашему веку, быть ею любимой и служить отрадой народу, который с новыми силами двинулся вперед под руководством Екатерины, все более прославляющей его, и принцессе останется только желать продления дней ее императорского величества и его императорского высочества великого князя, в твердой уверенности, что ее благополучие не поколеблется, пока она будет жить в зависимости от них».
– Да вы меня не слушаете, противные девчонки! – с досадой воскликнула Генриетта-Каролина, обнаружив, что взоры дочерей подернулись пеленой невнимания. – Ну вот ты, Вилли, повтори, что я только что сказала!
– «Принцессе останется только желать продления дней ее императорского величества и его императорского высочества великого князя, в твердой уверенности, что ее благополучие не поколеблется, пока она будет жить в зависимости от них», – отчеканила, встрепенувшись, Вильгельмина, у которой была изумительная память.
Мать довольно кивнула. А Вильгельмина подумала, что если она все же станет женой русского принца, то постарается как можно скорее перестать «жить в зависимости» от причуд свекрови.
И она принялась представлять себе встречу с будущим женихом. Может быть, в жизни он окажется не так непригляден, как на присланном портрете?..
* * *
А между тем цесаревич Павел Петрович, наследник российского трона, тоже с волнением размышлял о встрече с будущей невестой. Он уже видел изображения всех трех сестер Гессен-Дармштадтских, но особое внимание уделил Вильгельмине. Приходилось признать, что его властная матушка, у которой, по мнению, Павла, был весьма дурной вкус, на сей раз не ошиблась и выбрала самую миленькую из девиц. Чем-то эта Вильгельмина напоминала первую любовь цесаревича, Верочку Чоглокову, прелестную фрейлину императрицы Елизаветы Петровны.
Нет, впрочем, нельзя сказать, что Верочка была самой-самой первой любовью! Еще гораздо раньше, совсем мальчиком, Павел доверчиво рассказывал своему воспитателю Семену Андреевичу Порошину о некоей таинственной фрейлине-чаровнице и даже застенчивым шепотком читал стихи, сочиненные в ее честь:
Я смысл и остроту всему предпочитаю, На свете прелестей нет больше для меня, Тебя, любезная, за то я обожаю, Что блещешь, остроту с красой соединя.– О, ваше высочество! – воскликнул Порошин. – Вы хорошо начинаете! Предвижу, что со временем вы не будете ленивым или непослушным в стране Цитере!
Воспитатель как в воду глядел. Страну Цитеру, где правила богиня любви Афродита, этот мальчик осваивал споро и бесстрашно – особенно после того, как любовник его матери Григорий Орлов, который понимал воспитание царевича весьма своеобразно, взял двенадцатилетнего Павла в комнаты к фрейлинам.
Что-то гости увидели. Что-то подсмотрели в скважины и щелочки… Именно после этого Павел и влюбился в Верочку Чоглокову.
На первом же балу он пригласил ее танцевать, начал нежно перебирать пальчики и осмелился пылко выдохнуть:
– Если бы сие пристойно было, я бы поцеловал вашу ручку!
Верочка, отводя поскучневший взор от курносой физиономии царевича, ответила с приличным поджатием губок:
– Это было бы уж слишком, ваше высочество! Однако Павел не унялся. Он донимал скромницу своими ухаживаниями, стихами, охами и вздохами. И показал себя истинным Отелло, когда ему почудилось, что предмет его сердечной склонности в свою очередь склоняется к смазливому пажу Девиеру. Этой вымышленной «измены» он так и не простил Верочке и простер свою благосклонность на другую «чаровницу».
Любовники Екатерины не баловали царевича разнообразием методов воспитания. Они хаживали с юнцом в покои фрейлин и в комнаты служанок. Потом, с благословения своих фривольных менторов, Павел познакомился с прелестной вдовой, фрейлиной Софьей Семеновной Чарторыжской, и узнал, что в стране Цитере произрастают не только эфемерные цветы платонических наслаждений, но и весьма сочные плоды сладострастия.
Эти плоды понравились ему. Он норовил лакомиться ими как можно чаще. «Плоды» нежно и покорно улыбались наследнику престола, а про себя думали, что в объятиях какого-нибудь лакея или помощника истопника можно найти гораздо больше удовольствия, чем с этим царевичем, который думает только о себе.
Наконец слухи о том, что наследник сделался истинным потаскуном и не пропускает ни одной дворцовой юбки, стали утомлять Екатерину.
– Мальчишку пора женить, – сказала она Орлову. – А то он мне весь двор обрюхатит!
– Да уж, – самодовольно кивнул фаворит, который имел все основания гордиться размахом страстей своего воспитанника. – И в кого он такой уродился?
Екатерина нахмурилась: она была отнюдь не ханжа, но не терпела брошенных всуе намеков на свои любовные шалости. Тем паче что вопрос о том, в кого уродился Павел, был большой загадкой для всех…
Но сейчас речь не о том.
Итак, Павел одобрил по портрету выбранную матерью невесту, однако решил все-таки подстраховаться. Он приложил все усилия, чтобы командующим на корвете «Быстрый» был назначен капитан-лейтенант граф Андрей Кириллович Разумовский.
Почему?
Да потому, что граф Разумовский был лучший и ближайший друг Павла Петровича. Они дружили с самого детства. Очаровательный, статный, вкрадчивый, самоуверенный Андрей Разумовский легко кружил головы петербургским красавицам и опережал по количеству любовниц самых заядлых ветреников. Он не сомневался, что Фортуна обожает его. Ведь Фортуна женщина, а женщины были от него без ума! Именно поэтому граф Андрей полагал, что ему все дозволено, и его отцу не раз приходилось платить долги молодого щеголя. Бранить графа Андрея было бессмысленно, с него все было как с гуся вода. К тому же он находился под покровительством цесаревича. Павел называл Андрея «fidele et sincere ami»[50] и советовался с ним во всем, до самых мелочей.
И само собой разумеется, что именно молодому графу Разумовскому он доверил оценить выбор матушки!
И Андрей его оценил…
Три сестры одинаково присели перед капитаном «Быстрого», одинаково скромно потупились, одинаково покраснели. Все три были одеты в похожие убогие платьица. Но граф смотрел только на одну из них. Мелькнула мысль, что, быть может, это не Вильгельмина, а другая… быть может, не эта красавица предназначена в невесты цесаревичу… Но тут же Разумовский понял, что ревнивица Фортуна не может допустить, чтобы ее фаворит нашел счастье. Та, в которую он почти влюбился, была предназначена его господину!
«Ну что ж, – со вздохом рассудил граф Андрей, который славился своей способностью мгновенно находить выходы из самых запутанных положений и с легкостью решать самые трудные задачки (учителя математики считали его истинным гением!), – если нельзя получить все чохом, то я возьму хотя бы то, что удастся взять!»
А Вильгельмина, которая смотрела на него во все глаза, вообще не имела представления о какой-то там математике. Зато она твердо знала, что влюбилась – не почти, а всем сердцем. Сразу, с первого взгляда, – и на всю жизнь.
Боже, Боже! Так вот что это такое – любовь! Не солгала богэмьен, когда пророчила ей невероятного красавца! Это он, без сомнения. Самый красивый, самый…
Вильгельмина была так переполнена чувствами, что далеко не сразу поняла: этот «самый-самый» всего лишь капитан корабля «Быстрый». А не наследник русского престола. Чертова богэмьен все-таки ошиблась!
Но сейчас это не имело никакого значения. Главное, что между невестой Павла и его ближайшим другом мгновенно вспыхнула неистовая страсть. И теперь они могли думать только о том, как бы ее утолить.
Уроки сдержанности и благонравия, постулаты о чистоте и непорочности, среди которых выросла Вильгельмина, – все было забыто в одно мгновение. Развеялось, как утренний туман! Осталось только желание, с которым девушка не знала, что делать. Ну не может же она подойти к этому обворожительному мужчине и сказать, что любит его, что хочет его…
На ее счастье (а вернее, горе!), граф Андрей уже давно знал наизусть книгу Любви и мог прочесть ее с первой до последней страницы хоть с закрытыми глазами.
Отплывали из Любека через три дня. Высочайшее семейство уже расселилось на предназначенных для того кораблях. Сама ландграфиня и Вильгельмина, само собой разумеется, определились на «Быстрый». Это ни у кого не вызвало подозрений. В самом деле, кому как не близкому другу цесаревича сопровождать его невесту!
В самом деле…
Присутствие матушки осложняло ситуацию, но в то же время упрощало ее донельзя. Ибо, едва ступив на палубу, Гертруда-Каролина испытала приступ сильнейшей морской болезни, после которого была почти без чувств отнесена в свою каюту и поручена неусыпным заботам служанок. Им было велено глаз с ландграфини не сводить и ни под каким видом не дозволять ей вставать с постели. Приказ отдал сам капитан. Он пригрозил, что того, кто ослушается, сбросят за борт в открытом море.
Капитан на судне царь и бог. До выхода в море было еще далеко, а служанки ландграфини уже дрожали за свою жизнь. И были до такой степени поглощены исполнением воли капитана, что им оказалось не до принцессы Вильгельмины.
А ведь бедная девушка тоже нуждалась в присмотре. Корабль произвел на нее ошеломляющее впечатление. Поэтому не удивительно, что потрясенная Вильгельмина вообще обо всем забыла. Например, запереть свою каюту на ночь. И, конечно, не было ничего удивительного, что капитан, обеспокоенный состоянием своей высокой гостьи, бесшумно приотворил эту незапертую дверь под покровом темноты…
Наутро «верный и искренный друг» мог с полным на то основанием сообщить цесаревичу, что весьма обстоятельно ознакомился с его будущей невестой и нашел ее истинным сокровищем.
Он диву давался, откуда у этой принцессы, воспитанной в самой унылой атмосфере, какую только можно вообразить, нашлось столько пыла, столько неистовства и страсти! Андрей Кириллович решил, что службу во флоте надо поменять на службу при особах его и ее императорских высочеств!
Однако молодой Разумовский не учел одной малости. Кавалер Крузе, командующий флотилией, не доверял «паркетному шаркуну», как он втихомолку называл графа Андрея. Кроме того, у Крузе был острый, приметливый взгляд настоящего моряка. И от него не укрылся ни предательский трепет принцессы Вильгельмины, ни алчное выражение, которое появилось на лице записного дамского угодника Разумовского. У Крузе был на «Быстром» свой человек, который получил приказ тайно следить за каждый шагом этих двух особ. Так что о безрассудном поведении принцессы, о котором не имела представления ее матушка (даже мысль ни о чем подобном не могла закрасться в ее бедную благонравную, к тому же кружащуюся от корабельной качки голову!), кавалеру Крузе стало известно еще до того, как граф Андрей покинул каюту свой новой любовницы.
Кавалер Крузе почувствовал, что на его голове прибавилось седых волос, а на лице – морщин. Однако он не хуже молодого Разумовского умел разрешать неразрешимые задачи. Все-таки Крузе был боевой командир…
Он воспользовался правом верховного главнокомандующего: отдавать приказы, которые не подлежат обсуждению. Отправил капитан-лейтенанта Разумовского в Петербург по срочному, важному, только что выдуманному государственному делу. Отправил сушей… Командование «Быстрым» Крузе взял на себя и таким образом сделал его флагманским кораблем. А к императрице был послан курьер с тайным донесением. То есть Екатерина оказалась осведомлена о государственной измене довольно быстро.
Можно было ожидать, что императрица разгневается, придет в неистовство и отправит назад распутную невесту вместе с ее семейством. А Разумовскому не сносить головы… Но Екатерина прекрасно понимала, что огласка вызовет ужасный скандал. Опозорены будут и ее сын, и она сама. Под удар попадут добрые отношения с Пруссией. Нет, скандала допустить нельзя… А потом, вопрос о невесте еще не решен окончательно. Вдруг Павлу понравится какая-нибудь другая сестра? Екатерина решила, что отныне перестанет навязывать сыну свою волю и совершенно во всем положится на судьбу.
Надо сказать, Андрей Разумовский, при всей своей кажущейся неосторожности и дурацком легкомыслии, безошибочно просчитал резоны императрицы. Он не сомневался, что, даже если тайное станет явным, никакого скандала не разразится и «шалунишка Андре», как его ласково и снисходительно называла порою Екатерина, останется безнаказанным. Императрица пожалеет отпрыска семейства, сыгравшего такую огромную роль в истории России! К тому же граф Андрей отлично знал, какие темные слухи роились вокруг самого факта его рождения. Слухи эти состояли в том, что его считали внебрачным сыном самой Елизаветы Петровны, рожденным от страстного романа с Кириллом Григорьевичем Разумовским. Этому верили очень многие. Кажется, и сама Екатерина…
Да, императрица не тронула «шалунишку Андре». Однако она решительно изменила порядок встречи цесаревича с невестой. Когда Дармштадтское семейство, утомленное морским переходом, прибыло в Ревель и отправилось дальше сушей, 15 июля в Кипени ландграфиню и ее детей встретил граф Григорий Орлов. Он пригласил гостей отобедать у него в Гатчине, предупредив, что познакомит их с несколькими высокопоставленными дамами.
К изумлению Генриетты-Каролины, им предстояла встреча с самой императрицей Екатериной! Она явилась в Гатчину с небольшой свитой – по ее словам, чтобы избавить усталых с дороги гостей от официального приема. Дамы слегка надулись – они-то жаждали как можно большей пышности! – однако с императрицей не спорят.
Екатерина втихомолку присматривалась ко всем трем сестрам. И с тайным вздохом признала, что мужчины (и добродетельный посланник Ассенбург, и распутный граф Разумовский) сделали единственно возможный выбор. Луиза и Амалия были очень милы, но не более того. При ближайшем рассмотрении они казались отчаянно скучными. А к Вильгельмине можно было применить только одно слово – очарование.
Против воли Екатерина сама была покорена и красотой, и умом, и манерами, и победительной женственностью этой девушки. То есть уже не девушки – ах, какая жалость… «Распутница!» – твердила себе императрица, силясь глядеть на Вильгельмину возможно суровее, – однако не могла удержаться от улыбки. Не могла не вспоминать себя, только что прибывшую в Россию, – шалую, неосторожную, жаждущую любви, любви, любви! Не могла не думать, что от Павла эта девушка в постели испытает мало радости – точно так же, как она, Екатерина, не испытала никакой радости от своего мужа Петра Федоровича, царство ему небесное, ну до чего же кстати он одиннадцать лет назад нечаянно закололся вилкой в Ропше…
Наконец обед закончился. Все общество тронулось в путь. Ландграфиня и три сестры ехали в шестиместной карете вместе с императрицей и ее наперсницей Прасковьей Брюс. За несколько верст до Царского Села путь каретам пересекла кавалькада. Среди всадников оказался не кто иной, как великий князь Павел Петрович. Его сопровождал воспитатель – граф Никита Иванович Панин.
Состоялось непринужденное знакомство. Дальше дамы и Павел с воспитателем ехали в еще более пышной, восьмиместной карете.
Екатерина и приметливая Прасковья Брюс так и ели глазами цесаревича и Вильгельмину. Да, приходилось признать: Павел мгновенно очаровался ею. На других сестер он даже не взглянул! Его решение было очевидно. Он выбрал ту, которая… распутницу выбрал!
Екатерина только покачала головой: делать нечего, сама ведь решила положиться на судьбу. С видимым вниманием выслушивая какие-то бредни ландграфини, которая, видимо, тронулась умом от волнения и принялась рассуждать на тему непримиримого различия лютеранской и православной веры (!), императрица с трудом сдерживала усмешку.
Да, Судьба… Как она умеет все ставить на свои места… Екатерина невольно вспомнила ту ночь, когда она родила своего сына. Своего… но не своего мужа. Уж кто-кто, а она-то знала, что отцом ребенка был Сергей Салтыков, граф, камергер, с которым у нее была давняя любовная связь, – с ведома, между прочим, Елизаветы, которая отлично знала неспособность своего племянника к продолжению рода и молилась о продолжении династии любой ценой, пусть даже ценой откровенного адюльтера. Однако Судьба любит интригу! Екатерина родила мертвого ребенка… Императрица была тут же, в Летнем дворце, около покоев молодой родильницы. Узнав о несчастье, она приняла решение мгновенно. Отряд доверенных гвардейцев сей же час на рысях вышел в чухонскую деревню Котлы, что возле Ораниенбаума. В эту ночь там родился мальчик. Новорожденный был незамедлительно отвезен в Петербург и передан из рук в руки Елизавете. Было приказано палить из пушек Петропавловской крепости и сообщать, что у великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны родился сын. На молодую мать больше никто не обращал внимания. Шесть дней после родов она пролежала почти без всякого ухода.
Кстати сказать, Екатерина потом, много лет спустя, размышляла: может быть, Елизавета потому не велела оказывать ей ухода, что тоже положилась на судьбу. Выживет молодая женщина, которая оказалась неспособна выполнить возложенную на нее государственную задачу, родить наследника, – прекрасно. Ну а нет… значит, не судьба.
Разумеется, события той ночи никогда и никем не обсуждались. Только однажды, в предсмертном бреду, Елизавета шепнула огорченно:
– Ну что б ему было родиться хотя бы в русской деревне!
Екатерина бодрствовала у постели умирающей. Она одна это слышала…
И сейчас смотрела на своего сына, на его курносый нос и уродливое лицо, – и мысленно покатывалась со смеху. Павел сам сделал свой выбор. Он сам захотел в жены именно Вильгельмину. Да, в самый раз для этого «чухонского мальчишки» получить в жены невесту, которую распробовал не кто иной, как побочный сын императрицы Елизаветы!
Ну что ж, если от их связи родится ребенок, в нем все-таки будет хоть капля русской императорской крови! Так или иначе!
Екатерина выглянула в окошко кареты и посмотрела в небеса. Интересно, ее покойное величество Елизавета Петровна что-нибудь видит из своих заоблачных высей? И как ей нравится то, что она видит?..
Спустя три дня после встречи Павла с Дармштадтским семейством Екатерина просила от имени сына у ладграфини руки принцессы Вильгельмины. Согласие было немедленно дано, и тотчас послали курьера к ландграфу Людвигу, чтобы получить его разрешение на брак.
Таким образом все формальности были соблюдены. На распутницу было наброшено столько флера невинности, сколько могли выдержать ее прелестные, беломраморные, округлые плечики.
* * *
А Вильгельмина?
Каково было ей? Что думала она, что чувствовала?
Это вряд ли кого заботило. Да и вряд ли кому-то могло прийти в голову, что она может ощущать хоть что-то, кроме восторга и счастливого трепета.
А между тем в ее хорошенькой головке так и роились мысли. Невеселые. Тревожные. Мятежные.
Она во всех деталях вспоминала гаданье богэмьен. Снова и снова, на все лады повторяла ее слова, которые запали ей в душу:
«Будешь, будешь королевой. Нет, императрицей! Будешь императрицей, вот помяни мое слово! Тебя полюбит несравненный красавец, и ты полюбишь его, и у вас родится сын… Ты уедешь в далекую страну, в далекую зимнюю страну!»
Она уехала в далекую страну, это правда. Она когда-нибудь станет императрицей. Ее полюбил несравненный красавец. У них родится сын… наверное, сбудется и это!
Что-то там было еще насчет старой королевы, но сейчас это не играло никакой роли. Главным было то, что основные пункты гадания сбылись. Однако Вильгельмина вовсе не чувствовала себя счастливой. Ведь она, которую любил красавец, принадлежала уроду. Урод должен был стать императором. А Вильгельмина – императрицей. Но она хотела принадлежать красавцу. Значит, надо сделать так, чтобы императором стал красавец!
Теперь цель была ясна. Вильгельмина очень любила ясные цели. У нее стало легче на душе, тем паче когда она убедилась, что жених влюблен в нее по уши и им, кажется, будет очень легко управлять. Он был доверчивый неловкий мальчишка. Она была младше Павла на год, но чувствовала себя гораздо старше, умнее и опытнее. Такой ее сделала любовь к графу Разумовскому, которому, по замыслам Вильгельмины, предстояло сделаться императором. Надо только немного подождать…
А события тем временем развивались своим чередом. Поскольку Екатерина ставила непременным условием брака принятие православия невестой, то гессенской принцессе пришлось немедленно приступить к изучению основ новой религии. В наставники ей был избран сам архиепископ Московский Платон.
15 августа совершилось миропомазание Вильгельмины. Отныне она звалась Натальей Алексеевной.
Новое имя не нравилось девушке… Оно звучало мило, однако было слишком слабым, на ее взгляд. Вильгельмина давно заметила, что те женщины, которые носят мужские имена (Валентина, Евгения, Александра, Вильгельмина), нравом гораздо сильнее своих тезок-мужчин и крепче их умом. Конечно, бывают исключения, такие, как Александр Великий или Вильгельм-Завоеватель. Но они только подтверждают правила. Как будто мужское имя придает силу носящей его женщине! А имя Наталья было слишком мягким, каким-то расплывчатым… Утешало лишь то, что так звали матушку самого великого Петра. Правда, самостоятельно править ей не удалось, однако тогда были совсем другие времена. Надо думать, новой Наталье повезет!
На следующий день после миропомазания было торжественно отпраздновано обручение Павла и Натальи, а полтора месяца спустя, 29 сентября 1773 года, состоялось бракосочетание.
Статс-дамы облачили Наталью в парчовое серебряное платье, осыпанное бриллиантами. Оно привело не знавшую такой роскоши принцессу в восторг. А на императрицу, одетую в русское платье из алого атласа, вышитое жемчугами, и в мантии, опушенной горностаями, Наталья смотрела, едва скрывая презрение и смех. Старушка, видать, совсем спятила, если разрядилась как на маскарад. И новоиспеченная великая княгиня тотчас дала себе клятву, что никаких русских причуд при своем дворе не потерпит.
Надо сказать, Россия ее раздражала. Она была слишком большая! Неуютная. Русский язык показался ей непомерно трудным. Что за нелепая причуда – изучать его? Все нормальные люди говорят по-немецки, ну, в крайнем случае, по-французски. Русский – язык дикой, отсталой нации. Чем меньше дела будет иметь Наталья с этой нацией, тем лучше.
Она заранее презирала народ, над которым собиралась властвовать. Однако у нее хватило ума пока скрывать это. Тем более что празднования, устроенные в честь ее свадьбы, могли бы удовлетворить самое неистовое честолюбие. Бракосочетание было совершено с величайшей пышностью; потом следовал целый ряд праздников для придворных, для дворянства, купечества и простого народа; закончились они 11 октября фейерверком. 15 октября ландграфиня с двумя дочерьми и свитой покинула Петербург.
Вильгельмина-Наталья была довольна собой. Она превосходно разыграла убитую горем расставания сестру и дочь. Она даже выдавила из глаз несколько слезинок. И все это время она словно бы смотрела на себя со стороны – и помирала со смеху. Боже мой, до чего же просты люди! До чего доверчивы! Она подозревала это раньше – но только теперь совершенно поняла. Главное не быть – главное казаться той, кого они хотят видеть. Жаль, жаль, что она не усвоила это прежде… Но ничего. Лучше поздно, чем никогда.
Супруг хочет видеть в Наталье нежного ангела? Да ради Бога, она и будет такой. Свекровь хочет видеть в ней веселую, милую, покорную дочь? Сколько угодно! Наталья старалась быть приветливой со всеми и угодить всякому. Даже своей новой гофмейстерине, статс-даме графине Екатерине Михайловне Румянцевой, которая показалась Наталье довольно противной. Даже фрейлинам, княжнам Евдокии Белосельской и Прасковье Леонтьевой, которых она считала глупыми. А чего стоили эти их плебейские имена!.. Наталье даже удалось скрыть свое разочарование от того, что наследнику и его супруге императрица не разрешила заводить своего двора. А ведь это был бы верный способ поставить к себе как можно ближе обожаемого графа Андрея…
Возможность лицезреть «обожаемого графа», встречать его исполненный любовного пыла взор, слушать его голос, интимно понижавшийся, когда Разумовский обращался к великой княгине Наталье Алексеевне, замирать, когда он позволял себе шепотом назвать ее просто Натали и украдкой касался ее руки, а то и добирался через ворох юбок до колена, – вот что помогало Наталье казаться, а не быть. Вот что позволило ей, цветку заморскому, прижиться на чужой почве. И даже стоически переносить ласки мужа, которого она находила отвратительным.
Насчет первой брачной ночи она немножко поволновалась. По счастью, эта ночь совпала с днями ее женского нездоровья. Наталья стонала, охала, вздыхала – и не очень-то притворялась, изображая на лице муку мученическую. Павел остался вполне доволен своей миленькой невинной женушкой. Надо думать, императрица тоже – во всяком случае, наутро после знаменательного события она смотрела на томную новобрачную с искренней симпатией. И даже удостоила ее поцелуя в побледневшую щечку.
Бывшая Вильгельмина была бы очень изумлена, узнай она, о чем в эту минуту думала императрица.
Екатерина была прекрасно осведомлена о тайнах естества своей снохи. И понимала, как лихой девчонке удалось ввести мужа в заблуждение. Императрица пришла в восторг от женской хитрости! Чухонец сам виноват, что так глуп. Есть на свете мужья, которые просто-таки созданы, чтобы их водили за нос лукавые жены. Павлушка как раз из таких.
Но Наталья-то какова, а?! Екатерина тихонько смеялась от восхищения. Вот если бы у нее была такая дочь! Причем дочь, которую она могла бы признать, а не отдавать на воспитание на сторону, чтобы лишь издалека наблюдать, как растет и взрослеет княжна такая-то…
Про себя Екатерина знала, что была плохой женой. Но у нее был плохой муж. У Натальи тоже плохой муж. Она заслуживает лучшего, чем этот чухонец. Жаль, конечно, что ее встреча с красавчиком Андрюшей не принесла плодов… Но, Бог даст, все еще образуется, подумала Екатерина, которая в глубине души была и цинична, и романтична одновременно. Недаром молодые супруги нижайше просили позволить графу Андрею, этому самому «верному и искреннему» из всех друзей на свете, поселиться близ отведенных им покоев. Екатерина снисходительно дала свое согласие, не сомневаясь, что скоро чухонец будет рогат, как целое стадо оленей, на которых небось ездили его предки из приснопамятной деревеньки Котлы. Да и на здоровье!
Екатерина умилялась своей невесткой. Положила ей 50 тысяч рублей в год «на булавки» и совершенно искренне расхваливала ее в письмах к ландграфине Гессен-Дармштадтской:
«Ваша дочь здорова; она по-прежнему кротка и любезна, какой вы ее знаете. Муж обожает ее, то и дело хвалит и рекомендует ее; я слушаю и иногда покатываюсь со смеху, потому что ей не нужно рекомендаций; ее рекомендация в моем сердце; я ее люблю, она того заслужила, и я совершенно ею довольна. Да и нужно бы искать повода к неудовольствиям и быть хуже какой-нибудь кумушки сплетницы, чтобы не оставаться довольной великой княгинею, как я ею довольна. Одним словом, наше хозяйство идет очень мило. Дети наши, кажется, очень рады переезду со мною на дачу в Царское Село. Молодежь заставляет меня по вечерам играть и резвиться…»
В это же время английский посланник Гуннинг доносил своему двору:
«Недавно императрица высказала, что обязана великой княгине за то, что ей возвращен ее сын и что она поставит задачей своей жизни доказать свою признательность за такую услугу; действительно, она никогда не упускает случая приласкать эту принцессу, которая, обладая даже меньшим умом, чем великий князь, несмотря на то приобрела над ним сильное влияние и, кажется, до сих пор весьма успешно приводит в исполнение наставления, несомненно данные ей ее матерью, ландграфиней. Общество ее, по-видимому, составляет единственное отдохновение великого князя; он не видит никого, кроме молодого графа Разумовского».
Павел не видел никого, кроме молодого графа Разумовского. Его жена не видела никого, кроме молодого графа Разумовского… Екатерина от души забавлялась этим трогательным единодушием.
Однако ей вскоре стало не до этого любовного треугольника: других забот хватало. Еще в день свадьбы Павла и Натальи в Петербург пришло известие о появлении в Оренбургских степях шаек смутьяна и бунтовщика Емельки Пугачева, называвшего себя царем Петром III Федоровичем. Ровно год длилось мучение Екатерины, пока 16 сентября 1774 года Пугачев не был взят в плен. Тогда императрица смогла вздохнуть свободно и обратить взор на дела домашние.
И была немало ошарашена, обнаружив, сколь многое в них изменилось.
Началось со скандала.
Как-то раз за завтраком Павел обнаружил в поданных ему сосисках кусочки стекла. Со свойственной ему мнительностью и склонностью преувеличивать малейшую опасность он немедленно начал кричать о заговоре. Екатерина пыталась увещевать сына, говорила о случайности, о недоразумении: чего только не бывает на кухне, даже и на дворцовой кухне!..
Однако Павел не унимался:
– Моя смерть кому-то выгодна!
Екатерина наказала поваров. Сын остался недоволен:
– Наш великий предок Петр велел бы их четвертовать!
Насчет великого предка Екатерина только хмыкнула и колесовать поваров не велела.
– Вы неверно управляете государством! – запальчиво выкрикнул Павел.
Впрочем, это была старая песня. Екатерина привычно пожала плечами и приказала цесаревичу удалиться.
– Уж ты небось направишь, когда до власти дорвешься! – язвительно пробормотала вслед.
Однако спустя малое время Павел явился к императрице с самым официальным видом и подал ей докладную записку с претенциозным названием «Рассуждение о государстве вообще».
Екатерина бегло просмотрела несколько строк.
Страна бедствует… необходим парламент… необходимо отказаться от захватнических войн, заняться обороной… ввести строжайшую дисциплину в войсках, муштру на манер прусской армии…
– Ей-богу, кабы не знала наверняка, что Петрушка покойный был не его отец, подумала бы, что глупое яблочко от дурной яблони недалеко упало, – проворчала императрица. – Однако откуда ж этот ветер дует? Просвещенец-то наш, вольнодумец, Никита Панин, который спал и видел, чтобы Павлушку на престол усадить да парламентскую республику тут нам учинить, давно удален… Кто же теперь моего чухонца с толку сбивает?
Тайное расследование установило такое, от чего Екатерину едва удар не хватил.
Великая княгиня Наталья ни днем, ни ночью почти не расставалась с графом Андреем Разумовским.
Ведь Павел очень скоро пресытился исполнением супружеских обязанностей и предпочитал проводить время в задумчивости, тишине, покое… и в долгом послеобеденном сне, предоставляя жене возможность развлекаться с fidele et sincere ami. Эта внезапно пробудившаяся любовь к продолжительному отдыху у Павла, который всегда отличался болезненной подвижностью и неспособностью долго сидеть на месте, наводила людей наблюдательных на очень неприятные размышления. Например, можно было предположить, что цесаревича опаивают опием или еще каким-то сильнодействующим сонным зельем. В то время, пока он спал, Наталья и Разумовский могли совершенно безнаказанно проводить время вместе.
Но это было полбеды! Оказалось, что воинствующий адюльтер великой княгини сделался известен посланникам Франции и Испании, которые шпионили за нескромным графом Андреем. В то время Франция и Испания старались посеять несогласие между Россией, Австрией и Пруссией. Французский и испанский посланники встретились с графом и сообщили ему, что готовы открыть цесаревичу и императрице глаза на происходящее. И они это непременно сделают, если Разумовский не примется влиять на Павла и требовать, чтобы тот как можно активнее вмешивался в политическую жизнь страны, склонял сенаторов и министров к прекращению победоносных войн России и вообще требовал коренного изменения внешней политики страны. И это только первый шаг. Среди далеко идущих планов европейских монархов был и государственный переворот в России!
Выслушав угрозы шантажистов, граф Андрей засмеялся им в лицо. Тогда посланники пригрозили, что откроют глаза не только Екатерине и Павлу, но опозорят великую княгиню на всю страну. Более того – на всю Европу! Тогда, как бы терпима ни была Екатерина, как бы ни был глуп Павел, они больше не смогут закрывать глаза на происходящее. Не поздоровится самому Разумовскому, а уж участь его любовницы страшно вообразить.
Ну что ж, граф Андрей со снисходительным пожатием плеч согласился сотрудничать с посланниками. Однако вовсе не потому, что он встревожился за реноме Натальи. Шантаж оказался им обоим очень кстати, ибо любовники и сами начали искать контактов с посланниками стран, враждебно относящихся к России. Наталья не оставила своих надежд посадить возлюбленного на трон. Но она прекрасно понимала, что быстро такие дела не делаются. Сперва следовало свалить с этого трона Екатерину, потом возвести на престол Павла, сделаться императрицей, ну а затем… если отец Павла закололся вилкой, то почему бы и сыну когда-нибудь не последовать его примеру? Особенно если кто-нибудь ему поможет в нужный момент?..
Для начала Павла следовало сделать популярным в народе и среди государственных мужей. Отнюдь не все и во всем поддерживали Екатерину! Наталья строила и лелеяла честолюбивые планы… Однако подвел Павел. Мало того, что он составил свое «Рассуждение о государстве вообще» крайне неубедительно. Он еще и предъявил его матери – предъявил с торжеством подростка, который желает произвести на родительницу самое лучшее впечатление.
Ну и произвел…
– Матушка Пресвятая Богородица! – пробормотала Екатерина, когда результаты тайного расследования стали ей известны. – Она не токмо распутница! И заговорщица в придачу!
Оказывается, в Европе уже всерьез обсуждали возможность переворота в России! Оказывается, князь Вальдек, канцлер Австрийской империи, говорил родственнику Екатерины, принцу Ангальт-Бернбургскому:
– Если эта не устроит переворота, то никто его не сделает!
Понятно, кого он подразумевал под словом «эта»!
Оказывается, английский посланник Джеймс Гаррис в донесениях своему правительству давно уже намекал на неминуемую борьбу между свекровью и невесткой за власть в России!
А Екатерина узнала обо всем только теперь?!
Нет, конечно, дело не зашло пока слишком далеко, еще не стало непоправимым. Это был еще не заговор – лишь прелюдия к нему. Екатерина, впрочем, не стала ждать, когда нарыв вызреет. Она немедленно повидалась с наследником и выложила ему все, что ей стало известно. Не осталась неупомянутой и очень тесная дружба Натальи с графом Разумовским.
Всполошенный Павел, который, как истинный флюгер, всегда поворачивался туда, куда дул ветер, ринулся к жене и пересказал ей разговор с матерью.
Что тут началось… Обмороки, слезы, истерики, угрозы немедленно покончить с собой!
– Она задумала отравить нам жизнь! – кричала Наталья, словно в бреду. – Она хочет разлучить нас с нашим лучшим, с нашим единственным другом! И вы… вы спокойно, покорно слушали все эти наветы? Вы не защитили меня и Андре?! Какой же вы муж после этого? Какой же вы друг?!
Несчастный, одурманенный Павел был совершенно порабощен парочкой этих авантюристов. Он ползал перед женой на коленях и клялся, что не позволит матери портить им жизнь. Будет так, как хочет Наталья. Ничто не разлучит их с обожаемым Андреем!
Наталья рыдала непритворно. Она сразу вспомнила, как цыганка напророчила: «Бойся ревнивой королевы, бойся злой королевы, бойся старой королевы!» Все-таки она показала свой мерзкий характер, эта засидевшаяся на троне старуха!..
Наталью мало заботило, что Екатерине тогда было сорок пять. Отнюдь не старуха! Но ей-то только девятнадцать! И она считала, что свекровь заедает им, молодым, жизнь. По мнению Натальи, Екатерина должна была тотчас же по женитьбе сына постричься в монастырь и освободить престол.
Что она сама станет делать в этом возрасте, великая княгиня предпочитала не загадывать. И правильно делала, строго говоря, ибо ей-то сорок пять не исполнилось никогда…
Однако Наталья поняла: срок для государственного переворота еще не настал.
Скандал в августейшем семействе не разразился. Дело само собой сошло на нет. Но прежней приязни меж императрицей и наследниками не стало. Павел откровенно грубил матери. Наталья вела себя вызывающе. «Шалунишка Андре» делал вид, будто ничего не произошло.
Екатерина не скрывала перемены отношения к невестке. Все, что раньше привлекало, трогало, забавляло ее в Наталье, теперь только отвращало от себя. Даже видимое нездоровье великой княгини (у нее подозревали чахотку) не смягчило императрицу. В одном из ее писем можно прочесть такие саркастические строки:
«Как не быть болезненною; у этой дамы везде крайности; если мы делаем прогулку пешком – так в двадцать верст; если танцуем – так двадцать контрдансов, столько же менуэтов, не считая аллеманд; дабы избегнуть тепла в комнатах – мы их не отапливаем вовсе; если другие натирают свое лицо льдом, у нас все тело делается сразу лицом; одним словом, золотая середина далека от нас. Боясь злых, мы не доверяем никому на свете, не слушаем ни добрых, ни дурных советов; словом сказать, до сих пор у нас нет ни в чем ни приятности, ни осторожности, ни благоразумия, и Бог знает, чем все это кончится, потому что мы никого не слушаем и решаем все собственным умом. После более чем полутора лет мы не знаем ни слова по-русски, мы хотим, чтобы нас учили, но мы ни минуты в день не посвящаем этому делу; все у нас вертится кубарем; мы не можем переносить ни того, ни другого; мы в долгах в два раза противу того, что мы имеем, а мы имеем столько, сколько вряд ли кто имеет в Европе. Но ни слова более – в молодых людях никогда не следует отчаиваться!»
Екатерину бесило пуще всего то, что Наталья теперь дерзко и откровенно противопоставляла себя той стране, которой ей предстояло управлять. Она нипочем не хотела становиться русской – в глазах Екатерины, которую ее неприятели с раздражением называли более русской, чем сами русские, это было грехом смертным, незамолимым!
Ну и, конечно, императрицу не могло не раздражать мотовство Невестки. 50 тысяч рублей в год Наталье оказалось откровенно мало. Она постоянно была в долгах как в шелках, она все время перехватывала некоторые суммы у знакомых, не гнушалась брать в долг и у своих придворных, ну а сестра графа Андрея, Наталья Кирилловна Загряжская, уже потеряла счет тем деньгам, которые у нее занимала великая княгиня. О ее финансовых затруднениях ходили слухи в Москве, и в Петербурге, и за границей. Наталья была так недовольна скупостью «ревнивой королевы, злой королевы, старой королевы», что с помощью Разумовского подбила мужа на новую авантюру: был задуман иностранный заем – без ведома императрицы! – с помощью секретаря французского посольства де Корбе-рона.
Когда эти слухи дошли до ушей Екатерины, едва не грянула новая буря, посильнее прежней. Однако тут стало известно, что великая княгиня беременна…
Екатерина мгновенно стала с невесткой если и не по-прежнему ласкова, то хотя бы очень осторожна. «Мне безразлично, чей это ребенок! – думала она с привычным здоровым цинизмом истинного государственного деятеля. – От души надеюсь, что от Разумовского. Пусть Наташка только родит – и больше никогда не увидит дитятю. Я воспитаю его сама, по образу своему и подобию. Я сделаю из него истинного государя для России. Назначу наследником в обход чухонца!»
Уже тогда бродили в ее голове мысли, которые потом, через много лет, до смерти пугали Павла и заставляли его ненавидеть своего старшего сына Александра…
Поначалу Наталья переносила беременность хорошо, и даже общее состояние ее здоровья улучшилось. О чахотке забыли. Однако, когда уже миновали все сроки для рождения ребенка, а долгожданное событие никак не происходило, врачи встревожились. Екатерина испугалась до такой степени, что проводила дни и ночи у постели невестки. Сейчас было забыто все, кроме ее здоровья и жизни… кроме здоровья и жизни ребенка!
И вот врачи, среди которых был и лейб-медик принца Генриха, брата Натальи, прибывшего из Германии, вынесли ужасный приговор: дитя умерло во чреве матери. Необходимо немедленно делать кесарево сечение, чтобы спасти великую княгиню, которая страшно мучилась.
Отчего-то консилиум замешкался с принятием решения, и наконец стало ясно, что операция запоздала. У Натальи началось заражение крови. Она знала, что умрет, но так намучилась, что ожидала смерти почти с нетерпением. И до последнего дня через преданную ей фрейлину Алымову она продолжала посылать своему любимому графу Андрею нежные записки и цветы. Страсть поглощала ее всю и значила для нее куда больше, чем какая-то смерть.
Когда ее соборовали и причастили, Наталья велела позвать к себе Разумовского – проститься – и долго смотрела на него с отрешенной нежностью.
Граф Андрей стискивал кулаки, чтобы удержать себя и не броситься на колени перед смертным одром. Нельзя. Если он не берег чести Натальи при жизни, то должен был охранять ее перед лицом смерти. Это был способен понять даже «шалунишка Андре».
Наталья увидела, что взор графа Андрея заволокло слезами, – и счастливо улыбнулась…
На мужа она едва повела глазами. И наконец закрыла их – словно с облегчением, что больше не увидит эту нелепую, ненавистную физиономию.
Губы ее еще шевелились, будто она что-то шептала. Граф Андрей приблизился, склонился. С другой стороны наклонился Павел.
– Не сбылось… – выдохнула Наталья. – Я ей не заплатила – и ничего не сбылось!.
Это были ее последние слова.
– Что она говорила? – ревниво выкрикнул Павел. – Что?
Граф Андрей промолчал. Он знал о том давнем гадании, Наталья рассказала ему. Но Павлу Разумовский не стал растолковывать странных слов умирающей. Эта тайна принадлежала только им двоим, любившим друг друга.
* * *
Пока граф Андрей недвижимо стоял над телом возлюбленной, а Павел громко рыдал, оплакивая жену, кабинет покойной был по приказу императрицы вскрыт, шкатулка с письмами доставлена к государыне. Екатерина просмотрела их, задержалась взором на строках некоторых посланий, сардонически хмыкнула, увидав список долгов великой княгини, доходивший до трех миллионов рублей, и опечатала шкатулку. Это было 15 апреля 1776 года. В тот же день императрица, цесаревич, принц Генрих и все придворные, в том числе граф Разумовский, переехали в Царское Село. Немедленно же после переезда комнаты великой княгини в Зимнем дворце были переделаны и перестроены, а мебель подарена архиепископу Платону, духовнику Натальи, напутствовавшему ее перед кончиной.
Павел был в страшном горе. Он вел себя как безумный, приближенные и врачи опасались за его рассудок и жизнь. За ним следили, чтобы удержать от самоубийства.
Екатерина встревожилась. Она призвала к себе наследника и, не тратя лишних слов на утешения, вскрыла перед ним запечатанную шкатулку с бумагами Натальи. Выбрала несколько писем, протянула Павлу.
– Что это? – едва проговорил тот дрожащим голосом.
– Читайте.
Запухшими от слез глазами он с трудом разбирал слова. Почему-то это были слова любви, обращенные к его жене. И написаны эти слова были… графом Андреем! Fidele et sincere ami!
Павел долго не мог поверить, что держит в руках доказательство измены своей обожаемой жены и своего самого близкого друга. Это закончилось страшной истерикой. Из императорских покоев наследника унесли почти без чувств.
Наутро граф Андрей, как обычно, явился к цесаревичу, однако тот был странно задумчив. Сказал Разумовскому только несколько невнятных слов, сдержанно обнял его и удалился к себе в опочивальню. И тут же растерянного графа вызвали к императрице.
Екатерина держалась непривычно холодно. Она вручила Разумовскому запечатанный пакет и велела собственноручно доставить в Петербург, фельдмаршалу князю Александру Михайловичу Голицыну.
Когда фельдмаршал вскрыл пакет перед своим высокопоставленным курьером, выяснилось, что письмо Екатерины предписывало графу Разумовскому остаться в Петербурге и принять участие в распоряжениях по погребению великой княгини.
Разумовский решил, что произошла какая-то ошибка. Он написал Павлу, умоляя объяснить причину удаления в такую минуту, когда он так желает быть полезным цесаревичу своей искренней, беспредельной преданностью.
Ответ пришел скоро и был, к ужасу графа Андрея, написан не лично цесаревичем, а секретарем. Смысл послания состоял в том, что приказ императрицы не может быть изменен ни под каким видом.
Графу Андрею осталось уповать только на то, что рассудок Павла помутнен горем, что после похорон все так или иначе уладится…
Тем временем стало известно, что тело покойницы подверглось врачебному вскрытию. Выяснилось, как записала в своем дневнике Екатерина, что «великая княгиня с детства была повреждена, что спинная кость не токмо была такова, но часть та, коя должна быть выгнута, была вогнута и лежала у дитяти на затылке. Кости имели четыре дюйма в окружности и не могли раздвинуться, а дитя в плечах имело до девяти дюймов…»
Между прочим, дитя это было мужского пола. Наталья не смогла родить обещанного цыганкою сына…
Как только результаты вскрытия стали общеизвестны, начал возмущаться барон Ассенбург. Он-де удостоверился в свое время у докторов, пользовавших принцессу Гессен-Дармштадтскую, что невеста русского цесаревича была совершенно здорова и не страдала никакими отклонениями.
Но какое это имело теперь значение?..
26 апреля состоялось погребение Натальи Алексеевны в Александро-Невской лавре (но отнюдь не в усыпальнице дома Романовых!). Павла при этом событии не было – он оставался в Царском Селе. Императрица на погребении присутствовала.
На другой день она сделала через фельдмаршала Голицына новые распоряжения относительно судьбы графа Разумовского. Графу предписывалось ехать в Ревель и там ожидать решения своей судьбы.
Это была опала. Настоящая государева опала, чего больше смерти страшились царедворцы…
Разумовский уехал, совершенно не зная, сколько месяцев, а может, дней он проживет еще на этом свете.
Между тем смерть любимой жены, а еще пуще – предательство ее и наилучшего друга произвели разительную перемену в натуре Павла Петровича. Из легкомысленного, словоохотливого, непоседливого человека он сделался сумрачным и недоверчивым, крайне подозрительным, что доходило у него порою до мании. И в то же время его неумение ни на чем толком сосредоточиться спасло ему рассудок. Когда – спустя несколько дней после кончины Натальи – Екатерина осторожно заговорила о необходимости поиска новой невесты и упомянула принцессу Софью-Доротею Вюртембергскую, Павел отнюдь не разгневался и не возмутился такой спешкой. Он обратил к императрице оживившийся взор и с большим интересом спросил:
– Брюнетка? Блондинка? Маленькая? Высокая?..
И немедленно началось сватовство, которое очень скоро кончилось браком. В России появилась новая великая княгиня – Мария Федоровна. К общему, надо полагать, удовольствию!
Екатерина со свойственной ей философичностью писала по поводу этого брака, пытаясь оправдать и свою поспешность, и слишком быстрое утешение Павла: «Если считал себя счастливым и потерял эту уверенность, разве следует отчаиваться, что снова возвратишь ее?»
Смысл этих слов можно расшифровать двояко: то ли все будет хорошо, то ли все, что ни делается, делается к лучшему…
А что же Разумовский? Как сложилась его судьба?
Ничего, с ним все обошлось. После нескольких месяцев скуки и тревоги в Ревеле он был назначен на дипломатический пост в Италию. И тогда граф Андрей понял, что он прощен, что ему сошел с рук неудавшийся заговор. В России того времени назначение в Италию было обычным наказанием для скомпрометированных любовников великих княгинь, но отнюдь не для разоблаченных заговорщиков!
Фортуна вскоре перестала ревновать и вновь обратилась к этому своему любимчику с улыбкой. Граф Андрей Кириллович Разумовский весьма далеко продвинулся на своем поприще и сделался одним из видных русских дипломатов. О связи с великой княгиней Натальей Алексеевной он, конечно, не болтал, однако об этом все и так знали. Граф Андрей всю жизнь весьма кичился этим. В Австрии его даже прозвали «эрцгерцог Андре» – за его гордость и высокомерие.
Ну что ж, бывший «шалунишка Андре» имел все основания гордиться собой!
Тихая тень
Луиза-Елизавета Алексеевна и Александр I
– Упокой, Господи, ее душу… – пробормотала матушка Варвара, осторожно, но сильно налагая персты на веки лежащей перед ней женщины и закрывая померкшие глаза.
Итак, все кончилось.
Сестра Мелания сложила на груди покойницы ее худые руки, выпрямилась и судорожно вздохнула. Матушка покосилась на нее, чуть приподняв брови.
Так и есть, это не вздох, а всхлипывание. Мелания еще совсем девочка, и, может быть, это первая смерть, которую она видит в жизни. Тем более что весь последний месяц она ходила за больной сестрой Верой и привязалась к ней. Варвара подумала, что к этой женщине довольно трудно было привязаться. Она была так замкнута, держалась так отчужденно от прочих сестер Новгородской обители… И молчала, она всегда молчала, она не проронила ни единого слова с того мгновения, как Варвара впервые увидела ее на пороге обители, – и по сей день! Тогда, более тридцати лет назад, в монастыре была другая настоятельница, а Варвара была еще послушницей. Правда, матушка называла ее своей помощницей и секретарем, однако в тот день у Варвары было послушание в привратницкой. И так вышло, что именно она отворила двери на резкий, требовательный стук.
На пороге стояли две женщины в черном. Обе они были под вуалями. Одна, ростом повыше, сложением поплотней, в скромной шляпке, поддерживала другую – маленькую, худенькую, согбенную, покрытую платком. Она слегка покачивалась, словно была бесплотной тенью, которую могло поколебать любое дуновение ветра. Или так утомлена дорогой?
Ее шаги были беззвучны, словно она не касалась земли, как и положено тени.
Та женщина, которая была повыше и покрепче, усадила свою усталую спутницу на лавку, велела Варваре подать ей воды, а сама потребовала встречи с настоятельницей. Во всем ее облике была непонятная, непривычная мирская властность, и хотя Варвара мало что знала о той жизни, которая протекала за монастырскими стенами, она сразу ощутила, что эта женщина занимает там какое-то высокое положение. Но, стало быть, ее спутница, о которой она так печется, к которой относится так почтительно, еще более высокопоставленная особа?
Варвара доложила о посетительницах. Матушка приняла высокую женщину, а другая – «тихая тень», как ее про себя назвала Варвара, – так и сидела в темном уголке приемной, опустив лицо, скрытое вуалью.
Варвара исподтишка поглядывала на нее, думала, что гостья небось задремала, и досадливо хмурилась, когда спицы – она постоянно что-нибудь вязала для детского приюта, опекаемого монастырем, вот и сейчас в спицах болтался почти готовый носок, – звонко щелкали одна о другую, тревожа тишину.
Потом вышли настоятельница и гостья. Варвара поразилась тому, какое странное, встревоженное лицо у матушки. Рука, безотчетно перебиравшая четки, заметно дрожала.
Гостья кивнула настоятельнице, потом подошла к своей спутнице и замерла перед ней. Мгновение стояла так, потом вдруг поклонилась… странно так поклонилась, не переломилась в поясе, не упала на колени, чтобы коснуться лбом земли, а плавно, медленно присела, чуть склонив стан. Руки взлетели, кисти изящно изогнулись, подхватив края широкой юбки.
«Тень» слабо шевельнулась и протянула тонкую руку, обтянутую черной перчаткой. Высокая женщина припала к этой руке, и казалось, прошло невыносимо много времени, прежде чем смогла от нее оторваться.
– Прощайте, – пробормотала сдавленно. – Храни вас Бог!
Ответа не последовало, и гостья ушла, по-прежнему держась чрезвычайно прямо, однако плечи ее чуть вздрагивали.
– Сестра Варвара, – негромко проговорила матушка. – Прими новую насельницу нашей обители. Назначим день крещения и дадим ей новое, не мирское имя, а пока… пока мы будем звать ее Молчальницей. Она дала обет не произносить ни слова. Запомни сама и скажи сестрам, что чужие обеты надобно почитать. Впрочем, я им сама все скажу.
Варвара помнила, что Молчальница приняла постриг 17 сентября – в день мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Для нее было избрано имя Вера, и под этим именем Молчаливая тень прожила в монастыре более тридцати лет. И вот сейчас Варвара – уже матушка, уже настоятельница – приняла ее последний вздох и закрыла ее глаза, которые некогда были голубыми, а теперь словно бы отцвели, как незабудки. И сейчас снова, как и прежде, как и всегда, поразила ее мысль: да неужто правда то, что открыла прежней настоятельнице высокая женщина, которая привела Молчальницу в обитель? Неужто правда то, что открыла матушка своей преемнице Варваре на смертном одре? Неужели сейчас испустила последний вздох не кто иная, как…
* * *
– Пусть приедут обе, – сказала Екатерина, и сын ее, великий князь Павел, только кивнул, ибо тон матери не допускал возражений. – Посмотрим и выберем.
Она окунула перо в чернильницу и вернулась к письму, которое писала графу Николаю Румянцеву, русскому посланнику при германских дворах:
«По прибытии в Петербург они будут жить в моем дворце, из которого одна, как я надеюсь, не выйдет никогда…»
– Как же никогда, ваше величество? – робко спросил Павел. – Что ж она будет делать в вашем дворце всю жизнь?
Екатерина уничтожающе посмотрела на сына:
– Подумай, голубчик! Хорошенько подумай!
– Предполагается, что одна из этих принцесс станет женой великого князя Александра, – с нескрываемой издевкой подсказал сидевший подле императрицы Платон Зубов и бросил кусочек булки левретке.
Левретка обнюхала булку, но есть не стала, рассердилась и подняла лай. Однако облаяла она почему-то не насмешника Зубова, а великого князя.
Павел окинул взглядом компанию, которую он ненавидел. И почувствовал, что заодно с матерью и ее любовником ненавидит теперь и эту, как ее там, которая станет женой его сына. Луиза? Фредерика? Какая разница!..
31 октября 1792 года в Петербург прибыли из Бадена две дочери тамошнего маркграфа Карла-Фридриха: Луиза – Августа, тринадцати лет, и одиннадцатилетняя Фредерика-Доротея. Одну из них предполагалось выбрать в невесты великому князю Александру Павловичу, которого Екатерина про себя мысленно величала цесаревичем и всерьез намеревалась сделать наследником престола. Пока же Александру было пятнадцать, самое время обзавестись семьей. Внук казался Екатерине обворожительным мальчишкой. Красивый, самолюбивый, умный, образованный, тщеславный как раз настолько, сколько нужно наследнику, пылкий, преисполненный радостных мечтаний – и в то же время задумчивый, умеющий размышлять, очень сильный физически, а сила нравственная придет с годами, главное для монарха не быть, а казаться сильным, чтобы внушать уверенность в подданных… Один недостаток усматривала Екатерина во внуке. Он был еще невинен, однако этот гордиев узел императрица разрубила с ловкостью другого Александра – Великого: изящно и насмешливо намекнула некоей хорошенькой фрейлине, что великий князь излишне робок, – и дело было сделано.
После того, как это произошло, великий князь несколько дней имел вид одновременно торжествующий – и перепуганный. Этот испуг в прекрасных голубых глазах не понравился Екатерине. Никто не знал мужчин лучше, чем она, их большая любительница. Мужчина, которому становится в постели страшно, который начинает думать не об амурных делах, а о своем, к примеру, нравственном падении, – это сущая погибель для его жены или любовницы!
Впрочем, надеялась Екатерина, с внуком все обойдется. Примеров для подражания при дворе множество. Взять хотя бы ее саму, императрицу…
Она томно вздохнула и подмигнула Платону Зубову, который осматривал в зеркале свой бесподобный нос: не вскочил ли, храни Боже, какой-нибудь прыщик, который может испортить его совершенную красоту?..
Стоило Платону перехватить взгляд императрицы, как он отошел от зеркала и с улыбкой двинулся к любовнице. Прыщик был на время забыт…
Но вернемся к сестрицам Баденским. С первого взгляда стало ясно, что той, которую Екатерина оставит в своем дворце, чтобы «не вышла никогда», будет старшая сестра – Луиза-Августа.
– Я ничего не видел прелестней и воздушней ее талии, ловкости и приятности в обращении, – с пылкостию сообщал Евграф Комаровский, выполнявший поручения при иностранных дворах и сопровождавший Луизу в пути.
Воспитатель Александра господин Протасов смотрел на будущую невесту своего питомца с особенным пристрастием и даже ревностью. Отчасти его настораживала та стыдливость, с которой относился к юной маркграфине Александр. В его поведении была какая-то тревога. Это определенно плохой признак. Но признак чего? Протасов и сам не мог бы сказать. А впрочем, Александр взирал на Луизу с немалым восторгом, а потому Протасов счел, что тревога – признак нарастающего чувства, и с восторгом строчил в своем дневнике: «Черты лица ее хороши и соразмерны ее летам… Физиономия пресчастливая, она имеет величественную приятность, все ее движения и привычки имеют нечто особо привлекательное. В ней виден разум, скромность и пристойность во всем ее поведении, доброта души ее написана в глазах, равно и честность. Все ее движения показывают великую осторожность и благонравие, она настолько умна, что нашлась со всеми, ибо всех женщин, которых ей представляют, сумела обласкать, или, лучше сказать, всех, обоего пола, людей, ее видевших, к себе привлекла».
Вот уж верно так верно! Даже брюзгливый и вспыльчивый Павел, даже его жена, утомленная собственной толщиной Мария Федоровна, и те приняли будущую невестку приветливо и сочли ее очаровательной. Увы, их добрых чувств надолго не хватило, но речь сейчас не о том.
Если бы Платон Зубов умел выражаться так же складно, как Протасов, он непременно записал бы в своем дневнике что-то подобное. Но он выразился в кругу приятелей в том смысле, что малютка сущая милашка и многое обещает. Бутончик, который расцветет и порадует ароматом того, кто это цветение ускорит.
Однако ускорение цветения сего бутончика величавой императрицей не предусматривалось. Все свершалось согласно протоколу, в свое время. Луизу-Августу образовали в православие под именем Елизаветы и обручили с великим князем Александром.
Тем временем настала пора ее сестре уезжать. После горестных прощаний Фредерика села в экипаж, но Луиза… нет, Елизавета, уже Елизавета вскочила в карету к сестре, последний раз поцеловала ее, выпрыгнула вон и бросилась бежать прочь. Когда ее нагнали перепуганные фрейлины, она уже справилась с собой: подавила слезы и медленно направилась к дому со спокойным выражением лица. Она умела скрывать свои чувства, и за это многие впоследствии будут считать ее холодной и бессердечной.
Хорошо, что от нее не требовалось скрывать своих чувств к жениху! Елизавета радостно писала матери: «Счастье моей жизни в его руках, и если он перестанет любить меня, то я буду несчастной навсегда. Я перенесу все, но только не это!»
Наконец настал день свадьбы – 23 сентября 1793 года. Это происходило в церкви Зимнего дворца. При виде молодых всеми овладело умиление, ибо они были хороши, как ангелы.
– Я отдала ей самого красивого молодого человека во всей моей империи! – гордо сказала Екатерина, поглядывая на невесту, которая тоже была безумно хороша.
Их можно было сравнить с Амуром и Психеей. Но они были еще сущими детьми и продолжали оставаться детьми, хотя и звались супругами. Как же они веселились, когда приглашали к себе друзей Александра или любимых фрейлин Елизаветы по утрам на чай или на прогулку! Александр не разрешал входить через дверь – надо было непременно пролезть через окно вслед за ним. Если начинался град, Елизавета бегала и собирала градины. Они назывались «жемчужины», и эта юная девушка, чей наряд был усыпан подлинными жемчугами, радовалась как дитя, когда удавалось найти градину побольше других. Она страстно любила бегать наперегонки – императрица часто устраивала такие забавы – и поражала всех своей легкостью. Казалось, она не касается земли!
Встреча с каждым новым человеком была для нее праздником. Как-то раз Елизавета вместе со своей фрейлиной, графиней Головиной, гуляла по парку вдоль канала в Петергофе. Они дошли до пристани. В одной из лодок матросы, усевшись в кружок вокруг котла, ели деревянными ложками похлебку. Елизавета уставилась на них, а потом спросила, что они едят.
– Похлебку, матушка! – ответил с поклоном старшина, без малейшей насмешки величая юную девушку так, как в народе издавна величали цариц.
Елизавета никогда не слышала такого слова – похлебка. Название это показалось ей до того смешным, что она мигом спустилась в шлюпку и попросила ложку – попробовать. Матросы пришли в полный восторг и начали кричать во славу «матушки». Елизавета попробовала несколько ложек, кивнула с видом полного удовольствия и медленно, с достоинством удалилась. Постепенно фрейлина разглядела, что вид у нее скорее растерянный, чем довольный. Наконец Елизавета начала смеяться, то и дело повторяя:
– Похлебка! Ну вот и похлебка! – и укоризненно покачивала головой, однако непонятно было, кого же она корит, то ли вкус странного блюда, то ли себя за любопытство.
Казалось, все сулило счастье Амуру и Психее, однако окружающие словно сговорились не оставлять их в покое и всячески им мешать. Тон задавала жена Павла Петровича, Мария Федоровна, которая отчаянно завидовала красоте, молодости невестки, тому вниманию, которое оказывал ей Павел Петрович, а всего пуще – расположению к ней императрицы. Для начала Мария Федоровна решила поссорить Елизавету с ее фрейлинами, чтобы не было у нее ни одного близкого человека, – и это ей во многом удалось.
Немало масла в огонь подливал и фаворит императрицы Платон Зубов. От многозначительных поглядываний на «бутончик» он перешел к недвусмысленным ухаживаниям. Это не осталось тайной для придворных. Ухаживания Зубова делали его смешным. Несколько придворных всячески помогали Зубову в его проделках: то записочку норовили передать Елизавете, то устроить нечаянное свидание. Елизавету все это не только не занимало, но и весьма раздражало.
Придворные судачили, что припадки любви овладевают Зубовым почему-то после обеда. Он тогда то и дело вздыхал, растягивался на длинном диване с томным видом и, казалось, погибал от тоски, сжимавшей его сердце. Его могли утешить и развлечь лишь сладострастные звуки флейты. Одним словом, вздыхали чувствительные дамы, которых волновали черные очи фаворита, у него были все признаки человека, серьезно влюбленного.
Это стало, в конце концов, не на шутку смущать Елизавету и раздражать Александра, у которого и так было тяжело на сердце. Увы, семейная жизнь Амура и Психеи не складывалась… Наблюдательная интриганка фрейлина Варвара Николаевна Головина, которая искренне обожала великую княжну и близко к сердцу принимала все ее печали, украдкой вздыхала, понимая сущность того, что разделяет юных супругов: великий князь любил свою жену как брат, как друг, так, как он любил свою прелестную сестру Екатерину Павловну, но ведь Елизавета мечтала о другой любви… Женщины созревают раньше мужчин, Елизавета быстро поняла, что держаться за руки на супружеском ложе, – это не совсем то, ради чего мужчина и женщина ложатся в одну постель. Когда же Александр снисходил до того, что заключал жену в объятия, ласки его были осторожны, торопливы и словно бы стыдливы. Не раз бывало так, что Елизавета украдкой плакала от разочарования, от того, что муж заставлял ее чувствовать себя докучливой распутницей. Да, ее воспитание, уроки матери внушали, что чувства женщины должны быть направлены только на ее супруга. Но что делать, если означенному супругу и даром не нужны эти самые чувства?!
Может быть, все еще и наладилось бы. Может, удалось бы изгнать холодность, которая уже стала меж ними третьей лишней. Но судьба приготовила им новое испытание. И виновна была в этом – вот уж злая ирония судьбы! – не кто иная, как их благодетельница, устроительница их брака – императрица Екатерина.
Известно, что в то время как раз закончился разгром польского восстания и завершился третий раздел Польши. Победоносный Суворов разбил конфедератов, вождь восстания Костюшко попал в плен, в Варшаву вошли русские войска.
Однако среди польской шляхты существовали люди, которые были достойны внимания русской императрицы. Князь Святополк-Четвертинский, остававшийся верным России, был повешен поляками. Его дочери, Жанетта и Мария, остались без всяких средств к существованию. Екатерина отдала приказ привезти их в Россию и приютить при дворе. Вслед за ними в Петербурге появились братья Чарторыйские, сыновья генерального старосты Подолии Адама-Казимира. Имения Чарторыйских были конфискованы, а сыновья старосты, Адам и Константин, прибыли в Петербург не столько в качестве гостей, сколько как заложники. Императрица хотела покорить старосту Подолии, обласкав его сыновей, которые вскоре получили звание камер-юнкеров.
Но не странно ли, что в лице этих молодых людей, столь тепло принятых русской государыней, Польша отомстила Екатерине и ее потомкам сполна! Правда, Мария и Жанетта сыграют свою роковую роль несколько позже. Первым же орудием Немезиды сделался красавец Адам Чарторыйский.
В отличие от своего младшего брата, ничем не отличавшегося от какого-нибудь легкомысленного француза, пан Адам Чарторыйский был сдержан, загадочен, умен, интересен и редкостно красив. Причем во внешности его не было блаженного спокойствия и уверенности в себе, какими обладал Александр (этим он и покорял тех женщин, которым по вкусу неподвижная красота античных статуй). В Адаме Чарторыйском было нечто роковое, и если не злобно-дьявольское, то трагическое… И как положено темной силе, он принялся искушать этих двух светлых, недовольных друг другом детей – Александра и Елизавету.
А между тем Екатерина, до которой не могли не дойти слухи о влюбленности Зубова в великую княжну, забеспокоилась. Нет, она была уверена в разумности и добродетельности Елизаветы, однако сплетни пошли уже самые несусветные. Кто-то даже додумался до того, что уверял, будто государыня сама поощряет Зубова, обеспокоившись тем, что у Елизаветы нет ребенка, так как великий князь не способен его «сделать». Всем было известно, что Екатерина сама некогда оказалась в совершенно такой же ситуации, ну вот и, обжегшись на молоке, усиленно дула на воду.
Это была чепуха. Екатерина возмутилась и предложила любовнику выбор: оставить молоденькую великую княжну в покое – или покинуть двор. Любовь Платона мигом растаяла, словно прошлогодний снег. Он отвязался от Елизаветы – и в освободившееся пространство стремительно ринулся новый завоеватель: роковой красавец Адам.
При молодом дворе (а надо сказать, что у юных великих князей был свой двор, хоть и небольшой, но был, так же, как имелся в Гатчине свой двор у Павла Петровича) воцарилась любовная атмосфера. Константин Чарторыйский тоже пламенно влюбился – в Анну Федоровну, жену великого князя Константина Павловича. Бывшая принцесса Юлиана Кобургская была очень несчастна со своим грубым и жестоким мужем, поэтому с удовольствием принимала ухаживания другого Константина – не выходившие, впрочем, за рамки обычных и приличных охов-вздохов.
Однако и слепому было видно, что страсть другого Чарторыйского к другой великой княжне далеко заходит за пределы мягкого флирта.
И оказалось, что его трудно винить, ибо Александр всячески демонстрировал свое равнодушие к Елизавете. При этом он подчеркивал свое расположение к Адаму, каждый день приглашал его к себе и настаивал, чтобы жена присутствовала при их встречах. Он словно бы поощрял эту страсть. Доходило до того, что он приглашал Адама к ужину, а сам уходил, оставляя Елизавету наедине с ним. Однажды она даже убежала от такого вынужденного tete-a-tete. Придворные стали сдержанно указывать великому князю на недопустимость и опасность такого поведения. Елизавету все втихомолку жалели. А она жалела себя… и красавца Адама, потому что видела: он истинно, непритворно, страстно влюблен!
Когда перед женщиной – тем более юной, неискушенной, не уверенной в себе и обиженной на судьбу, – постоянно маячат двое мужчин, причем один из них холоден и подчеркнуто равнодушен, а второй умирает от любви, она, какова бы ни была добродетельна, рано или поздно склонится в сторону того, кто боготворит ее, а не отвергает ее. И разве удивительно, что черные глаза Адама все чаще встречались с голубыми глазами Елизаветы, испуг и негодование в которых постепенно сменялись другими чувствами, пока там не осталась только одна любовь?..
Главное, никто не мог поверить, что Елизавета не откликнулась на страсть Адама, настолько он был красивее, значительнее и обворожительнее ее мужа, которого в это время вдруг одолела мысль отказаться от будущего престола, расстаться со двором, светом – и вести жизнь какого-нибудь скромного пейзанина близ рейнских брегов.
Елизавету возможность сделаться пейзанкой прельщала мало. Но если это сулило душевное спокойствие, то она была готова на все!
Однако люди редко бывают властны в своей судьбе.
* * *
Случилось событие, которое мигом изменило не только положение при большом, малом и гатчинском дворах, но и во всей России. Умерла императрица Екатерина Алексеевна, по праву заслужившая называться Великой, и на престол взошел ее сын Павел, который вскоре стал именоваться императором Павлом I. Первое, что он сделал, это велел перекрасить фасады зданий и будки полицейских в черную и белую полоску – и перезахоронил прах своего отца (или человека, который официально считался его отцом) императора Петра III Федоровича. Вслед за тем любезные его сердцу воинские порядки он ввел и при дворе, и порою окружающие терялись от его мелочных придирок, не зная хорошенько, имеют они дело с государем российским или же с каким-нибудь фельдфебелем.
Однажды, когда назначена была поездка в Смольный, две великие княгини, Елизавета и Анна, одетые и совершенно готовые немедленно сесть в карету, дожидались в комнатах Елизаветы Алексеевны, когда за ними пришлют. Явился придворный за ними, дамы поспешили к выходу. Государь глянул на них пристально и гневно сказал императрице Марье Федоровне, указывая на молодых женщин:
– Вот опять недопустимые вещи! Это все привычки прошлого царствования, но они никуда не годятся. Снимите, сударыни, ваши шубы и впредь надевайте их не иначе как в передней.
Все это было объявлено сухим и оскорбительным тоном, свойственным императору, когда он бывал не в духе.
Мария Федоровна по мере сил старалась не отставать от мужа – особенно когда дело касалось Елизаветы, которую она откровенно, даже слишком откровенно недолюбливала.
В день коронации все были при полном параде. В первый раз были надеты придворные платья, заменившие русский костюм, принятый при Екатерине. Чтобы украсить наряд, Елизавета рядом с бриллиантовой брошью приколола на грудь несколько маленьких бутонов роз. Когда перед началом церемонии она вошла к императрице, та смерила ее презрительным взглядом, а потом сорвала букет с ее платья и швырнула на землю.
– Это не годится для парадных туалетов! – рявкнула она.
«Это не годится!» – теперь стало привычной фразой, когда императрице что-то не нравилось. Елизавета стояла как громом пораженная. Такая бесцеремонность просто убивала ее. И когда! Накануне таинства миропомазания! Контраст между величием предыдущего царствования и грубостью нынешнего был разителен.
Но это были еще цветочки.
Сколько неприятностей выдержала Елизавета лишь оттого, что ее сестра Фредерика вышла за шведского короля Густава IV Адольфа!
Он некогда сватался к великой княжне Александре Павловне, однако брак не удался из-за того, что Екатерина была против перехода внучки в протестантскую веру.
– Вы загордились и не хотите целовать мою руку, потому что ваша сестра теперь королева! – ворчала императрица. – Но она всего лишь прошла по стопам Александры, – тут же заявляла она заносчиво.
Елизавета спасалась только тем, что отмалчивалась.
Между тем император выказал свое расположение братьям Чарторыйским. Теперь Адам стал адъютантом великого князя Александра. Если бы кто-нибудь спросил у Елизаветы, радует ее это или огорчает, она вряд ли смогла бы ответить определенно. Скорее, назначение ее пугало.
А впрочем, теперь у нее было чем отвлечься от тягот или соблазнов придворной жизни. Это было ее собственное состояние: ведь Елизавета обнаружила, что беременна.
Она была счастлива. Так, значит, неловкие, торопливые, почти стыдливые ласки, которых ее порою удостаивал муж, все-таки дали свои плоды! Князь Адам и связанные с ним душевные терзания мгновенно вылетели из головы Елизаветы. Тем более что она очень страдала от дурноты в первые месяцы. Дурноту приходилось скрывать, ибо слишком рано объявлять о том, что великая княгиня в тягости, считалось плохой приметой. Однако в ноябре скрывать случившееся уже не было возможности.
Все были очень рады, и даже император не скрыл своего восторга. Ведь Александр и Елизавета женаты уже шесть лет. Давно пора появиться детям! Давно пора родить будущего наследника престола…
Однако 18 мая у великой княгини Елизаветы Алексеевны родился не сын, а дочь. Все, впрочем, сочли, что лиха беда начало, и обрадовались рождению новой великой княжны. Даже Павел радовался – поскольку одновременно с известием о рождении внучки он получил весть о победе Суворова в Италии и ему были доставлены неприятельские знамена.
За Елизаветой, если ей бывало нехорошо, ухаживала княжна Мария Святополк-Четвертинская. Она тогда была фрейлиной, еще не вышла замуж за Дмитрия Нарышкина, который будет сквозь пальцы смотреть на то, что его жену назовут новой Аспазией[51], а потом и вовсе закроет глаза на бурный многолетний роман Марии Антоновны с императором Александром I.
Словом, Судьба, которой ведомо грядущее, продолжала иронизировать…
Александр все больше сближался с Адамом Чарторыйским и готов был всячески защищать его от немилостей отца, который мгновенно ополчался против всех нерасположенных к военной службе. У князя Адама не было ни малейшего желания тянуться перед кем бы то ни было во фрунт. В конце концов Александр добился для него увольнения из службы и перевода в свиту великой княжны Екатерины Павловны.
Александр так носился с устройством судьбы своего друга, что мало интересовался женой и дочерью. А между тем обе они вызывали буквально нездоровый интерес при дворе. Особенно занимала всех внешность маленькой великой княжны.
В Павловске императрица вдруг попросила Елизавету прислать ей ребенка, хотя девочке было всего три месяца, а от дома великого князя до дворца было довольно далеко. Пришлось, однако, повиноваться, и потом, когда девочку привезли обратно, Елизавета узнала от дам, сопровождавших ребенка, что Мария Федоровна носила ее к императору. Нисколько не подозревая грозы, собравшейся над ее головой, Елизавета была благодарна государыне, считая это просто желанием полюбоваться внучкой. Однако она жестоко ошибалась и скоро узнала об этом.
Немедленно после визита Марии Федоровны взбешенный император приказал камергеру Федору Ростопчину написать приказ о ссылке Чарторыйского в Сибирский полк. И гневно воскликнул:
– Жена мне сейчас раскрыла глаза на мнимого ребенка моего сына!
Оказалось, императрица ехидно напомнила мужу, что и сын, и его жена светловолосы и светлоглазы, однако у девочки темные глаза и темные волосы. Случившаяся при этом Шарлотта Ливен, воспитательница детей государя, робко попыталась остудить гнев императора, прошептав, что Господь-де всемогущ, однако толку с этого заступничества было мало.
Ростопчин, который пытался защитить добродетель Елизаветы, преуспел несколько больше и с превеликим трудом умолил Павла не позорить ни в чем не повинную сноху громким скандалом. Однако наутро великий князь Александр узнал от Чарторыйского, что тот получил приказ уехать из Павловска и поскорее отправиться в Италию в качестве посланника от России к королю Сардинии, которого революционная смута и война вынудили покинуть свое государство и блуждать по разным областям Италии, где еще было спокойно.
Это была самая настоящая ссылка, и нетрудно было догадаться, что причиной ее стали темные глаза и темные волосы маленькой великой княжны Марии.
Неведомо, что сильнее оскорбило Александра: что ему ткнули в лицо возможной изменой жены – или изгнание его лучшего друга. Однако он еще больше отдалился от Елизаветы, отношения между ними стали ледяными.
Девочка была теперь единственным счастьем Елизаветы, но… в августе 1800 года ребенок умер в Царском Селе. Императрица держалась с приличной скорбью, хотя и не скрывала облегчения, что двусмысленная ситуация так быстро разрешилась. Как ни странно, огорчился смертью девочки и император. Вообще говоря, на всю семью произвела удручающее впечатление страшная скорбь Елизаветы. Ей казалось, что жизнь ее кончилась. И никакого утешения Александр, замкнувшийся в своем высокомерии, не мог ей дать.
Однако весьма скоро произошло событие, которое показало ему собственную слабость – и силу духа покинутой им жены.
Событие это произошло 11 марта 1801 года, и называлось оно государственным переворотом.
Все знали, что Александр сам дал недвусмысленное согласие первому министру, графу Петру Алексеевичу Палену на убийство императора, буде тот не пожелает отречься от престола. Однако стоило ему услышать о том, что желаемое свершилось, как он впал в состояние ужасной нерешительности.
…Александра разбудили между полуночью и часом ночи.
Николай Зубов, брат бывшего фаворита Екатерины (все трое братьев Зубовых – Николай, Платон и Валерьян – участвовали в смене власти), появился у него – растрепанный, с лицом странным и страшным, до того он был возбужден, – пришел доложить, что все исполнено.
Иногда Александр, который был с детства туговат на ухо (как-то раз на учениях его оглушила пушка), забывал об этом. Иногда очень кстати вспоминал. Вот и сейчас, делая вид, что ничего не слышит и не понимает, он переспросил:
– Что такое исполнено?
Тут пришел граф Пален и пояснил простыми словами…
Елизавета поднялась вместе с мужем. Она накинула на себя капот и подошла к окну. Подняла штору. Ее комнаты были в нижнем этаже и выходили на плацдарм, отделенный от сада каналом, который опоясывал Михайловский дворец.
Ветер к полуночи разошелся, немного очистил небо, и при слабом лунном свете Елизавета различила ряды солдат, окружившие дворец. Слышны были крики «ура», от которых у этой нежной и несчастной женщины начинало трепетать сердце. Она, как и все, со дня на день ожидала событии, но сейчас, как и все остальные члены царской семьи, не хотела поверить, что они уже свершились. Елизавета упала на колени перед иконой и принялась молиться, чтобы все, что случилось (что бы это ни было!), оказалось направлено к спасению России и ко благу Александра.
В этот миг в комнату ее вошел муж и рассказал, что произошло.
– Я не чувствую ни себя, ни что делаю, – бессвязно твердил он. – Мне надо уехать из этого места. Пойди к императрице… к моей матушке… попроси ее как можно скорее собраться и ехать в Зимний дворец.
Он всхлипнул, и Елизавета обняла его, как сестра. Только такую любовь муж готов был принять от нее, только такую любовь, похожую на жалость, но она уже смирилась с этим и сейчас мечтала лишь об одном: утешить его. Такими вот – перепуганными, плачущими в объятиях друг друга, словно осиротевшие дети, – и нашел их спустя несколько минут граф Пален.
Он подавил раздражение и сказал почтительно:
– Ваше величество, извольте идти царствовать! Александр вскочил.
– Нет, – сказал он тихо, но твердо, – я не хочу, я не могу!
В ту же минуту ему сделалось дурно, он начал падать, и жена едва успела поддержать его.
Послали за лейб-медиком Роджерсоном, который констатировал у государя нервические судороги, а в общем, ничего серьезного. Александр Павлович, по его словам, вполне мог выйти к солдатам.
Но еще долго Палену и Елизавете пришлось ободрять совершенно потерявшегося императора, чтобы он исполнил свой первый долг и показался народу. Наконец он решился.
Какое-то время солдаты Преображенского полка и Александр молчком стояли напротив, недоверчиво и испуганно вглядываясь в лица друг друга. Александру чудилось, что эти люди сейчас завопят:
– Какой он император?! Это самозванец и убийца! Бей его!
Он ощутимо дрожал.
Наконец Палену неприметными тычками удалось сдвинуть оцепенелого Александра с места и погнать его к выстроившимся поблизости семеновцам. Этот полк считался как бы собственным полком великого князя, тут Александр почувствовал себя полегче, к тому же непрестанный, настойчивый шепот Палена:
– Вы губите себя и нас! Очнитесь! – начал, наконец, действовать на эту слабую натуру.
Александр принялся шевелить губами и повторять вслед за Паленом, сперва тихо, потом все громче и громче:
– Император Павел скончался от апоплексического удара. Сын его пойдет по стопам Екатерины!
Слава Богу, грянуло «ура»: эти слова произвели ожидаемое действие. Пален смог перевести дух. Он посоветовал новому государю срочно отправиться в Зимний дворец. Александр с облегчением кивнул.
В это время Елизавета Алексеевна с помощью своей камер-фрейлины поспешно оделась и отправилась сообщить страшную новость Марии Федоровне. У входа в комнаты императрицы ее встретил пикет и никак не хотел пропускать. После долгих переговоров офицер наконец смягчился и пропустил Елизавету, которая с ужасом пыталась подобрать слова, однако судьба смилостивилась над нею: Мария Федоровна уже знала страшную новость.
Разбуженная и предупрежденная графиней Шарлоттой Ливен, императрица, забыв одеться, бросилась к той комнате, где Павел испустил дух. Но ее не пускали: над трупом теперь работали доктора, хирурги и парикмахеры, пытаясь придать ему вид человека, умершего приличной смертью. Здесь, в прихожей, и нашла свою свекровь Елизавета. Мария Федоровна, окруженная офицерами во главе с Бенигсеном, требовала императора. Ей отвечали:
– Император Александр в Зимнем дворце и хочет, чтобы вы туда приехали.
– Я не знаю никакого императора Александра! – кричала Мария Федоровна. – Я желаю видеть моего императора!
Она уселась перед дверьми, выходящими на лестницу, и заявила, что не сойдет с места, пока не увидит Павла. Похоже было, она не сознавала, что мужа нет в живых. Потом вдруг она вскочила – в пеньюаре и шубе, наброшенной на плечи, и воскликнула:
– Мне странно видеть вас неповинующимися мне! Если нет императора, то я ваша императрица! Одна я имею титул законной государыни! Я коронована, вы поплатитесь за неповиновение!
И опустилась на стул, шепча, словно в забытьи, на немецком языке, на коем всегда предпочитала изъясняться:
– Я хочу царствовать!
Эти слова то и дело вырывались у нее, вперемежку с причитаниями по убитому.
В комнате беспрестанно толпился народ. Люди приходили, уходили, прибывали посланные от Александра с требованиями к жене и матери немедля прибыть в Зимний, но Мария Федоровна отвечала, что уедет, лишь увидав Павла. С ней уже и говорить перестали!
В ту ночь в Михайловском дворце вообще был ужасный кавардак. Елизавета, которая от усталости и потрясения была почти на грани обморока, вдруг ощутила, как кто-то взял ее за руку. Обернувшись, она увидела незнакомого ей, слегка пьяного офицера, который крепко поцеловал ее и сказал по-русски:
– Вы наша мать и государыня!
Она только и могла, что слабо улыбнуться этому доброму человеку, потом тихонько заплакала, впервые поверив, что все, может быть, еще кончится хорошо и для нее, и для Александра, и для России.
Наконец между шестью и семью часами утра Мария Федоровна и Елизавета отправились в Зимний дворец. Там Елизавета увидала нового императора, лежавшего на диване, – бледного, расстроенного и подавленного. Мужество сменилось у него новым приступом слабости, изрядно затянувшимся.
Александр бормотал, хватая руки жены своими ледяными, влажными пальцами:
– Я не могу исполнять обязанности, которые на меня возлагают. У меня нет на это сил, пусть царствует, кто хочет. Пусть те, кто исполнил это преступление, сами царствуют!
Елизавета покосилась на Палена, стоявшего в амбразуре окна, и увидела, как тот передернулся. Она почувствовала, как глубоко оскорблен этот человек – оскорблен за себя и за тех, кто обагрил руки в крови ради Александра, ради ее слабохарактерного супруга. Она поняла, что ей предстояло быть сильной за двоих – за себя и за мужа.
И Елизавета начала говорить, шептать, увещевать, твердить – предостерегать Александра от тех ужасных последствий, которые могут произойти от его слабости и необдуманного решения устраниться. Она представила ему тот беспорядок, в который он готов был ввергнуть империю. Умоляла его быть сильным, мужественным, всецело посвятить себя счастью своего народа и смотреть на доставшуюся ему власть как на крест и искупление.
Тем временем Мария Федоровна объявила среди погребальных хлопот, что не желает расставаться со своим штатом императрицы, не даст ни единого человека и вскоре вытянула из сына согласие, что придворные будут одинаково служить и ей, и ему. Она истерически потребовала, чтобы с этого времени статс-дамы и фрейлины получали шифры[52] обеих императриц, ибо она ничего не хотела уступить Елизавете! Это было вещью неслыханной и даже смешной с точки зрения придворного этикета, однако в то время мать всего могла добиться от своего сына, и она не упускала случая. Стоило Марии Федоровне воскликнуть трагическим голосом: «Саша! Скажи мне: ты виновен?!» – как император становился мягким воском в ее руках. И Елизавета почувствовала, что краткие минуты полного доверия и дружбы, которые установились между ней и мужем и внушили ей надежду на счастье, уже истекли.
Она горько пожалела об этом, совершенно забыв, что переворот не только сделал императором Александра. Он и ее, великую княжну Елизавету Алексеевну, сделал императрицей!
Но это не принесло ей счастья.
* * *
Государственные дела всецело поглотили нового императора. И, как это ни странно (а может быть, как раз вполне объяснимо!), одновременно с императором Александром родился и великий любовник. Однако, увы, не жена привлекла его пробудившуюся, самоуверенную чувственность, не жена, которая всю жизнь ждала от него именно страстной, плотской любви. Эта любовь у Александра всегда была направлена только на других женщин.
Можно сказать, что пробудила эту чувственность любовь к прусской королеве Луизе. Это была необыкновенно умная и привлекательная женщина. Ей было тогда всего лишь 26 лет – на год больше, чем русскому императору, – у нее были синие глаза и великолепные, пышные пепельные волосы. Александр совершенно сознательно и расчетливо (в интересах союза двух государств!) свел с ума эту красавицу, обделенную общением с поистине умными и обольстительными мужчинами. При этом он и сам чувствовал к ней такое влечение, что, живя с ней в Мемеле в одном дворце, каждую ночь накрепко запирал двери своей опочивальни. И не введи нас в искушение, и избави нас от лукавого!
Симпатию к королеве Луизе русский император хранил в своем сердце всю жизнь. А в 1814 году Александр обратил внимание своего брата Николая на подрастающую дочь Луизы – Фредерику-Луизу-Шарлотту-Вильгельмину, он тогда как раз искал невесту при иностранных дворах, которая и стала его женой, получив в православном крещении имя Александры Федоровны.
Однако нежная страсть к королеве Луизе не мешала Александру без раздумий вступать в связи с другими дамами. Среди прочих была графиня Мария Алексеевна Бобринская, двоюродная сестра Александра (внучка Екатерины Великой и Григория Орлова, дочь их сына Алексея). Она была замужем за князем Сергеем Николаевичем Голицыным, старалась хранить ему верность, так что связь ее с императором оказалась хоть и бурной, но не долгой.
Была у него и любовная история с некоей купчихой Бахаратовой, в объятиях которой Александр утешался, когда его отвергла загадочная мужененавистница и секретный агент России Анна де Пальме.
Потом случился роман со знаменитой актрисой мадемуазель Жорж, шпионкой Наполеона, изображавшей его невинную жертву, которую Александр уступил позже брату, но она разочаровала его, а затем мадемуазель отбыла в Париж.
Но и этих, и всех прочих доступных и недоступных красоток затмила звезда Марьи Антоновны Нарышкиной – наилюбимейшей любовницы государя.
Это была та самая польская красавица, дочь несчастного князя Святополк-Четвертинского, которую некогда привезли в Россию по приказу императрицы Екатерины. Сказать, что она была красива, – значило ничего не сказать. Всякое описание ее бледнело перед реальностью. При виде ее мужчины цепенели, столбенели и немели. Однако их оцепенение меньше всего интересовало Марью Антоновну, которая предпочитала мужчин смелых. Она и сама была смела в манерах и в любви, истинная Аспазия, как назвал ее в своих стихах Державин. Супруг, князь Дмитрий, в свою очередь оказался истинным Амфитрионом[53], особенно когда на жену обратил внимание всемогущий «Зевс» – император.
Александру было известно о том, что до него Нарышкина дарила своей благосклонностью очень многих мужчин, и о том, что у него были «заместители» во время их связи. Как-то раз Александр застал у нее любовника! Это был генерал-адъютант граф Адам Ожаровский, друг императора. При виде государя он ринулся спасаться в самое пошлое место – в платяной шкаф. Александр вынул его оттуда и патетически проговорил:
– Ты похитил у меня самое дорогое! Тем не менее я буду с тобой и дальше обращаться как с другом. Твой стыд будет моей местью!
Жест был благородный – и вполне объяснимый. Александр не в силах был не только расстаться, но и поссориться с Марьей Антоновной. Его любовь к ней еще возросла, когда Нарышкина забеременела. Говорят, она родила от императора троих детей, из которых он особенно любил старшую – Софью.
Мария Антоновна была красива, очаровательна, обворожительна, однако доброй и великодушной ее мог бы назвать только сумасшедший. Одним из ее наиболее излюбленных развлечений было пойти на бал к императрице и, осведомившись о здоровье ее величества, пожаловаться на то, что она, Нарышкина, опять беременна.
Елизавета прекрасно знала, от кого могла быть беременна красавица Нарышкина. Это было даже предметом шуток в «узком кругу». Так, например, когда Александр однажды спросил у князя Дмитрия:
– Как поживают ваши дети? – тот ничтоже сумняшеся ответил:
– Ваши дети поживают очень хорошо.
Эти милые шутки могли развеселить кого угодно, но только не императрицу!
Никогда в жизни она не ощущала себя такой одинокой. Рассказывали, что раньше русские государи отправляли неугодных жен в монастыри (эта участь, между прочим, была многолетним кошмаром для Екатерины Второй) С тех пор времена изменились, конечно, однако Елизавета, умирая от скуки, тоски, женской заброшенности, думала, что ее нынешнее существование ничем не лучше монастырского заточения. Она была убеждена, что теперь ее ожидают только унылое одиночество и увядание, как вдруг на этом тусклом небосводе мелькнула такая яркая звезда, что жизнь Елизаветы озарилась новым светом.
Она полюбила. Это была счастливая любовь, потому что избранник был и достоин любви, и обожал императрицу… но она оставалась императрицей, пусть и забытой мужем.
У императрицы могла быть только тайная, запретная любовь!
Ее избранником стал штаб-ротмистр кавалергардского полка Алексей Охотников. А впрочем, это она была его избранницей, ибо Алексей первый влюбился в эту милую и обольстительную женщину. Елизавета замечала настойчивые взгляды, которые устремлял на нее красивый черноглазый кавалергард, однако ее самолюбие было настолько уязвлено похождениями мужа, что она сначала предполагала, что Алексей смотрит на нее с издевкой. Не скоро она разглядела в его глазах обожание.
Помогла его родственница, бывшая фрейлина Елизаветы, княгиня Наталья Голицына, в девичестве Шаховская, которая была кузиной Алексея и опекала провинциала, приехавшего из Воронежа в столицу в поисках счастья. Первое время Алексей трудился в Сенате на должности регистратора, а потом деверь пристроил его в кавалергардский полк. Труда особого это не составило – именно таких редкостных красавцев туда и принимали. Алексей страстно желал эту женщину, императрицу – и в конце концов добился ее, как ни трудно было устраивать тайные свидания. Да и когда Алексей снял дом на Сергиевской улице, проще стало ненамного, ибо Елизавете невероятно сложно было вырваться из дворца и приехать на свидание к любимому.
Да, она тоже полюбила Алексея и впервые за много лет почувствовала себя истинно счастливой. Они писали друг другу письма, пряча их в самых неожиданных местах дворца, они испепеляли друг друга огненными взорами и обжигали мимолетными прикосновениями, якобы случайно встречаясь то тут, то там, в коридорах и на лестницах… Алексей был именно тот мужчина, о котором она мечтала всю жизнь, каким так и не стал для нее муж, император!
Все это кончилось тем, чем и должно было кончиться. Елизавета поняла, что беременна.
Поскольку государь давно не навещал опочивальню своей жены, беременна она могла быть лишь от своего любовника.
Она так сильно любила Алексея Охотникова, что какие-то соображения чести, расчета перестали для нее существовать. Если бы она могла покинуть дворец, исчезнуть, уехать за границу, чтобы там соединиться со своим возлюбленным, она была бы счастлива, даже если бы ее имя и было покрыто позором. Поэтому Елизавета отправилась к мужу, рассказала о случившемся и попросила отпустить ее, дать ей свободу: развестись или хотя бы просто разъехаться с ней.
Однако она не учла, что ее позор будет означать позор ее супруга – императора. Разумеется, Александр не отпустил ее. Но и не начал проклинать ее, требовать избавиться от ребенка. Он ведь и сам был виноват перед женой. Он объявил, что ребенок Елизаветы – это его дитя. И хоть мало кто верил этому, злые языки вынуждены были умолкнуть.
Среди тех, кто умолк, но возмущаться не перестал, был великий князь Константин – брат Александра. Сам величайший распутник, он начал презирать и ненавидеть Елизавету. И вот в октябре 1806 года нанятый им убийца ударил ножом Алексея, когда тот вечером возвращался из театра.
Удалось скрыть случившееся: слуги Алексея были убеждены, что барин пострадал на дуэли, а ведь дуэли были запрещены. Поэтому слуги смолчали. Его лечил полковой врач, к нему приезжал лейб-медик Елизаветы, однако все было напрасно: спустя три недели Алексей умер. Накануне смерти в дом на Сергиевской приехала Елизавета, бывшая на последних днях беременности. Она поняла, что любимый ее скоро покинет, надежды нет. Она оставила ему на память прядь своих волос, которая была похоронена вместе с Алексеем.
Спустя три дня после смерти Охотникова Елизавета родила дочь. Поскольку девочка была объявлена ребенком Александра, о ее рождении возвестили народу залпы пушек Петропавловской крепости. Теперь все счастье Елизаветы заключено было в этой девочке, которую звали так же, как мать. Однако она не прожила и двух лет и умерла от внутреннего воспаления: лейб-медик императрицы, который не смог в свое время вылечить Охотникова, не смог спасти и его дочь.
Маленькую девочку хоронили со всеми почестями, которые подобали великой княжне, а Елизавета жалела только об одном: что не может умереть тоже.
Да, жизнь пока еще держала ее на плаву, словно утлую, никому не нужную лодчонку. Она не жила – она выполняла какие-то необходимые жизненные обязанности, бродила по дворцу, словно бесплотная, тихая тень…
Потом грянула Отечественная война.
* * *
Двор оставался в Петербурге, прислушиваясь к известиям с фронтов. Мария Антоновна Нарышкина с детьми отъехала подальше от обеих столиц. Царская семья не держала ничего подобного и в мыслях.
Теперь Елизавета приказывала подавать себе чай в кружке, на которой было написано: «Я русская и с русскими погибну».
Тактика отступления и заманивания врага, избранная главнокомандующим Барклаем-де-Толли, который вполне понимал слабость и неорганизованность армии, возмущала наших бравых военных. Барклай был сменен на Михаила Илларионовича Кутузова.
При дворе настроения царили самые разные. Сомневаться в победе было никак нельзя, Елизавета делала что могла, пытаясь поддержать мужа. Она создала женское патриотическое общество помощи увечным воинам и семьям, обездоленным войной. Она уверяла, что французы непременно погибнут в снегах России. Тем самым Елизавета, не отдавая себе отчета, признавала, что армия русская с противником не справится, что надежда только на Господа Бога и русский мороз…
Муж ее именно в это время тоже истово уверовал в Бога. Душевное состояние его и дела страны были настолько плохи, что он последовал совету старинного друга, Александра Николаевича Голицына, обер-прокурора Синода, и принялся искать утешения в Библии…
После сражения при Бородине, в котором потери нашей армии составили сорок тысяч человек, Кутузов понял, что войскам нужна передышка, и оставил Москву.
Первопрестольную спалили.
15 сентября 1812 года в Петербурге попытались отпраздновать очередную годовщину коронации Александра. Однако полиция не исключала, что царя придется охранять не от переизбытка поздравляющих, а от недовольной толпы. Именно его считали виновным за все: за плачевное состояние армии, за бездарность главнокомандующих, за лень и трусость… может быть, его презирали за то, что французов вел в сражения их император, в то время как русский император отсиживался в столице и с трепетом ждал вестей с фронта!
Александр был предупрежден о настроении народа и отправился в Казанский собор не верхом, как обычно, а в карете с женой и матерью. Они охотно прикрыли его своими юбками, поскольку обе если и не любили, то весьма жалели своего перепуганного мужа и сына.
В соборе собралась толпа, и Елизавета, которая отлично помнила предыдущие празднования, вдруг ужаснулась тишине – отчужденной тишине, которая царила вокруг. Можно было слышать шаги царской семьи по мраморным плитам пола. У Елизаветы было такое чувство, будто они все идут среди охапок сухого хвороста, и довольно малейшей искры, чтобы окружающее пространство воспламенилось. У нее подгибались ноги. На Александра было страшно смотреть. Казалось, еще мгновение – и его спина согнется, он рухнет на колени и начнет биться лбом об пол, вымаливая прощение у народа.
И вдруг Елизавета ощутила, что вернулись странные чувства, которые влекли ее к мужу в ночь переворота, когда взрослый мужчина вел себя как испуганный мальчик. Она стиснула ледяные, дрожащие пальцы Александра с такой силой, что он вздрогнул от боли – и нашел в себе силы распрямиться и принять привычный величавый вид.
Странным образом всем стало легче.
Но если Елизавета думала, что муж будет ей благодарен за поддержку, то она ошибалась. Много лет потом он не мог ей простить то, что снова она видела его, в минуту слабости, снова оказалась сильнее!
15 октября пришли вести о победе под Тарутином, и общественное мнение начало меняться к Александру и к Кутузову. Однако из ста тысяч русских воинов, выступивших в поход после Тарутина, дошло до Березины только сорок тысяч человек.
Теперь дело было за малым – освободить Европу от Бонапарта. Союзным войскам это удалось сделать блистательно, и 18 марта 1814 года они вошли в Париж.
За спиной у Александра лежала сожженная Москва и разоренная страна. Впереди – цветущая, прекрасная Франция, наполненная награбленными богатствами всего мира. Россия ждала, что он заставит Францию возместить военный ущерб.
Где там! Александр вел себя как светский щеголь, у которого деньги из карманов сыплются. Он вел себя, как павлин, который распускает свой роскошный хвост и любуется собой во всякой придорожной луже. Вызвано это было в равной степени желанием произвести впечатление на союзников – и на красивую женщину. На сей раз пассией Александра сделалась бывшая императрица, разведенная жена Наполеона Жозефина де Богарнэ Бонапарт.
И она, и ее дочь Гортензия, экс-королева Голландии, с ужасом ждали появления русских. Каково же было их изумление, когда они увидели русского императора, который не знал толком, кому из двух дам – матери или дочери – оказать свое благосклонное внимание!
Жозефина была очень даже недурна. Когда Александр узрел эту роскошную фигуру, подчеркнутую легким газовым платьем, окруженную благоуханием фиалок, словно облаком… Когда увидел эту великолепную женщину, ради любви к которой Наполеон овладел Францией, Александр увлекся не на шутку.
Жозефина, в свою очередь, делала все, чтобы вскружить его легкомысленную голову. Ей это удалось сделать блистательно.
Однако воспользоваться плодами своей ошеломляющей победы Жозефине, увы, не пришлось. Она простудилась во время катания с новым поклонником в коляске. Александр был в мундире, а его очаровательная визави – в легком газовом платье… Спустя несколько дней, 18 мая, Жозефина умерла. Насчет этой смерти ходили разные слухи. Говорили, что дело тут не в простуде, а в яде, который подсунул Жозефине Талейран…
Это была темная история, расследованием которой Александр не занимался. Похоронив Жозефину при огромном стечении народа и почетном эскорте русской гвардии, он плотно приступил к Гортензии. Впрочем, дела вскоре увлекли его из Парижа. Впереди был Венский конгресс, на котором должна была решиться судьба послевоенной Европы.
В Вене он встретился с женой, ибо присутствие императрицы было необходимо по протоколу. Здесь же Елизавета, спустя пятнадцать лет, вновь увидела человека, который доставил ей когда-то столько горя. Это был князь Адам Чарторыйский.
В свои 45 лет он был все еще холост и по-прежнему страстно влюблен в Елизавету. Она изменилась, конечно, однако при виде ее все прежние чувства снова вспыхнули в сердце пана Адама. Очарование Елизаветы, ее ангельская душа еще раз поработили его. Иногда его лицо, впрочем, омрачалось ревностью. Не к Александру, нет! О нелюбви к нему Елизаветы он был прекрасно осведомлен. Ревновал Чарторыйский к памяти Алексея Охотникова, так и не забытого Елизаветой.
Смешно все это казалось Елизавете, а впрочем, очень мило Она с удовольствием окунулась в мир воспоминаний, в мир обожания… Однако светлые чувства были изрядно затемнены слухами, которые долетали до нее со всех сторон. Слухи эти касались поведения Александра, и хоть Елизавета уже привыкла быть брошенной женой, а все же такого эпатажа она не ожидала даже от своего мужа.
Александр пустился во все тяжкие! Отчасти это было вызвано тем, что в Париж приехала также и Нарышкина (разумеется, в сопровождении своего великодушного Амфитриона), вокруг которой тотчас же начали увиваться мужчины. Как всегда. Однако теперь она не старалась соблюдать необходимый декорум уважения к своему венценосному любовнику, и это разозлило Александра до крайности. Он решил утешиться в другом месте. Точнее, в других местах.
Сначала это была Юлия Зичи – поразительная красавица, а также ее сестра Софья. Затем – княгиня Багратиони, вдова Петра Ивановича Багратиона, героя Бородина, бывшая одновременно любовницей Меттерниха, с которым у Александра были очень непростые отношения, так что он весьма порадовался наставить австрийскому канцлеру рога. Тут же русского императора атаковала и взяла штурмом и другая любовница Меттерниха – герцогиня Саган. За ней последовала графиня Эстергази… А впрочем, может быть, все это происходило в ином порядке. Не суть важно. Главное, что этот список можно было еще долго продолжать. В Вене даже родилось очаровательное обобщение: «Баварский король ест все подряд, нюрнбергский король пьет все подряд, а русский царь любит всех подряд!»
Этот приступ любвеобилия люди воспринимали по-разному. Кто-то восхищался, кто-то негодовал. А Елизавета холодно и отстраненно, не без издевки, думала, что Александр напоминает голодного человека, который знает, что скоро будет вовсе лишен пищи, и торопится наесться впрок.
Именно она, знающая своего мужа как никто другой, оказалась права.
Между прочим, среди дам, с которыми общался Александр в Вене, оказалась некая баронесса Юлиана Криднер. Ее знали как теософку, которая якобы была подвержена мистическим озарениям и способна общаться с потусторонним миром. Александр в последнее время тоже ударился в мистицизм. Просто читать Библию и находить в ней утешение для него уже было мало. Он хотел проникнуть в темные места священной книги, он жаждал более глубоких познаний. Юлиана Криднер с первых минут встречи принялась упрекать императора за то, что жизнь его полна тщеславием и суетностью, что совесть его дремлет, лишь изредка пробуждаясь, что он не способен на истинное раскаяние перед Христом, а ведь только это дает человеку покой при жизни и после смерти. Он не осознал всей глубины своих грехов, а до той минуты обрести душевный мир будет невозможно!
Александр выслушал ее очень внимательно. Все, что говорила баронесса, как нельзя больше отвечало его внутреннему состоянию. Он-то знал, что всепоглощающее распутство – не что иное, как последняя, паническая попытка скрыть от самого себя те изменения, которые происходили во всем его существе. Но то, чего от него требовала Юлиана, предполагало полную отрешенность и забвение всех государственных дел. Как ни был слаб Александр, он продолжал оставаться императором и осознавать свой долг перед Россией и Европой. Ну и страх показаться слабым продолжал терзать его.
Покаяние было пока что отложено. До лучших времен.
* * *
И вот уже создан Священный Союз, Александр вернулся в Россию. Заодно он устроил брак своего брата Николая с Шарлоттой, дочерью прусской королевы Луизы, и теперь уповал на рождение в этой семье наследника. Вообще Шарлотта, вернее, Александра Федоровна, всем очень нравилась. Николай называл ее маленькой птичкой, и она своей легкостью очаровывала с первого взгляда… затмевая императрицу, которая рядом с юной великой княгиней казалась какой-то серой, почти бесплотной тенью. Ехидные фрейлины великой княгини порою сравнивали императрицу со злой и старой гувернанткой: «Такая серая, унылая, противная…»
А между тем… между тем ей продолжали поклоняться мужчины. Ее красота, облик несчастной, трагической героини будоражил чувства тех, кто жил более в воображении, чем в реальности.
На лире скромной, благородной, Земных богов я не хвалил И силе в гордости свободной Кадилом лести не кадил. Свободу лишь учася славить, Стихами жертвуя лишь ей, Я не рожден царей забавить Стыдливой музою моей. Но, признаюсь, под Геликоном, Где Касталийский ток шумел, Я, вдохновленный Аполлоном, Елисавету втайне пел. Небесного земной свидетель, Воспламененною душой Я пел на троне добродетель С ее приветною красой. Любовь и тайная свобода Внушали сердцу гимн простой, И неподкупный голос мой Был эхо русского народа.«Неподкупный голос Пушкина», которому принадлежат эти стихи, в данном случае не имеет никакого отношения к «свободолюбивым чаяниям русского народа», как принято выражаться. Здесь нет и мысли об этом. Елизавету странно, тихо, покорно и восторженно любила Россия; именно она была сокровенной страстью Пушкина, героиней многих его стихов. Елизавета в 1811 году присутствовала на открытии Царскосельского лицея – и поразила воображение пылкого мальчишки с африканской кровью.
Такое впечатление, что он любил ее всю жизнь – вернее, тайно обожал. Разумеется, он ее «втайне пел», как еще можно обожать небожительницу-императрицу?!
Может быть, Елизавета знала об этом. Возможно, это радовало ее. А может, ей было уже все безразлично, кроме собственного душевного покоя, который она, как это ни странно, обрела теперь… рядом с мужем.
И это было взаимное обретение.
Александра в эти годы постигло два страшных удара. Первым был полный и абсолютный разрыв с Марьей Антоновной Нарышкиной.
Она в 1813 году родила сына Эммануила и была счастлива, что подарила государю наследника. Нарышкина надеялась, что Александр усыновит мальчика, как прежде удочерил Софью. И тогда… кто знает, какая ослепительная судьба ждет Эммануила! Он вполне может стать императором!
Ошалев от своих ослепительных мечтаний, Нарышкина почувствовала себя воистину всемогущей и дала себе полную волю. Ни от кого не таясь, она завела бурный роман с князем Гагариным. Это случилось в Италии, во Флоренции, однако скандал разразился столь оглушительный, что дошли слухи до России. И эта история положила предел терпению Александра, которому осточертело слыть рогоносцем в глазах всего мира.
Любовники расстались. Эммануил так и остался сыном князя Нарышкина.
И тут случилась трагедия – умерла накануне своей свадьбы любимая, обожаемая дочь Александра Софья. Так же, как некогда Лизонька, дочь Охотникова, Софья пала жертвой врачей-шарлатанов. От воспаления легких ее, по настоянию матери, лечили «магнетизеры»…
Александр был вне себя от горя. Его утешала та, которая хорошо знала, что это такое – потеря любимого ребенка. Но Александр был подавлен не только смертью дочери. Можно сказать, он стоял в эти дни у гроба всех своих мечтаний и надежд. Он понял, что не справился с властью, которую взял однажды – в ночь переворота. Россия была слишком велика и непостижима, он вдруг осознал, что править этой страной так, как управляют своими небольшими, предсказуемыми, послушными и цивилизованными странами европейские монархи, – невозможно. А иначе он управлять не умел. Его страна чего-то хотела от него, чего-то ждала, требовала… чего?!
Он больше ничего и никому не способен был дать.
Он сломался. Так ломается дерево, которое все считали крепким и которое гнулось как только могло. Ну вот и не разогнулось однажды. Его никто не понял бы, кроме Елизаветы.
Эти два человека, которые не могли быть счастливы вместе, когда весь мир лежал у их ног, вдруг нашли друг друга во дни горестей, сомнений и неуверенности.
Впрочем, Елизавета всегда умела поддержать Александра в тяжелую минуту. Но прежде это вызывало у него взрыв оскорбленного самолюбия – теперь же он был благодарен ей.
Это была не любовь – это была дружба, которая иной раз крепче любви. Получается, императрица Екатерина Великая не так уж сильно ошиблась, когда предназначала их друг другу?.. Вот только встретились они слишком рано…
Именно Елизавете Александр сообщил первой, что намерен отречься от престола. Именно ей он открыл, что скоро уйдет из жизни, и сообщил, как это произойдет.
Они вместе уехали осенью 1825 года в Таганрог, откуда Александр больше не вернулся.
То есть он вернулся – в гробу, изменившийся до неузнаваемости. Сослались на то, что бальзамирование тела было проведено неумело. Через два десятка лет вдруг откуда ни возьмись появились слухи о том, что Александр вовсе не умер, а дожил свой век под личиной старца Федора Кузьмича.
Через полгода после смерти мужа, в мае 1826 года, умерла Елизавета. Она возвращалась в Петербург из Таганрога, где тоже тяжело заболела. Умерла в Белеве – одна, без родных. Мария Федоровна, отправившаяся ей навстречу, доехала только до Калуги.
Сохранился посмертный портрет Елизаветы. На нем она не очень-то похожа на себя прежнюю. С другой стороны, какое может быть сходство между жизнью и смертью?..
Когда после похорон взялись перестраивать ее покои, в одном из шкафов нашли тайник. Там были детские вещи, портрет красавца с колдовскими черными глазами и несколько писем, исполненных любви и страсти. Они лежали в черной шкатулке. Это была последняя память о романе Елизаветы и Алексея Охотникова.
Императрица Александра Федоровна была в шоке, увидев все это и прочитав письма. Николай Павлович, отношение которого к Елизавете всегда было исполнено того же тайного обожания, что и у многих других мужчин, бросил шкатулку с письмами и все прочее в огонь. Это отнюдь не было жестом злым или раздраженным. Это была попытка спасти ее память… слишком много легенд и сплетен клубилось вокруг имени Елизаветы и при ее жизни, и после смерти!
Однако… однако положить конец слухам все же не удалось.
* * *
Матушка Варвара отошла от смертного одра послушницы, известной как Вера Молчальница, и искоса взглянула на сестру Меланию, которая смотрела на усопшую с такой жалостью. И еще что-то было в ее глазах… восторг, обожание, изумление?
«Да нет, не может быть, – подумала Варвара. – Откуда ей знать, что перед ней лежит та, которая еще при жизни сделалась поэтическим и таинственным преданием – и останется тайной даже после смерти? Этого не знает никто. И никто не узнает. Я никому не скажу!»
Золотая клетка для маленькой птички
Шарлотта-Александра Федоровна и НиколайI
Император Николай Первый, которого все наперебой называли человеком жестоким, нелиберальным и даже жандармом Европы, отличался совершенным бесстрашием. Он просто-напросто считал ниже своего достоинства чего-то бояться и ездил по Петербургу по возможности один, без конвоя. И вот однажды государь возвращался во дворец по Морской улице. Кучер отчего-то затормозил, и маленькая девочка-побирушка, восторженно смотревшая на роскошный выезд, вдруг соскочила с тротуара и быстро встала на запятки императорских саней. Ни кучер, ни сам Николай Павлович этого не заметили, сани вновь тронулись; наконец император обратил внимание, что прохожие как-то странно смотрят на него. Он обернулся – и увидел маленькую нищенку, которая тоненьким голоском попросила, боясь, что ее сейчас сгонят с полозьев:
– Дяденька, дай покататься!
– Изволь, только держись крепче! – велел император.
Девчонка доехала на запятках до самого Зимнего дворца и не спешила уйти.
– Ну что, пойдешь ко мне в гости? – серьезно спросил император.
Нищенка посмотрела на него снизу вверх – очень высокий, красивый, роскошно одетый, он, наверное, казался ей кем-то вроде Бога! – и кивнула, не в силах вымолвить ни слова.
Император взял ее за руку и привел в комнаты императрицы. При виде оборванки скандализованные фрейлины стали столбами, не зная, как воспринять причуду повелителя, а императрица всплеснула руками и начала спрашивать:
– Где вы нашли эту маленькую замерзшую птичку, этого воробушка? Какое чудное дитя. Надо взять ее на свое попечение!
Ободренная ласками красивой, сладко пахнущей дамы девочка отогрелась, расправила перышки (она и впрямь напоминала птичку) и поведала, что она дочь прачки из Измайловских казарм. Поскольку дело происходило на Масляную, гостью накормили блинами, и она чистосердечно призналась, глядя на государя:
– Дяденька, а ведь твои блины лучше наших!
– Ничего, – сказал император, – я уж позабочусь, чтобы ты ела теперь только хорошие блины.
Малость ошалевшую от еды и изобилия впечатлений девочку отправили домой с сопровождающим и крупной суммой денег – для помощи ее матери.
Окна покоев императрицы выходили на Неву, однако она нарочно попросила, чтобы сани с гостьей проехали под ее окнами, и помахала вслед рукой.
– Вот и улетела птичка! – сказала она, смеясь и оборачиваясь к мужу, который стоял на шаг позади.
– Нет, – сказал он, глядя на нее своими удивительно красивыми голубыми глазами. – Моя птичка всегда со мной.
Именно так – моя птичка – он называл свою невесту, а потом и жену, королевну прусскую Фредери-ку-Луизу-Шарлотту-Вильгельмину. Беленькая, румяная, нежная, с удивительно тонкой талией, она казалась ему неземным существом. Первым чувством его была не страсть, не жажда обладания ее красотой, а желание защитить ее, согреть, уберечь от треволнений мира. С первой минуты встречи он дал себе клятву в этом – и старался эту клятву исполнять всегда, всю жизнь. Для этого он посадил свою маленькую птичку в самую прекрасную клетку, какую только можно было себе вообразить, – в свой дворец, и горько каялся, если какие-то обстоятельства порою вынуждали его нарушить священную клятву.
…Хоть русские государи с давних пор испытывали слабость к немецким невестам и охотно вступали с ними в браки сами или сватали их за своих сыновей, однако это правило отчего-то распространялось на дочерей каких угодно германских княжеств – только не королевского дома Пруссии. Однако времена меняются, и вот император Александр 1 высватал для своего младшего брата, царевича Николая, не кого-нибудь, а дочь самого прусского короля. Королева Луиза когда-то была влюблена в Александра и пользовалась его благосклонностью. Это была лишь платоническая, невинная любовь, однако она оставила глубокий след в двух сердцах. Именно поэтому после смерти тайно любимой им Луизы Александр издалека приглядывал за ее дочерью, а когда она повзрослела, затеял сватовство.
Это было в 1814 году. Звезда русского царя – победителя Наполеона сверкала на европейском небосклоне так ярко, что, казалось, ничего более яркого и представить себе невозможно. Он очаровал европейцев не только своим царственным благородством, но и умением вести беседу, поддержать самый тонкий и изощренно-остроумный разговор. Это был не только государь, но и блестящий мужчина. Ему старались подражать. Брат Константин Павлович доходил в этом подражании до смешного, он стремился копировать каждый жест императора. Но младший брат Николай отнюдь не страдал страстью к подражаниям! Он был совсем иным – самостоятельным человеком. В нем с самого юного возраста проявилось редкостное чувство собственного достоинства. Вряд ли это было предчувствие власти, ведь был в полном здравии Александр, за ним по старшинству следовал Константин – и все же Николай был воистину царственен, и это ощущал всякий.
Николай с молодых лет и всю жизнь оставался одним из красивейших мужчин своего времени. Конечно, в ту пору, когда он встретился со своей невестой, он еще не был тем могучим, статным человеком, каким сделался потом. Он был очень худощав, а оттого казался еще выше ростом. Облик его и черты лица еще не имели той законченности, которая потом заставляла сравнивать его с Юпитером с античных камей. Однако черты эти были удивительно правильны, лицо открытое, с четко очерченными бровями, прекрасный профиль, небольшой рот и точеный подбородок. Это был необыкновенно красивый юноша, высокого роста и прямой, как сосна. Английские леди, налюбовавшиеся им во время его визита в Англию в 1814 году, наперебой утверждали, что со временем Николай будет красивейшим мужчиной в Европе.
При всем этом осанка и манеры его были свободными, он любил посмеяться – и легко очаровал прусскую королевну.
Она с нетерпением ждала того дня, когда окажется в Петербурге и станет женой этого красавца. Прибыла она в Россию в июне 1817 года, и жених встретил ее у пограничного шлагбаума во главе войска. Кто-то видел в этом просто исполнение ритуала, однако Шарлотта расценила это как нетерпение, которое влекло к ней влюбленного Николая.
Первое впечатление ее о России, об императорском дворе было одновременно и радостным и пугающим. С одной стороны, все ласкали ее. С другой стороны, она побаивалась и величественной вдовствующей императрицы Марии Федоровны, и государыни Елизаветы Алексеевны, жены Александра, о скандальной славе которой была уже осведомлена…
Все с восторгом смотрели на молоденькую невесту – и охотно извиняли ей маленькую оплошность, происшедшую, впрочем, не по ее вине. Гостья не переоделась к обеду, потому что фургоны с ее багажом еще не прибыли. А впрочем, она была прелестна и в своем закрытом белом платье из гроденапля, отделанном блондами, в хорошенькой маленькой шляпке из белого крепа с султаном из перьев марабу. То была самая новейшая парижская мода, и дамы сумели ее оценить. Кавалеров в больший восторг привела изумительная талия принцессы, ее крошечная изящная ножка, легкость ее походки. Именно тогда Николай и назвал ее в первый раз птичкой.
Впрочем, вскоре она перещеголяла роскошью нарядов всех дам. Особенно в день своей свадьбы, которая состоялась 1 (13) июля. Чудилось, бриллианты, множество украшений, под тяжестью которых она была едва жива! – сверкали на ней ярче, чем на других. Может быть, оттого, что она надела их в России впервые в жизни: прусский король воспитывал дочерей с редкой простотой. И, само собой, им не позволяли румяниться: это было тоже открытием для нее. Румяна оказались Шарлотте весьма к лицу. Словно в память о прошлой, скромной жизни, с которой она теперь прощалась навеки, Шарлотта приколола к поясу белую розу.
Правда, теперь ее называли иначе – Александра, Александрина, даже Александра Федоровна (Шарлоттой она осталась только для влюбленного мужа). 24 июня она приобщилась святых тайн и крестилась в православие. Обряд, в котором она ничего не понимала, почти не затронул ее душу, приближенные, сопровождавшие ее из Пруссии, откровенно рыдали, глядя на свою маленькую королевну, такую испуганную и явно ничего не понимающую… Однако эти неприятности, эти волнения не имели особого значения для Шарлотты-Александры. Она ведь была из тех милых женщин, которые способны полностью раствориться в заботах и делах своего мужа и для которых ничто в жизни не имеет значения, кроме жизни ее семьи.
Именно это делало ее счастливой. Именно это сделало ее несчастной…
Одной из самых больших радостей тех дней были военные парады, которые устраивались в честь невесты. Германия – страна военных, страна особого почитания военных, и Александра была проникнута этими настроениями с самого детства. Словно на родных, смотрела она на проходящие перед ней войска гвардии, особенно на Семеновский, Измайловский и Преображенский полки, знакомые ей еще по пребыванию их в Пруссии во время войны с Наполеоном. Она по-детски обрадовалась, увидев кавалергардов, шефом полка которых ей предстояло сделаться в скором времени.
Надо сказать, что после победоносной войны 1812 года военные были в особенной чести у женщин, однако Александра своим искренним восторгом перед мундирами превосходила прочих дам и в этом смысле, конечно, была родственной душой своему молодому мужу. Ведь страсть Николая ко всему военному порою не на шутку беспокоила его мать, императрицу Марию Федоровну. Она настойчиво требовала, чтобы юные Николай и Михаил, его младший брат, носили гражданское платье и занимались более серьезным учением, нежели военными забавами. Однако ее усилия оставались тщетными. И было совершенно невозможно себе представить, что в раннем детстве Никс – так его называли дома – испытывал жуткий страх при звуке стрельбы. Он затыкал уши и плакал, прятался в алькове, а когда товарищ его детских игр, Адлерберг, нашел его там и стал стыдить, Никс ударил его по лбу с такой силой, что шрам от удара остался у того на всю жизнь. Между прочим, это не помешало Адлербергу быть одним из самых верных и преданных друзей Николая до самой его смерти. Боялся Никс не только стрельбы, но и грозы, и фейерверка, и даже вида пушек. А встреча с людьми в форме приводила его просто в содрогание. Когда он и Михаил оказывались в военном лагере, то снимали шляпы и кланялись офицерам, опасаясь, чтобы их не взяли в плен. Вполне возможно, что это были плоды воспитания мисс Эжени Лайон, шотландской няни маленьких великих князей. Несмотря на свой сильный характер (именно она сумела внушить Николаю представление о рыцарских добродетелях, верным которым он старался оставаться всю жизнь), она была только женщина. Детские страхи Николая – это ее страхи. Точно так же, как внушенная ему на всю жизнь неприязнь (если не более сильное чувство!) к полякам: в 1794 году мисс Лайон оказалась в Варшаве во время восстания Костюшко, и ужас пережитого не покидал ее никогда.
Однако ко времени женитьбы все детские страхи Николая остались далеко позади.
Тотчас же после свадьбы Николай Павлович (ему тогда был 21 год) был назначен генерал-инспектором и шефом лейб-гвардии Саперного батальона. Это была весьма ответственная должность, на которой вполне проявились блестящие организаторские способности молодого великого князя.
Вообще в те годы все для него складывалось просто великолепно. Семейная жизнь была прибежищем и отдохновением. Александрина умела радоваться жизни и передавать свою радость окружающим. Ее все приводило в восторг, а если какие-нибудь досадные мелочи вызывали слезы, то они были столь же кратки, преходящи и очаровательны, как мгновенный дождь, вдруг грянувший с солнечного небосвода. Ее любили все, даже придирчивая вдовствующая императрица. Не шутя говорили, что к снохе она более снисходительна, чем к своим дочерям. И, уж конечно, – чем к одиозной фигуре молодой императрицы Елизаветы Алексеевны, чья репутация в глазах мужа, свекрови была давно и непоправимо испорчена.
Мнение Марии Федоровны разделял практически весь двор, даже самые молоденькие его представительницы. Как-то раз государева семья посетила концерт знаменитой итальянской певицы Каталани. За появлением царственных гостей в ложе наблюдали воспитанницы Екатерининского института. И сразу отметили прелестное существо, впорхнувшее в ложу тотчас за Марией Федоровной. Это была молодая дама в голубом платье, по бокам которого были приколоты маленькие букетики пурпурных роз. Такие же розы украшали ее хорошенькую головку. За ней почти бежал высокий веселый молодой человек, который держал в руках соболий палантин и говорил:
– Шарлотта, Шарлотта, вы простудитесь! Молодая дама поцеловала руку государыне Марии
Федоровне, которая ее нежно обняла. Институтки зашушукались:
– Какая прелесть! Кто это такая? Мы будем ее обожать!
Классная дама пояснила:
– Это великая княгиня Александра Федоровна и великий князь Николай Павлович.
Тут раздался третий звонок, и вошел император Александр Павлович. Вслед за ним появилась маленькая дама в сером платье, в белом чепце, окутанная белым газом, с красными пятнами на лице.
– Ах, какая противная, – зашушукались институтки, – кто это?
– Это императрица Елизавета Алексеевна! – сердито ответила классная дама.
– Она точно старая гувернантка. Сразу видно, что ее никто не любит!
Отнюдь не из корысти Александрина отбивала пальму первенства у своей bell-saur[54]. Она инстинктивно пыталась избегать всех и всяческих неприятностей, вот и старалась держаться в стороне от Елизаветы и этим заслужила еще более нежное отношение свекрови и ее приближенных. Может быть, даже и императора, который с радостью видел, что дочь обожаемой Луизы пусть и не столь же умна, как мать, но, во всяком случае, столь же очаровательна.
Жизнь казалась Александрине сплошным праздником. Прогулки верхом, балы, поездки и экскурсии в Кронштадт, где император проводил смотр флоту… Многочисленное общество, в котором дамы, по ее мнению, отличались более нарядами, чем красотой, а кавалеры были скорее натянуты, чем любезны, было, однако, веселое: присутствие императора Александра, очарование, которое он умел придать всему, что ни предпринимал, наэлектризовывало весь двор. Как-то раз он взял ружье, велел взять по ружью братьям и приказал исполнять ружейные приемы, что весьма позабавило всех присутствующих.
Казалось, что это веселье, это сияние император будет излучать вечно! Во всяком случае, так это воспринимала Александрина. Никогда ни одно облачко возмущенного тщеславия не затмило этой беззаботности, этого полного довольства своим жребием. Ее муж был лучшим на свете, а его неудержимая страстность одновременно и пугала, и делала ее счастливой. Словом, жизнь была сущим раем. Особенно когда она почувствовала себя беременной.
Однако новое состояние Александрина переносила нелегко. Пришлось отказаться от прогулок верхом, а когда она однажды попыталась выстоять всю обедню не присаживаясь, то упала без чувств. Николай унес жену на руках из церкви, а на том месте, где она упала, потом нашли осыпавшиеся лепестки роз – из ее букета, – и это показалось очень поэтичным всем придворным дамам.
Последним всплеском прежней беззаботной жизни, которая отныне навеки канет в прошлое, был феерический маскарад, устроенный в Павловске. Мария Федоровна оделась волшебницей, Елизавета – летучей мышью, а Александрина – индийским принцем, с чалмой из шали, в длинном, ниспадающем верхнем платье и широких шароварах из восточной ткани. Когда Александрина сняла маску, ей наговорили массу комплиментов. Талия у нее все еще оставалась очень тонкая, хотя Александрина и пополнена и особенно похорошела в начале беременности.
В середине октября двор перебрался в Москву. Из-за состояния великой княгини ехали целых 12 дней! Ее тошнило от самых неожиданных запахов, все прежде любимые блюда вызывали отвращение. Однако Николай не отходил от жены ни на шаг, тут же был ее старший брат Вильгельм, и Александрина была совершенно счастлива.
Если Петербург она в глубине души находила не слишком красивым городом, то Москва поразила ее своим величием. Именно тогда она впервые почувствовала истинный интерес к России, именно тогда стала гордиться, что теперь принадлежит этой стране. Александрине всерьез захотелось заняться русским языком. В учителя ей был дан замечательный поэт Василий Андреевич Жуковский, но это, как ни странно, оказалось для ученицы большим несчастьем. Он был слишком поэтичен, образован, разговорчив, чтобы быть хорошим учителем. Каждый урок превращался в литературный диспут, вернее, в образчик безупречного ораторского искусства. В результате Александрина стала бояться русского языка и всю жизнь не могла набраться духу, чтобы произнести хоть одну целую фразу.
Ее утешало общение с мужем. Нежность его вполне вознаграждала и за разлуку с братом, который вскоре вернулся в Германию, и за страдания, которые причиняла беременность. Николай был очень рад, что его «маленькая птичка», несмотря на свое нежное сложение и беззаботный нрав, прекрасно понимает свое предназначение жены и матери. Он не уставал читать ей по вечерам «Коринну», ее любимый роман мадам де Сталь, и утешал в полудетских-полуженских страхах, которые неминуемо испытывает каждая женщина, ожидающая родов.
Словом, это была самая настоящая идиллия, и потом Александрина вспоминала эти дни как самые счастливые и беззаботные в своей жизни.
А на святой неделе, в среду 17 апреля 1818 года, в два часа ночи Александрина почувствовала, что у нее начинаются схватки. Позвали акушерку, потом свекровь, и вот в 11 утра ребенок родился…
Николай метался под дверью спальни жены. Услышав крик ребенка, он ворвался в комнату, однако первым делом бросился к Александрине, начал ее целовать и поздравлять.
– А кто у нас родился? – наконец спросил он. Жена смотрела на него испуганно: она не знала!
Ей еще не успели этого сказать!
Молодые супруги начали хохотать, но в эту минуту к ним подошла Мария Федоровна и величественно сообщила:
– Это сын!
Только тут они прониклись важностью минуты: ведь этому маленькому существу, едва появившемуся на свет, возможно, предстояло когда-нибудь сделаться императором!
Во время крестин, совершившихся 29 апреля в Чудовом монастыре, ребенку было дано имя Александр. Невыразимое чувство восторга пережила Александрина, когда несла его на руках в церковь и думала, что у нее, конечно, самый прекрасный сын на свете: беленький, пухленький, с большими темно-синими глазами.
Повидаться с дочерью приехал в эти дни прусский король, и около двух недель в Москве беспрестанно шли торжества: смотры, парады, приемы, балы, катанья… И вдруг среди всех этих празднеств внезапно заболел Николай. Он возвратился после парада бледный, позеленевший, дрожа от лихорадки и чуть не падая в обморок. Это была корь, которая потом проходила в довольно легкой форме, но первый день был ужасен и напугал Александрину так, что она долго не могла прийти в себя от беспокойства. Она вдруг поняла страшную и простую истину: счастье мимолетно и преходяще, беда может грянуть в любое мгновение, словно гром с ясного неба, – и уничтожить все, чем беззаботная Александрина жила и наслаждалась до сих пор. Именно тогда и появилась у нее склонность к меланхолии, именно тогда начались эти припадки внезапной и необъяснимой грусти, которую она силилась скрывать потом всю жизнь, пряча это под внезапно пробудившейся любовью к природе. Окружающие думали, что «милая птичка» наслаждается красотой Божьего мира, однако отнюдь не слезы умиления наворачивались в эти мгновения на ее глаза.
Шло время. Жизнь при дворе стала казаться Александрине довольно однообразной. Она теперь гораздо с большим удовольствием сопровождала Николая на маневры, чем кружилась на балах. Разумеется, она старалась держаться подальше от стрельбы и кавалерийских атак, а просто ждала его в доме, определенном под жилье, и чувствовала себя счастливой. Ей совсем немного было нужно, чтобы быть довольной: если можно быть с мужем, то она вполне обойдется и без празднеств, и без развлечений. Она теперь предпочитала жизнь уединенную, полюбила простоту и сделалась истинной домоседкой. Объяснялось это не только нежной любовью к Николаю. Александрина вдруг открыла для себя пренеприятную истину: мужчина может любить свою жену, однако при этом если и не волочиться открыто за другими женщинами, то, во всяком случае, оказывать им внимание. Нет, ничего угрожающего… но и хорошего мало. И она поступила словно малый ребенок, который беспрестанно просится на руки к нянюшке, чтобы привлечь ее внимание к себе.
Эта тактика себя в то время оправдывала: Николай слишком любил «маленькую птичку», чтобы причинить ей хоть малое огорчение. Тем паче когда она снова была беременна.
Однако жизнь – штука непредсказуемая. И она горазда на неприятные сюрпризы – причем преподносит их отнюдь не с той стороны, откуда их ждешь. Как-то раз (это было летом 1819 года) император
Александр, отобедав у своего младшего брата, сел между ним и его очаровательной женой и посреди дружеской беседы вдруг переменил тон и, сделавшись весьма серьезным, заговорил о том, как доволен он остался командованием Николая войсками и вдвойне радуется, что младший брат хорошо исполняет свои обязанности, ибо на него со временем ляжет большое бремя, так как император смотрит на него как на своего наследника, и это произойдет гораздо скорей, чем можно ожидать: Николай заступит место императора еще при его жизни.
Муж и жена сидели словно окаменелые, раскрыв глаза и не в силах произнести ни слова. А император продолжал:
– Кажется, вы удивлены? Ну что ж, скажу вам еще, что Константин, который и прежде-то никогда не хлопотал о престоле, нынче надумал вовсе от него отказаться, передав свои права Николаю и его потомкам. А что касается меня, то я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира. Европа теперь более чем когда-либо нуждается в государях молодых, вполне обладающих энергией и силой, а я уже не тот, что был прежде, и поэтому считаю своим долгом уйти вовремя.
Видя, что брат и его жена готовы разрыдаться, Александр постарался утешить их и в успокоение сказал, что это случится не тотчас, что пройдет еще несколько лет, прежде чем будет приведен в исполнение этот план. Потом ушел, оставив молодых супругов в состоянии полного ошеломления. Никогда и ничего подобного не приходило Александрине в голову даже во сне. Ее точно громом поразило: будущее казалось мрачным и недоступным для счастья. Николай тоже был растерян. Да, эту минуту они оба запомнили навсегда…
Правда, очень скоро тягостное впечатление от разговора заслонилось рождением у Александрины дочери и обидой на мужа, который воспринял новость без особой радости: он хотел сына. Правда, он довольно быстро раскаялся, очарованный малышкой, а потом Мария стала его любимицей. А вскоре Александрина обнаружила, что вновь беременна. Увы, третий ребенок родился мертвым, и только искренняя любовь и заботливость мужа помогли ей оправиться.
Зиму 1820/21 годов супруги провели в Берлине. Это было время совсем иных удовольствий, чем в России. Пора полнейшей беззаботности! Кажется, самым ответственным и напряженным делом для Александрины было участие в разыгрываемой при дворе поэме Томаса Мура «Лалла Рук». Живые картины были тогда в большой моде, а сюжет о двух влюбленных словно бы оживил отношения молодых супругов Николая и Александры, слегка подернутых неизбежной патиной обыденности.
В эту зиму Александрина немножко отдохнула от своих непрерывных беременностей (все-таки за два года она родила троих детей!), однако уже в 1822 году появилась на свет Ольга, и по предписанию врачей Александрине пришлось некоторое время поберечься. В России того времени это означало только одно: прекратить супружескую жизнь. Александрина никогда не отличалась страстностью натуры, и то, что муж теперь спал отдельно от нее, огорчало ее лишь потому, что привыкла к его теплу, к его нежности, его мерному дыханию рядом с собой. И она не особенно задумывалась над тем, на кого направлена теперь та его мужская жадность, которая доставляла ей прежде столько радости – но и так утомляла. По счастью, Николай большую часть времени проводил не при дворе, а в разъездах, поэтому тучи ревности не омрачали семейного небосвода. Александрина была всецело поглощена детьми.
Но в 1825 году врачи смилостивились ненадолго – и они вновь встретились на супружеском ложе. Александрина вскоре поняла, что беременна. Противу обыкновения, она чувствовала себя великолепно и думала, что здоровье ее совершенно окрепло.
Увы, заблуждение длилось надолго. «Маленькую птичку» подстерегала болезнь, от которой ей уже не исцелиться было до конца жизни. Эта болезнь звалась – страх.
До Александрины долетали какие-то слухи о том, что в войсках неладно.
В ноябре пришла весть о смерти императора Александра. Вскрыли его завещание, в котором он оставлял престол Николаю. Тут же находилось отречение от престола Константина. Казалось бы, все законно, – надлежало только выполнить предписанное. Совершенно неизвестно, как бы сложилась жизнь самого Николая Павловича и судьба России, если бы он сделал это, если бы покорно исполнил волю старшего брата и принял престол. Однако его педантичность, стремление к соблюдению законности во всем, боязнь хоть малой малостью замарать честь братских отношений – словом, его взгляды безупречного рыцаря сыграли с ним на сей раз дурную шутку. Он присягнул Константину и стал ждать, когда брат приедет из Варшавы и отречется от престола публично. Константин ехать не захотел. Возникло некое краткое междуцарствие, которым и попытались воспользоваться руководители тайных обществ, недовольных существующим строем в России. Они вывели на Сенатскую площадь войска, выдвинули требования введения Конституции и отречения Николая.
Александрина была потрясена, когда увидела мужа с непривычно суровым, отрешенным лицом. Он увел ее в дворцовую церковь и там сказал:
– Неизвестно, что нас ожидает. Обещай мне проявить мужество и, если придется умереть, умереть с честью, не отрекаясь ни от чего. Умереть на престоле.
Александрина не поверила ушам, но муж ничего не стал объяснять.
Потом Николай уехал, во дворце все затаилось. Она была в своем будуаре, сидела полуодетая за бюро, вяло водила пером по бумаге. Хотела писать отцу – но не могла найти ни слов, ни мыслей. Томило ощущение неминучей беды.
Отворилась дверь – вошла Мария Федоровна. Она, всегда такая сдержанная и величественная, была совершенно расстроена.
– Дорогая, все идет не так, как должно идти, – сказала она вздрагивающим голосом. – Дело плохо. Беспорядки. Бунт.
Александрина еще больше помертвела, не могла проговорить ни слова. Кое-как поднялась, подошла вслед за свекровью к окну.
Вся площадь до самого Сената была заполнена людьми. Видны были колонны Преображенского полка, статная фигура Николая верхом. К полку вскоре подошла конная гвардия.
Мария Федоровна показывала пальцем на каре Московского полка и пыталась объяснить то, чего и сама не понимала:
– Это мятежники! Доносились далекие крики:
– Ура, Константин!..
На площадь выехал генерал Милорадович – храбрец, боевой генерал! – Мария Федоровна и Александрина видели, как ему в спину кто-то выстрелил. Потом узнали, что стрелял мятежник Петр Каховский, генерал скончался ночью.
Но до ночи еще предстояло дожить. Дожить – или умереть.
Да, именно так стоял вопрос. Опасность была очень велика.
В это время Николай пытался найти возможность, окружив восставших, принудить их к сдаче без кровопролития. По нему ударил залп – пули просвистели рядом с головой, но, к счастью, не задели ни его, ни другого из бывших с ним. Рабочие, строившие Исаакиевский собор, из-за заборов начали кидать камнями в царскую свиту. Надо было решиться – и положить этому конец.
Николай испытывал постоянную тревогу за судьбу семьи. Еще не столь далеко ушли в прошлое кошмарные, кровавые дни Французской революции, и любой монарх, в чьей стране начался бы бунт, смертельно тревожился бы за судьбы жены и детей. Теперь от народа можно было ожидать всякого!
Кроме того, Николай был знаком с программами мятежников. Что Южное, что Северное общества сходились в одном: царская семья должна быть уничтожена вся, от мала до велика. От него самого, государя, до того ребенка, которого носила во чреве его жена. Бунтовщики еще не договорились лишь, каким образом будут убиты «тираны». Кто-то предлагал их повесить, а кто-то удушить. Или напоить ядом.
Впрочем, Николай не сомневался, что убийцы очень быстро придут к соглашению.
Взяв с собой конвой из кавалергардов, император поехал во дворец. Он должен был во что бы то ни стало уберечь семью от подступающей угрозы.
Во дворце он распорядился приготовить кареты, в которых его семье можно было бы, в сопровождении охраны из кавалергардов, уехать в Царское Село.
Это распоряжение было весьма своевременным: как только Николай направился снова к Сенатской площади, произошел один из самых рискованных эпизодов этого дня. Поручику Попову удалось провести лейб-гренадеров по Миллионной улице прямиком к Зимнему дворцу. Он даже прорвался через караул на дворцовый двор! Попов был на волосок от захвата дворца. Однако во дворе лейб-гренадеры столкнулись с саперами, шефом которых был Николай, преданным ему войском, – и Попов не решился ввязаться с ними в схватку. Лейб-гренадеры отправились на Дворцовую площадь, где их увидел подъезжающий в это время Николай.
Он не подозревал, что перед ним мятежники. Хотел остановить людей и выстроить, но на его окрик:
– Стой! – последовал ответ:
– Мы за Константина!
Последовало мгновенное молчание, а потом Николай указал рукой в сторону Сенатской площади и сказал:
– Когда так, то вот вам дорога.
И вся эта толпа промчалась мимо него, сквозь его конвой, и беспрепятственно присоединилась к своим товарищам. Они даже не поняли, кого только что видели перед собой! В противном случае началось бы кровопролитие под окнами дворца, и участь императора и его семьи была бы тогда решена…
В это время Александрина и вдовствующая императрица были вне себя от ужаса. Ведь они видели все эти передвижения, подход лейб-гренадеров, знали, что там стрельба, что драгоценнейшая для них жизнь Николая в опасности. У Александрины не хватало сил владеть собой, она взывала к Богу, повторяя одну и ту же молитву:
– Услышь меня, Господи, в моей величайшей нужде!
Казалось немыслимым, что этот день когда-нибудь кончится, что его можно пережить!
Однако они его все-таки пережили. Когда появился Николай, мать и жена увидели, что перенесенные испытания придали его лицу новое выражение. Нет, это были не жестокость и мстительность. Это было величавое, непоколебимое спокойствие. Во время мятежа Николай был озабочен тем, чтобы не показать своим людям ни малейшего признака слабости, не испугать их ни тенью растерянности. Он понимал, что только спокойствие и отвага государя способны удержать страну в этот тяжкий миг. Он словно надел маску, и она навсегда приросла к его лицу. Оно стало поистине непроницаемым. Отныне никто не знал, что на уме или на душе у императора Николая Павловича.
А Александрина была только слабой женщиной. И все ее страхи, все горе, весь ужас и безнадежность минувшего дня выразились в жесточайшем нервном тике, который поразил ее. У нее начала трястись голова – и это осталось на всю жизнь. Когда Александрина была весела и безмятежна, это было почти незаметно, но стоило ей взволноваться или захворать, как дрожь проявлялась сильнее.
…Потом, спустя годы, когда Николая обвиняли в избыточной жестокости к декабристам и их женам, никто не задумывался, чем была вызвана эта жестокость и за что он мстил им всю жизнь. А может быть, за эти судороги, навеки обезобразившие любимое лицо его «маленькой птички»? Разве такой уж мелкий повод?..
Он все бы отдал ради нее! Он готов был на все, чтобы вылечить ее, вернуть ей прежнюю красоту и спокойствие! Но случилось так, что именно он, ее возлюбленный муж, причинял ей больше всего горя. Медленно убивал ее, при этом продолжая нежно и преданно любить.
* * *
Александрина еще и потому пользовалась такой любовью своей свекрови, что безотказно рожала детей своему мужу. В глазах Марии Федоровны, родившей десятерых, это было величайшей заслугой. Тот ребенок, которого носила Александрина в злосчастные декабрьские дни 1825 года, появился-таки на свет. Это была дочь Александра. Вслед за ней на свет родились Константин, Николай и Михаил. Менее плодовитые и больше любившие светские развлечения дамы перешептывались: «Велика ли доблесть – посвятить жизнь тому, чтобы беспрестанно рожать?!» Однако Александрина была очень огорчена, когда врачи в конце концов вынесли свой приговор: рожать ей больше нельзя, если не хочет совсем подорвать свое здоровье и до срока сойти в могилу. Один раз это уже было в ее жизни, но теперь приговор был окончательным и бесповоротным.
Александрина всегда была скорее нежной, чем страстной, она лишь отвечала на желания мужа, чем навязывала свои. Однако она прекрасно знала, сколь пылок, сколь ненасытен в любви Николай. И если приговор врачей означал фактически запрет на физическую близость с мужем для нее, то Николай по сути своей был не способен на воздержание. Будут другие женщины – Александрина понимала это. Но как ни надрывалось ее сердце от незнаемой прежде боли и ревности, она все-таки чувствовала, насколько глубоко ее муж уважает и любит ее. И не сомневалась: даже среди самых бурных связей ее имя не будет унижено. Изменяя ей физически, он всегда останется ей верен нравственно.
И она не ошиблась.
Пусть их по-прежнему нежные отношения были во многом только видимостью – но это была самая блистательная видимость на свете! Государь завтракал, обедал, ужинал со своей женой и каждую ночь, за исключением отъездов из Петербурга по делам, спал в ее опочивальне. Он и впрямь любил ее всю жизнь – вернее сказать, питал к этому хрупкому созданию страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, от него всецело зависимому. Он был самодержцем даже с женой, однако жена, в отличие от России, принимала эту неограниченную власть с радостью. Она по-прежнему была его прелестной птичкой, которую он держал в драгоценной клетке своего обожания, поил нектаром и кормил амброзией своей любви, убаюкивал мелодиями своих нежных признаний. Может быть, если бы птичка захотела улететь, он безжалостно подрезал бы ей крылья. Но в том-то и состояла гармония этой супружеской пары, что птичка никогда не желала покинуть свою клетку. Весь ее мир заключался в любви к мужу, она растворялась в нем – и не хотела знать, что вне этой любви существует еще какой-то совершенно другой мир. Потрясение, пережитое 14 декабря, тоже сыграло свою роковую роль. Александрина сознательно закрыла глаза на действительность – и уже не открывала их. Во всяком случае, старалась не открывать.
Она была добра, у нее всегда были наготове улыбка и ласковое слово для тех, кто к ней обращался, она раздавала свое золото нуждающимся, но среди этих нуждающихся в утешении и заботе она выбирала только самых красивых детей, самых милых стариков и самых хорошеньких, безропотных девушек. И это отношение к миру как к прекрасному, радостному саду поддерживала вся семья.
Доходило до абсурда. В последующие годы николаевскую цензуру упрекали за бесстыдное приукрашивание действительности. Однако это делалось вовсе не для того, чтобы скрыть от мира истинную картину российских бедствий. О них не должна была знать императрица!
России было запрещено говорить о том, что могло взволновать государыню. Она должна была жить в веселье – и умереть счастливой.
Но если император добился того, что никакие горести из мира внешнего не тревожили его жену, то слухи другого плана до нее все же доходили. Прежде всего – слухи о множестве увлечений Николая. Тех увлечений, которым он предался, когда вынужден был перестать спать с женой. Между прочим, он и сам не делал из этого секрета, а порою с видом шаловливого мальчика обсуждал с императрицей сонмище придворных красоток, досаждающих ему своим вниманием. Как ни была возвышенна душой его «птичка», но женщина остается женщиной, и ей не может не быть приятно унижение соперниц. Александрина с наслаждением выслушивала меткие характеристики мужа.
О да, у Николая было много любовниц – но, с другой стороны, он никогда не искушал женщину, которая пыталась искренне уберечь свою добродетель. И если кокетничал, по меткому выражению одной из фрейлин, как молоденькая бабенка, то с кем?! С доступными Бутурлиной, Пашковой, баронессой Анной Фредерикс, с Амалией Крюденер, которой он увлекался, но которую с легким сердцем уступил Бенкендорфу. Разумеется, от его внимания млели молоденькие актрисы – а Николай, надо сказать, очень любил театр. По вечерам, чтобы прийти в себя после напряженного дня, он бывал в балете и во французском театре, реже в русском и никогда – в немецком (ему не нравилась труппа). В русский театр Николай Павлович зачастил, когда на бенефисе знаменитого актера Сосницкого увидел на сцене актрису Варвару Асенкову. У Асенковой была грациозная фигура и прелестные ножки. И глаза у нее были чудесные, выразительные, а лицо было из тех, о которых мечтают актрисы: довольно обыкновенное, оно умело вдруг сделаться каким угодно, даже прекрасным. Неведомо, что привлекло Николая Павловича больше – очарование молодости или очарование таланта, однако он не пропускал почти ни одного спектакля с Асенковой – будь то французский старинный водевиль или современная комедия, опять же французская или русская. Было замечено, что в веселом, как бы смешливом даровании Варвары Асенковой появились новые нотки – печали, даже трагизма. Теперь она словно бы разучилась смешить публику, зато могла заставить ее рыдать. На русской сцене как раз в то время появилась пьеса «Эсмеральда» по роману Гюго «Собор Парижской Богоматери». Страстные признания Эсмеральды в любви к Фебу, сравнения красивого офицера с солнцем сопровождались такими взглядами в сторону государевой ложи, что о сердечных тайнах молодой актрисы не догадался бы только полный дурак. А как она умирала из-за любви к Фебу! Как сходила с ума влюбленная в Гамлета Офелия! Знатоки уверяли, что трагические роли вне амплуа Асенковой, однако любовные сцены удавались ей поистине трогательно, ибо она и сама была влюблена в того, кого откровенно сравнивала с Фебом, божеством солнечного света.
Что и говорить, императору не надо было принуждать женщин влюбляться в себя. Они сами сходили по нему с ума. Конечно, царственный блеск привлекал их, но и удивительная красота императора играла тут не последнюю роль.
Николай был очень скромен в быту. Окружая любимую жену утонченной, сказочной роскошью, он сам был поразительно неприхотлив. Ел мало, в основном овощи и рыбу, ничего не пил, кроме воды, а рюмка вина была редкостью. Вечером ел только тарелку протертого супа, не курил, ходил много пешком, никогда не отдыхал днем. Понятия халата или домашнего платья для него не существовало, ибо он был убежден, что император должен быть всегда в форме. Правда, если ему нездоровилось, то вместо мундира надевал старенькую шинель. Спал на походной кровати на тоненьком тюфячке, набитом сеном. Его покои в Зимнем дворце отнюдь не отличались роскошью, а для работы себе он выбрал комнату под лестницей, ведущей к комнате императрицы. Простота этой комнаты была удивительная.
Вольнодумцы оскорбляли его за эту скромность как могли – называли солдафоном. Его было легко оскорбить даже публично – ведь Николай никого и никогда не наказывал за поношение своей персоны и всегда снимал обвинения с людей, арестованных за такие провинности. Но его называли не только солдафоном – его упрекали в распутстве, приписывали ему и внебрачных детей, которые воспитывались в доме Клейнмихелей, и соблазнение всех женщин подряд.
При том, что император Николай возвышенно любил свою жену, его страстно, неодолимо влекло к фрейлине Варваре Нелидовой, племяннице Екатерины Нелидовой, которая была признанной фавориткой его отца Павла Петровича.
В этом можно было усмотреть нечто мистическое…
Правда, в отличие от своей тетушки, которая уродилась весьма невзрачна, хоть и умна, Варенька Нелидова была очень хороша собой. Императрица любила окружать себя красивыми лицами, и в свое время Варвара Аркадьевна была украшением этого цветника, именуемого «фрейлины императрицы».
Красота ее была из тех, которые не вянут с годами, чудилось, возраст только прибавлял ей изысканности и одухотворенности. Поэтому не удивительно, что Николай был увлечен ею всю жизнь.
В конце концов эта связь приобрела в глазах двора оттенок почти благопристойный. Варвару Нелидову извиняло многое, а прежде всего – самозабвенная, почти девическая, страстная влюбленность в Николая Павловича. Кроме того, она была скромна и деликатна, сдержанна и тщательно скрывала оказываемую ей милость, а ведь другие женщины обычно откровенно кичатся монаршим расположением. Для нее любовь к императору была и счастье, и крест ее жизни.
Может быть, поэтому в отношении к ней императрицы не было никакого зла, никаких придирок, на которые бывают столь горазды оскорбленные женщины. Скромная фаворитка вызывала даже уважение, понимание: ведь, с точки зрения Александрины, не любить ее мужа было просто невозможно.
Среди фавориток императора, мнимых и действительных, была только одна, которую государыня ненавидела всеми силами души, хотя и являла к ней привычную светскую сдержанность и даже радушие. Это была признанная красавица Наталья Николаевна Пушкина, в девичестве Гончарова.
К Пушкину отношение при дворе и в обществе было тогда неоднозначное. Кто-то принимал его, кто-то нет. Кто-то восхищался, кто-то уничижал. Отнюдь не все считали, что это солнце русской поэзии. Александра Федоровна относилась к Пушкину с почтением, однако потом стала откровенно предпочитать ему Лермонтова, которого находила более страстным, более интересным и ярким. В отношении же к Пушкину императора Николая Павловича странным образом сочетались терпение, которое может проявлять учитель к способному, но нерадивому ученику, – и острая, тщательно скрываемая ненависть. В любых действиях Николая недоброжелатели пытались углядеть желание непременно уязвить поэта. А разве поэт не оскорблял императора?
Когда 8 сентября 1826 года император вернул его из Михайловской ссылки и дал аудиенцию во дворце, то задал вопрос:
– Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?
– Стал бы в ряды мятежников, – не без кокетства ответил поэт, совершенно убежденный, что ничем не рискует. Дело прошлое, не для того людей из ссылки возвращают, чтобы карать за несовершенные преступления!
Да, никакого наказания не последовало. Наверно, Николай видел насквозь этого человека, который не прибыл в Петербург 14 декабря лишь потому, что дорогу ему перебежал заяц. Пушкин отнюдь не был трусом, вот уж нет! Он просто был не создан для подвигов. И слава Богу, иначе солнце русской поэзии закатилось бы еще раньше.
Николай формально освободил его от официальной цензуры и предложил, что сам станет его цензором. Ах, какой писк подняли по этому поводу все вольнодумцы!
А как прохаживались приятели поэта насчет того унижения, которое ему было якобы нанесено назначением его камер-юнкером, дабы он мог сопровождать на придворные балы Наталью Николаевну, к которой питал слабость император! Но кем же его было назначить? Гофмаршалом, что ли? Служба придворная начиналась с малых чинов…
Однако при всем при том и Пушкин, и его приятели были правы, когда усматривали в действиях государя тонкое, изящно завуалированное стремление унизить великого поэта. И дело тут было не в политических взглядах, не в ревности к мужу красавицы Натали. Можно восхищаться красотой женщины – и оставаться джентльменом. Николай пытался… но не мог одолеть в себе обиды за брата. Ведь ни от кого не было секретом, что Пушкин боготворил императрицу Елизавету Алексеевну. И это, вероятно, и было тем камнем преткновения, который вызывал недовольство дома Романовых по отношению к поэту.
Ну а Александрина, конечно, ревновала… Уж больно хороша была эта Натали, особенно на фоне своего невзрачного мужа, которого, как и всех малорослых мужчин, неудержимо влекло к очень высоким женщинам. Он даже не замечал, что пара-то получилась карикатурной! А вот рядом с Николаем Павловичем Натали смотрелась великолепно. Жаль, что в ту пору носили мягкие шелковые туфельки на плоской подошве, потому что рядом с таким мужчиной она могла бы надеть туфли хотя бы и с пятивершковыми каблуками. И в соседстве с Жоржем Дантесом, этим белокурым красавцем, Натали смотрелась очень выигрышно. Приемного сына посланника Геккерена Александра Федоровна привечала из чистой вредности, чтобы досадить Пушкину. Что делать – она ведь была только женщина, которая безумно любила своего мужа. И ревновала его, хотя вынуждена была скрывать это.
В том, как отреагировала Александрина на смерть поэта, видна страдающая от этой ревности женщина:
«Этот только что угасший Гений… Эта молодая женщина возле гроба, как ангел смерти, бледная, как мрамор, обвиняющая себя в этой кровавой кончине, и кто знает, не испытывала ли она рядом с угрызением совести, помимо своей воли, и другое чувство, которое увеличивает ее страдания?»
Она имела в виду любовь к Дантесу? Или к императору? Кто кого на самом деле искушал: Николай Натали или Натали Николая?
И дивное резюме – как приговор легкомысленной красавице:
«Бедный Жорж, как он должен был страдать, узнав, что его противник испустил дух».
Какое горе, что Пушкин оказался столь легковерен, столь легко повелся на дешевые слухи, скомпрометировал и жену свою, и бросил тень на имя государя! Он все-таки постигнул это – уже на смертном одре, в последнем озарении жизни, и пробормотал:
– Как жаль, что этот вздор меня пересилил…
Вот именно – этот вздор! Не стоящая его смерти клевета… Какая жалость, что он понял это, когда было уже поздно. Какая жалость, что никто из друзей, воспевавших его дар, не пожелал удержать его от роковой ошибки. Зато они поливали слезами его мертвое тело. Легко почитать соперника, который уже принадлежит вечности!
* * *
Шли годы. Александрина по-прежнему всецело растворялась в своем обожании Николая. Она была заботливая мать, но то чувство, которое она испытывала к мужу, превосходило все прочие чувства. Она сопровождала его в путешествиях, хотя трудности пути подтачивали ее здоровье; закованная в кандалы и цепи придворной жизни, исполняла свой долг – развлекаться до самой смерти. Расплачиваясь здоровьем за свое положение на троне, она жила только любовью к Николаю.
Между тем здоровье Александрины и в самом деле было плохо. Нервный тик, результат трагических событий 1825 года, давал себя знать все чаще. Образ ее жизни был для нее смертелен. Она необыкновенно похудела, ее глаза потухли. Казалось, на этом свете ее удерживала лишь неизбывная любовь к мужу, лишь боязнь огорчить своим уходом дорогого Николая, которому и так приходилось нелегко.
Она была уверена, что опередит мужа на этом пути, и заранее жалела его, когда он останется один.
Однако рок судил иначе, как любят выражаться поэты…
Крымская война стала проклятием для страны. Александрина воспринимала ее не со стороны – два ее сына были на театре военных действий. Фрейлины в основном только и делали, что щипали корпию для армии. Императрица не отставала от них. Что значили кровавые мозоли на ее пальцах по сравнению с той тоской, которую она читала в глазах Николая?!
О чем он думал?
Крымская война сломила государя. Оказалось, что та великолепная государственная машина, которая была им отлажена и запущена, – просто игрушка из папье-маше, которая не выдержала испытания. Она сломалась, рухнула – и погребла под обломками самого императора.
Николай умер не потому, что не смог пережить унижение собственного честолюбия – он не смог пережить унижения России.
Для всех, кто привык видеть его непоколебимым, его болезнь была странной, непостижимой, внезапной и необъяснимой. Только два человека знали причину этой внезапности: его старший сын Александр и доктор Мандт. Но они дали клятву молчать – и молчали, как ни тяжело было переносить горестное, трагическое недоумение императрицы, совершенно не понимавшей, что произошло с ее обожаемым мужем. Говорили о гриппе и воспалении легких, о начинавшемся параличе…
Он умирал.
Дворец не спал. Государь то молился, то отдавал последние распоряжения. Они были настолько четки и продуманны, что невольно наводили мысль о том, что были приготовлены заранее.
Он совершенно владел собой и даже спросил доктора:
– Потеряю ли я сознание или задохнусь?
– Я надеюсь, что не случится ни того, ни другого, – ответил Мандт. – Все пройдет тихо и спокойно.
– Когда вы меня отпустите? – спросил Николай. Мандт отвел глаза, сделав вид, что не расслышал вопроса.
В это время фрейлины, собравшиеся под дверью кабинета, где отходил государь, увидели, что в вестибюле появилась Варвара Нелидова. Она сама походила на умирающую, и трудно было описать выражение ужаса и отчаяния, отразившихся в ее растерянных глазах и в застывших чертах лица, некогда красивого, а теперь белого и окаменелого, как мрамор. Проходя мимо одной из фрейлин, она схватила ее за руку и судорожно потрясла.
– Прекрасная ночь, мадемуазель Тютчева, прекрасная ночь! – пробормотала она хрипло, и видно было, что она совершенно не осознает своих слов, что ею владеет полное безумие.
О ее присутствии стало известно императрице, и она, сама теряющая любимого человека, поняла и пожалела Нелидову так, как можно жалеть только перед лицом последнего прощания. Она сказала Николаю:
– Некоторые из наших старых друзей хотели бы проститься с тобой… Варенька Нелидова.
Умирающий понял и сказал с мягкой улыбкой:
– Нет, дорогая. Я не должен больше ее видеть, ты ей скажи, что я прошу ее меня простить, что я за молился и прошу ее молиться за меня.
И, трудно дыша, пробормотал:
– Скоро ли кончится эта отвратительная музыка? не думал, что так трудно умирать…
Посмотрел на жену и отрешенно улыбнулся:
– Ты всегда была моим ангелом-хранителем – с той минуты, как я увидел тебя в первый раз, и до этой последней минуты.
Во время агонии он держал руки жены и сына и вдруг выговорил, глядя на Александра прояснившимися глазами:
– Держи все… держи все!
Потом он прощался со своими любимыми только взглядом. Александрина была с ним до последнего мгновения и своими руками закрыла ему глаза.
Это было 20 февраля 1855 года.
* * *
На другой день после смерти императора Варвара Нелидова отослала в «Инвалидный капитал»[55] те 200 тысяч рублей, которые были ей оставлены Николаем Павловичем. Она хотела уехать из дворца, но императрица не позволила. Впрочем, Нелидова окончательно удалилась от света, и ее можно было встретить лишь в дворцовой церкви, где она ежедневно бывала у обедни. Вскоре ее не стало видно и там, так что многие из обитателей дворца даже и не знали толком, жива она или нет.
Александра Федоровна пережила мужа на пять лет. Какое-то время она жила в Ницце для поправления здоровья, но потом вернулась в Зимний, откуда из ее окон открывался прекрасный вид на любимую ею Неву.
Незадолго до смерти она написала распоряжение:
«Я желаю, чтобы мои комнаты в Зимнем не стояли пустые и чтобы через год после моей смерти они были предназначены для кого-либо из новобрачных в царской фамилии, которые, поселившись в них, будут пользоваться, надеюсь, тем же семейным счастьем, каким пользовалась в них я».
Маленькая птичка обожала свою золотую клетку до самого конца. Она так и не узнала о причинах столь внезапной смерти своего обожаемого Николая. А между тем он покончил с собой, не в силах перенести крушения всего своего правления. О своем решении он поставил в известность старшего сына. Яд ему дал собственноручно доктор Мандт и постарался устроить все так, чтобы кончина императора была максимально правдоподобна, как нельзя больше напоминала естественную смерть.
Под страхом вечных адовых мучений оба его соучастника поклялись, что никогда не откроют правды ни Александрине, ни кому-то другому. Кое-какие слухи все же просочились потом в мир, но остались неведомы «птичке». Поэтому она навеки запомнила лишь счастливые часы своей жизни и своей любви.
Невеста двух императоров
Дагмар-Мария Федоровна, Николай Александрович и АлександрIII
Эта история началась как трагедия, а закончилась как идиллия. Было в ней место и водевилю, и откровенной комедии. Потому что в жизни они мирно сосуществуют рядом.
* * *
Как-то раз один пятилетний ребенок сказал своей маме, что когда-нибудь он непременно сделается царем. «После дедушки будет папа, а потом я – Саша».
Его матушка засмеялась. И не только потому, что слышать такие слова из уст пятилетнего малыша и в самом деле смешно. И пусть даже этот мальчик родился в императорской семье и звался великим князем Александром Александровичем, того, о чем он говорил, не могло случиться. Не могло – и все! Законы престолонаследия невозможно нарушить – во имя незыблемости других государственных законов. А наследник престола, который должен был сделаться русским императором после Александра II, в семье уже имелся. Его звали Николаем Александровичем, и, воцарившись, он титуловался бы Николаем II. Впрочем, сейчас, в 1855 году, ему было всего лишь одиннадцать лет и звался он просто Никс. А его лучший друг, младший брат Саша, называл его шутливо Никса.
Братья росли и взрослели, как и положено царским сыновьям. Воспитание было строгим, отнюдь не праздным.
В 1861 году отец Никса и Саши, император Александр II, отменил своей властью крепостное право в России. Александр восхищался отцом, однако про себя думал, что, наверное, даже хорошо, что не родился наследником престола. То детское честолюбие давно кануло в Лету. Чем дальше, тем больше ужасался он даже призрачной возможности сделаться венценосцем. Кто-кто, а царевичи отлично знали, что власть – это воистину тяжкое бремя, и за право быть помазанником Божиим человек платит порою избыточно дорого.
Отдохновение от суровой учебы и регламентированного быта братья находили в чтении. Они с удовольствием открыли, что не только на французском, но и на русском языке есть «очень порядочные книги». Никс особенно увлекался поэзией, Лермонтовым.
Он вообще был более тонкой натурой, чем младший брат. Александр даже выглядел куда крепче. Никс порою любовался братом. Особенно ему нравилось, как Александр работал молотом в кузнице. Был таким сосредоточенным, деловитым, пот градом струился по его телу – очень сильному, атлетически сложенному. И все же во многом Никс был взрослее брата. Именно поэтому никто не удивился, когда родители, отправляя его в путешествие по Европе, поставили условие непременно посетить Данию и познакомиться со второй дочерью датского короля Христиана IX – Марией-Софьей-Фредерикой Дагмар, которой еще не было семнадцати лет. Никс показал брату фотографию принцессы, однако Александр не нашел в ней ничего особенного: так, милая барышня, но бывают и получше. Никс обиделся; братья не сразу помирились.
Честно говоря, Александр предвидел, что эта встреча «плохо кончится». Барышню прочили в невесты его брату! Таким образом Никс невозвратно уходил в совсем иной, взрослый мир, куда Саше соваться пока совершенно не хотелось. Он чувствовал, что скоро перестанет быть для брата единственным и лучшим другом. Эта барышня вклинится между ними и разлучит.
Он ревновал. Однако переживания «милого Маки» (так Александра насмешливо называли в семье) никого не интересовали, даже родителей. Он считался увальнем. Его не принимали всерьез. Тем паче когда речь шла о женитьбе Никса на датской принцессе.
Эта мысль очень грела императора. Поддержка России много значила для Дании, а России было выгодно закрепиться в прибалтийской стране – в пику Вене и Берлину. Через Дагмар русские цари могли породниться и с английским королевским домом. Кроме того, в России невесты из захудалых немецких княжеств всем порядком поднадоели, а брак с датской принцессой никого не раздражал.
Впрочем, решение, конечно, оставалось за Ник-сом. Династический брак – это хорошо, но прожить всю жизнь с женщиной, к которой у тебя не лежит сердце, – такой участи император не желал своему сыну. Он сам слишком хорошо знал, что это такое.
Никс ехал в Копенгаген только посмотреть на принцессу. Однако вышло так, что он влюбился в нее с первого взгляда. Не могло быть «барышни получше», как выразился глупый брат. Она сразу стала для Николая единственной.
При этом она вовсе не была красавицей в общепринятом смысле этого слова. Да и умом не блистала. В ней было нечто большее, чем красота и ум. В ней были живость и шарм. Каким-то непостижимым образом она умела нравиться всем. Самые сварливые тетушки обожали ее. Придворные наперебой стремились услужить. Кавалеры не давали проходу на балах, в то время как более красивые дамы танцевали только с теми, кто приглашал их по обязанности. Словом, Дагмар была неотразима!
При этом она была послушной дочерью. Прекрасно зная, что ей необходимо выйти за русского цесаревича – в интересах государства, – она была согласна заранее, даже не видя его. Без колебаний решилась сменить лютеранскую веру на православную, что являлось необходимым условием замужества. Однако таково было счастливое свойство ее натуры, что она готова была не только стать женой Николая, но и полюбить его. И полюбила!
Впрочем, он оказался вполне достоин этого. Никто другой не был так похож на того прекрасного принца, о встрече с которым мечтает каждая девушка. Дагмар повезло.
Ее «да» вознесло Никса почти на небеса. Он услышал это желанное слово в укромном уголке парка загородной королевской резиденции Фреденсборг. Никс и Дагмар немедленно бросились друг к другу в объятия и принялись страстно целоваться. И оба поняли, что могут быть очень счастливы в супружестве. Они не сомневались, что созданы друг для друга!
С каждым днем они влюблялись все сильнее. Дагмар была идеальной женщиной – она моментально превращалась в зеркало для любимого мужчины. Причем в такое зеркало, которое отнюдь не искажает отражение, а только приукрашивает его. Она прекрасно поняла, что ее имя будет звучать чуждо для русского слуха, и охотно согласилась зваться отныне Марией. Вернее, Минни.
Не сказать, что это ей так уж сильно нравилось. Но ведь это ради обожаемого Никса!
А Никс тем временем бомбардировал родителей восторженными письмами:
«Дагмар такая душка! Она лучше, чем я ожидал; мы оба счастливы… Знакомясь друг с другом, я с каждым днем все более ее люблю, сильнее к ней привязываюсь. Конечно, я найду в ней свое счастье; прошу Бога, чтобы она привязалась к новому своему отечеству и полюбила его так же горячо, как мы любим нашу милую родину. Когда она узнает Россию, то увидит, что ее нельзя не любить».
Между тем в России новость о предстоящем браке цесаревича была новостью номер один. На все лады обсуждались плюсы и минусы самой брачной партии и невесты в частности.
Был, впрочем, один человек, который «душку Дагмар» заранее на дух не переносил. И прежде всего потому, что не сомневался: это брак по расчету. Жениться надобно только по любви, династические браки никому не приносят счастья. Взять хотя бы государя императора Александра II!
К тому же, эти иностранки… Почему не жениться на русской красавице?
Человек этот, несмотря на юность, рассуждал со знанием дела. И все же мысли о любви, хоть и чистые и прекрасные, были в данном случае, что называется, в пользу бедных. Ему, великому князю Александру, тоже придется когда-нибудь жениться по расчету, из государственных соображений. Что же говорить о цесаревиче!
И все-таки он был заранее настроен против этой
«навязанной» любимому брату принцессы. Причем настроен весьма воинственно. И даже письма брата о невесте казались ему фальшивыми:
«Если бы ты знал, как хорошо быть действительно влюбленным и знать, что тебя любят так же. Грустно быть так далеко в разлуке с Минни, моей душкой, маленькой невестою. Если б ты ее увидел и узнал, то, верно, полюбил бы как сестру. Я ношу с ее портретом и локон ее темных волос. Мы часто друг другу пишем, и я часто вижу ее во сне. Как мы горячо целовались, прощаясь, и до сих пор иногда чудятся эти поцелуи любви. Хорошо было тогда, скучно теперь, вдали от милой подруги. Желаю тебе от души так же любить и быть любимым».
Боже ты мой, что может сделать какая-то «барышня» с хорошим, умным человеком, почти в ужасе размышлял Александр. Все, брата Никса больше нет! Не доведет его до добра эта душка… эта Дагмар, Минни, какая разница? Нет, не доведет!
Ну и что толку было в его страданиях? Все равно мнением «милого Маки» никто и никогда не интересовался.
Тем временем Никс продолжал свою поездку по Европе. Он условился встретиться с Дагмар в Ницце, где в это время жила императрица Мария, его матушка. У нее были слабые легкие.
Жених и невеста постоянно переписывались, при этом Дагмар много писала и родителям Никса. Особенно доверительные отношения у нее установились с императором. Что и говорить, ей всегда было легче находить общий язык с мужчинами, чем с женщинами. А впрочем, грех жаловаться. Мать Никса тоже была очень расположена к его невесте – хоть никогда еще не видела ее. Но, судя по ее письмам, эта Дагма– Минни и впрямь хорошая девочка.
«Мои любимые родители! Разрешите мне добавить эти несколько строчек к письму вашего дорогого сына, моего любимого Никса, чтобы выразить вам то счастье, которое я испытываю в этот момент от того, что чувствую себя связанной с вами столь дорогими для меня узами. Пусть Бог своей добротой поможет мне сделать вас также счастливыми, чего я сама желаю от всего сердца. Отдайте и мне немного той любви, которую вы испытываете к вашему сыну, и вы сделаете меня тоже счастливой. Преданная вам Дагмар».
Нет, в самом деле, очень милое письмо, благосклонно думала императрица. Ну очень милое!
Тем временем Никс, продолжая свое путешествие, прибыл в ноябре в Италию, и тут случилась беда. Его сковал приступ страшных болей и не отпускал несколько дней. Он не мог спать, не мог есть. Каждое движение причиняло мучение. Эта болезнь, которую врачи называли люмбаго, а русские – прострел, первый раз скрутила его еще весной, в Царском Селе. Но все прошло довольно скоро. А теперь болезнь что-то затянулась…
При первом же признаке улучшения Никс отправился во Флоренцию, продолжать свой вояж, однако приступ накатил снова. Все официальные визиты пришлось отменить – цесаревича уложили в постель, а потом перевезли в Ниццу, к матери. Для него сняли виллу Бремон, мать жила с младшими детьми на вилле Дисбах, сама чувствовала себя плохо, сына навещала не часто, и Никс отчаянно скучал.
Впрочем, свою болезнь он не очень-то принимал всерьез и даже стыдился ее. Ну в самом-то деле, в двадцать один год вдруг скрючиться и хвататься за поясницу, словно старикашка! Это же смеху подобно! Да и врачи этот «простудный ревматизм» тоже не считали за опасную болезнь. Никса пользовали парижские светила, профессора Нелатон и Рейе, которые уверяли, что все скоро пройдет.
Никс ждал этого «скоро» как манны небесной. Он страшно тосковал по Дагмар, ждал ее приезда и надеялся, что к этому времени совершенно выздоровеет.
Довольно неприятное событие в это время отвлекло его от хвори. Дело в том, что Дания как раз подписала очень унизительный для нее Венский мирный договор, который стоил здоровья ее королю, отцу Дагмар. В стране царило уныние, и тогда принцесса, в которой было еще немало совершенно детской наивности, обратилась в русскому царю, который казался ей всемогущим. Обратилась к будущему свекру:
«Извините, что обращаюсь к Вам впервые с прошением, но, видя моего бедного отца, нашу страну и народ, согнувшихся под игом несправедливости, я естественно обратила свои взоры к Вам… с которым меня связывают узы любви и доверия. Вот почему я, как дочь, идущая за своим отцом, умоляю Вас употребить всю власть, чтобы облегчить те ужасные условия, которые отца вынудила принять грубая сила Германии. Вы знаете, как глубоко мое доверие к Вам. От имени моего отца я прошу у Вас помощи, если это возможно, и защиты от наших ужасных врагов».
Дагмар была бы изумлена, узнав, как покоробило Александра II это письмо. Что и говорить, Россия возмутилась условиями Венского договора, но не до такой степени, чтобы ссориться из-за этого с Германией. Дипломатическими усилиями решить проблему было невозможно. Что же, эта девочка хочет, чтобы Россия вступила из-за какой-то там Дании в войну?!
Наверняка принцессу подзуживал ее отец. А если нет – тем хуже, значит, она просто интриганка.
Александр написал жене возмущенное письмо, Мария, понятное дело, все рассказала Никсу. Тот был просто сражен. Особенно потрясло его выражение «паутина интриг». Эти слова применительно к Дагмар казались не просто кощунственными – убийственными! Он был готов написать отцу самое раздраженное письмо. Однако его ведь готовили на роль государя. А царь, хочет не хочет, должен быть дипломатом. И Никс после тщательного обдумывания отправил императору такое послание:
«Мне мама уже говорила о письме, которое ты получил от Дагмар. Ты можешь себе представить, милый па, как мне было неприятно, тем более что у Дагмар характер твердый и не наклонный поддаваться каким-то наущениям. Я убежден, что это дело королевы, и удивляюсь, как она решилась заставить дочь написать такое письмо, особенно когда мир уже подписан. Я надеюсь, милый па, что ты не будешь сетовать на мою бедную невесту за бестактность ее матери. Ты, верно, полюбишь мою милую Дагмар, когда ее узнаешь; у нее редкое сердце и она, конечно, будет для тебя и для мамы любящей и благодарной дочерью».
Император довольно хорошо знал королеву Луизу, известную как «шалая особа», однако она вряд ли стала бы вмешиваться в суровые политические игры. Дело было, конечно, только в Дагмар… Однако Александр Николаевич не пожелал продолжать скандал. Прежде всего ради сына, ибо известия о его здоровье шли в Петербург самые неутешительные. Невинный прострел был вовсе не прострел, а почечный ревматизм.
Но император не больно-то доверял ни врачам, ни собственной жене, поэтому решил отправить в Ниццу Александра. Тому недавно исполнилось двадцать лет, и он был известен своим трезвомыслием и рассудительностью. Пусть посмотрит, что там и как, и приободрит брата.
О самом плохом еще никто не думал. Александр был совершенно уверен, что Бог не допустит смерти его любимого брата. Нет, этого не может быть. И не должно быть!
5 апреля он прибыл в Берлин и здесь узнал новость: Никс вчера причащался. Это сразило Александра. Наконец-то он признал, что пытался обмануть себя. Дело плохо…
Он ринулся в Ниццу почти с неприличной поспешностью, даже не нанеся визита германскому королю. Но тут было уже не до официоза и не до короля. И словно в награду за преданность Александр узнал, что брату стало лучше.
Тем временем император Александр 6 апреля с сыновьями выехал из Петербурга. Поездка по Европе была проделана царским поездом с невероятной скоростью: за 85 часов добрались до Ниццы. При этом император не мог изменить себе: в Берлине он беседовал с Вильгельмом I, в Париже – с императором Наполеоном III. Правда, в знак уважения к чувствам отца оба государя встретились с русским императором на вокзалах. А в Дижоне к царскому поезду присоединился другой – шедший из Дании. На этом поезде были королева Луиза, наследник престола Фредерик и принцесса Дагмар.
Александр Николаевич был поистине великодушен. Даже в пылу неприязни к «паутине интриг» он помнил о любви, которая соединяла Никса и Дагмар, а потому предложил в распоряжение датской королевской семьи свою яхту «Штандарт», чтобы отправиться в Ниццу. Однако путешествие морем могло затянуться. Дагмар с матерью поехали поездом и прибыли в Ниццу вместе с русским императором.
Александр Николаевич, отгонявший от себя дурные мысли сколько возможно, в пути всецело отдался самым мрачным предчувствиям, самым мрачным ожиданиям. И они его, к несчастью, не обманули.
Никс был уже при смерти. То улучшение, которое так обрадовало его брата, было лишь призраком, издевкой смерти, которая иной раз любит поманить свою жертву мнимыми радостями жизни. Никс бредил, почти никого не узнавал. Убитая горем императрица Мария рыдала, почти не переставая. Александр заходил в комнату к брату, смотрел на его лицо, ставшее неузнаваемым, крепился, сколько мог, а потом уходил к себе и давал волю слезам.
Брат не видел его, не узнавал. Лежал в забытьи, иногда стонал так, что разрывалось сердце.
Александр был до того потрясен, что едва ли обратил внимание на прибытие его невесты. Познакомился с ней вечером, утром увидел вновь – и никак не мог припомнить, кто это. Пришлось спросить у кого-то из приближенных. Так вот она, «душка Дагмар». Ни на какую душку она теперь не была похожа. Заплаканная, измученная горем девочка. Ему стало жаль ее, но еще больше ему было сейчас жаль своих родителей и себя. А уж Никса-то…
В ночь на 11 апреля Александра, который приказал себя будить при малейшей перемене в состоянии здоровья брата, подняли с постели вестью, что цесаревич-де слабеет. Он кинулся на первый этаж, где была спальня Никса. И не поверил глазам, встретив его осмысленный, узнающий взгляд. Никс улыбнулся, протянул невероятно худую руку, сказал:
– Славный человек!
Александр сжал его пальцы и сел рядом, даже не сознавая, что из глаз его текут слезы.
Это было в пять часов утра. В девять врач позволил прийти Дагмар. Она всю ночь не спала – готовила себя к этой встрече. Готовила себя к самому худшему, но и вообразить не могла, что придется увидеть. Рассталась в ноябре с самым прекрасным из всех прекрасных принцев на свете, а в апреле увидела его желтым, измученным, исхудавшим до неузнаваемости, полуживым… нет, уже умирающим!
Она разрыдалась, но тут же попыталась успокоиться, чтобы не расстраивать Никса. Впрочем, что его могло теперь расстроить? Сознавая, что жизнь истекает, он пытался насладиться ее последними мгновениями. Прикосновением к тем, кого он больше всех любил: к невесте и к брату.
Александр и Дагмар сидели по обе стороны его постели, держали его за руки. Никс был между ними. Разделял он их? Или соединял?..
Втроем, вместе, они слушали Евангелие от Иоанна, которое читали умирающему:
«Да не смущается сердце ваше – веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я б сказал вам: „Я иду приготовить место вам“. И когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы вы были, где Я. А куда иду Я, вы знаете, и путь знаете».
Эти слова призваны были утешать. Но они написаны для стариков! Разве можно утешить юность, которая вступает на путь вечной разлуки с жизнью и любовью?..
Днем Николай причастился и простился со всеми. Силы его были совершенно истощены. К вечеру он уже никого не узнавал, сознание покинуло его. Все было кончено. Вскоре после полуночи Никс умер.
Горевали все, но горе Дагмар поражало всех. В восемнадцать лет сделаться невестой-вдовой! Она оплакивала не только любимого, но и себя. И прежде-то маленькая, тоненькая, она истончилась так, что стала похожа на призрак. Когда ее с трудом отрывали от гроба Никса, казалось, что она вот-вот умрет. Ее отчаяние разрывало сердце, и родители поневоле смиряли свои рыдания, чтобы утереть ее слезы.
Но в конце концов пришлось покинуть Ниццу. Царская семья провела несколько дней в Германии, в Югенхайме, на берегу Рейна, у своего родственника, герцога гессенского Людвига; вместе с ними там гостила и Дагмар. А потом она уехала в Данию – уверенная, что больше никогда не станет невестой.
А русские отбыли в Россию. Все были подавлены, но мрачнее всех выглядел Александр. Горе от потери брата мешалось с тайным страхом: теперь он стал цесаревичем и наследником престола. Почти с ужасом вспоминал свои детские бредни о том, что когда-нибудь будет править, почти с ненавистью к себе думал: «Ну вот, накликал!»
И снова вспоминал брата, понимая, что без Никса жизнь его будет наполовину пуста.
Однако ему становилось чуточку легче, когда он думал, что есть человек, который страдает так же безутешно, горюет так же безудержно, как он; человек этот тоже потерял половину души.
Ему понравилась Дагмар. В Югенхайме она рассказывала о своей любви к его брату, и Александр думал, что Никсу повезло. Вернее, могло бы повезти, останься он жив. В самом деле, эта девушка могла сделать человека счастливым. Брак с ней не был бы для Никса сугубо династическим браком по расчету. Это была любовь – та самая любовь, о которой так мечтал сам Александр…
Увы – любовь не сбывшаяся.
Между тем родители Никса тоже оценили его невесту. В горе она стала им куда милее, чем во дни счастья. Император совершенно забыл о мимолетной неприязни, которую испытал к Дагмар, и даже высказался в том смысле, что как было бы отлично оставить у себя Дагмар навсегда!
Это было воспринято всеми не более чем порыв, душевное движение. Не более.
Однако все ошибались. Дагмар необычайно понравилась своему несостоявшемуся свекру. Он открыл в ней сильную натуру – такая девушка была бы истинной подругой государственного деятеля, будущего императора. Никс умер – но остался его брат, которому тоже надо будет искать жену. А зачем ее искать – вот же она! Александр гораздо слабее своего старшего брата – ему еще больше нужна сильная и умная женщина рядом.
Он написал Дагмар ласковое письмо, в котором снова высказал свое желание, чтобы она навсегда осталась в их семье.
Этот намек нельзя было истолковать иначе как косвенное предложение выйти за Александра.
Дагмар растерялась. Она только что поставила крест на своем счастье – да и на блестящей, великолепной партии. И вот теперь ее опять поманили этим блеском.
Было бы наивно и нечестно думать, что ее не привлекала возможность все-таки сделаться российской императрицей. А кто на ее месте не прельстился б этим? Но все-таки, растерянно думала Дагмар, как же быть с любовью и счастьем?
Александр был совсем другой, чем Никс. Если тот, первый, мгновенно вызывал в людях любовь и восхищение, то полюбить этого, второго, будет не так-то просто. И все же Дагмар знала свою натуру. Она знала, что не захочет быть похороненной заживо, она сможет полюбить цесаревича.
Но не все зависело от ее воли, от ее решения. Сначала Александр должен сам смириться с этой мыслью. Выбирает здесь мужчина. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы о Дагмар злословили, ей-де все равно, за кого идти замуж, лишь бы за русского царевича, она-де навязывается Александру…
Она написала письмо императору:
«Мне очень приятно слышать, что Вы повторяете о Вашем желании оставить меня подле Вас. Но что я могу ответить? Моя потеря такая недавняя… С другой стороны, я хотела бы услышать от самого Саши, действительно ли он желает быть вместе со мной, потому что ни за что в жизни я не хочу стать причиною его несчастья. Да и меня это скорее всего также не сделало бы счастливой. Надеюсь, Вы понимаете, что я хочу этим сказать. Но я смотрю на вещи так и считаю, что должна Вам об этом честно сказать».
Одновременно с этим письмом Дагмар отправила цесаревичу Александру фотографию Никса и записку:
«Посылаю Вам обещанный портрет нашего любимого усопшего, прошу Вас сохранить ко мне Ваши дружеские чувства. Пусть воспоминания о нем хотя бы иногда станут нас объединять. Ваша любящая сестра и подруга Дагмар».
Чего она ждала, какого ответа, какого шага?
Об этом знала только она… которая дождалась лишь коротенького любезного ответа. И больше ничего довольно долго. И тогда Дагмар подумала, что не было, наверное, никакого знака Провидения в том, что они с Александром сидели у постели умирающего Никса. Значит, он все-таки не соединял их, а разделял.
* * *
Минул год. За это время изменилось только то, что Дагмар однажды послала Александру свою фотографию, а он едва собрался ответить и поблагодарить. Как ни была неопытна Дагмар, она не могла не понять: Александр к ней равнодушен, и мало этого – его сердце занято другой. При королевских дворах всегда в курсе матримониальных планов принцев и принцесс, и в Дании знали: наследнику русского престола пока еще не ищут невесты. К тому же в письмах императора не гаснет интерес к Дагмар и его желание видеть ее в своей семье. Младший великий князь Алексей завершил строительство небольшой яхты, которую назвал «Дагмар». По всему выходило, что семья русского государя любит датскую принцессу и ждет ее. Но что же тогда происходит с Александром?!
Вскоре стало известно, что в одной из французских газет появилась скандальная статья, где говорилось, что наследник русского престола отказывается от женитьбы на датской принцессе, так как увлечен некоей княжной Мещерской, с которой намерен вступить в морганатический брак. Эта статья была перепечатана датскими газетами, и семья короля Христиана получила изрядный шок.
В этой ситуации достойнее всего вела себя Дагмар. Холодно и спокойно. Только приподняла брови – и уединилась в своих комнатах, не выражая ни печали, ни огорчения, ни смущения. Чудилось, ей совершенно все равно.
Однако ее отцу не было все равно. Король написал в Петербург и спросил, правда ли все это.
Император вызвал сына и в свою очередь задал этот же вопрос. Александр сперва молчал, потом сказал, что в Данию ехать не может и жениться не хочет.
– Отчего же? – спросил император, силясь говорить спокойно. – Что тебе мешает? Уж не любовь ли к Мещерской?
Сын промолчал. Отец перенес беседу на завтра и попросил его хорошенько все обдумать.
Император выглядел невозмутимым. Но, глядя вслед уходящему цесаревичу, с невольным раскаянием подумал, что отчасти сам виноват, что ситуация зашла так далеко. Но кто мог ждать от этого увальня Маки…
Его увлечение фрейлиной императрицы Мари Мещерской было замечено родителями давно. Но кто не увлекался в юности? Кто не влюблялся? «Увалень Мака» всегда опаздывал – опоздал он и с первой любовью. В двадцать лет впервые потерять голову от женщины… Смешно. Он и выглядел смешным, почти водевильным персонажем: высоченный неповоротливый красавец, который пытался увиваться вокруг тоненькой, юркой и хитренькой особы. Даже не очень хорошенькой!
Да, княжна Мещерская не блистала красотой. Однако она была довольно пикантная крошка и при этом очень умная – безусловно редкое сочетание при дворе! Это выделяло ее из толпы пресных жеманниц, «милых мордашек», это привлекло к ней внимание цесаревича, который всегда был избыточно серьезен. И вот вдруг с ним что-то произошло. Он, который всегда чурался светских развлечений, теперь просто-таки закружился в них. Он даже стал танцевать. Правда, его дамой отчего-то всегда бывала лишь фрейлина Мещерская. Он норовил не только танцевать с ней, но и сидеть рядом. А его взгляды?! Они были слишком красноречивы!
Ну да, он влюбился – впервые в жизни. Может быть, потому, что рядом с Мари не чувствовал себя тем, кем был всегда – неуклюжим, толстым, некрасивым младшим братом, лишь по несчастью вознесенным на высоту своего положения. Казалось, что ей безразлично, кто он и как выглядит. Казалось, что ее интересует лишь родство их душ!
Они украдкой улучали время для встреч. Помогала Саша Волкова, тоже фрейлина: передавала записки, улаживала ссоры, охраняла их уединение во время прогулок. Сашенька очень хорошо понимала, что такое любовь украдкой: она и сама была влюблена в младшего великого князя Алексея. А он был влюблен в нее, но пока это еще было тайной от всех.
О романе же цесаревича начали злословить. «Опять пошли неприятности, – почти в ярости писал Александр в своем дневнике. – М.Э.[56] мне сказала, что к ней пристают, зачем она садится возле меня так часто. Но это не она, а я сажусь возле нее. Снова придется сидеть Бог знает где и премило скучать на собраниях. О глупый, глупый свет со своими причудами!»
«Глупый свет» меж тем был весьма наблюдателен. Все знали, что отношения цесаревича и Мари пока что вполне невинны. Однако «увалень Мака» при всем своей душевном спокойствии уже начал волноваться. Не сегодня завтра он потребует, чтобы Мари стала его любовницей. И… и все это может кончиться очень плохо!
Что больнее и неприятнее всего поразило Александра, это полное неодобрение его самого близкого друга – Владимира Мещерского, внука знаменитого историка Н.М. Карамзина и родственника Мари. Во-во, как его звали среди своих, резко сказал, что считает кузину пустышкой, которая способна только разбить человеку сердце, но отнюдь не умеет любить. Ее привлекает игра с наследником престола, а вообще говоря, она мечтает о выгодной партии – больше ни о чем! Вово умолял друга подумать о России, отрешиться от нелепой страсти к взбалмошной, мелкой, эгоистичной натуре, не заслуживающей ни одной из тех жертв, которые готов во имя ее принести Александр. Вово видел: что-то надломилось в безмятежном богатыре. Александр и сам ощущал себя помешанным. Он всех пугал своей одержимостью и готовностью бросить жизнь свою и судьбу страны под ноги… кому?! «Ненаглядной Дусеньке» – так он звал Мещерскую.
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно… Совершеннейший водевиль!
«Я каждый вечер горячо молю Бога, – строчил Александр в дневнике, – чтобы он помог мне отказаться от престола, если возможно, и устроить мое счастье с милой Дусенькой. Меня мучит одно: я очень боюсь, что, когда наступит решительная минута, М.Э.
откажется от меня, и тогда все пропало. Я непременно должен с ней поговорить об этом, и как можно скорее… Хотя я уверен, что она готова за меня выйти замуж, но Бог один знает, что у нее на сердце!»
Итак, он решил сообщить отцу, что отважился на морганатический брак. Правда, вслух сказать это не смог. Написал письмо…
Ему крепко запомнились потом ярость отца и те слова, которые пришлось выслушать. Надолго запомнились. Навсегда!
– Ты что же думаешь, что я по доброй воле на своем месте? Разве так ты должен смотреть на свое призвание? Знай, что я сначала говорил с тобой как с другом, а теперь я тебе приказываю ехать в Данию, и ты поедешь, а княжну Мещерскую я отошлю! А теперь пойди вон. Знать тебя не желаю.
«Бедный Мака» понял, что все погибло. «О Боже, что за жизнь. Стоит ли жить после этого! Зачем я родился, зачем я не умер раньше?!»
Но он был уже сломлен. Встретился с Мещерской для последнего прощания… и тут что-то невероятное вдруг случилось с этими молодыми людьми, которые никогда не позволяли проявиться своим чувствам. Они бросились друг другу в объятия и слились в таком поцелуе, прервать который казалось невозможно – разве что для признаний в вечной любви.
Но им был предназначен только один этот поцелуй. Времени для признаний у них уже не осталось. Переиначить свою судьбу Александр не мог.
В толпе друг друга мы узнали, Сошлись и разойдемся вновь. Была без радости любовь, Разлука будет без печали…Александр вспоминал в ту минуту своего любимого Лермонтова, а когда дошел до слов: «Пускай толпа клеймит презреньем наш неразгаданный союз», – не мог сдержать слез.
Однако проливать их тоже не было времени. Императорская яхта «Штандарт» стояла под парами, чтобы везти цесаревича в Копенгаген. А Мари предстояло отправиться в Париж.
Там они встретятся вновь – спустя год. Мари уже станет женой великолепного Павла Демидова, баснословно богатого. Да, эта партия будет для нее куда интереснее морганатического брака с цесаревичем, вдобавок почти готового отречься от престола.
А еще через год Мари умрет в родах.
* * *
Александр прибыл в Копенгаген почти со страхом – и как нельзя более ощущая себя увальнем. Ему совершенно определенно было известно, что отец хочет его брака с Дагмар. Датская принцесса становилась все больше дорога императору. Он умилялся ее письмами – и в самом деле, ими нельзя было не умиляться:
«Я даже не могу найти слов, чтобы объяснить Вам, как я была тронута, поняв по Вашему письму, что Вы все еще видите во мне одного из Ваших детей. Вы знаете, дорогой папа, какое значение я этому придаю, и ничто не может меня сделать более счастливой. Вот мы уже шесть месяцев без нашего любимого Никса. И только год, как я увидела его отъезжающим в полном здравии! Все это время было мучительно для меня со всеми этими дорогими воспоминаниями о моей недолгой мечте о счастье, за которое я никогда не перестану благодарить небо».
При всем своем простодушии Александр не мог не задаваться вопросом, чего было больше в частых письмах Дагмар: желания беспрестанно играть на струнах императорского сердца или искреннего чувства. А впрочем, какая разница? Так или иначе, она оказалась очень искусной музыкантшей. Ведь и струны его собственного сердца тоже зазвучали в ответ ее взглядам, ее нежному голосу, всему тому очарованию, которое источала она каждым движением своим. Сперва Александр с превеликим трудом выпутывался из тенет застенчивости. Но с каждым часом чувствовал себя все легче, свободнее – и счастливее.
Он даже не ожидал, что ему снова может быть так хорошо – и совсем скоро после того, как он потерял любовь всей своей жизни… И впервые он подумал, что Вово Мещерский был кое в чем прав. А уж как прав был обожаемый Никс, что так любил Дагмар! С ней так легко, так свободно. Александр настолько освоился, что решился спеть для Дагмар несколько куплетов из оперетты Оффенбаха «Прекрасная Елена». Она была необычайно популярна в Петербурге, однако в Копенгагене о ней еще не слышали. Его пение произвело фурор. Больше всех, кажется, удивлялся брат Владимир, которого император послал присматривать за «увальнем Макой», чтобы не дай Бог не сорвался с датского крючка. Похоже, Александр больше не нуждался в присмотре!
В самом деле – безумие прошлого года все дальше уходило от Александра. Он не сомневался теперь в том, что ему нужна именно Дагмар. Однако мучил стыд перед отцом, который видел его в минуту слабости и трусости, недостойной наследника русского трона. И он счел своим долгом расставить все точки над «i»: «Милый па, пожалуйста, не думай, что все это только пустые слова, я боюсь, что ты мне не поверишь после всего того, что было в последнее время в Царском. Но я совершенно переменился и сам себя не узнаю».
Такое покаянное послание ушло в Петербург.
Отец поверил ему, одобрил и ободрил Александра письмом, а про себя подумал: попробовал бы сын не образумиться!
Однако вскоре состояние цесаревича перестало быть таким уж безоблачным. Дело в том, что он вдруг усомнился в чувствах Дагмар. Она держалась так ровно, так по-сестрински! В ее поведении не было ничего, кроме родственной нежности и вежливого безразличия. Кажется, она не больно-то и хотела выходить за него замуж. В самом деле, ну что он такое по сравнению с блестящим Никсом?!
Александр совершенно не был знаком с женскими уловками. Мари опасалась дразнить его кокетством, поэтому у него не было вообще никакой практики. И он оробел, столкнувшись с простейшей девичьей гордостью.
А Дагмар испытывала немалое наслаждение, терзая своего неуклюжего гостя. Довольно она настрадалась от неопределенности! Пусть теперь помучается Александр.
И он мучился. Покорно мучился…
Однако молчал, словно язык проглотил. Чудилось, он намерен погибнуть в пытках любви – но не сказать ни слова.
Дело в свои руки взял брат Дагмар – наследный принц Фредерик. Причем он так умело повел разговор, что Александр остался в убеждении, будто это он сам умолял Фредерика узнать о настроениях короля касательно его брака с Дагмар. Спустя несколько дней они столкнулись с Христианом в королевской конюшне. Здесь, потчуя хлебом своего любимого коня, король снисходительно сообщил, что не возражает, чтобы Александр сказал Дагмар о своей любви.
Честно говоря, ему равно нравились и русский престол, и сам Александр. Ну а что (кто) предпочтительнее для Дагмар – это ее дело.
Однако получить разрешение от отца и признаться в любви к дочери – это все же разные вещи. Александром опять овладела нерешительность. Королевскому семейству это затянувшееся сватовство понемножку начало надоедать. Да что, клещами тащить из этого недотепы объяснение, что ли?
Клещи не клещи, но король поговорил с дочерью очень решительно. В разговоре приняли участие и брат принцессы Фредерик, и сестра – принцесса Тира. Она была совсем еще девочка, но очень сообразительная девочка…
На другой день – это был десятый день пребывания русского медведя в Дании! – перед завтраком Дагмар пригласила Александра посмотреть ее комнаты. Разумеется, с ними пошли король и Фредерик, однако потом они куда-то исчезли. Лишь только за ними затворилась дверь, как малышка Тира, караулившая на лестнице, повернула ключ в замке.
– Теперь он никуда не денется! – хихикнул Фредерик, спускаясь по ступенькам. А сдержанный Христиан вздохнул.
Александру и впрямь некуда было теперь деваться. Но он все никак не решался отверзнуть уста. Уже и комнаты оглядел дважды, и перебрал все фотографии в альбомах. Руки Александра тряслись, он безумно волновался. Кажется, терпение начало иссякать даже у Дагмар. Она разозлилась и предложила гостю прочесть письма его брата.
Стоило робкому Александру увидеть знакомый почерк и почувствовать себя на проторенной дорожке, как у него прорезался голос.
– Говорил ли с вами король о моем предложении… о моем разговоре? – нетвердо спросил он.
– О каком разговоре? – сделала большие глаза коварная и измученная Дагмар.
– О том, где я… когда я… что я… – начал бормотать Александр.
Дагмар, девушка начитанная, вспомнила, что когда-то слышала о передаче мыслей на расстоянии. И, пристально глядя на беднягу, стала произносить про себя: «О том разговоре, когда я просил вашей руки!»
Лицо Александра осветилось, словно лицо ученика, который не выучил урок, но вдруг получил спасительную подсказку.
– Я прошу вашей руки! – едва ли не выкрикнул он с восторгом.
Дагмар испытала такое облегчение, что даже не в силах была доиграть до конца свою роль: бросилась на шею к Александру и обняла его. Ну, тут уж он сам, без подсказки сообразил, что делать, и стиснул ее тонкую талию так, что девушка ни единым звуком не могла протестовать против такого пылкого объятия и последовавших за этим несчетных поцелуев.
Наконец Дагмар вспомнила о приличиях и кое-как вырвалась из рук обо всем забывшего Александра.
Но лучше бы она этого не делала! Едва он уселся в уголке дивана, а Дагмар устроилась в кресле, как увалень снова начал возводить вокруг своего сердца оборонительные рубежи. Он не нашел ничего лучшего, как спросить:
– Можете ли вы любить еще кого-нибудь, кроме моего милого брата?
Выдержка у Дагмар была отменная – она нежно ответила:
– Я не могла бы любить никого, кроме его милого брата!
После этого она поспешно поцеловала Александра, чтобы он прекратил, наконец, молоть всякую чепуху. Однако Александр с повлажневшими глазами начал говорить, что милый Никс много помог им в этом деле и что теперь он, конечно, горячо молится об их счастье.
Дагмар кивала, утирала в свою очередь слезы, а сама горячо молилась, чтобы отец услышал ее мысленный призыв и наконец-то вернулся.
И это случилось! Повернулся ключ в двери, и на пороге возникли король, королева и Фредерик. Тут же маячила принцесса Тира и многочисленные приближенные.
Если даже Александр и захотел бы дать деру, то сквозь такой заслон прорваться было немыслимо.
Начались поздравления, слезы… Дагмар едва не упала в обморок. Это приписали ее нежной чувствительности и печальным воспоминаниям, которые иной раз являются к нам так некстати. На самом же деле она была чуть жива от усталости после этого объяснения.
А Александр… Александр сиял и выглядел совершенно счастливым. Чудилось, у него с души свалился камень. И тогда Дагмар вдруг распознала самое слабое место своего жениха: он с трудом принимал решения, потому что толком не знал, чего хочет. Но если рядом с ним будет кто-то, кто станет указывать, чего именно хотеть следует, а чего не следует… Тогда с ним вполне можно будет поладить. Даже самой сделаться счастливой!
* * *
И ей это вполне удалось! Среди нескольких поколений русских государей трудно было отыскать более гармоничную пару, чем император Александр III и императрица Мария Федоровна: Мака и Минни.
Они потом не раз вспоминали ту страшную, горькую минуту, когда сидели по обе стороны умирающего Никса, а он держал их за руки. Выходит, он все-таки соединил их. Соединил навеки!
Примечания
1
Эти стихи действительно сложены викингом и скальдом, то есть поэтом, Гаральдом Гардрадом. Перевод Г. Батюшкова.
(обратно)2
Титул у скандинавов, который соответствует русскому графу.
(обратно)3
Ярослав, по прозвищу Мудрый (978 – 1054) – князь новгородский и киевский, один из образованнейших людей своего времени. В его правление на Руси был создан первый письменный свод законов, известный в истории под названием «Русская Правда».
(обратно)4
Иногда жену Ярослава Мудрого называют Ириной, однако это имя она приняла только после пострижения в монахини, а в православную веру была крещена под именем Анны.
(обратно)5
С датчанами.
(обратно)6
То есть колосья.
(обратно)7
Вежливо.
(обратно)8
То есть византийцев.
(обратно)9
То есть Сицилийской.
(обратно)10
То есть начальника этерии – дворцовой гвардии.
(обратно)11
Имеется в виду персонаж греческой мифологии, девушка, утонувшая в водах пролива, который раньше назывался по ее имени Геллеспонт, а лотом стал зваться Дарданеллами.
(обратно)12
Иногда это прозвище переводят как Строгий, Суровый и даже Жестокий.
(обратно)13
Старинное название Норвегии.
(обратно)14
То есть римлянина, католика: христианская религия в те времена разделялась на греческую и латинскую, в зависимости от некоторых незначительных тонкостей в отправлении обрядов.
(обратно)15
Так назывались многовесельные ладьи викингов, очертаниями напоминавшие птиц и носившие имена драконов и змей.
(обратно)16
Вёльва – бессмертная прорицательница скандинавских саг.
(обратно)17
Рагнарёк – сумерки богов, конец мира.
(обратно)18
Уменьшительная форма от французского варианта имени Генрих – Анри
(обратно)19
Доброго короля (фр )
(обратно)20
Savoir – знать (фр.).
(обратно)21
Государь, я прибыла… Государь, я прибыла из дальних стран… (фр.)
(обратно)22
Я надеюсь, что именно вы король? (фр.)
(обратно)23
Да, моя красавица! (фр.).
(обратно)24
Королевский чиновник, обладавший в подведомственном ему округе полной административной, финансовой и юридической властью, но подотчетный королю.
(обратно)25
Спустя шесть столетий здание перестроили, изваяние Анны перенесли в один из порталов. Она изображена в короне, а не в своей знаменитой шапочке, в которой приехала из Руси и которую, по преданию, носила очень часто. Длинные косы сбегают по плечам. Лицо ее красивое, задумчивое. В руках – модель храма. А внизу, у подножия статуи, выбита в камне надпись: «Анна Русекая, королева Франции, основала этот собор в 1060 году. Она жила во Франции, но вернулась на землю своих предков».
(обратно)26
Крестьян.
(обратно)27
Княжна Евпраксия Всеволодовна, затем Адельгейда, императрица Священной Римской империи, родилась в Киеве в 1071 г..
(обратно)28
Он известен как Владимир Мономах (1053 – 1125)
(обратно)29
Король остготов, основатель королевства в Италии в начале VI в
(обратно)30
Древнерусское название наплечного широкого ожерелья.
(обратно)31
Так в старину называли молдаванок.
(обратно)32
Иван III Васильевич (1440 – 1505), великий князь московский и царь всея Руси, проводил политику объединения русских княжеств в единое государство.
(обратно)33
Здесь это слово употреблено в его первоначальном значении – правитель.
(обратно)34
Имеется в виду великая княгиня Софья Витовтовна, жена Василия I.
(обратно)35
Фамилию Софьи Палеолог можно перевести на русский Древнесловская, от палео – древний и логос – слово.
(обратно)36
Прежнее название Таллина.
(обратно)37
Молдавии.
(обратно)38
Иван IV Васильевич Грозный (1530 – 1584) – великий князь всея Руси, венчался на царство в 1547 г. Сын Василия III и Елены Глинской. Ввел опричнину. Проводил жестокую борьбу с боярством. При Иване Грозном значительно расширились границы централизованного русского государства.
(обратно)39
Легкий приталенный кафтан с короткими рукавами.
(обратно)40
Оплечья, ожерелье на торжественной одежде со священными изображениями; их носили духовные сановники и русские государи.
(обратно)41
Бархатом.
(обратно)42
То есть средних лет.
(обратно)43
То есть настоящие, чистокровные поляки – по имени династии Пястов, правившей в Польше в X – XVI вв.
(обратно)44
Крыж – по-польски крест.
(обратно)45
Так называлась часть служилых людей.
(обратно)46
Измена (польск.).
(обратно)47
Ораторского искусства.
(обратно)48
Парикмахера (фр.) – уст.
(обратно)49
Цыганка (фр ).
(обратно)50
Верный и искренний друг (фр )
(обратно)51
Аспазия (V в. до н.э.) – греческая гетера, известная умом и красотой.
(обратно)52
Шифр (уст.) – бриллиантовый вензель с инициалами императрицы, носимый фрейлинами на плече придворного платья
(обратно)53
Имя нарицательное снисходительного мужа, который сквозь пальцы смотрит на любовные шалости жены с сильными мира сего.
(обратно)54
Свояченицы (фр )
(обратно)55
Банк, основанный для выдачи пенсий и помощи раненым военнослужащим, вдовам и детям убитых воинов.
(обратно)56
Мещерскую звали Мария Элимовна.
(обратно)

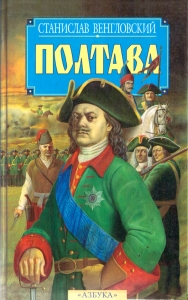

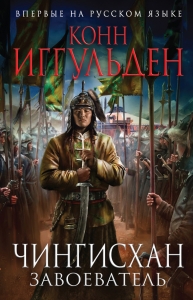

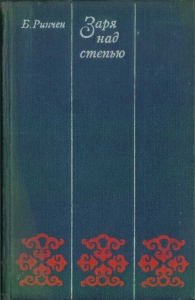
Комментарии к книге «Браки совершаются на небесах», Елена Арсеньева
Всего 0 комментариев