Венчанные затворницы Историческая повесть-хроника
Часть первая ВЕСНА В ТЕРЕМАХ
I
На необозримое пространство расстилаются-зеленеют поля, луга и леса, окружающие стольный град Москву, «третий Рим нерушимый», как величает его нередко сам юный царь и великий князь Московский, Иван Васильевич IV, всея Руси.
Молод государь, шестнадцати еще не минуло, а по виду, по стану, по взгляду пытливому — много больше можно дать венчанному отроку. Правда, немало и горя вынес он за свою недолгую жизнь, особенно за последние семь-восемь лет, когда схоронил Иван государыню-мать, великую княгиню Елену. И сильному духом человеку взрослому иные дни, пережитые ребенком-царем, за годы показались бы. А Иван целые долгие годы, день за днем, выносил и угрозы, и унижения, и обиды, даже до страха смерти…
Тяжело было. Но юность все одолела, со всем справилась.
Исполнилось Ивану 15 лет, пришло совершеннолетие царское, как и покойный отец завещал. Теперь боярам-правителям волей-неволей, а надо было признать юношу властелином, снять с него опеку, приходилось отныне его именем все делать; приговоры, дела и указы — за его подписью выпускать.
Иван IV вот уже около года лично вступил в правление, ведает все дела земские и государские… на словах, конечно. Так же как ведали их бояре-правители. Они только старались изо всего извлечь побольше выгод для себя. А всеобщее дело в государстве шло как машина огромная, пущенная в ход еще дедом царя, Иваном III.
Правда, за полвека работы состарилась машина, порасшаталась немного, кое-где заржавела; скрепы в ней ослабели, колеса иные повизгивают… Да и надстроено было немало за последние годы жизни царя Василия Ивановича. Много новых земель, городов завоевано, не мало новых порядков заведено. Не совсем даже иные части постройки государственной соответствуют одна другой. Но еще хорошо работают гладко отлитые, крепко окованные колеса и шестерни механизма. Одно только новое, могучее колесо в машине сейчас работает: это личная воля юноши-царя. Воля, порою неутомимо дикая! Но она больше пустых, неважных, ребяческих вещей касается. И тонет новый, такой властный, молодой голос в том шуме и шорохе, который издают все части государственного механизма, вплоть до последней мелкой цевки, до мужичка-оратая включительно… До той самой цевки, из которой создана прочная основа земли русской, великого Московского царства.
II
Рано проснулся царь-отрок Иван Васильевич. Молодой спальник Алексей Адашев, которому по череду пришлось в царской опочивальне спать, с рассветом уже поднялся, сторожил пробуждение царя.
У спальника все, что следует, приготовлено. Омылся свежей водою царь, одеваться стал, только прежде другого спальника, племянника своего, князя Ивана Федоровича Мстиславского, к бабке, княгине Анне, со здорованьем отослал.
— А што, Алеша, — обратился Иван к Адашеву, обувавшему в эту минуту царя, — после думных трудов, после докладов боярских на полеванье нам с тобой не поехать ли поблизу куда?
— Как повелишь, осударь.
— Ну, так скажи псарям сготовиться… Копчика мне под седло. Того, что от салтана в дар прислан… Стой, кольчуга чтой-то мулит в поясу!
И царь с помощью Адашева распустил широкий панцирный, тонкий, но превосходно закаленный пояс, которым была стянута миланская, дивной работы, кольчуга, надетая у него прямо поверх полотняной рубахи.
Этой надежной защиты не снимал с себя юный царь ни днем ни ночью.
— Спасибо за дар дуку медиоланскому! — шевеля колечками стальными, тонкими, как кружевное плетение, с горькой усмешкой заметил Иван. — Поправил сзади? Ладно. Добро теперь. Вот погляди… Это и есть они, царские вериги мои, — теребя кольчугу и пояс, живо заговорил отрок, всегда охотно делившийся мыслями, если видел, что не враг перед ним. — Видишь: ни день ни ночь не сымаю тяготы такой. Не хуже схимника иного, веригоносящего праведника! Я царь Московский, владыка стольких земель, стольких тронов земных! Так поменьше брови своди, когда я сердцу мому волю даю порою. Ежели что и погрешу — за подвиг мой тайный, неведомый, за тяготы несение, — отпустит Господь многие прегрешения. А, как мыслишь?
— Думаю, осударь.
— «Думаю, осударь»! А сам в сторону быком воззрился. Не больно, видно, соглошаешься со мною…
— Смею ли я, осударь?
— «Смею ль, сумею ль?..»! Эх, ты! Видно, тоже лукавить получился во дворце моем. А мне ты только за правду твою и люб. Помни.
— Я неизменчив в худом, што и в добром, осударь. Вся моя службишка холопская перед очами твоими.
— Ну, ладно. Вижу, верю. Вот и знай: как на плоти грешной вериги у меня, так и душа вся в цепях. Словно жернов оселский на ней. Грудь так и завалило. О чем не думно, чего желаю — нету тово. Как хочу на полной своей волюшке жить — не мочно мне! А если б… Эх, и тоски бы в те поры никакой я бы не знавал! И не обидел бы я ни души единой. Не дурил бы я так, ровно с цепи сорвался да несется без пути аргамак степной. Тоска… Уразумей, Олеша! Меня, царя, владыку вашего, тоска, змея лютая, так и гложет! Напущено ли это от врагов, что обступили мой трон кругом? Так ли само сердце мечется? Только места я, покою себе не сыщу. Сердцу отдых дать бы… Простору мне мало. Куды-то тянет душу… И то творю в ину пору…
Замолк внезапно, не досказал Иван. Не могут, не умеют уста его в чем-либо постыдном сознаваться. И протопопам благовещенским, духовникам своим, на исповеди, кидает он одно короткое, властное:
— Во всем грешен!
А много не говорит с ними.
Тут же, хотя и полюбил царь спальника своего, все ж таки раб, холоп перед ним, да и летами почти погодок, ровня. Пусть будет и тем доволен, что услышал.
Но, помолчав, снова заговорил словоохотливый, одаренный пылкой душою и мечтательный юный царь:
— А знаешь, как оно хорошо да ладно было бы: всех врагов извести… На покое пожить, хоть малость. Штобы можно было и жалеть людей, и приголубить кого… И не трепетать измены али чар бесовских, царю на пагубу пущенных! Сколь хорошо бы… Пойми: никого не бояться! В постелю спать ложиться — без обороны без энтой, без панциря. Так, вольным телом, на ложе ли своем на пуховом пораскинуться, в лесу ли, на траве ли упасть на муравчатой, на зеленой…. на духовитой… и спать, спать сколько хочешь! Спать — снов не видать, тех тяжких, томительных, что в ночь за полночь меня томят… вставать не велят, грудь давят. И сижу на ложе, и слушаю. Ты дышишь во сне… ровно, спокойно таково. Мышь грызется где-то. Шаги по переходам: дозорные, над быть, бродят… А все же страх берет, жуть на меня набегает, Олеша! И сам не знаю с чего. И своих многих дел страшусь… И те мне порою чудятся, кого казнить доводится. Всего, всего-то страшно.
Словно сейчас переживая в душе ночные страхи свои, побледнел Иван, нервно плечи задергались, грудь ходуном заходила, забегали непроизвольно глаза…
Адашев очень не любил таких минут у Ивана. Уговаривать, спорить с юношей, хотя бы и для его собственной пользы, — это всегда оказывалось бесполезно. В отроке, словно демон какой, просыпался злобный, упорный дух противоречия. Только если удавалось незаметно навести его на известную мысль, вызвать известное желание, как будто бы оно самостоятельно зародилось в уме, в душе царя, — тогда он все исполнял, чего хотелось бы добрым советникам, Макарию, Адашеву, оберегавшим Ивана от полного одичания…
И сейчас Адашев ни звуком не отозвался на речи государя, измышляя, чем бы отвлечь в другую сторону его мрачные мысли. Такое настроение в Иване нередко завершалось припадками черной немочи, с четырех лет овладевшей ребенком.
Неожиданно за дверью опочивальни раздался тоненький, словно бабий, голос:
— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!..
Это проговорил обычную входную молитву Юрий, младший брат царя, мальчик лет 14-ти, очень толстый, но приземистый, а по уму совсем недоразвитый ребенок.
— Аминь! — ответил на голос брата Иван, давая этим разрешение войти.
Адашев, обрадованный появлением царевича, подоспевшего вовремя, до земли ударил ему челом, едва отрок показался в опочивальне.
— Добр-здоров ли, брате милый! — ласково отвечая поклоном на глубокий поклон брата, заговорил первым царь. Одной рукой привлек поближе Юрия и поцеловал его.
— Как тебя, брата-осударя, Господь Бог хранит? — вторично кланяясь, пропищал Юрий, хорошо вышколенный дядьками в отношении дворцовых обычаев. — Ты жив-здоров был бы, а нам, холопам твоим, што деется? Челом бью на здорованье осударю мому, брату старшему!
И в третий раз склонился чуть не вдвое толстый мальчик, пыхтя и тяжело затем выпрямляясь.
— Ну, буде маяться. Раскачался, долу клонишься, словно верба плакучая… Повидать пришел али за делом за каким? — нетерпеливо заметил Иван.
Он заботливо, нежно относился к брату, жалея слабоумного. Но все-таки не очень выдавал эту самую любовь и жалость, чтобы «не распустился больно дура-Юра, боров жирный», — как звал он шутя брата.
— С челобитьишком, вестимо, осударь-братец… На ловы сбираюсь, на полевые, на рыбные. Денек-то во какой… Светло, тепло. Дозволишь ли, осударь? С небольшой я челядью… Так, поблизу.
— Ловы? Ну, поезжай, — отвечал Иван. — С собой не беру тебя нынче. Нудно мне с тобою… Да и не пара мы на ловах… Сбирайся, с Богом. Дядьке скажи, да стремянным твоим, да ловильщикам, которые едут, что не позволил я забираться далеко от Москвы. Не дале Воробьевых.
— Попамятую, осударь! А еще просьбишка… Уж потешь братишку-то свово молодшего, — совсем по-детски, с умильным лицом затянул Юрий, видя, что брат ласков нынче.
— Выкладывай уж, да поскореича. Видишь, готов, одет я. За дела пора приниматься за государские. Молиться тоже надо…
— Мигом скажу, братичек. Пустяковинки и загадываю. Зверка тебе из Царьграда, от патриарха, прислано… Таково ли забавен, шельмец: ровно люди, лапами все берет и жрет, а то за щеку прячет… Подари, осударь, пожалуй.
И снова поклонился.
— Это обезьянку мою новую облюбовал? Да к чему тебе? Мало, што ли, своих есть зверей потешных?
— Да уж больно забавна эта… аблизьянка-то. Я ее в красный кафтанчик наряжу. За столы брать стану. Спущу: она у гостей, у бояр бородатых, станет куски рвать из рук, за щеку прятать… А те ругаться начнут. То-то забава пойдет…
И Юрий засмеялся от души, так же пискливо хохоча, как и говорил.
— А, бери! — невольно улыбаясь, сказал Иван. — Да ну, не кланяйся, ступай со Христом! — торопливо остановил он осчастливленного брата, собиравшегося опять бить поклоны и высказать благодарность за желанный подарок.
Когда Юрий вышел из опочивальни, отвеся последний поклон, царь, оправляя кушак на богатом кафтане, который был подан и одет на него Адашевым, заметил:
— Шибко уж озорничать стал Юрка… И так-то он не больно умен, а с ловами его, гляди, и вовсе… Что ни как, а жаль семени царского.
— Истинно, осударь… Пора женить царевича. Молоденек, оно слова нет. Так кровь-то в нем не наша, холопья… Ваша, осударская кровь на все про все скорее зреет.
— Женить? Только и знаешь одно. Недаром тебя самого так рано окрутили. И товарищ ты мне плохой из-за женитьбы твоей глупой. Где бы удали дать разойтися, а тебя к жене тянет. Краснеешь, соромишься, ровно затворница, от слова лишнего, от молодецкой повадки вольной… Чтой-то батьке твому приспичило так рано окрутить молодца?
— Отец ему духовный, Сильвестр-прототюп, порадел. Толковал вишь, осударь, што от Бога так положено! Мужеску полу без женска не быть… Так и жени, мол, скорее. Греху, соблазну будет меней…
— Ино, што и так… — раздумчиво отозвался Иван.
— Да ошшо толковал батько отцу мому, — гораздо живее и внушительнее прежнего подхватил Адашев, видя влияние своих речей, — ошшо баял: «Скорее парня оженить — раньше добра видать. Деток повыведет. Будет про кого стараться, труждаться, добро преумножать. Дом возвеличит, гляди, а не расточит. Хошь и не царское наследие у вас, что загодя надо готовить преемника, а все же гнездо»…
Серьезно выглядит сейчас Алексей. Голос звучит так властно, торжественно, словно врезаться желает в слух и в душу юного царя.
Тот совсем задумался на мгновение.
— Сильвестр? — протяжно произнес он затем. — Да откуль ты ево знаешь?
— Из наших он краев, новоградчанин…
— Вот и брат Владимир ево хвалил же… Сказывает: святой жизни старец… Да я и сам примечал: хороший он поп. Не шатун, не бражник… На иных не похож. Хошь бы Федорку взять Бармина, батьку духовного мово. Гм… Надоть ощупать попика. Може, и мне понадобится, ежели иным-прочим так угодил. А я не одних скоморохов, гудошников, лизоблюдов, чревоугодников жаловать умею. И добрых, изрядных людей круг себя видеть желал бы. Да штой-то мало таких! Што вот впереди будут? Поживем-повидим.
И замолк Иван.
Вдруг тишина в покое была прервана резким криком:
— Да приидет царствие Твое!
Это выкрикнул говорящий попугай, присланный в дар от того же патриарха константинопольского и читавший всю Господню молитву.
Улыбнулся Иван.
— Приидет… да не сразу, поди! — сказал он, подходя к клетке, чтобы приласкать умную птицу.
И вдруг, меняя вид и тон, обратился к Адашеву:
— А знаешь, не мало бы я дал, кабы привелося мне на свадьбе на твоей в дружках там али в сватах быть. Поглядеть бы, как ты там со своей молодкою первую песенку, зардевшися, пел!
И Иван несдержанно захохотал от воображаемой забавной картины. Щеки вспыхнули у него, глаза засверкали.
Покраснел и Адашев, только иначе. Склонил он голову, потупил глаза.
— А слышь, сказывали мне: красива твоя женка. Што, какова она? — не унимался властелин, словно забавляясь смущением слуги своего — человека, никогда ни перед кем не опускавшего глаз. Наоборот, когда все кругом видимо не выносили пытливого, тяжелого взора, каким пронизывал царь собеседников, — перед горящими темными глазами Адашева потуплялись нередко против воли большие, иссера-голубые, холодным блеском сверкающие глаза самого Ивана. — Как звать-то ее? — продолжал допытываться Иван. — Стройна, больно пригожа?
— Настасьей жену звать, осударь, — вдруг, овладев собой, поднимая голову, ответил спокойно Адашев. — Мне белого свету, всей жизни она милее. А там как сказать, красавица аль нет, не ведаю, того не знаю, осударь, и сказать не могу…
Твердо, задушевным, глубоким голосом проговорил свой ответ Адашев. Смело глядит в глаза отроку-повелителю, словно отыскать и вырвать из души у него хочет неясные, дурные помыслы, налетевшие на Ивана.
И сразу погас тревожный румянец щек, масленистый блеск глаз у отрока. Словно снова подменили его. Побледнело лицо, такое доброе, простое стало. Мягко заговорил он:
— Ладно. Кроешься… Боязно, штоб не отбили? А я вот и загляну к тебе нынче же. На гнездо на твое погляжу. Поучусь… Юру ранней меня, брательника старшого, женить невместно. Може, на твой уют глядя, и меня потянет? Тогда и «борова» мово окручу… Слышь, после стола первого к тебе заглянем. Полеванье не сряжай, не надо. Только мотри: попросту принимай, без затей… Не царь у тебя в гостях будет, а так… парнишка молодой. Хочу я цареванье мое избыть, позабыть на малый час. Тяжко с ним, вот не хуже, чем с веригами этими кольчужными. Легки, защитливы да и наскучливы зело. По себе хочу быть хошь часочек. Без бояр, просто без челяди. И у тебя штоб про царя ничего не знали и не поминали. Слышь? Гостем быть хочу.
— Слышу, осударь. Разумею. Да и силы-достатку мово не хватило бы царя достойно встретить, владыку мово. А все же помилуй, не снимай головы у меня и у хозяйки моей. Дай ей хоша к простым гостям изготовиться. При тебе послать дозволь. Ну, так скажем: упрежу Настю, что гость из Новагорода нынче жалует. А то ведь…
— Ин так… Знаю, знаю. В грязь лицом ударить боишься. Медов твоих, яствий али прибору не видал я? То-то, поди, заваруху там подымут? Сундуки, укладки раскроют… Наряды, ковры, узорочье, серебро да золото… Што ни есть в печи, все на стол мечи. Ин будь по-твоему! При мне лишь спосылай. Не хочу обездолить тебя. Покажи, чем тебя родитель наградил. Моих еще мало даров у тебя. Не тужи, будут. А теперя лоб перекрестить да к казначею мому верному, к Володьке Головину, выглянуть пора. И то, слышь, давно он в соседней горнице сопит, толчется. И ошшо с ним кто-то…
— Осударь великий князь Володимир Андреевич, — подсказал Адашев, успевший выглянуть в соседнюю комнату.
Иван между тем, обернувшись к переднему углу, где был устроен небольшой киот с иконами в драгоценных, золотых окладах, залитых самоцветами, совершил краткую молитву, осеняя грудь, и лоб, и плечи широким, истовым крестом. Сотворив несколько земных поклонов, он достал нательный крест на гайтане, благословение еще отца покойного, с частицами святых мощей, приложился, опять осенил себя крестным знамением и быстрым своим, тяжелым шагом переступил порог невысокой, сводчатой двери, раскрытой рукой Адашева.
III
Хорошо начитанный по своему времени, пылкий по природе, мечтатель по душе, Иван IV далеко не доволен тем, что видит и слышит вокруг. Но до времени он таит свои думы, замыслы смелые… Редко с кем и толкует по душе. Разве что с добрым, умным митрополитом-стариком, с Макарием. Из юных сверстников самолюбивый, недоверчивый царь одному любимцу недавнему, скромному, богомольному Алексею Адашеву изредка только и поверяет кое-что. А больше все глядит вдаль из окон дворцовых да думает… О чем? Бог весть. И дворец красивый, белокаменный, недавно, почти перед смертью, отцом Ивана построенный, затихнул, стоит, словно помешать боится думам отрока.
Немного дней прошло, как затих дворец. Чуть только занялся сгоряча Иван делами царскими, начал доклады бояр, дьяков приказных принимать, реже стал он ночью и днем бесчинствовать, бражничать, скоморохов и дворню женскую собирать… Тут и дворец затих. Хотя не совсем. Нет-нет да подымется шум и гомон порою, словно метель заметет среди тихих, вешних дней, какие стоят на дворе.
Бубны загремят, домры зазвенят, песни разудалые, соромные так и польются, вместе с медами, с вином, с наливками крепкими. И льются всю ночь напролет, а то и двое-трое суток подряд. Богатырь не по летам, юноша и силы свои тратит богатырские нерасчетливо, без раздумья. Стены дрожат, пол ходуном ходит. Воздух полон кликов и гомона. Сквозь окна во дворы, в сады дворцовые шум пиров вырывается. А если во дворцах летних, пригородных, в Воробьевском, в Коломенском веселье идет — леса соседние на раскаты смеха, на дикие пьяные вопли звонким эхом так и откликаются… Порою жалобный стон прорезает общую ноту веселого гомона. Устав просто веселиться и бесчинствовать, Иван затевает порой разные игры кровавые, жестокие… Заставляет псарей своих или тяглых людей с медведями, с цепными псами медиоланскими на борьбу выступать: кто одолеет? И воют жалобно звери, падая с раскроенным черепом; стонут визгливо, как звери, жалкие люди, измятые, истерзанные когтями и зубами четвероногих противников. А юный Иван хохочет-заливается. Тешит его забава такая кровавая.
Да, не всегда тишина стоит во дворцах, в садах и на дворах у великого князя Московского и царя всея Руси.
Только в одной части дворца Кремлевского мир, тишина и покой царит ненарушимый — в теремах высоких, где княгиня Елена жила, а теперь поселилась бабка царя, княгиня Анна Глинских, чтобы дом царский совсем не сиротел, без хозяйки не стоял.
В самой глубине Кремля, позади лицевых построек дворцовых, затерян среди дворов и садов внутренних, стоит женский терем великокняжеский. К Куретным воротам [1] он подошел, но и от них стеной и частоколом огражден. Только одно широкое крыльцо сюда выходит, через которое в терема проникнуть можно. Крыльцо это в большую высокую Переднюю палату ведет. А от нее целый лабиринт сеней, крылечек и переходов крытых и полуоткрытых позволяет сообщаться с тем городком, который носит название Теремов царских. Большие срубы и здания с парадными палатами царицы и царевен, небольшие жилые избы, рабочие светлицы, аршин по 20–25 в длину, покои под крышей со светелками, повалуши, кухни, черные, людские жилья, амбары, подвалы, коровники, хлева и конюшни, и чего-чего тут нет. А в середине — большая палата, Крестовая, царицына. И церковь своя близко: во имя Великомученицы Екатерины. Рядом — Троицкое подворье, еще ближе — Патриарший двор. Собор Успенский — за стеною, на площади ближней. Кругом святыни: храмы, монастыри, подворья монастырские. И таким же монастырем стоит, обителью тихой выглядит теремной городок цариц московских, сиротеющий сейчас. Сюда не долетает соблазнительный шум веселых, бесчинных пиров царя, отклик охот и забав жестоких, за которые зачастую кровью и жизнью платятся холопы вместе с боярами.
До свету встают здесь, молятся, за работу садятся. Опять молятся, вкушают пищу в полдень, молча, степенно, словно справляют священнодействие. А монахиня-чтица, как и в заправском монастыре, тут же сидит в стороне от столов, из святых, назидательных книг читает, что на какой день приходится.
Тихо жизнь в теремах идет, словно в царстве каком завороженном, заколдованном. Разве только шепотом вести туда передаются застенные. Отголоски жизни кипучей сюда, как на дно моря глубокого, невнятно доходят. Так и лучи солнца, ярко озаряя гребни волн, зеленоватым, неверным, слабым отблеском разливаются внизу, под водою…
Мужской речи, мужского облика почти и не видно в теремах. Разве старики сюда допускаются или дети, ребята голоусые. Движутся все здесь неслышно, степенно, опустивши глаза, отдают поклоны при встрече, и идет каждый дальше за своим делом.
На поварнях у скотных дворов теремных — пошумнее, голоса слышны, работа идет гулкая… В садах и на огородах — работницы порой песню стройно выводят, но все-таки с опаской: не побранили бы за лишнее веселье!
Тихо, скучно в теремах царских жизнь идет-тянется… Правда, старуха-княгиня хозяйкой здесь теперь. Нездорова все она; Богу только молится, со своими двумя лекарями-иноземцами снадобья готовит, себя лечит, другим помогает, кто захворает из боярынь или из дворни близкой. Но будет и молодая царица у царя — немногим иначе пойдет жизнь в теремах золоченых государя Московского. Веками выработался здесь особый склад и лад. Светским, мирским монастырем выглядит терем. Так он и должен быть.
Ночь спускается, теплая, влажная, майская… Мужние жены из мастерских царских домов в слободку свою особую, Хамовную, так называемую, побрели… Там семья ждет, муж, дети… А живущие в теремах девушки сенные и мастерицы разные улеглись по клетушкам своим… Тихо светит месяц, озаряя высокие стены теремов, высокий частокол, ограждающий сад… Собаки где-то лают далеко, на пригородах… Петухи звонко, протяжно поют, полночь повещают…
Чу! Где-то в било ударили… В другом месте отозвались, подхватили… Перекличка пошла: сторожа знать дают, что не спят. Старые все больше сторожа. Дремлют, гляди, а сами сквозь сон в било побрякивают… На стенах Кремлевских, которые неясными очертаниями темнеют в прозрачной голубоватой мгле вешней лунной ночи, — там тоже перекличка пошла:
— Слу-ша-аа-ай… Тверь…
— Не дремай!.. Мос-квааааа!..
Но стены далеко. Не видно на них даже этих часовых-воинов. Голоса только, сильные мужские голоса будят тишь ночную…
Словно в сказочном сне стоят терема, тихие, темные, навеки замолкшие.
Чуть солнце блеснет, едва утро проглянет — жизнь закипает в теремах опять, но тихая, беззвучная, затаенная жизнь, вся в труде и молитве.
А вокруг иная, бурливая жизнь кипит-разливается… Торг на площадях и на улицах в городу и по пригородам Московским, подковой обогнувшим надежный оплот свой, стены Кремлевские, высокие, до того широкие, что поверху можно телегой проехать. На Ивановской площади на Кремлевской — подьячие сделки вершат разные. Челядь дворцовая, которую не пускают за господами в пределы дворца царского, станом стоит, потешается, бесчинствует, драки заводит порой… У Крестца попы бесприходные, наемные с людом разным, с паствой торгуются, на службы в церкви разные расходятся. Кони ржут и у Фроловских [2] ворот, где главный торг табунами ногайскими происходит. У Приказов — служилый люд, и дьяки, подьячие, и челобитчики, истцы и ответчики кучками чернеют. Зеваки сбегаются смотреть, как тут же преступников за плутни разные, за подлоги, за воровства, как тогда говорили, за бесчинства плетьми и батогами стегают. А нередко у Лобного места иная кровавая расправа идет с злодеями земскими и государскими, предателями, убийцами, с колдунами и наговорщиками. Этих чаще всего колесуют, четвертуют или просто вешают и обезглавливают палачи в назидание и устрашение люду крещеному. А москвичи тесным кольцом обступают всегда место казни, и бабы с детьми тут же. Всем охота полюбоваться на такое сильное зрелище. Кто жалеет, кто ругает преступников… А среди голытьбы, которой немало в числе зевак, — там иные речи слышны… Озлобленные взоры сверкают… Кулаки сжимаются… Бормочут бледные уста, клятвы мести и возмездия за товарищей. Звучат глухие угрозы боярам-притеснителям, дьякам и подьячим, мшелоимцам, хабарникам… И самому Ивану много недоброго сулят. Ишь, за землей не смотрит, больше беспутством занят, чем делом своим великокняжеским.
А тут же, в этой оборванной, озлобленной, напряженной толпе, и обыщики государевы, послухи наемные, шныряют. Слова на лету подхватывают, лица бледные, исхудалые, истомленные запоминают. Злодеев в удобную минуту хватают, в приказы сыскные ведут.
Кипит жизнь сложная, земская; словно морские волны народ переливается. И все эти волны, как у подножия могучей скалы, у высоких новых стен Кремлевских и дворцовых замирают, разбиваются.
На семи холмах раскинулась Москва, в сердце земли русской, среди необозримых полей, лугов и лесов. А в середине Москвы — Кремль со дворцами высится. А в Кремле стоят укрытые терема царские, где семья царская проживает, жены, дети царей Московских ютятся, где радости семейные, утехи душевные, царские живут. И надежды земли и государей здесь кроются. Терема эти высокие совсем от внешней, грязной, неприглядной жизни отошли, в стороне стоят. Только какой-то незримой, но могучей силой терема потаенные с внешним миром связаны. И незримые нити какие-то протянуты, сильные токи идут из души у затворниц-цариц, сидящих по теремам. И влияют они на царей, великих князей московских, влияют и на всю жизнь государства.
В свою очередь жизнь бурливая, внешняя потаенными ходами изгибами и извивами, как струя свежего воздуха в отверстие подземной тюрьмы, пробивается за высокие стены, проникает в окна расписные, в двери тяжелые, сукном околоченные, чрез которые только и можно пройти в покои женской половины дворца Московского, в терема царские.
Так бывает, когда женат царь Московский и всея Руси, когда царит и правит в теремах златоверхих молодая государыня-царица.
А сейчас больная, дряхлая старуха, не матушка даже, бабка Ивана, властвует на женской половине дворцовой.
И кажется, что совсем замурованы от мира терема… Последняя струя свежего воздуха, кипучей жизни замерла в тяжелом, затхлом, стоячем воздухе теремных покоев, где пахнет так сильно травами, мазями лечебными да ладаном.
Особенно не по нутру эта мертвая тишина, этот застой могильный юному царю Ивану. Заходит, конечно, чуть не ежедневно он к бабке-княгине и «обсылается» с нею каждое утро. Боярин царский, из близких лиц, является к старице, чуть проснется она, от имени царя о здоровье пытает.
И боярыня ближняя, княгиня Анисья Великогагиных, степенно отдав поклон царскому посланцу, отвечает:
— Не больно бы ладно спала осударыня. Да теперь ништо. Хвала Господу. Как юный царь наш, солнышко красное? Добр-здоров ли живет?
Получив утвердительный ответ, боярыня шла и оповещала старуху…
Так каждый день ведется, если царь во дворце. А если нет его, гонец приезжает, нарочно за тем же посланный… Помнит юный царь, что после мамки его, Аграфены Челядниной, — никто еще так не берег и не баловал по возможности заброшенного во дни опеки боярской малютку — царственного сироту, как эта кроткая, осторожная всегда старушка-бабушка… Особенно заботилась она о внуке, когда мятежные бояре в одну печальную ночь схватили и увезли в ссылку Аграфену Челяднину после того, как покончили с братом мамки царской, со всесильным раньше князем Иваном Овчиной-Телепнем-Оболенских.
Помнит все это Иван. Вот почему, против воли порой, пересилит себя, идет туда, в веющие затхлостью женские покои на половину бабки, и толкует о делах с ней; почтителен, ласков со старухой, словно бы и не он это, всегда суровый и надменный со всеми окружающими.
Особенно проявилась эта надменность с той страшной минуты, когда, по приказанию царя-отрока, псари царские зарезали, словно овцу, на одном из дворов боярина-первосоветника, князя Андрея Шуйского, больше всех угнетавшего в свое время Ивана.
Бояре, князья, весь двор словно ошеломлены были. А Иван сразу переродился. Оставил прежний робкий вид и детский тон.
Четырнадцатилетний отрок вдруг сразу почуял себя властелином над окружающими, царем и заставил всех почувствовать это очень сильно.
И только ради бабки-пестуньи меняет свой норов теперь Иван. Посещает ее, но явно неохотно. Все это видят, кроме старухи. Та вечно одно толкует:
— Ишь, побледнел, извелся как, внучек-осударик ты мой! Чай, дела все, заботы царские! Да поможет тебе Пречистая Матерь Бога нашего!
— Дела, бабуся! Дела, милая… — целуя осторожно, словно мощи, дряхлую княгиню, отвечает Иван, простится наскоро и уйдет…
Все замечается во дворце царском. И неохотные заходы царя в терем женский давно замечены, как и каждое движение, каждый взгляд государя.
IV
Покачал своей седою, умной головой митрополит Макарий, когда Адашев при Сильвестре, протопопе Благовещенском, первом друге святителя, стал говорить:
— Нет гнезда, нет семьи у царя нашего юного. Оттого, може, столько и дурости творится отроком… А будь оно по-иному?..
И не договорил молодой спальник царский, недавно лишь, при посредстве Макария, попавший в приближение и в милость к Ивану.
Немногим и старше Адашев повелителя: 20 лет всего красавцу Алексею. Смуглолицый, сухощавый, но, очевидно, сильный, мускулистый станом, он уж третий год как женат на Анастасии Сатиной, роду старинных Козельских князей, чуть не Рюриковичей. Только то колено, от которого жена Адашева идет, потеряло во дни какой-то старой опалы свое княжеское имя и звание… А все же старинный, почетный их род… Адашев незнатен. Скорей торгового роду, чем боярского. Но отец его, Федор, потомок итальянских выходцев, проживавших многие годы в Суроже, часто толковал:
— Предки мои были из тех торговых людей, владычных купцов, какие и флорентийским престолом владели и в венецианских дворцах на тронах сиживали.
Так люди и почитали Адашевых. Особенно Макарий, митрополит, ценил Федора. Правой рукой своей его называл. Сына его старшего, Алексея, по дружбе сперва приблизил. А потом за ум, за способности, за чистую душу как родного полюбил…
Третий с ними Сильвестр-протопоп всегда. Выезжая из Новгорода, желая не одиноким быть на Москве, Макарий, недавно избранный на престол митрополичий, потянул за собой и Сильвестра, друга и приятеля своего старого. Если не умом блестящим, так примером чистой жизни, преданностью Макарию мил этот священник новому первосвятителю всея Руси. Высокий сан, поставивший кроткого, умного, образованного Макария чуть ли не наряду с самим Иваном-царем, конечно, приносил за собою много силы и почести. Но немало было завистников и врагов у каждого, кто бы ни забрался на высокое седалище первосвятителя московского.
— Враги подкопы поведут… Мне далеко будет из покоев моих митрополичьих углядеть за всеми, брат протопоп… Так ты уж подсобишь мне… упредишь, ко-ли-ежели сведаешь что сам или чрез подружий своих…
Так говорил Макарий Сильвестру, когда звал за собой на Москву, для чего зажиточному, хозяйственному Сильвестру надо было целый обширный двор подымать — перевозить в Москву из Нижнего.
Но Сильвестр снялся и перевез. Недаром они с владыкой такие приятели давнишние. Дружба ведь по делам, не по речам верстается…
Вот отчего сейчас все трое сидят они в «казенке» у Макария, о царе юном по душе толкуют, без опасений, без осторожности вечной, с которой каждое слово следует говорить про царя вблизи дворцовых стен, таких чутких, таких сторожких, словно не из камней — из ушей людских они сложены…
Качает умной седой головой Макарий и говорит Адашеву:
— Пождем, поглядим… К тебе царь когда не собирался ли?
— Обещал побывать на днях. И под Коломной сказывал… И тут говорил… Про жену мою допрашивал. Видеть ее хочет.
Вспыхнул Адашев. Сказал бы еще что-то, да не решается.
— Не печалуйся, сын мой! — зорко поглядев в открытое лицо Алексея, убедительно заговорил Макарий, — кроме добра, ничего худа не будет. Только так все подлаживай, как мы толковали с тобой. А там — воля Божья…
— Постараюсь, отче-владыко! — тихо отозвался Адашев. — Не ведаю, слажу ль я…
— Все сладится по воле Божьей. Знаешь, видал уж не единова: все, почитай, так и выходило, как мы с тобой мерекали? А?..
— Да, кабыть што и тако…
— Ну, то-то ж. Так сам о дурном не думай — дурного не станется. Сам чистое в голове, в душе держи. С этими помыслами могучими, чистыми, прямо в глаза тому гляди, кого опасаешься. И руки упадут у него… Все замыслы его черные, как тучи ветром, развеются… В миг единый человек словно иной на свет народится. Может, на пагубу чужую сбирался, а тут себя не пожалеет, чтобы врагу помочь… Верь мне… И себе в те часы верь, когда душу умягчить, просветить взором своим хочешь. Да уж не раз тебе и толковано! Глаз у тебя такой, что можешь ты волю всякого человека подневолить себе. Так никого не бойся! И тебя пусть не страшится, а любит тот самый человек, кого ты покорить душой сбираешься! Веришь ли, чадо, что можешь творить тако по слову моему?
— Верю, отче-господине! — негромко ответил Адашев. — Верю воистину… Я вить уж так не единова и налаживал… Глазам, себе не верилось даже: вдруг гнев его на милость сменялся… Ровно кто ветром срывал с души у него тучу грозовую.
— Да штой-то вы? Про когой-то вы? Про царенка? Не пойму, в толк не возьму! — с легкой досадой вмешался Сильвестр, видя, что разговор принял какой-то загадочный оттенок.
— Про царя, друже, про него самого… Толкуем с Алешей. Видает он ежеден осударя. Так што бы молился покрепче, когда тот гневаться задумает али что непогожее деять учнет. Алеша толкует, что пробовал молитвы читать. И помогает…
— Ну, вестимо: молитва — она всему помогает! — важно произнес протопоп, не замечая легкой дружеской снисходительности, с какою Макарий всегда обращался к своему преданному, но не очень глубокомысленному приятелю.
Затем на иные дела, на обиходные, речь перешла.
V
Обеды отошли во дворце. Обычно спят москвичи после обеда, и старые и молодые. Но Иван вообще-то мало спит. А днем — и совсем редко. Разве если ляжет на заре, после ночи угарной…
С полчасика передохнул царь после трапезы, нелюдной и скромной на этот раз. Кроме двоюродного брата царского, князя Владимира Андреевича Старицкого, красавца юноши, тремя-четырьмя годами старше царя, за столом сидели двое дядьев царских по матери: Михайло да Юрий Васильевичи Глинские. Ели-пили застольники усердно, кроме самого Ивана. Он, очевидно, волновался, ждал чего-то, хотя и сам не отдавал себе ясного в этом отчета.
Побалагурили немного после стола. Иван поднялся, простился с гостями и, оставшись один с Адашевым, спросил:
— Кони готовы ли?
— У крыльца, осударь.
— Так едем…
Звонко стучат копытами по бревенчатой настилке бесконечных дворцовых проездов два чудесных аргамака, оседланных не по-царски, но все-таки богато, для Ивана и Адашева.
У спальника — свой конь, чудный арабский жеребец, не уступающий и царскому. Выписал для сына дорогого коня старик Адашев при помощи друзей своих, купцов восточных. Двух купил. Одного спальник царю подарил. На другом сам ездит… Этим подарком тоже немало расположил к себе Алексей повелителя. Едут оба по затихнувшим дворцовым пределам… Все почти спит теперь, до псов хортов на псарне и на поварне царской. Высоко солнышко забралось майское, вешнее, жаркое. Поди, уж и под гору скоро катиться начнет. Самая пора для отдыху всему живущему. Воробьи и те как-то сонно в пыли щебечут-возятся. Голуби вяло воркуют.
И молча едут оба спутника. Не то чтобы разморило их тоже. Но оба в думы свои погружены. Иван Бог весть о чем мечтает, солнышком разогретый, воздухом вешним, ласковым обвеянный… А Адашев?.. Тот глубокую думу думает. Ссора, гляди, с царем, опала, бегство, быть может, нищета предстоит, если загорятся злые страсти в отроке, а он, Адашев, не пожелает, подобно остальным холопским душам, жену на государскую потеху отдавать.
Если же повезет, если все так сбудется, как Макарий чает? Высоко теперь Алексей стоит. А тогда, пожалуй, так взлетит, что оком не докинешь.
Не жажда честолюбия говорит в душе Алексея. Любит он царство Московское, новую родину его и всей семьи Адашевской. Жаль ему темного простого люда русского. Много горя терпят здесь те, кто послабее… Вот таким и можно будет помочь, если… если царем по имени будет безудержный отрок Иван, а править Иваном и землею всей он, Алексей Адашев, станет… конечно, не без участия Макария, этого доброго, прозорливого старца-первосвятителя.
Вот уже оба всадника миновали задние ворота дворцовые, что выходят на пустынную площадь у Куретных ворот Кремлевских. Час такой, что кишащее обычно людьми широкое пространство перед воротами в этот миг почти безлюдно. Стихла суета даже в лавчонках и пристроечках, которые, словно гнезда ласточек, прилепились вдоль всего Каменного моста, перекинутого от Куретных ворот через Неглинку для сообщения с посадами. Даже здесь, на этом торговом шляху, по виду совсем сходным с знаменитым Флорентийским мостом, сохранившимся до позднейших веков, — и здесь полдневная истома всех одолела. Торговцы, склонясь над прилавками, дремлют. Ремесленники, тут же в конурах работающие, поели и прямо протянулись на отдыхе где попало, всему миру напоказ-Справа у всадников осталось обширное, богатое Троицкое подворье… Основанное еще, как гласит предание, при Святом Сергии, много претерпело оно изменений за 200 лет. Теперь монастырский угол этот полон церквей богатых, строений жилых и обиходных разных. Здесь же царь Василий, вопреки обычаю, крестил царевича Юрия, отдавая его под покров святителя Сергия. Монастырской братией, проживающей на подворье, правит особый игумен.
Молятся на кресты церквей Иван и Адашев. Отвечают кивками на поклоны редким встречным людям. Не узнает никто царя в безусом, тяжеловесном юноше, который так надменно сидит на высоком седле, небрежно поводя удилами и заставляя плясать горячего коня от нажима острогранной узды — мундштука того времени… Царь всегда появляется перед народом в полужреческом наряде, в золотой парче, сверкая каменьями самоцветными, залитый жемчугами, осененный шапкой — венцом царским, наследием Мономахов. Не то — в уборе сверкающем воинском видят москвичи порою царя. Кто теперь признает его? Голоусый парень верхом скачет, княжич или боярский сын… Одного знают в этом углу: Адашев, спальник осударев. У другого лицо тоже знакомо всем. Да разве сообразишь сразу? Без челяди едут… Словно дворяне какие беспоместные. И ломает шапки народ. Но больше перед Адашевым, чем перед его спутником. Это даже стало тешить Ивана.
— А, как сдается тебе, Олеша? — спрашивает он. — Крикнуть бы мне: «В землю лбами, смерды! Царя не признаете державного?». Опешат, поди? Перепужаются?
— Так ли, осударь? Сдается: не поверуют нам. Нешто когда цари Московские, хотя бы еще и не венчанные, так, в одиночку, по площади, по проулкам езживали ль?..
— Венчанные, невенчанные — все едино… Твоя правда: им, гляди, не случалось… А я, когда и увенчаюсь, своей повадки не оставлю. Особливо если врагов поизбудусь. Люблю простецов. Любо мне меж них быть, чтобы людей видеть, а не спины рабские, когда все ниц перед царем падают. А тут ошшо — вкруг меня бояр десятки. Воинов ряды. Попы сотнями. И только издали толпы народные темнеют… Так вот мне боле до души. Царь я народу, не бог земной. Хочу народ свой видеть…
Снова умолкли оба.
Миновали Симоновское подворье, церковь Входо-Иерусалимскую. По ту сторону широкой площади запестрели у высокой Кремлевской стены хоромы годуновские, чуть не на полверсты протянулись… До самой башни до угловой. А пораньше их, притулясь к двоебашенным Ризположенским воротам, раскинулся и небольшой, но усадьбистый двор Алексея Адашева. Раньше он с отцом за стеной, у Никольских ворот, проживал. Но, заняв должность спальника, ближнего человека государева, был допущен в черту Кремлевских стен, где и откупил себе уголок как раз через дорогу от подземных тюрем, от мешков каменных… Многое старым владельцем налажено было в усадьбе: сад тенистый, хоть и небольшой, с прудком, с беседками, и огородик. Кой-какие избы и жилые покои тоже пригодились. Остальное разнес, новое жилье построил Адашев и зажил домовито.
Челядинец, задремавший на скамье у ворот двора адашевского, прокинулся от топота конского, узнал хозяина, кинулся ворота растворять.
— В терему ли хозяйка али по домашнему где? — спросил Адашев дворецкого, очевидно бывшего начеку и спешившего навстречу хозяину с гостем.
— В добрый час, добро пожаловать! — земно кланяясь, ответил приветствием на вопрос сметливый, плутоватый домочадец, желая и честь высокому гостю воздать, и не показаться нескромным, если выдаст, что узнал он царя…
— Осударыня-матушка Анастасия Ивановна с гостями, боярынями и боярышнями, в сад прошли-изволили. Покликать не будет ли приказу? А у нас в столовой палате все поизготовлено…
— Гостьи? Боярыни? Боярышни? — живо вмешался Иван. — Вот любо. Пройдем в сад. Не зови никого…
Адашев дал знак — и дворецкий, вместе с двумя челядинцами, принимавшими коней, с глаз словно сгинули.
— Как тебе приказывать угодно, осу… то бишь гостенька дорогой. Ты здесь хозяин. Мы все — холопы твои. Вот калитка садовая…
И хозяин указал налево от дома, на калитку в дощатом заборе, которым двор отделялся от тенистого сада. По улице все владение было обнесено высоким частоколом, подбегавшим к самой стене Кремлевской.
— Слышь! — у самой калитки, понижая голос, заговорил Иван. — Манилось бы мне крадком подобраться к бабьей стае. Не знали бы оне, что молодцы тут. Как на воле поводят себя? О чем толкуют? По душе, без притворства, не расписанные сурьмой да белилами. Поди на выход такой, на суседский, не пишут лица себе? Удружи! Подкрадемся, Олеша!
— Твоя воля, осударь… Попытаем счастья! — шепнул хозяин.
VI
Адашев не побоялся последствий этой прихоти царя, так как жена была уведомлена задолго, какой гость нежданный к ним сбирается.
Посылка с вестью о новгородском приятеле была условным знаком. Умная баба знала уж, кого созвать и что готовить, когда муж из дворца о гостях повестит…
Свернули и гость и хозяин с аллейки, березками, яблоньками да кустистым крыжовником усаженной, в сторону оба кинулись, зарослью садовой пробираются, стараясь ступать полегче.
— У малинника все, поди… Прудок там и беседка. Место прохладное, жены любимое! — шепчет хозяин.
Правда, через две-три минуты, обогнув лужайку, сиренью и черемухой обсаженную, оба очутились за живой зеленой изгородью, сквозь которую видна была на небольшом насыпном холме беседка, полуоткрытая, увитая светло-зеленым молодым хмелем. И по высокой стене Кремлевской, сквозившей в просветы соседних кустов, плети хмеля взбирались. За холмом сверкал прудок небольшой, загораясь под солнечными лучами. Лужайка зеленая огибала и холм с беседкой, и пруд с полоскавшимися в нем яркоперыми заморскими утками. Пара лебедей тут же белела в траве, словно две груды пушистого снегу живого, нетающего…
В беседке, на скамьях, укрытых полавочниками суконными и коврами, перед столом, заставленным сластями всякими, сидели гостьи — девицы, замужние… И среди них — Настасья Адашева, добрая, ласковая на вид, восемнадцатилетняя женщина-красавица. Волосы цвета спелой пшеницы прятались под волосником и кикой, без которой не ходят замужние бабы. Лицо, белое, оживленное легким румянцем, озарялось ясными серыми глазами навыкате. Порой зрачки этих глаз расширялись непомерно, и тогда глаза казались черными. Была Адашева только в двух сорочках: нижней белой и верхней цветной, шелковой, заменявшей тогда платье женщинам. А поверх был накинут легкий летник, тоже шелковый, тканый, узорчатый… Гостьи были тяжелее одеты, особенно замужние: в парчовых опашнях, иные — в сложных головных уборах, унизанных драгоценностями. Девушки тоже были в летниках. На головах красовались повязки девичьи, с поднизями жемчужными, украшенные переперами — чеканными и самоцветными украшениями, которые трепетали на ножках из витой серебряной проволоки… Волосы у девушек были неприкрыты. Косы у них тяжелыми змеями спускались от затылка и на концах, у стана, заканчивались треугольными косниками, тоже золотыми, серебряными, украшенными самоцветами. Пышные кисейные, расшитые рукава нижней сорочки — рукава длиною по 8-10 аршин, сдержанные у запястья узкой застежкой, сбегались в тысячу сборочек на всей руке, очевидно сысподу чем-нибудь подхваченные, чтобы не свешивались через кисти рук, а вздымались волной белоснежных мелких складок.
Эти рукава были вместе с рукой пропущены в прорезы второй, «красной» сорочки, то есть платья. А рукава этого платья висели от плеча, как рукава у польских кунтушей.
Кроме двух-трех замужних тут сидело пять девушек. Два подростка, лет 10–11, очевидно младшие сестры, приведенные старшими, бегали по лужайке, гонялись за утками, пугали лебедей и сами пугались, когда те неожиданно взмахивали широкими крыльями, переходя с места на место.
Замужние женщины, по обычаю, были безобразно набелены, нарумянены, совсем как куклы базарные. Брови, замазанные слоем белил, были наново искусственно выведены черной и коричневой краской. Колесом темнели брови. Под глазами — тоже подрисовано… Живые куклы.
Резко выделялся при этом натуральный цвет лица хозяйки и девушек, сидевших ненакрашенными. Адашева и вообще редко размалевывала себя. Разве если знала, что придется к гостям-боярам выходить. В этих случаях считалось просто неприличным показываться со своим лицом. Девушки, прежние подруги Анастасии, шедшие к ней запросто, тоже не накрасились, как это обычно водится…
Царь так и впился глазами в молодые, красивые лица девичьи.
Заметил это Адашев, зорко наблюдавший за спутником, и даже вздохнул свободнее. На краю стола, тычась носом, сидит и старуха одна, дряхлая, морщинистая, но не хуже остальных расписанная. Поела, попила и дремлет, утомленная жарою. А молодые, избавленные от докучного надзора и от старческого брюзжанья, рады-радешеньки. Смеются, шутят, стрекочут. О пустых вещах, сдается, щебечут, а сами так и заалеют или вдруг бледностью перекроются, словно бы совсем не о том и думают, о чем уста их говорят…
— Слышь, Настя, гостя, толкуешь ты, приведет нынче твой-то? — спрашивает полная, рыхлая, несмотря на молодость, Алена, жена Тарха, старшего сына протопопа Сильвестра. — А хто таков? Не знаешь ли?..
Ясно доносится каждое слово к царю. Он переглянулся насмешливо с Адашевым, опять слушает.
— Не повестил меня сам-то! — отвечает хозяйка. — Только и сказано: из Новагорода… Може, сродник али так, из былых дружков какой…
— Холостой? Женатый ли? И того не чуть? — живо спросила небольшого роста, задорная и смешливая Оля Туренина, прежняя соседка по двору Адашевых.
— Не, и того не чуть… А ты не замуж ли сбираешься?..
— Куды мне! Знаешь: уже и рукобитье было… Пропил меня осударь-батюшка. Последние денечки с моей черной косой дохаживаю. Снимут скоро головушку, отымут волю девичью. Шлык-колпак напялят, как и на вас вот, не лучше.
— Чего же забегалась: холост? женат?
— Так пытаю. Поди, угощать гостя позовут. И мы бы вышли… целовать — то ваше дело… А мы бы, красные девицы, хошь подозрили на добра молодца.
— Поди ты, хохотушка! А еще невеста. Не грех такое болтать?
— На языке греха нетути. Жених-то мой вдовый. Не молодой и не скорый. Ни на што не гожий! Дьяк из приказу разбойного… Вот кто он. Только што с матушкой, с батюшкой не рука воевать… О-ох… А, другое дело: вон сестра у меня, Оринка, налегке ошшо. 16 лет, а жениха не видно.
— Брось… О себе думай! — досадливо отозвалась сестра хохотушки, тоже миловидная русоволосая девушка.
— Ты што ж молчишь? Слова не скажешь, — обратилась Адашева к одной из подруг, погруженной в глубокую задумчивость.
Как раз в эту минуту и царь из своей засады обратил на нее внимание. Смугловато-бледное, с матовой, нежной кожей лицо девушки не поражало на первый взгляд своей красотою. Только глаза, миндалевидные, большие, темные, но не сверкающие, а словно бархатные, излучали какой-то особенный свет. Если раз взглянуть в них, так невольно тянуло глядеть еще и еще, как в бездну опасную, под ногами раскрытую. Но не опасностью грозили глаза, нет. Скорбное что-то чудилось в них, словно это были глаза прозорливого ангела, видящего скорбь людскую и вечно тоскующего за этих людей… Так, по крайней мере, показалось Ивану.
В тонких пальчиках белой, нервной руки девушка держала накосник своей пышной светло-русой косы и в раздумье покачивала им. Пряди пышных волнистых кудрей, выбиваясь из-под повязки, составляли красивый контраст с темными глазами девушки.
— Нюша, ай оглохла! — громко позвала Адашева.
— Нет, милая Настюша… О чем ты? Я слышу! — глубоким, грудным голосом отозвалась Анна Романовна Захарьина, роду Кошкиных, подруга хозяйки еще из Новгорода, где жил ее отец на воеводстве.
— О чем? О женихах толкуем, слышишь… тебе не охота ли?
Анна потупилась только и слабо отмахнулась рукою.
— Ей простого не надо. Ей — королевича! — пошутила Арина Туренина.
— Куды! Гни выше. Сама ведь — государыня-царевна… Ей из земель неведомых самово царя самоглавного подавай… Меньше не берет…
— Царевна? Што это значит? — не то звуком, не то движением спросил Иван у Адашева.
Тот зашептал:
— Пожди… Постоим послушаем уж, коли стоим… Я все скажу. Потерпи, осударь…
— Кто она? — зашептал Иван, очевидно, на этот раз соглашаясь послушаться своего спальника.
— Анна… — начал было Адашев…
Но тут произошло нечто совсем неожиданное.
Две девочки, резвясь по лужайке, прятались друг от дружки за кустами. И в эту самую минуту одна из них влетела туда, где стояли оба соглядатая. Мгновенно с пронзительным визгом кинулась перепуганная шалунья к беседке, восклицая:
— Парни… Разбойники там… Ай! Парни за кустами!
Все вскочили, всполошились. Поднялась и старуха, протирая глаза и ничего не разбирая спросонок.
Анна Захарьина, стоя на пороге, прижала к себе перепуганных девочек и старалась успокоить их. Адашева, догадываясь, в чем дело, пошла навстречу гостю и мужу, который приближался, громко возглашая:
— Простите, гостьи дорогие, что всполошил ненароком. Я сам, хозяин дому, пошел прямо садом по следам гостей желанных. Да еще гостя веду… Уж не взыщите: приезжий человек. Не томашитесь. Не осудит!
Все женское гнездо, так и заметавшееся при визге девчонки, снова стало успокаиваться, замужние задернули лица фатой. Девушки в кучу сбились, стояли, рдели, рукавами прикрывались. После обмена поклонами сели все. Анна Захарьина, растерявшаяся меньше всех, держалась спокойнее и проще других. И даже решилась не украдкой, как подруги, а прямо взглянуть на незнакомца, так неожиданно попавшего в их среду. Глаза их встретились, и девушка почему-то невольно вздрогнула. Вздрогнул против воли и царь. Адашев между тем обратился к жене:
— Вот, жена, примай гостя дорогого, приятеля мово давнего. Князь Иван, сын Васильевич, роду князей Белоозерских, осчастливил домишко наш, честь оказал, припожаловал… Угощай, женка. Што получше есть — все выкладывай. Сама обноси, о чарке проси!..
В пояс поклонившись гостю, потом мужу, Адашева отвечала:
— Твоя раба. Гость желанный — велика радость в дому!.. Ничего не пожалею, не осудил бы только нашего убожества да за проволочку не гневался бы. Не ждали такой Божьей милости… Все сейчас в дому изготовить велю.
— Зачем в дому, хозяин ласковый? — вмешался Иван. — Здесь бы куда как хорошо. Ежели вам, хозяевам, не в отягощенье.
— За радость сочтем угодить гостю, — в один голос слились и муж и жена.
И быстро скрылась хозяйка, чтобы сделать все распоряжения.
— А еще у меня просьбишка будет, уж не обессудь, хозяин! — не вытерпев, после небольшого молчания заговорил Иван. — Не посетуйте, осударыни. И вы, девицы-красавицы. Подходили мы с хозяином неторопко, на вас залюбовались издали и слова речи последние слышали краешком уха энтак… За што-прошто тебя, красавица… как звать-величать — не ведаю, уж не взыщи.
— Анной, по отцу — Романовой, роду Кошкиных, Захарьиных, — подымаясь с места, ответила девушка. И снова села.
— Вот, вот оно што?! Славного роду. Почетного… Много про всех слыхал, и того и другого случалося. А про Захарьиных род одна добрая слава идет в народ! По роду и девице честь. Оттого, поди, и царевной-королевной позывали тебя подруженьки. Оттого ты и…
— Нет, вовсе не оттого! — бойко заговорила Ольга Туренина. — Прорицанье было Анночке. Оттого вот…
— Прорицанье? А знать не можно ль какое? Кто произрек? Когда? Челом бью: нам не скажешь ли, Анна Романовна? Лиха не будет оттого!
— Скажи, боярышня! Приятель мой — добрый человек, не зазорный, — поддержал просьбу гостя хозяин.
— Што ж, сказать можно… Тут ни греха, ни тайности нет никакой, — спокойно и скромно заговорила Анна. — Только, вестимо, я по-своему разумею. А подружки по-своему. Мне старец блаженный про Небесное Царство прорицал, про жениха — Царя Небесного, Спаса нашего Многомилостивого. А он на земное. Старец провидел, что в келью у меня душа просится…
— В келью? Тебе?.. — пылко начал было Иван, но сдержался, умолк.
Затем снова спросил уже обычным тоном:
— Что же тебе сказано? Кем? Все поведай… А мы разберем…
Анна уже готовилась заговорить. Но старуха-барыня, княгиня Троекурова, пришедшая в гости к Адашевой с дочкой и теперь только очнувшаяся совсем от своей дремоты, вдруг засуетилась, завертелась на месте, зашамкала торопливо своим беззубым ртом, скрипучим, дрожащим голосом:
— Стойте… Подождите… Девушки!.. Ахти мне!.. Да ослепли вы, што ли?.. Царь вить энто… Сам царь-осударь!
Да так и распласталась перед Иваном, которого нередко видала у бабки его и потому узнала теперь.
Все гости вскочили, сбились в одну кучу и застыли, еще более напуганные сейчас, чем раньше вестью о парнях-разбойниках… Кто не знал на Москве, каков с девицами был юный царь…
Наконец опомнились, отвесили поклон земной, застыли на местах. И новым, странным взором глядели все эти юные созданья на красавца царя, на гостя нежданного, кидая взгляды украдкой из-под опущенных долу ресниц…
Смутилась и Анна. Но не так, как другие. Какой-то ужас священный, предчувствие чего-то большого, неотразимого холодом сдавило ей грудь, змеей проползло по плечам. И странно, но Иван тоже вдруг почувствовал, что его сейчас нечто важное ждет.
— Што же? Видно, рожна в калите не укроешь! — с улыбкой начал Иван, желая сломить лед, вдруг оковавший все кругом. — Хоша и царь я, а все же человек. Не бука из бучила. Бояться меня нечего… Вижу я, Анюта, ты меней подружек твоих от меня отпятилась. Так и я на своем постою. Сделай милость: поведай про твое прорицание. Охоч я до всяких делов таких.
— Изволь, осударь! — звенящим, рвущимся, не своим голосом заговорила Анна, стараясь концом языка увлажнить внезапно пересохшие от волнения губы. — Поведаю, как все было оно… Вдовая моя матушка… четвертый год честно вдовеет.
— Ведаю, ведаю. Любил и знал я отца твово. Не помри он — и мы бы, поди, ранней повстречались с тобою. Далей…
— Добра к странным, к блаженным, к сирым людям моя матушка. Хоша и не велики достатки у нас. На Москве уж мы жили, после воеводства батюшкиного. Из Нова-города переехавши. И прибыл в град твой стольный, осударь, преподобный старец Геннадий.
— Из пустыни Любимоградской? Костромской он? Знаю, знаю.
— Тот самый, осударь. С двумя учениками пожаловал. Наш убогой двор посетил. Матушка с братанами с обоими насустречь выбежала. Благословил их старец… А там матушка и бает: «Дочка-сиротинка у меня, не благословишь ли?». Соизволил… Слышу: сам ко мне в светелку подымается. Вериги, слышу, побрякивают. Посох по ступеням цокает. Вошел. Уж не помню, как я в ноги ему кинулась… Руки целую. Молитвы прошу. Чтобы и за меня, и за всех молился, кому тяжело. А он и цыкает: «Тебе-то што же, девонька? Какое горе? Родителя потеряла — так у тебя Иной Родитель жив на веки вечные: Отец наш Небесный… Он и отца твоего земного успокоил по мнозих трудах. Так ты не печалуйся. Покой несет могилушка. Мать сыра земля слаще жены, милей детушек. Сила в ей, ласка в ей. Могила в ей. И ты, и все мы там уляжемся. Так не тоскуй…» — говорит.
Что дальше, то больше оживлялась Анна, словно опять переживала событие, о котором рассказывать ей пришлось.
Иван так и не сводил с нее глаз, ничего не замечая вокруг.
— А я ему на ответ, — передохнув немного, про должала девушка теперь уже громко, почти спокойно, — я и говорю: «Не мертвых, живых жалко. По них болезную. Жизнь не больно красна земная. В монастырь, чаю, лучше: горя, обиды, слез менее…» — «Нет, — говорит старец, — и тамо всякого жита по лопате нагребешь. И в миру спастися можно, ежели душа у тебя спасенная. А у тебя она, и-и! — совсем она спасенная. Слушай же, дщерь моя, слово мое. Не я глаголю, Дух Божий глаголет во мне! Благого корени благая отрасль и лоза плодовитая! Возлагаю руки мои на главу твою, призываю на тя Божие благоволение. И будеши ты по времени всем нам оспожа. Яко царица благоверная над миром надо всем!»
Произнося последние слова, Анна выпрямилась во весь рост, словно взаправду нездешняя сила какая-то заговорила в ней [3].
Полная тишина воцарилась в беседке и кругом. У входа — виднелась толпа челяди. С подносами, уставленными снедью разной, с ендовами, кувшинами и сулеями стояли все. Хозяйка, одетая в свой лучший убор, виднелась впереди, тоже с чаркой и стопкой на подносе. Но и она с другими замерла, ожидая конца чудесного рассказа боярышни.
— Аминь! — громко вдруг вырвалось у Ивана. — Спасибо тебе, Анна Романовна, за повесть твою дивную, за благость, нам открытую. Но гляди: хозяйка стоит-дожидается. Никак поить меня хотят. Так уж пусть сама ранней откушает, целовать себя велит. А уж тогды. Подозволь, хозяин ласковый?
— Мне ли позволить? Рабы мы, осударь, твои самые низкие. Осчастливь! Святым обычаем хозяйку мою целуй, чару пригубь. Освети хижину рабскую.
Медленно взошла Адашева на низенькую, широкую скамью, которую принес и держал наготове челядинец.
Иван подошел, поклонился ей, касаясь самого помоста, цветным сукном перекрытого. Хозяйка ответила гостю-царю поясным поклоном, отпила из чарки, которую держала на подносе, и с новым поклоном подала ее царю. Тот ступил на помост, трижды, со щеки на щеку, облобызался с Адашевой, выпил чарку, снял с руки перстень с рубином и опустил в кубок. Третий поклон хозяйки — и она сошла с помоста. Муж после царя не стал уж целовать ее, как бы оно в ином случае следовало.
— Што же, может, и другие гостьи дорогие твои царя угостить желают? По ряду уж следует… Штобы обиды никому не было. Не то, гляди, Анна, мирская печальница, осудит, скажет: горденя-де царь…
Вспыхнула девушка, молчит. От смущения бархатные глаза даже слезами заволокло. А они от этого еще лучше стали.
Взобралась на помост старуха Троекурова. Все опять повторилось… Так и пошло: замужние сперва, девушки потом — все Ивана угощали. Всех одарил он. И так вышло, что Анна последней встала на помост. Бледнее смерти стоит. Глаза как звезды светятся. Так и колышет от волнения бедную.
Уж Оля Туренина сзади совсем близко подобралась, чтобы поддержать подружку, если сомлеет та. А этого ожидать можно.
Медленно подошел Иван, не спуская глаз с девушки, сиявшей неземной красотою в этот миг. Медленно склонился высоким станом и дважды приник губами к щекам Анны. А в третье не стерпел: быстро, словно ужалил, прямо в розовые губки так и поцеловал. Охнула слабо девушка, покачнулась, но устояла. Только не сама уж сошла с помоста — подружки сойти помогли.
— Нездоровится, видно, девушке. Прости, осударь! — решилась заговорить Адашева. — Можно ли увести подружку?
— Пусть пойдет. Пусть отдохнет-поправляется. А матушке мое здорованье передай, гляди не забудь, Анна Романовна. Я еще, и сама ведаешь, поди, перед батюшкой твоим, пред Никитушкой, в долгах. Кабы не он, не догадка его — не уйти бы мне под Коломной от пищальников оголтелых, от мятежных новгородцев, когда они на жизнь мою умыслили. Сам ин заеду, матушке вашей за сыновей челом ударю, за верных мне слуг и пособников. Иди с Богом, боярышня!
И снова отдал поклон юный царь уходящей, сразу очаровавшей его девушке. Так закончилась первая встреча между Иваном и Анной Захарьиной-Кошкиной, в грядущем названной именем Анастасии, когда ее нарекли царицей Московской и всея Руси.
VII
Воротясь во дворец после этой встречи, Иван долгое время ходил радостен, светел и тих, словно переродился совсем. Даже не слышно было несколько дней гнева царского, не говоря уж о тех обычных бесшабашных пирах, без которых дня не проходило прежде.
— Что стало с царенькой? Осовел наш парень вовсе! — недовольно толковали прежние застольники Ивана, лизоблюды, «маньяки» дворцовые.
— Остепенился, малый! — степенно поглаживая бороды, замечали старшие бояре: Милославский Федор, Вельский Иван и Глинские оба — Михайло и Юрий.
Очень скоро дело яснее обозначилось.
Летние жаркие дни царь с ближними боярами думными в своих подмосковных дворцах проводил, в Коломенском да Воробьевском, но часто теперь и в Московском Кремле засиживался, вопреки обычаям. Стали замечать все… И допытались.
Еще раза два, случайно или нет — кто знает, но повстречался Иван с Анной Захарьиной у Адашева.
А там, недельки через две, как снег на голову, нагрянул сам царь, также попросту, и на двор ко вдове честной, боярыне Иулании Захарьиной-Кошкиной. Жила боярыня недалеко от тех же Никольских ворот, где раскинулся посадистый двор старика Федора Адашева. Мост большой, каменный, перекинутый здесь же поправее через Неглинку-речку, широкий, установленный крытыми лавками и помещениями по бокам, соединял Китай-город с Занеглименьем. А чрез ближайшие Никольские ворота подмосковные посады соединялись с Кремлем.
Ради сыновей Никиты да Алексея, которые вместе с царем ездили и с ним же часто в Москву возвращались, жила боярыня в городском дому, не отьезжала в свою тверскую вотчину. Все-таки успевала чаще сыновей видеть. А то бы за все лето и не удосужились они заглянуть к матери.
После первого смущения, вызванного нежданным приездом царя, все пошло по-хорошему. Иван умел, когда пожелает, очаровать людей.
— Челом бить тебе за сынка, боярыня свет Иулания Федоровна, припожаловал. Не гони прочь гостя незваного! — объявил Иван, почтительно кланяясь хозяйке дома.
Та прямо в ноги царю кинулась.
— Батюшка ты мой! Светик ясный! Царь-осударь милостивый… Да стоим ли мы и словечушка твово бранного, не то чести-почести такой? Да я то место святить велю, где ты с коня слезть поизволил. Тафтой шелковой покрою… Да я…
— Да ты подозволь из покоев — на вольный воздух. Душно теперя в теремах, хошь и просторны покои у тебя. Веди в зелен сад. Похвалялся мне Никита: густой он у вас, уветливый. Моих Воробьевских садов не похуже. Да дочку покажи… Видал я ее в чужих людях. Дома поглядеть твою умницу-разумницу больно манится.
Таким образом Иван и завоевал окончательно старуху и ясно показал, зачем пожаловал: в дому у нее девушку на воле поглядеть, не в чужих людях.
Переглянулась мать с сыном, стоящим за плечом у царя, и выкатилась делать свои распоряжения.
На счастье, Анна не одна сидела в светлице. День выпал праздничный, и несколько подруг пришли навестить боярышню.
После обычного угощения девушки песни стали запевать, величали державного гостя. Он шутить принялся, дарил им деньги.
Игры скоро затеялись… горелки.
Иван, сбросив с себя обычную угрюмость и надменность, в первую пару стал. Никита с Ольгой Турениной стоят за царем. Иван Андреевич Челяднин, молочный брат Ивана, в следующей паре. Адашев, третий спутник Ивана, сзади поместился, по приказу царя.
— Женат я, осударь. Некуды уж мне бы погарывать, побегивать, в игры поигрывать… — застенчиво улыбаясь, заметил было Алексей.
— А я велю. Вот и вся недолга! Ну, мышонок! Гори побойчей! — крикнул царь бойкой Оле Турениной, которой выпал жребий «пнем гореть», и стал что-то шептать своей соседке Анне Захарьиной.
Сначала боярышня была напугана появлением у них красавца царя, такого милого, такого ласкового. Но за две-три встречи с Иваном у Адашевых она пригляделась к повелителю, увидала, что он такой же ласковый, веселый юноша, как те из молодых ее родственников, с которыми приходилось все-таки встречаться девушке, несмотря на полузатворническую жизнь, обычную для женщин зажиточного круга.
Теперь, у себя дома, Анна совсем развернулась. Откуда смелость взялась. Явно радует ее внимание царя. Гордо порою головкой девушка встряхивает. А сама весела, смеется, бегает с прибаутками. От Ивана увернуться норовит, в руки Оле попасть, кричит Ивану:
— Поскучал бы и ты малость, осударь! Погорел бы в одиночку!
— Ну нет, шалишь, попал на пару — не пущу! Одному и то быть надоело!.. — отвечает ей Иван, нагоняя и хватая за руку. Ведет на место, а сам так и впился глазами в лицо красавице.
И Анна подняла на него свои темные бархатистые глаза. Прекрасные они, такие детски-чистые. Глядят так доверчиво, так прямо… Невольно замечает Иван, что чувственное волнение, вызванное было по привычке близостью такой очаровательной девушки, понемногу улеглось. Совсем потонуло оно среди тысячи новых, непривычных ему, тонких ощущений. Тут как-то все смешалось: жалость к сироте, восторг от близости чистого существа, готового открыто поклониться ему, царю Ивану. И чуется юноше прилив неудержимого, детского веселья, какого никогда почти и не знал, даже малюткой, печально возраставший Иван. Этим беззаботным весельем заразился царь сейчас от Анны. И то вспомнил Иван: незнатный, но славный род бояр Захарьиных за многие годы ни в единой крамоле боярской не был замешан. Поэтому Иван, обыкновенно не дававший спуску боярским и княжеским дочерям и молодкам, теперь совсем иначе отнесся к Анне. Свое уважение к роду царь перенес и на молодую девушку-сиротку.
Анна почуяла это — и так хорошо ей стало!
Незаметно время летит. Песни сменяются играми. На качелях качались, даже хоровод завели, хотя Семик уже минул давно.
«Роща зелененька, а я молоденька!» — заливается Анна.
Вдруг гулкий удар пронесся в летнем теплом, дрожащем воздухе. Зазвонили к вечерне. Сразу затихли все, перекрестились, оборвав смех и говор и песню на полузвуке. Расходиться настало время.
Но это посещение было не последним… Скоро толки пошли по Москве, в Кремле особенно: — Зачастил штой-то царь ко вдове честной, к Ульяше Кошкиной-Захарьиных. Не спроста оно… Иные задумались. У иных прояснились лица.
VIII
В день своего ангела, 22 июня, до свету поднялась боярыня Иулиания. Все во дворе и в доме тоже почти не спали ночь напролет: к именинному пиршеству готовились. День поздно погас. Рассвет куды рано загорелся над землей. Если часика три поспали — то и ладно. А уж в шестом часу честную вдову сам Макарий-митрополит принимал, когда она к нему со своим именинным пирогом заявилась. Да мало что принял раньше всех, стоящих в большом переднем покое, — увел, в «казенку» свою позвал и там не короткое время с боярыней беседовал. За пирог иконой одарил, святительским благословением… И к бабке царевой доступ нашла незнатная боярыня. Та благодарила куском тафты именинницу за челобитье. Царь молодой в Коломенском случился в тот день. Не то, гляди, сам бы на пир ко вдове пожаловал. Но и так полон двор и дом у нее. Одни уходят, другие подъезжают и пешком подваливают. Много знакомых было у мужа-покойника, не только что из боярского круга, а из служилого и приказного. Теперь проведали люди про особую ласку, какую семье царь Иван выказывает. И особенно много званых и незваных гостей явилось в день ангела «здороваться, честь отдать ангельской душе, имениннице»…
Приехал попозднее и думный боярин, Михаил Юрьевич Захарьин. Он, после смерти Романа, главой в роду считается. С ним сын явился его, Данила, и второй брат хозяйки, Григорий… Никита Захарьин, у царя не дежуривший как раз эти два дня, тоже дома сидит, на радость матери.
Не только за весельем съехались родственники. Опустели дворы и палаты, когда к вечерням дело подошло. Не решались гостьи и гости засиживаться у вдовы, хоть и «матерая» она, в своей семье — голова. Все-таки не водится во вдовьем дому долго засиживаться…
За вечернюю трапезу только своей семьей уселись. Анна, уставшая за день, не сошла к столу.
— Оно и ладно! — заметил Григорий Юрьевич. — Речь такая пойдет, што девчонке лучше не слушать.
— Какая речь такая? — всполошилась Ульяна. — Што, право, за неспокойный норов у тебя, братец Григорий Юрьич! Денька по-милому, по-хорошему, любо не поживешь.
— Рад бы милить, да суседи насилят! Так ухо надо востро держать. Да ошшо ежели сестра с дурцой. Тут вдвое забот…
— И за што обида такая извечная? — плаксиво отозвалась хозяйка. — Што вдовица я сирая… Так хушь бы вы, брательник старшой, вступились. Батюшка Михаил Юрьич, как ты у нас заместо отца родного таперя. А то мне, бедной, вдове горемышной, в моем же дому…
— Ну, буде! Запричитала! — решительно, но не строго произнес старший из братьев, боярин Михаил Захарьин. — Дело надо толковать, а ты запричитала. Никто тебя, сестра, не обидит. А Гриша — он уж завсегда так: лотошливый да суматошливый. Ранней пожару в било колотит. Хоша и то сказать: дымком-гарью попахивает.
— Пожар? Загорелось? Ахти мне! — вскочив, пугливо озираясь, запричитала хозяйка, но видя; что оба брата так и покатились со смеху, а молодежь едва сдерживается, чтобы тоже не смеяться, опять перешла в тягучий, плаксивый тон: — Ну вот… ну вот… И повсегды так вот… Потеху творит себе из меня, бедной, вдовицы сирой.
— Ах Ты, Господи! Да кинь причитанья. Слышь, што баять будем.
— Слышу, молчу, — сложив полные ярко-красные губы сердечком, подпершись рукой, сугубо-смиренно отозвалась боярыня, но тут же не выдержала. — А тебе бы, племянничек, — накинулась она на Данилу Михалыча Захарьина, — тебе бы и вовсе не пристало хиханьки да хаханьки над теткой творить. Отцу бы еще сказал учливенько, как ты царский ближний слуга, мол, «батюшка»…
— Матушка, смолкни! Останови колесо язычное. Всего воздуху не смелешь. Не то, гляди, уйдем в ину хоромину каку. Без тебя толковать станем, мать честная вдова-разговорница! — пригрозил Михайло.
— Молчу! Молчу! — зажав рот рукой, прошептала хозяйка и смолкла на самом деле, но приняла еще более обиженный вид, чем раньше.
— Теперь сыпь, — обратился Михайло к Григорию, — что нам сказывать собрался? Каки таки россказни про нас идут? Что судачат?
— А то и бают, что царь молодой у сестры у нашей любезной, в дому ея вдовьем почестном, опочивальню себе завел. Да ошшо не где инако как в терему девичьем, во светлице у племяннушки нашей, Анюты.
— Ах, вороги, ах, злодеи, ах, душегубы подлые! — так и взвизгнула, не вытерпев, боярыня. — Знаю я, чьи энто вымыслы! Ведьма Наташка Поленина, суседка-дьяконица, склыки пустила. Да я ее…
— Помолчи, сестра! — уже более решительно прикрикнул Михайло. — Да Полениной за такие речи можно бы язык к пяткам вытянуть.
— Я суседок твоих не знаю! — раздражительно отозвался Григорий, и без того вечно злой, подозрительный и раздраженный по натуре человек. Теребя свою длинную, жидкую черную бороду, он продолжал: — Круг царя такие речи ведутся. Бояре главные о том же проведали. Нешто единый шаг царев без погляду останется? А теперь — и пуще всего. Скоро пора приспеет: оженить царя надобно. Уж все первые роды между собою сносятся, пересылаются, сговариваются. Судят-рядят: на ком осударя женить? Так со всех концов по сотне гонцов готово: не скользнул бы куды вьюнош, мимо ихних мережей не проплыл бы. Пока он с дворовыми али припосадскими женками хороводится — оно и ладно. Ежели с иной боярыней замужней али княгиней какой позадержится, и то не беда. А тут, слышь: боярышня запуталась. Все ныне и заворушилось, как осы в улье в своем. Узнать всем надо: што да как? Невесту ль готовит себе осударь али так, приспособил сударку повседневную? По видимости — на последнем все сгодились.
— Ахти мне! — в неподдельном отчаянии хватаясь за кику, завопила было боярыня, но тут же и замолкла, увидя поднятый с угрозой палец братца Михаилы.
— Што ж, все энто и мне добре ведомо! — после небольшого молчания заговорил он. — Оно, гляди, и лучше, что такой, не иной говор идет. Для племянной целее, да и для тебя, сестрица. Стали бы главные бояре супротив вас опаску держать — давно бы и ее и тебя смели с пути с дороги. Извели бы зельем лихим как-никак. Не то хоромы подожгли бы, живьем поджарили.
— О-ох! — только и простонала, задрожав, боярыня.
— Теперь одно знать бы нам доподлинно надо: правду злые люди болтают али наговаривают на племянную? Ась? Поведай, сестрица любезная. Да, гляди, без хныканья, без вытья, без речей пустых, залишних.
— Ох, скажу. Все выложу, братец Михайло Юрьич! Ничего не потаю. Стыд головушке! Каки речи облыжные про девицу пошли! Да нешто я не мать? Да рази вместимо? Да позволю я, штолича? Да я ее лучше этими руками.
— Ну, вижу: толку не быть от сказов твоих. Так я спрашивать буду, а ты покороче отвечай. Что суть спрошено. Ночевывал когда осударь на дворе на твоем?
— Батюшки! Да нешто можно?! Да как же?!
— Ладно. Не было, значит, тово. В другое: часто ли счастливил-заглядывал?
— Да, батюшка… Сказать, так и не считала, а припомнить можно.
— Я, дяденька Михайло Юрьич, знаю! — вмешался Никита. — Без меня, почитай, ни разу не заглядывал. А со мной — раз пять бывал.
— Выходит: раз на неделе. Ошшо не больно часто-много, — ухмыляясь в бороду, заметил боярин. — А один на один с боярышней бывал ли гость дорогой?
— И-и, да нешто? — начала было боярыня, но сын снова перебил ее:
— Штобы совсем наедине, без призору, хошь бы дальнего, незаметного, — того не случалось. Не матушка, так я, не я — иной хто энтак неприметно, а все поглядывали. Но сидеть вдвоем — они сиживали. И в покоях случалось, и в саду, под наметом, али в купине хмелевой. Речей не подслушано всех. А што слышали, то все по чину велось. Ни озорных, ни улестливых слов осударь сестре не сказывал.
— Ах, очи твои подлые! — опять заволновалась, не выдержав, боярыня. — И не сын ты мне! И не брат сестре. Пожди: станет она царицей, осударыней вашей, — отместит тебе! Попомнит, как плохо ты за честь ея девичью вступался, чужих людей непохуже. Ну, как же чужим молчать, коли свой шатается: мол, знаю не знаю, а сказать не могу! Да ты за сестру, за нее должон не то кому, дядьям родным рот заткнуть! Да ты бы царицу свою грядущую…
— Эй, молчи, сестра! Пра, уйдем. Звени тогда одна в пустой горнице. У нас уже в ухах зык пошел. Ежели можешь, лучше толком скажи: все ли знаешь, что царь с племянной толковал? Да об ея будущем осударенье-царенье помалкивай, пока цела!
— Все знаю. Все мне доченька без утайки сказывала. Как только смекнула я, что залюбил осударь девицу, норовит на ей жени… Молчу, молчу! Как смекнула я, — давай девку допытывать, ее научивать, как с царем речи вести, слова не молвить бы лишнего. Ну, што греха таить — у самой дума было прожужжала в уме: не смутить ли ее на грех — парню манится? А она у меня прямая, простая, вся в меня! Николи воровством-утайкой не жила! И до последнего словечушка переносила, о чем с глазу на глаз речи у них ведутся. Складно так говорила, ровно вот в Апостоле али в святцах написано. Энто царь ей все так сказывал, а она мне. И про царство, и про дела великие, про земли, про войны разные, што он задумал. Ровно бы с боярином думным, с Аннушкой моей толкует. Известно, хошь и царь, а молодо-зелено ошшо. А там ее пытал: пойдет ли она, за кого он посватает? Она в слезы. Словно Бог дите надоумил, так и отрезала: «Ни за кого не пойду! Христос — мой Жених желанный…». И, говорит, так энти слова царя порадовали, што он взял за руки, в очи поглядел… и молвил: «Ин добро! А ежели б, говорит, Христос тебе власть над царством дал? Как бы ты володела им?». А она ему: «Всех бы, говорит, жалела… Всех бы призрела, ково только люди злые али судьба-злодейка здесь изобидела. И всем бы слабым помогу дала…». А он ей: «Вот и меня обижают. И я не в сладость живу. Жалеешь ли?». А она ему: «Тебя ли жалеть, осударь? Ты всех ясней, всех могучей в земле. А только ежели тебе что горько, пусть бы лучше на меня смерть пришла, только бы тебе радости придать». Вестимо, глупа девка. А он ей…
— Глупа не глупа, а кстати молвила!
— Вот-вот. И сам святитель, митрополит, отче-владыка, тоже мне нынче сказывал, как в казенку свою зазвал, а я все ему поведала.
— Эка шалая баба! Так тебе бы с тово и зачинать надо. Сам Макарий, толкуешь ты?
— Што ж што сам? Я, може, и не то нынче от владыки слыхивала. Лих, молчать велел. А я вот и проболталась.
— Угу! Вон оно дело какое?! Сам владыка за нас? И ни слова ранней не сказывал? На старца похоже. Творить многое, а и не слышно, не видно его. Словно само все деется. Только ежели где што доброе прилучилось, — уже его тут рука. Беспременно так.
Сказал и задумался Михаиле
— И вовсе не доброе! Старец — не мирской человек. Он по святцам целу работу кроит. А в миру — диавол портняжит. Забыл, брат осударь: нешто первые бояре до благого конца допустят? И Милославские, и Старицкий князь. А особливо Вельские да Глинские! Живьем сглонут. Сами на все пойдут, да не пустят наш род в родню царскую, в свояки царицыны! — отозвался желчно Григорий.
— Пустить не пустят. Оно вестимо. Вот и лучше, што святого дела они здесь не чают, в полюбовницы царю племяннушку посулили. Пущай. А мы ошшо поглядим. И их роды попервоначалу не больно высоко летали. И Сабуровы, и Годуновы, и Шуйские — о Вельских уж не поминаючи, — все не доблестью, а по свойству, через терема царские поднялися. Дочек да сестер туды засадили, так и сами знатны, велики и богаты стали. Може, и нашему роду Бог пошлет. Поглядим-пождем. Попытаемся. Вы, молодежь, языки за зубами держать. Живет царь с Анной — ну, пускай живет. Не такайте да и не отнекивайтесь больно. Мол, такое счастье кривое привалило, такое дело зазорное, што не клич же кликать о нем на Ивановской на площади.
— Как же, дядя, — вспыхнув, начал было Никита, обиженный ролью, которую навязывал ему и брату старик боярин.
— Тако же, племяш! Целей и сестра, и все мы будем. А от слова не останется. Доведем до царских теремов Аннушку — с нея, што с лебеди белой тина озерна, все людские наговоры скатятся. А пока, што потемней для нас, то получше. Мути поболе напустить надо. В ней только рыбка добре и ловится. Пусть над нами, над именем, над родом нашим честным малость потешутся. А уж потом и мы свою душеньку отведем, как станем чрез разряды скакать. Впереди таких бояр усядемся, поручь царицы, сестры и племяннушки, которы и верхом шапки нам намаргивали, век не кланивались! Плохо ли, Никитушка?
Убежденный блестящими планами дяди, тот умолк да так и замечтал сразу: о власти, о силе думает, какая привалит к нему, к шурину царскому.
Григорий Юрьич и тот сдался, очевидно.
Семейный совет покончился.
IX
За хлопоты оба боярина принялись. У Вельских, у Глинских побывали. Челом били:
— Стыд головушке! Подвели под поруху честь нашу Сабуровы да Шуйские. Вас извести похваляются, а для того царю на боярышень красивых показывают, грехом тешут. К ним бы получше стал! Вас бы отринул, што вы за бесчинство журить царя юного дерзаете!
Приласкали первые бояре Захарьиных. Думают: «Вот еще новый подсобник против родовых врагов извечных заявился!».
А Михайло Захарьин — к этим самым «недругам» кинулся. Против Глинских и Вельских песню завел… И этих умненько так-то обошел, что если не будут друзьями, так и помехой не явятся эти важные, родовитые бояре бедному роду Захарьиных. Все невольно стали подумывать: «Не плохо, кабы царь женился на какой-нибудь девушке из незнатного роду. Родичей новой царицы тогда легче закупить будет и на свою сторону перетянуть. А царица молодая и родня вся ее во дворце да в теремах московских — всегда сила великая. Малые дети это знают».
К Бармину, к духовнику царскому, заглянула боярыня, вдова честная, Иулиана Федоровна. Там и дарила, и сулила, и плакала. Адашев, покорный влиянию Макария, первый навстречу Никите пошел в этом важном деле. Без договору уговор у них составился. Всячески молодой, незнатный, но влиятельный Алексей направлял волю и мысли царя в известном направлении.
События быстро последовали одно за другим, словно с горы покатились.
Видела все это простоватая на вид, но лукавая, опытная вдова-боярыня — и только Богу молилась горячо, да как ястреб над цыпленком так и витала над дочерью: сама питала ее, своими руками еду-питье готовила, чтобы не окормили, не опоили, не испортили девушку. Сама чуть ли не постелю ей стлала. Со старухой-нянькой боярышни сторожили будущую царицу Московскую — грядущее счастье и величье свое, как обе они были уверены.
Заражалась порою их надеждами и девушка. Но счастье было так велико, что дух перехватывало у красавицы. Искры начинали плясать в глазах, и кидалась она ниц перед божницей, горячо шепча:
— Господи! Избави от искушения! Владычица, умири душу мою! Отведи горе от сироты. Смири дух мой гордый, не карай за думы суетные. Тебе, Господи, обручиться хочу… Никому больше! Помоги, Господи.
Осень давно уж стояла. Деньки выпали теплые, ясные, бабье лето приспело.
В один из этих дней Иван заглянул к Захарьиной, как все чаще и чаще делал за последнее время.
По обыкновению, прошел он с Анной в сад, в беседку, увитую хмелем, жгуты которого поредели и пожелтели теперь.
— Как жила без меня эти три дня? Што делала?
— По домашнему, осударь! Знаешь наши дела девичьи… Золотом шила битью. Покров новый готовлю на престол храму нашему приходскому. Были подружки, заглядывали. Сама разок, гляди, у Насти Адашевой побывала. Все одно и одно у меня, осударь! Труда не слыхать тяжелого у нас, у дочек боярских, вон как у люда простого, вольного. Так зато он «вольный» зовется. Ихние девушки инако живут. А мы — по старине, осударь!
— По старине? — машинально, очевидно не думая о том, что ему говорят, повторил Иван. — Не все оно по старине и ладно бывает.
— Толкуют люди: не все и новое ко двору да в пору. А ино дело: тебе лучше знать, осударь! Каков ты, сокол ясный, в здоровье своем? Смутен штой-то? Не докука ли какая новая?
— Нет, особливой докуки нету! — зорко вглядываясь в девушку, отвечал Иван. И вдруг быстро проговорил: — Нютушка! А ведь нынче я прощаться приехал!
— Што ты, осударь? Што ты, Ванечка? Да за каким делом? Далеко ль? На долго ль сбираешься? Не слыхать было ничего. Уж не поход ли? Поведай скореича, осударь!..
Допытывается девушка, а у самой голос дрожит, обрывается. Слезы из глаз градом так и посыпались, скользят часто одна за другой по щекам помертвелым. Скатываются на грудь, которая дышит сейчас тяжело и порывисто.
— В поход? Эко што вывезла! Вот и видать: коротенек он, разум-то девичий. Кто же того не ведает: по осени в поход не сбираются, спустя лето — по малину в сад не хаживают. Весной да зимой — и походы все. А осеннее дело — иное. Свадьбы! Нагрянет Покров — и веселье со дворов. Венцом парней-девок покрывают. Вон оно што!
— В толк мне не взять речей твоих, Ваня. Какой венец? Свадьба-то чья?
— Моя, вестимо! Не век же мне чужих белых лебедушек подлавливать! Свою белоперую пора завести…
— Ты, Ваня… ты, осударь, женишься?
— Надо. Года такие выходят. В животе и в смерти Бог волен. Нельзя мне сиротой землю всю оставлять. Умру — пускай моим детям престол московский будет, не дядьевым сынкам. С них ихнего довольно!
— Умрешь? Женишься? Помилуй, не мучь, осударь! Толком скажи…
— И то толкую ясно. Жениться задумал. Ежели бояре, злые вороги, изведут раньше времени, штобы хошь семя мое осталося. Чего же молчишь? Не спросишь: на ком? За кого сватаюсь? Али знать не охотишься?
Анна, ухватясь за край скамьи одной рукой, чтобы не свалиться от налетевшей слабости, сидела, не говоря ни слова.
— На цесарской, слышь, сестре женюся. Уж и посольство наше вернулось. И персону невестину мне прислали. Пригожа на диво! И богатое вено за королевной цесарь, слышь, дает. Да, Нюша, што с тобой? — испуганно спросил он, заметив, что девушка как-то мягко, мешком, валится прямо на землю со скамьи.
Подхватив ее, Иван снова усадил обомлевшую красавицу, ворот ей раскрыл-распахнул, стал в чувство приводить: в лицо ей дует, зовет по имени, встряхивая слегка:
— Очнись, Нюша. Опомнись, милая!
Заметил, что полуоткрыла глаза девушка, но все еще бледна, как мертвая. И зашептал:
— Вижу, вижу: не ложно любишь меня! Да ведь и не расстаемся мы. Пошутил я. Какое там прощанье! Так все вместе век и проживем с тобою!
Девушка сразу оживилась, порозовела даже, снова от сердца кровь к лицу прихлынула. Подняла свой кроткий взор на красавца царя, словно ждет, что он дальше ей скажет.
— Не поймешь никак? Слушай… Я оженюсь, по долгу царскому, хошь и не люба мне королевна далекая. Тебя, слышь, за кого-либо из похлебников моих замуж тоже выдадим, честь-честью. Так лишь, для прилику единого, сама разумеешь. И будешь ты век со мной. Первая да единая. Выше царицы венчанной… Разумеешь? Так согласна ли?
— Осударь, што пытаешь? Што спрашиваешь? Знаешь, видишь: на все твоя воля царская. Только не жилица я на свете. Ты, Ваня, добр-здоров, счастлив будь с осударыней-царицей твоей богоданной. А я… я в монастырь уйду, усердно за вас Бога молить стану… за счастье да за долгоденствие ваше.
Каждое слово, каждый негромкий звук ее голоса дышали такой правдой и тоскою, что слезы выступили на глазах у впечатлительного юноши царя.
В неукротимом порыве он искренне, горячо зашептал, откинув всякое притворство, всякое выпытывание:
— Буде! Не плачь, не горюй, отри слезы, кралюшка. Ласточка ты моя сизокрыленькая! Щебетушечка веселенькая! Защебечи повеселее, по-старому. Ни на ком, кроме тебя, не оженюсь. Ни с кем-то не повенчаюся. Ты моя нареченная, моя царица, подруга богоданная. По гроб жизни! Вижу я, уверовал, што не царства домогаешься — меня самого любишь.
— Тебя… тебя… — вдруг зноем пахнуло на юношу признание девушки, позабывшей о всяких границах и рамках благоразумия.
Но тут же, словно против воли сдержалась… Словно сразу отрезвела от налетевшего упоения… Снова головой поникла, задумалась. Голова кружится от речей царя. Дух захватывает так, что больно груди становится. И тут же холодком пробирается злое сомнение в душу девушки, полную восторга и радости.
— Да што ж ты все не веришь мне? Сызнова, гляди, очи затуманились? — спросил Иван. — Уразумей ты, девица: шутил я ранее, а вот сейчас всю правду-истину говорю. Хошь, крест целовать стану!
— Верю, милый, верю, желанный… Тебе ль не поверю? Не о том я кручинюсь теперь. Не та дума пала на сердце. Ты-то не обманываешь. И сам так мыслишь, как сулишь. Да иные, лих, не подозволят. Хошь и царь, да не один ты. Вельможи, родня особливо вся близкая — гордени; князи да бояре первые!
— Родня? Энто хто же? Вельские разве одни. Так не послушаю их. Уж были речи, как же! Окромя их — все, гляди, и рады, што близ тебя я погашал, прежние свои повадки буйные забывать стал. И сам отец-митрополит хвалит тебя же. А до Вельских, до Глинских мне и дела мало. Хошь и дядевья, да не свои они — литовцы. Им бы славы да корысти поболе добыть. А у меня и так вдоволь есть всего! Я царь всея Руси. И могу по своему хотенью невесту брать, хошь из посадских дворов, как отцом, дедом заведено. Штоб сильные роды, враждебные царю, дочек в царицы не вели, сами чрез то не крепли! Нешто я не смыслю. С митрополитом, гляди, уж говорено… Все обсказано. Дело по чину сотворим, штобы на царицу, на тебя, потом зависти да обиды боярской и всенародной не было. Не сказали бы: «Помимо всех девиц в царские терема шмыгнула!». Мы и это обкалякали. Сбор невест по царству назначу. И смотрины нарядим. А выберу я тебя! Так и знай. Поняла ль, горлинка?
Молчит, слушает его девушка — и грезит наяву, вся опаляемая сладкими мечтами.
Голоса послышались: мать и брат подошли — зовут хлеба-соли откушать гостя желанного. Не то Бог весть куда бы занесли любовные грезы сердце неопытное, горячее сердце влюбленное, девичье.
X
С начала зимы, когда из вотчин своих, из городов далеких бояре-князья в Москву понаехали, особенно горячо стал обсуждаться вопрос: «Дума царская с митрополитом и родней Ивана вкупе кого-то юному царю в жены укажут?».
А уж пора оженить государя, видимо, приспела. Очень многие слыхали о слабости юноши к сестре одного из стремянных его, к Захарьиной, но значения этому не придавали.
— Тешится осударь. Хошь и царь он, спору нет, а все — отрок. В конце концов, послушает, што ему старшие, мудрейшие, дядья и бояре, вкупе с отцом духовным, порадят-посоветуют.
И ждали, будущую царицу намечали-угадывали. У кого связи или богатство было большое — те за дело принялись. По влиятельным людям ездили, подсылали, узнавали, дарили, записи давали на целые состояния. Если девушка из ихнего дому в царицы попадет — все вдесятеро вернется!
Дворцовая мелкая челядь за передачу вестей и слухов — в вине да серебре купалась. Особливо ближние женщины из бабкиного терема царского… Все же такое дело, как женитьба внука, не минет рук бабки, княгини Анны Юрьевны.
Главный узел всех интриг и происков, связанных с близкой женитьбой царя, сплелся и свился вокруг владычного старца Макария. Но тот неразгадан остается у себя в кельях митрополичьего подворья. Где можно, на сан свой духовный сошлется.
— Мое ли дело в мирские дела мешаться? Негоже мне. Придет царь совету спросить — я скажу по совести.
Если же кому нельзя так ответить, он и помогать не отрекается, но добавляет:
— Плоха твоя надежда на меня!
— Почему так? — спросит гость.
— Отбился от меня царь. Молод. Прелести всякие на уме, А я ему об ином поминаю. Вот он и не тово…
— Да, разбаловался отрок вконец! — замечает гость. И уходит, довольный сочувствием пастыря, хотя бы и таким несущественным.
А Макарий всех выслушивает, все в уме взвешивает. И вот в один вечер, когда Адашев с каким-то присылом царским — а может, и без всякого дела — к владыке пришел, тот ему и сказал на прощанье:
— Пора бы уж царю и волю свою объявить. Кажись, теперь время самое. Толковали мы с осударем. Так вот, передай ему слово мое такое. Только не при людях. Слышь?
Было то о посту Рождественском, так в самой средине декабря. А дня через четыре-пять вестовщики митрополичьи всех думных и радных князей, бояр и восточных царевичей, все духовенство кремлевское, всех служилых людей постарше стали на первое воскресное богослужение в Успенский древний собор позывать — слово митрополичье слушать.
В субботу вечером позыв пришел. Кто бы из старших бояр и хотел к владыке раньше кинуться, узнать, в чем дело, — так уже поздно. Наутро вся площадь Ивановская народом пестрила. Занимало всех, какое такое торжество готовится неслыханное. У собора Успенского и по всей площади — ряды пищальников, ратных людей своих и заморских всюду понаставлены. Хоругви веют. Изо всех храмов кремлевских духовенство главнейшее в лучшем облачении в собор стекается. Колымаги, возки, сани крытые подъезжают. Сторонних людей и не пускают никого близко к паперти. Что-то необычайное творится.
— Оженить сокола нашего, царя юного бояре сбираются, — с присущей толпе прозорливостью сейчас же порешила чернь.
И она почти что угадала. Не его женят, он сам жениться порешил. Проследовал и сам митрополит в собор внутренними переходами крытыми. Там клир загремел:
— Ис-полла-эти-дэспота!
Служба началась торжественная. Прошла и закончилась служба.
На амвоне темнеет сухощавая высокая фигура Макария. Звучит его мягкий, приятный, но отчетливый, звонкий голос:
— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Пред ним море голов, наполняющих от края до края весь просторный храм, древнюю усыпальницу первосвятителей московских и всея Руси, творение великого итальянца, зодчего Аристотеля Муроля.
Все сюда созваны, даже бояре опальные. Стоят и ждут: что скажет верховный пастырь всего православного стада?
Недлинна речь Макария.
— Чада мои духовные, великую радость поведать вам хощу. Близок час благодати Божией. Юный благочестивый осударь наш, царь Иоанн Васильевич Московский и всея Руссии, — яко некий крин райский, дивий, произрастая, не по дням, по часам зреет телом и владычным разумом. За его здравие, споспешествование и долгоденствие молитвы мы зде возсылали к престолу Божию пред чудотворным ликом Богородицы, Володимирской нарекаемой, и пред всеми угодниками и чудотворцами Божиими. Теперя прошу первых чинов и бояр ко мне на подворье пройти. Там ближе дело скажу: чего ждать нужно. За што нам сугубо Господа благодарить надлежит!
Сказал и, окруженный блестящим клиром духовным, первый двинулся в путь, теми же переходами крытыми.
Бояре и князья первые, царевичи и цари касимовские и татарские: сибирские и казанские, астраханские и крымские, все, какие на Москве проживали, — так за святителем толпой повалили. А остальные на площадь высыпали, там с взволнованным морем народным слились, словно поток речной влился в океан, еще больше своими толками и соображениями волнуя умы и души людские.
В палатах своих митрополит также кратко повестил всем о том, о чем и сами вельможи догадались: царь юный решил в брак вступить. Мало того, перед брачным венцом — желает и царское венчание совершить над собой, по примеру отца, по примеру предков.
Только не многие из ближайших к царю вельмож знали о последнем намерении царя. Остальным такая весть была новинкой, многим не весьма желанной.
Не ожидая дальнейших расспросов, не давая разойтись поднявшемуся говору, Макарий заявил:
— А теперя, чада мои, цари и царевичи, князья и бояре, милости прошу, со мною к осударю пойдем, как позыватые были за нами от его царской милости!
XI
Торжественно и чинно блестящим длинным шествием перешли все в царский дворец, где в самой обширной из палат, в Столовой, окруженный воеводами, рындами, ближней свитой, сидел Иван на возвышении царском, на старинном троне прадедовском, еще из Византии присланном.
Разместились все по родам, по чинам. Кто сидит, кто стоит вдоль стен. Дышать трудно. Наряды зимние, меховые, тяжелые еще больше обременяют разряженных бояр.
Поднялся Иван — и все зашумело, зашелестело, зазвенело цепочками, оружием… Все быстро поднялись. Земными поклонами на царский поклон отвечают.
И впервые заговорил к большой толпе царь-юноша. Бледное от волнения лицо — красными пятнами, то и знай — вспыхивает. Голос звенит, и дрожит, и обрывается, но все крепнет и крепнет понемногу.
— Отче-господине! — обратился по порядку царь к митрополиту к первому. — Милостью Божьею и Пречистой Его Матери молитвами и помощью великих заступников христианских: Петра, Алексия, Ионы и Сергия, и всех русских чудотворцев, — положил я на них свое упование, а у тебя, у отца своего, поблагословяся, помыслил оженитися. Попервоначалу дума моя была подружию пояти в иностранных государствах, у круля какого-либо, али бо у цесаря. Но после ту думу поотложил я. Не хочу жены искати в чужих землях, царствах инославных, как после отца-матери своих мал я остался, возрос без призору родительского. Не приучен на многое. Вот приведу себе жену из чужой земли. И в норов не сходны станем с нею, в свычаях царских наших да обычаях. То промеж нас худое житие пойдет. Посему и поволил я! — особенно торжественно и внятно произнес Иван, видя, как все чутко слушают кругом. — В своем царстве-государстве мыслю, отцовским обычаем, жены поискати и поятию, по твому, отче-господине владычный, пастырскому благословению.
Сказал, умолк и сел. Все с легким говором опустились на места. Словно вдали по дну каменистому поток горный прокатился.
Теперь всем ясно, что царь не только твердо решил пожениться, но еще хочет у себя, на Руси, вернее на Москве, невесту поискать.
Люди, не знавшие ничего об Анне, так и занеслись мечтами: авось ихнего рода девицу залюбит Иван? А не то и происками да ловкостью не удастся ль провести как-нибудь свою невесту-родственницу в царицы Московские?
Другие слыхали, наверное даже знали о Захарьиной Анне, а все-таки надежды не теряли.
«Не больно красовита! Бледна, не дородна… Да и не родовита вовсе. Наша куды пригожее. И ростом и дородством взяла. И роды наши старые…»
Так думали иные.
И все готовы были искренне приветствовать решение юноши царя, хотя и не совсем по правилу он поступал: мало кому из главных бояр даже сказал о своем решении жениться.
Ну да юн, горяч. Поуймут его задор молодой заботы и дела царские. Уж верховные советники велемудрые о том постараются!
Первым, как и подобало, заговорил Макарий. Поднялся старик, у самого слезы радости на глазах.
— Царь-осударь великий, чадо ты мое духовное наилюбезное! Порадовал ныне еси меня, старика, молитвенника и слугу твоего извечного. Юн еще толико, а разумом преисполнен обильно, яко кладезь водою кристальною — жаждущим в отраду и упоение.
Как бы желая погасить недовольство в душах тех из первосоветников, кто осуждал самостоятельный шаг царя, да и с себя желая снять возможные нарекания, Макарий продолжал:
— Особливо всем радошно, что своей волей и разумом ты до благого почину такого дошел, только у Бога, Единого царей Наставителя и Советника, внушений прося… Слезы умиления текут по ланитам моим, и увлажены очи синклитов твоих, честных и славных князей, бояр, думных людей и дружинников. Видим бо, чадо, ноне: истинного самодержца-царя и осударя достойного посылает рок для всея Руси!.. [4]
За владыкой поздравили царя все цари и царевичи мусульманские, нашедшие убежище на Москве, когда пришлось бежать им от врагов, из Казани, из Сарайчика Крымского, из далекой Астрахани. Джан-Али-хан, Шах-Али, Эддин-Гирей казанский, Дервиш-Али с братом Абдулой, царевичи астраханские, все, кому по их царскому роду место отведено по сторонам трона Иванова, поднялись, челом бьют хозяину державному.
Бояре и остальные вельможи тоже челом добили. В один общий гул голоса слились.
Понемногу снова затих говор и шум в палате. Тишина воцарилась немая, когда поднялся вторично Иван, дал знак, что говорить желает.
Так же волнуясь, как и во время первой речи, заговорил царь, торопливо, звенящим, напряженным голосом. Но каждое слово так и вырезается среди всеобщей тишины:
— Благодарствую на добром слове тебя, отче-господине! Вас, братовья милые, цари и царевичи. Вас, родные и близкие мои, и князья и бояре наши. И всех вас, слуги мои верные, помощники некорыстные! А ныне в другое заговорю. Еще слово скажу свое великое. Отче-господине! По твоему, отца моего, благословению, и с вашего думского совета и разума, бояре, поизволил я, допрежь женитьбы моей осударской, поискать прародительских чинов и чести царской, как и прародители наши, великие князья, цари и осудари, и сродник наш же, великий князь Володимир Всеволодович Мономах, на царство, на великокняжеский стол садилися… Волю и я тако же сей господарский чин исполните, на великое княжение, на древний царский стол возвести.
Сильно отчеканив последние слова, сел Иван, стал вслушиваться, вглядываться: какое впечатление речь его произвела?
Сильно было впечатление от этих слов.
И расслышал Иван: среди общего клича и гула ликований, поздравлений так и прорезаются нотки удивления, опасения. Видит Иван море ликующих, рабски умильных лиц, взоры, искоса на него брошенные, трусливые, пытливые. Так и читается в этих взорах:
— Чего еще нам ждать от этого отрока?
А отрок, может быть, и не своим умом, но быстро решил трудную задачу. Мало того что управлять стал царством, но и царский священный титул хочет принять, этим равняя себя с первыми государями Европы. У себя дома, на Руси, он становился на степень византийских священных императорор-самодержцев.
Пока не окрепла Русь — и думать было нечего о восстановлении царства Мономахова. Но ныне окрепла она. И если даже раньше трудно бывало разбитому боярству и князьям бороться с отроком Иваном, с наследным князем Московским, — каково же теперь тягаться с помазанником Божьим и всенародным, с царем всея Руси?! А Русь вся, конечно, с восторгом отзовется на решение Ивана. Возвеличивая себя, он и всю землю этим возвеличит. К чему стремились отец и дед Ивана — смело и быстро выполнил их отважный, пылкий наследник, юный царь Иван.
И русские и азиаты, пришедшие в палату, все поняли смысл того, что в эту минуту совершается. Поняли и оценили решение царя и все послы иноземные. Как только толмачи передали им слова Ивана — озаботились их лица. Особенно низко и почтительно приветствовали они юного, пылкого повелителя полудикой, необозримо-огромной страны…
XII
В веселый праздничный день, 16 января 1547 года, совершилось в Успенском соборе торжественное венчание на царство Иоанна IV.
Двинуться нельзя никуда в приделах храма, такая здесь теснота. Бояре в лучших парчовых нарядах, послы иноземные в шелку, в перьях страусовых, в оружии дорогом восточном или западном. Духовенство в пасхальных светлых ризах. Огнями весь храм унизан. Но пламя свечей, паникадил и лампад так и мерцает от спертого воздуха, от дыхания тысячной толпы, сгрудившейся в тесном пространстве.
Все входы и выходы храма настежь раскрыты, но это мало помогает. Дышать трудно!
Только и посвободнее немного вокруг самого места царского, где митрополит, в сослужении высшего духовенства, обряды священные творит, торжественно помазует Ивана на царство.
Идет великая литургия, и во время ее нарекается и преемлет венец Мономаший Иоанн Васильевич IV, всея Руси, великий князь Володимирский, Московский, Новгородский, псковских, вятских, пермских и иных земель повелитель.
Отпели «Херувимскую», и приступил к миропомазанию Макарий. Как голоса ангельские, звенят напевы клира… От мощных возгласов протодиакона, сдается, вздрагивает помост тяжелый под ногами царя, коврами и бархатом алым устланный. Стоит Иоанн, облаченный в ризы царские, мало чем отличные от митрополичьих. Первые в царствии люди подают митрополиту бармы богатые, оплечья царские.
Благословил их первосвященник и возложил на царские плечи. Также возложена цепь золотая, знак царского достоинства. Осенила голову юноши древняя шапка Мономахов, знак полной власти над всей землей. Подано яблоко — держава, дорогими каменьями осыпанная. Острый меч, символ высшего правосудия и превосходства, держит Иван Челяднин перед царем. Отныне царь один вершитель правды всенародной.
Запевают певчие «Достойно есть»… Рвутся к небу от земли голоса… Под серебристые и под гремящие звуки идет обряд увенчания царского. Наряжен государь. Смолкли напевы. В торжественной тишине раздаются великие слова причастного стиха. По чину священства, как духовный вождь и пастырь народа, принял причастие государь. Вторично совершается миропомазание.
Вот — клики радости, восторга, поздравления начались. Мехами дорогими дарят царя, золотыми сосудами, челом бьют, червонцами осыпают. И наконец, при гулком, ликующем перезвоне всех колоколов со всех церквей московских прошел из собора во дворец новый царь, самодержец всея Руси, Иоанн IV.
Весел, радостен сидит за трапезой венчальной Иван. За дары, ему поднесенные, вдвое, втрое отдаривает и своих и чужих доброхотов — послов иноземных. Через них государи дальние много чудесных вещей прислали к такому великому дню.
Далеко за полночь кончился пир веселый, шумный, многолюдный. До свету еще отголоски его носились по двору, до теремов долетали и там будили тишину глубокую, монастырскую.
А Иван в это время, один в своей опочивальне оставшись, всех спальников и любимцев повыслал. Потом упал ниц перед образами, озаренными ярким сиянием лампады, и жарко стал молиться, вслух твердя прошения свои.
— Господи, не оставь раба своего! Даруй разума Царского, над ворогами — одоления скорого! А я клянусь и обрекаюсь, Господи: по правде, по совести, по завету Христа Спасителя, по науке отцов и дедов — землей володеть и правити. Ни зла, ни лиха никому не творить, разве — не ведая. Хранить буду власть, и душу, и народ мой! Обрекаюсь, Спасе Милостивый. Допомоги мне на том…
И рыдал, и молился, и обеты давал до утра юный царь. Тут и задремал, склонясь головой к аналою. Прокинулся скоро, встал, еще раз перекрестился и, не раздеваясь, по обычному, в той же расшитой, тяжелой рубахе шелковой, в шароварах атласных, узорчатых, в ичигах мягких, сафьяновых, повалился на ложе свое и уснул.
XIII
Пока эти торжества совершались, да еще и задолго до них, по всей земле призывные «невестные» грамоты были разосланы. Девушек-невест стали на Москву созывать, на смотры царские. Рождество на дворе стояло. А там и святки приспели.
Анна Захарьина давно уже царя не видела. За хлопотами, за сборами к венчанию царскому не мог он и часу урвать, к боярышне заглянуть. Только послов слал, верных, близких себе людей.
Знала Анна, что важные дела разлучают ее с милым, с «суженым-ряженым», как звала в душе царя. Но все-таки не легко было девушке.
Накануне Крещенья — сидели они с матерью вдвоем, сумерничали.
— Слышь, девонька, не гоже оно так-то! — вдруг обратилась к ней мать.
И раньше любила и холила она дочку, а с той поры, как явилась надежда стать тещей царю, и совсем в кабалу себя записала старуха к «невесте царевой»… Сама каждый кусок для девушки готовила, каждый глоток подавала: не испортили бы будущую царицу вороги лютые.
Теперь и тревогой и укором зазвучали слова, которые вырвались у старой боярыни.
— Что не гоже-то, мамонька? — спросила Анна, думая совсем о другом.
— Таять ты больно стала, девонька! Совсем извелась. Поди, царь сухопарых не больно-то любит. Не возьмет, коли беречь себя не станешь. Другую выберет.
— Матушка, и так не возьмет… Все равно не бывать мне за ним! — вдруг с неожиданным наплывом тоски тихо и грустно ответила девушка.
— Што ты? Да с чего ты взяла? Дурочка! Такое слово великое было им сказано. И образ подымали, молебен служили. Как же вдруг: не будет? В себя приди, милая!
И боярыня рукой замахала на дочь.
— А я говорю: не будет, так и не бывать ничему. Уж и грамоты по дальним городам посланы. И соседям нашим пришла. А нам нет как нет.
— Годи, девонька: все по ряду. Перво-наперво: царским жильцам, которы во дворце да в Кремле близ царя живут, — тем обсылка будет… Там — первым людям, тоже у которых дочки-невесты… Там — и нам: незначным боярам, вдовым семьям… Все по ряду!..
— Мамонька, как же: ежели он ко мне правду хорош? Ежели думает? Ежели жалеет… Што бы не сказать?..
— Што сказать-то? «Захарьиной-Кошкиной, Анке, первой посыл шлите, вести давайте, штобы в невесты собиралась, а там — ив царицы шла»? Так, милая? Сейчас сторожу я тебя, дней-ночей не сплю… А тогда — и прямо обоим конец! Мало ль народу самого злого, самого великомочного зубы точат!.. Ежели прямо узнают, што ты им помеха неминучая, — тут тебе и карачун! Молчи-помалкивай лучше, доченька. Во сне увидишь — и то отрекись. Так-то целее будешь, скорее до терема царского дойдешь!
— Ой нет, матушка! Ничему-то не бывать. Я и сон-то лихой такой да вещий видела!
— Сон? Какой ошшо сон? Што же давно не поведала, милая доченька?.. Сами не разгадаем, я за бабкой-стрельчихой сыосылать велю. Говори скореича!.. Помилуй, Осподи! Сон?!. Ахти — мнечушки!.. Чур нас. Наше место свято. Дурное в окно да в подволоку. Добро — в дверь да с наскоку! — зашептала свои причитания старуха. — Да што ж ты молчишь, как статуй, словно на кургане — баба татарская… прости, Осподи! Скажи про свой сон. Поведай матери-то!
— Под утро мне, матушка, снилось… да так четко снилось, вот словно на яву. Лежу я в саду будто на травке. От жары разметалась вся, распоясалась. И с дерева с высокого голубок слетел ко мне. Большой такой, разноперый, глазки так и горят, словно камешки самоцветные.
— Ну? Ну?..
— И стал он надо мной тосковать-ворковать, совсем как человек ласкается. Я давай его гладить. А он…
— Ну, ну?! Нечего невеститься! С матерью толкуешь, не с чужим с кем. Все досказывай!
— И клюнул он меня в правую грудь и в левую. А сам обернулся не то коршуном, не то соколом — и взлетел на дерево. Больно мне, и жутко стало, и сладко — сама не знаю с чего. Лежу — гляжу: кровь из груди каплями выступила. Шесть капель всего. А эти капли — не кровь — зернами ормуцкими, жемчужинами великими на землю скатилися.
— Ну, ну?..
— И разные жемчужины, цветом и видом разные. Три — словно орешки-двойняшки. Покруглее видом. Три — словно желуди, длинные. И цвет у их белый. А у трех, у кругляшек, у первых, — черный блеск. Такого черного жемчуга я не видывала. А сказывают, бывает…
— Бывает… Ой, бывает! Ну, доченька, как я уразумела: и хорош твой сон — вещий, великий сон да и кручинливый. Да ты не пужайся, милая! Ничего особливого. Голубь-то, што соколом стал…
— Коршуном скорей, матушка!
— Нишкни, дитятко! Соколом… И всегда помни: соколом! Суженый это твой был, муженек богоданный. Сама знаешь кто? И шестеро деток пошлет тебе Осподь. Три девочки. Энто те, что кругляши жемчужины… А желудочки — энто сыночки, на долгое доброе им здоровьице. Жить да осударствовать им!
— Маменька. А как же дочки? А, мам? — вся заражаясь мистическим настроением старухи, твердо веруя во все, что та говорила сейчас, спросила Анна.
— Дочки. Черны, баешь, жемчужинки-то? Ну, они, дочки-то, — не будут долговечны. Да воля Божия на все! Хорошо, коли дочку так вырастить, как я тебя. Ежели, подай Богородица, тебя я да в царских теремах увижу! Так там царицам любо. А царевнам — куды туго жить. В монастырях самых строгих — и то лучше… Не мимо сказано, что тюрьма — что терема. Замуж царевен, почитай, не выдают. Там любить не велят. Какая жисть? Маета! Так и лучше, ежели ангельски чисты душеньки к Осподу Богу до времени отойдут! К святым ликам сопричислятся. Да што ты, дурашливая. Ошшо так ли, не так ли — о нерожденных детках плакать, вижу, собираешься? Може, мать, дура старая, и Бог весть какого веретья наплела… А ты свои оченьки ясные темнишь. Буде! Не гоже! Попомни: жених какой у тебя? Для него и глаза, и всю себя, как клад заветный, беречь надо, девонька! Не верь матери. Врала все, старая…
— Нет, мамонька! Чует сердечушко: так все и будет. И сама во сне — почитай так сама и подумала, как вот ты поведала. Только сама себе… счастью и горю своему верить боялась.
— Брось, говорю. Пойдем лучше! Поглядим на всяк случай: все ли у нас заготовлено, если пошлет Царица Небесная, заглянут сваты жданные да желанные…
И боярыня поднялась, увлекая за собой дочь к тяжелой укладке, где были припрятаны самые богатые наряды девушки, старинные, от пробабок еще завещанные захарьинскому роду.
Уловка удалась.
Сначала рассеянно, неохотно перебирала красавица наряды тяжелые, бархатные да парчовые. Переглядывала повязки сверкающие да кики тяжелые.
Каменья дорогие, самоцветные поражали величиною. Несмотря на плохое освещение, разлитое двумя-тремя свешниками о четыре-три рога, несмотря на грубую оправу «гнездом», где изумруды, рубины и яхонты сидели в чашечках серебряных, дорогие камни, особенно алмазы и бриллианты, переливались своей таинственной игрой. И скоро девушка увлеклась занятием.
А старая боярыня, покачивая головой, подумала про себя: «Вот все на одну стать! Смута и радость — рядом у их живут… Умей лишь за дело взяться…».
XIV
Яркими лучами рассыпалось раннее зимнее солнце над перекрытыми снегом островерхими крышами захарьинской усадьбы на другой день после беседы старухи с ее тоскующей любимой дочкой.
Рано проснулась в светелке своей Анна. Словно впервые на свет родилась, так хорошо и легко чувствует девушка. Снилось ей всю ночь что-то радостное, отрадное, светлое. Только что именно — она и сама не помнит. Очень уж крепко спала. Все сны заспала.
Но не беда. Помнит Анна, что все одно хорошее грезилось! И сейчас хорошо, легко ей. Петь хочется. Да, лих, спозаранку, до молитвы, запеть нельзя. Мать на что балует, а выбранит за такое бесчинство.
Поживей умылась девушка, принарядилась почище ради праздника. Мать с добрым утром проведать сошла. А там день колесом покатился.
Подруги пришли тоже разряженные. По дороге в церковь за подружкой заглянули. Мать дома, в своей крестовой палате раннюю службу отстоять решила. Хлопот много: гостей и званых и незваных ради крещенского дня ждать надо.
Перекрестила дочку и отпустила:
— Ступай, погляди на свет вольный, пока не срезали косу русую, не сняли волюшку девичью.
Весело, с шутками, с прибаутками вышли из покоев, с крыльца сошли девушки.
Нянька старая за Аннушкой следом ковыляет. Без того не пустила мать.
На улице, где люди снуют, тоже в церковь тянутся; примолкли хохотушки.
Да и морозно. Кутают лица в воротники шубеек. Не до разговоров.
Отстояли службу, вышли снова толпой на улицу.
— Куда теперь? Неужели домой? Рано. За стену, к Москве-реке, не пройти ли? — предложила зачинщица всех затей Оля Туренина.
— К Иордани бы! — несмело подхватила Анна.
— Энто што же? На царский поезд поглядеть? Так разве без бояр подпустят нас близко? Еще кабы мужики с нами были — те бы протолкались. А там, гляди, народу тьма. Не протолпишься.
— Ну, да авось. Хошь издали поглядим! — упрашивает Анна.
Молча переглянулись подружки, ни слова не сказали, пошли к воротам Фроловским, на которых как раз часы пробили медленно и гулко девять ударов.
— А как пройдем, подружки? Надо нам на Водяные ворота прямовать. К Тайницким не протискаешься. Стрельцы, поди, так цепью и чернеют. Да и народу тьма. Особливо вершники боярские, озорники, холопы бездельные. Коней стоят сторожат да сами, тово и гляди, изобидят нас, девушки!
— Вестимо, ведомо… Через поповские дворы — к Водяным воротам пойдем! — зашепелявила нянька.
— А мне бы манилось к святому Христофору зайти. Он с краю, на площади. Авось тут не так тесно. А потом и к поповым дворам своротим! — предложила Анна.
— Вот, девушки, невеста-боярышня, так она к Христофору, помогателю девичьему, и тянет! — смеясь, заметила Ольга. — Ну да уж идем.
Словно переменилось веселое, радостное настроение Анны при этих словах. Она вся как-то опустилась, по-меркнул блеск в ее глазах.
Заметили это и подруги — и снова молча переглянулись.
Миновав Вознесенский монастырь и дворцы Шереметевых, выходящие на Спасскую улицу, девушки вышли на Ивановскую площадь, где против их возвышался обновленный собор Ивана Лествичника. А правее и ближе, почти примыкая к земле боярина Ивана Шереметева, темнел небольшой старинный, весь деревянный храм св. Христофора — Песья голова.
Колокольни-шатра при храме не видно. Столб стоит высокий, а на нем — колокол вроде тех вечевых колоколов, какие в древнем Новгороде и Пскове были при отце Ивана-Святой угодник, имя которого носил храм, был, очевидно, списан старинным иконотворцем, согласно легенде, с какого-нибудь египетского изображения, и на плечах у него была нарисована не человечья, а песья голова. Оттого и храм так звался: св. Христофор — Песья голова[5]. Считался этот угодник самым верным слугой и молитвенником Спасителя и покровителем девушек-невест на выданье, наравне со святым Николаем Гостунским, храм которого стоял совсем в начале площади, где кончалась сама улица.
Эта часть площади была оживленна, но не так запружена народом, как дальше чс Тайницким воротам, которыми должно пройти торжественное царское шествие.
Девушки легко проникли в храм.
Полусвет царит в низкой, бревенчатой церковке св. Христофора. Луч зимний солнечный пробивается в небольшие оконца, и свечи-лампады зажжены у икон ради великого праздника. А все же полусвет-полутьма одевает все кругом, и только ярче других выделяется изображение странного святого. Светлеет на доске полуодетый сухой торс византийского, самого раннего письма. Благословляющая рука сделана так отчетливо. И песья голова, без шеи, прямо приставленная к плечам, хотя и несмело, но довольно правильно выписанная, невольно приковывает к себе взор молящегося, наполняя непривычными думами религиозно настроенный Дух.
Горячо молится Анна. Молятся и подруги ее, но не так усердно. У них нет тоски, нет порывов и смятения. Они знают почти наверное, что их ждет впереди.
«К нам царь в гости не жалует!» — думает почти каждая из них, не то с завистью, не то с отрадой глядя на подругу, которая лежит на грязном помосте церкви, бледная, в слезах. Молит о счастье? Или боится, что горе нагрянет? Великое счастье, верно! Но и горе большое может быть, если все не выйдет по мыслям Анны Захарьиной.
А они, боярышни, никогда в девках не останутся. Как-никак замуж выйдут и спокойно в теремах своих проживут, так что больше жалости, чем зависти, вызывает в подругах смятение душевное боярышни, ожидания ее блестящие, ее скорбь, жгучая скорбь, тоска и страх неподдельный.
Зазвонили во все колокола.
— Царь к Иордани прошел! — говорит Анне Ольга Туренина.
Но та словно не слышит. Ударяет челом о настилку храма и молится. Порою слова срываются с пересохших, бледных, как у мертвой, губ:
— Господи! Миг счастья даруй. А там… Твоя воля, Господи!
Бедная женская душа! Чует, что здесь, на земле, за каждый миг счастья годами мук и горя платить приходится.
Когда на площадь вышли девушки, глядят — совсем опустел этот край Кремля.
Тысячные, многотысячные толпы там далеко сейчас темнеют, пестреют, алеют, ближе к воротам Тайницким, где над головами у всех по ветру веют, развеваются хоругви церковные, значки полков стрелецких, бунчуки конвоя царьков азиатских.
За стеной Кремлевской, от реки, — голоса клирошан, их стройное песнопение доносится, пересиливая гул и шум толпы народной… Видно, у Иордани уже служба началась.
Быстро двинулись наперерез площади девушки. Проулочком, что между землей князей Сицких и Мстиславских вьется, вышли к стене Кремлевской. Налево темнеет церковь старинная Петра митрополита. Направо — целый городок особливый: поповские дворы многочисленного кремлевского причта.
Через ворота Водяные, сегодня ради многолюдства народного открытые для проходящих, спустились боярышни к реке. Нянька еле поспевает за ними.
— Куда вы, этакие, так поспешаете? Поспеете, гляди! — кричит она и только следит, как по спуску береговому мелькают шубейки разноцветные, колышутся высокие шапки горлатные, чернобобровые, в какие принарядились боярышни ради праздничного выхода.
Как ни поспешала Анна, увлекая подруг за собою, толпы народу заполнили все пути, заняли лучшие места поближе к проруби, где шатер был раскинут царский, где митрополит со всем кремлевским духовенством совершал торжественное, хотя и краткое сравнительно богослужение. Немолод святитель, да и недомогает что-то…
Только стоя в полугоре, на берегу, могут различить боярышни, что у Иордани делается. Лучи солнца горят там, отражаются от вооружения блестящего на царе и на всей свите царской: на ризах золотых, парчовых играют огни…
Вот дрогнули стрельцы, окаймляющие живой разноцветной стеной самое место, где совершается водосвятие.
Гайдуки, скороходы — эфиопы черные — вперед тронулись между двойной стеной воинов, стоящих вдоль прохода от берега до самого дворца. Дрогнула вся огромная толпа. Из среды бояр и военачальников выдвинулся статный, полный юноша — сам царь. Двое царских стремянных склонились, готовясь подсадить его на высокое парадное седло. Чепрак на коне парчовый, кованый, весь усеян камнями сверкающими драгоценными. Но царь почти без помощи рабов усердных взобрался на седло. Двинулся… Заколебались толпы народа кругом. Двигаться вперед начали. Гул приветствий пронесся — и ширится все, растет, разливается далеко кругом. Кланяется царь народу. Ближние ряды челом бьют ему.
Что это? Показалось Анне или на самом деле так? Как будто царь прямо в ее сторону поглядел через головы шумящей многотысячной толпы. Узнал ли он ее в этом тяжелом охабне, в шапке бобровой высокой, среди подруг, одетых одинаково с ней? Или сердце подсказало ненаглядному, что милая его стоит вдалеке и глаз не сводит с желанного? Вот клонит он голову… Ей ли шлет привет? Всему ли народу кланяется? Ей, конечно…
После молитвы в церкви, после взгляда, брошенного на Ивана, снова Гамаюн, птица радости, запела в сердце, в душе боярышни. Горя не ждет она, верит счастью близкому, неизбежному, великому.
Не обмануло сердце красавицу…
Постояла, проводила она глазами поезд царский. Потом все полюбовались, как народ простой — бабы и мужики, девки и парни, старые и молодые — с ледяной горы мчится. Через всю реку дорога прочищена. Один скат на одном берегу, на высоком, другой на низком устроен, на помосте, на толстых балках. Настланы доски на сваях, снегом засыпаны, водой политы. Мороз все обледенил. И высокая гора синеватым, прозрачным настом ледяным горит в лучах зимнего солнышка. А с той горы на салазках люди, в одиночку и парами — с визгом девичьим, с покриком молодецким, с хохотом, с весельем, стрелою вниз летят-скатываются, вверх, словно на крыльях, на встречную гору взлетают.
XV
Боярышня поспела домой ровно к полудню, к обедам самым.
Двор вдовы Захарьиной полон каптанок, колымаг, саней крытых. Свои и чужие гости на праздник к радушной боярыне заглянули.
Едва за столы уселись — дворецкий в столовую палату вбежал, запыхался, докладывает громко:
— Его милость дьяк дворцовый, Гаврило сын Петрович, Щенков и приказчик городовой околотку нашего, Белогородского, Афонасий Матвеев, с им же. С великой милостью: с приказом да словом государевым-царевым жалуют… Милости посылает Господь!
Всполошились все гости, поднялись. Хозяйка совсем из-за стола вышла, у самой двери вновь пришедших встречает. Анна, которая тут же была, матери помогала приглашенных чествовать, так и замерла в глубине покоя. К стене прислонилась, чтобы не упасть, потому ноги не держат совсем.
Нянька заметила, к питомице подошла, шепчет:
— Крепись, дитятко, держись, милая. Час воли Божьей приспел. Его воля. Не пужайся.
И шепчет заклятия разные, кругом обдувает девушку, через плечо плюет. Чары, козни духа злого отгоняет от боярышни.
Вошел дьяк, толстый, плотный мужчина, по важности любому боярину не уступит. За ним — приказчик, городовой, вроде как бы пристава полицейского нынешнего. В руках у дьяка — сверток пергамента. Печать восковая царская висит на конце.
— В дому ли я у вдовы честной, у боярыни Иулиании Федоровны Захарьиных-Юрьиных-Кошкиных роду?
— У нее у самой! — ответил почтительно приказчик.
— У меня, у меня, батюшка! Извини, имени-отчества твоего не ведаю, как величать, не знаю, — залепетала растерянная хозяйка, без конца отвешивавшая низкие поклоны желанному гостю.
— Все едино. Ты и есть — она? Слушай же. И все вы слушайте приказ и волю всемилостивейшего и державного государя-царя нашего, произволением Божий. Се есть хартия и указ его царский.
Как гости, так и гостьи все, бывшие тут, опустились на колени, готовясь слушать слово царское.
Откашлянув, дьяк начал густым, сочным баском:
— «От великого князя, царя и государя Ивана Васильевича всея Руси, князям и детям боярским, именитым гостям торговым, прочим иным значным людям. Нарядил я в Китай-город с окрестными посадами, што в его стороне, на пятьдесят и на сто верст кругом, дворецкого нашего, князя Ивана Семеновича Мелецкого, и дьяка дворцового, Гаврюшку Щенка, да с приказчиками городскими и с головами посадскими местными на помочь, штобы тем людям у вас девок-дочерей досматривати — нам невесты.
И как к вам эта наша грамота придет, и у которых у вас будут дочери-девки и вы б с ними часу того же не медлили, ехали-являлись князю Ивану да дьяку Гаврюшке со приказчики и головы.
А дочерей бы у себя девок одинолично не таили, явили б их того же часу, не мешкая. А который из вас дочь-девку у себя утаит и к дворецкому нашему, князю Ивану, а либо к дьяку Гаврюшке не повезет и тем быть от меня в великой опале и казни.
А грамоту пересылать далее меж собой, не издержав ни часу.
Писано от лета мироздания 7055 году, государствия нашего — 13-й, царствия Российского — 1-й. Месяца Януария, 4-го дня».
Прочел дьяк, поцеловал печать, вложил хартию в шелковый плат, как и раньше она была. Встали все с колен, поднялись, последний поклон отвесили. Молчат.
— Вот, значит, слышала, боярыня, вдова честная, Улания Федоровна. Готовь-снаряжай дочку. Заутра же вези в Кремль, в палаты приказные. Благо недалечко. Там князю Ивану Семенычу челом добьешь. Он тебе поведает, што и как. Завтрево ж, гляди, и наверх в палаты теремные, попадете! — ласково, почти искательно заговорил первым дьяк Гаврило Щенок.
Очевидно, или он сам дознался, слышал что-либо о посещениях царя Ивана к Захарьиным, сверху ль, из дворца, ему шепнули словечко, но он, обойдя многих, познатней вдовы-боярыни, тоже с дочерьми проживающих в околотке, прямо отправился к первой к Анне, звать девушку на смотрины царские.
— Челом бью на милости да на ласковом слове! — отвешивая поясной поклон добрым вестовщикам, отвечала боярыня. — Милости прошу откушать, што Бог послал, не поизволите ль, гости желанные, дорогие! В передний угол прошу! Отец Максим, — указывая на попа, сидевшего тут же, продолжала она, — трапезу уже благословил починать. Милости прошу!
— Ну не! Рады бы радостью, да, лих, дела осударские не велят. Праздник нынче. Ошшо много дворов надо обьездить по околотку, спешный указ вить. Вишь, с пером.
Дьяк указал на перо, прикрепленное к одному краю столбчика и означающее, что дело спешное.
— Просить чести можно, домогаться да неволить — не след. Хошь стопку медку али вина, раманеи, чего возжелаете тамо? Уж не обессудьте, выкушайте! Челом бью гостям дорогим. Дочка, наливай, подноси сама за честь великую, за вести радостные.
Анна все еще не пришла в себя от сильного радостного волнения, охватившего ее при появлении дьяка с провожатым. И ждала она, тоскливо, мучительно ждала. Умереть могла, если бы еще неделю не было зова от царя. А теперь чувствовала, что сердце у нее готово разорваться от страха, от волнения и радости. Все эти ощущения вместе сплетались в груди; дыхание перехватывало от них, сердце замирало, почти переставая биться.
Но умереть теперь! Этого Анна не хотела, нет.
Сделав над собой огромное усилие, она налила кубки, установила их на поднос и с легким поклоном, выступая вперед, обратилась к гостям:
— Откушать прошу, гости дорогие! Здравы и радостны будьте на многие лета!
— Много лет здравствовать! — гулко подхватили все сидящие уже на местах гости Захарьиной, которым пришлось неожиданно присутствовать при исключительной минуте в жизни соседки-боярыни.
— Ну, уж коли так, тогда по ряду! Сама изволь чару пригубить спервоначалу, красавица боярышня Анна свет Романовна. Нам дорожку покажи. А тут уж и мы не ошибемся. Твое здоровье станем пить до дна да желать добра.
Еле коснулась губами края кубка Анна, выпрямилась после поклона, передала кубок дьяку и приняла три почтительных поцелуя, которые тот сделал почти на воздух, еле касаясь щек боярышни.
То же повторилось и с приказчиком-городовым. Тот уж совсем растерялся от оказанной ему чести.
Затем, обменявшись бесчисленными поклонами, ушли оба, провожаемые хозяйкой до передних сеней. А дворецкий и в сани усадил вестников воли царской. Да тут же сунул им в ноги несколько свертков и кульков, которые были уже заранее приготовлены.
— Матушка! — шепнула Анна боярыне, когда та вернулась к гостям. — Позволь наверх к себе пройти! Не по себе мне.
— Пройди, пройди, дитятко! Вестимо, не до нас тебе, милая, теперя. Нянька, веди боярышню! А гости дорогие не посетуют.
— Эка, вывезла, хозяюшка! Вестимо, до того ль девице? Господь с ей! Иди, родимая, — отозвалась старуха Туренина.
Все гости тоже поспешили поддержать боярыню.
Отдала поклон поясной всем гостям Анна и вышла из покоя.
А там почти до поздней ночи, вопреки обычному порядку, пир шел горой, веселились соседи, поздравляли боярыню, пророчили ей, что придется вдове дочку царской кикой обряжать.
Раза два-три наведывалась мать к Анне. Та сперва тихо лежала на постели среди быстро набежавших зимних сумерек, потом велела свечу зажечь.
Села на постели, воск топить стала, на тени фигуры разные разглядывать. А нянька-старуха тут же объясняет ей, что означают прихотливые очертания, отбрасываемые слитками восковыми на деревянной, гладко выстроганной стене светлицы.
— Нянька, гляди: часовня! Али шатер надмогильный выходит! — пугливо прижимаясь к старухе, шепчет девушка.
— Часовня? Шатер? Вот, девонька, хошь ты и выросла, а ума не вынесла. Нешто не видишь сама, что выходит? У тебя глазенки-то молодые, а я своими старыми гляделками и то лучше вижу. Свадебный шатер энто, а не могильный. Вишь, мохры по краям. Ленты веют. А сверху и просто венец царский. Вот ен тебе за купол часовенный и кажет. Тьфу, тьфу. Минуй нас всякое горе! Не знавать ни лиха, ни хвори!
И долго слышен шепот девичий и старушечий в простой светлице боярышни Анны, в грядущем — первой жены царя Ивана, Анастасии, как была потом, по обычаю, заново наречена невеста царская.
XVI
Не опомнилась девушка, как уже очутилась во дворце кремлевском.
Первые испытания легко перенесла девушка. Боярин, делавший первый осмотр привезенным девушкам, прикинул к Анне «меру» царскую.
Не так высока ростом Анна. Но тут словно рок или рука чья-то попечительная помогла делу, мать догадалась сапожки надеть дочери такие, чтобы каблучки повыше были, на польский лад.
Боярин-приемщик сам ли был пленен красотой и прелестью лица боярышни, получил ли указания особые, только потребовал, чтобы Анна сбросила обувь. Поставил, измерил.
— Ладно! — говорит. — Вровень с мерою девица. Бабку можно звать!
И тут прошла все осмотры и обгляды Анна.
Высокие, обширные палаты стоят особняком среди всех остальных строений, составляющих женскую половину царского дворца. На каменных сводах, образующих нижнюю галерею, подклеть, сложены сами палаты из бревен тяжелых, крыты тесом, изукрашены резьбой, облеплены крылечками, переходами и галерейками воздушными.
Внутри ряд покоев обширных, чисто, но просто убранных. Лавки широкие по стенам ночью отодвигаются от стены и служат для сна. Днем постели убираются, складываются внизу, в кладовых подклетных. В каждом покое от 10 до 12 девушек помещено, из числа тех, что выдержали первый осмотр. Матери или старухи-родственницы их в этом же здании, в покоях попроще, потеснее, помещаются.
Попала и Анна в одну из обширных горниц «невестной палаты». Не зря девушки и здесь размещены. По «статьям» подобраны. Все принято во внимание. Жених, когда пожелает, может ясно судить и сравнивать, выбирать лучшее. А потом из этого лучшего отберет себе перл желанный, царицу Московскую.
Но раньше, чем придет этот последний судья, еще тяжелый искус предстоит девушкам. Знают об испытании боярышни. Скучные, пригорюнясь иные сидят. А другие, которых больше всего кика царская манит, словно о предстоящем и не думают. В голове одна мысль, в груди одна тревога: удастся ли всех победить, сесть на трон высокий, златокованный?
Анна, бледная, расстроенная, тихо у окна сидит.
Нянька-старуха и боярыня Ульяна Федоровна тут же. — Слышь, доченька! — негромко уговаривает Анну мать. — Да с чего ты в смуту такую пришла? Царская воля.
Анна молчит. Только две слезинки, выжатые стыдом и тоской, выкатились и застыли на ресницах. Вот она совсем вспыхнула, руками лицо закрыла. Слезы чаще стали скатываться сквозь тонкие пальцы рук боярышни.
— А зато, — совсем прильнув к уху дочери, шепчет тихо-тихо боярыня, — вспомни, што ждет тебя радость, счастье какое. Высота и-и какая!.. Я, мать твоя, и то не иначе называть стану свою доченьку, как осударыней-царицей. А про всех иных уж и баять нечево!
Так старалась мать уговорить девушку к «смотринам», чтобы допустила она державного жениха поглядеть на себя во сне «потайно».
Быстро, как во сне мчится время. События следуют одно за другим, так что старые бояре, привыкшие к иному порядку вещей, головами только покачивают, удивляются и бормочут:
— Ну, смотрины! Ну, сбор невест! В две недели дело скрутили! Из дальних волостей, городов и ждать не желает царь. А може, тамта и нашел бы какую себе раскрасавицу. Неспроста оно. Видно, поблизу где облюбовал себе царицу!
А старая бабка Ивана, княгиня Анна Глинских, та совсем покою не знает. 215 девушек, уже отобранных, размещено в терему, в хоромах особой «невестной палаты». При них с матерями, с тетками или иными близкими родственницами больше трехсот старух ютится в покойчиках и покоях того же здания и в соседних избах.
Стол посылать надо обильный, вина, пития разного.
Это бы еще ничего — велики запасы дворцовые, служанок-баб, сенных девушек и работниц хоть пруд пруди.
Иная забота у старухи Глинской. Вызнать хочется: нравом, помимо красоты внешней, каковы они есть, все эти избранницы? Одна из них должна, в конце концов, стать царицей. Не выбрал бы царь такую, что и ему и всем отравит жизнь. А венчанная жена не на день — на век! Придется и локти кусать, да терпеть. И за каждой из 215 постоялок теремных незаметный, но строжайший надзор учрежден. И ночью и днем следят в сотню глаз за временными затворницами все окружающие их приставницы, вся челядь теремная.
Угадывает такой порядок родня избранниц. Каждая старуха свою дочь, или внучку, или племянницу остерегает:
— Блюди себя, милая! Слова лишнего с кем не скажи, словно в церкви стоишь, так все время будь тут… Ежели, даст Господь, в царицы попадешь, отведешь тады душеньку. Не будешь знать ни в чем запрету или отказу… Теперь же и ешь не досыта, и пей вполгубы… Не сказали бы: «Жадна! Сладкого куска не видала… Вкусно не пивала»… И отвратят царя сразу от тебя…
И строго оберегают себя царские невесты. Что бы ни творилось, — вечно они начеку. Нарочно их злят служанки порой: не то дают, не так услуживают. А боярышня, которая дома служанку-рабу до крови била, если не угодит несчастная, здесь на все улыбается с лаской. Прямо ангел во плоти! Между собою и в горнице, и в столовой палате или в часовне, куда они постоянно являются к службе Божией, обходятся любезно, ласково, вежливо. И только обмен пытливыми, острыми взглядами выдает всю затаенную зависть, ненависть, всю вражду их взаимную! Каждая взвешивает и измеряет соперницу. Малейшая бледность, легчайшая складочка под глазами, живой румянец или печать усталости на лице — до последней пушинки, прильнувшей к дорогому наряду, каким щеголяет каждая, — все это подмечается с одного взгляда…
Этим да нарядами пышными только и проявляют все напряжение душевное молодые красавицы, собранные в царских теремах. Наряжаются все подолгу. Меняют наряды часто. Не только каждая привезла с собой лучшие наряды и драгоценности, какие хранились в родовых скрытиях и укладках, — многие даже напрокат, у продавцов набирали украшений, щеголяли в них… Разорялись, в кабалу продавались небогатые родители, чтобы соорудить какой-нибудь дивный, сверкающий охабень или летник, в котором могла бы боярышня всех затмить, царю понравиться.
Отличается от всех подруг одна Анна Кошкина-Захарьина.
И она наряжается, но только покоряясь настояниям матери. И она пытливо вглядывается в каждое молодое, прекрасное лицо, которое ей попадается на пути, какое мелькнет только в покоях заветной палаты. Но не зависть, не честолюбие сжимают грудь девушки. Безотчетно боится она, что увидит Иван так много красавиц, превосходящих Анну и видом, и родом, и богатым нарядом, — и откинет… Иную в жены возьмет.
«И пускай! — тут же решает девушка. — Пускай! Вон Дуня Нагих! Что за раскрасавица! Статна, идет што лебедь плывет. Очи — как жар горят. Бровь темная, соболиная; хошь и не крась! А то еще Орина Горбатых-Суздальских. Веселая такая, здоровая, ясная. Пусть берет, пусть! Да только, — вдруг тоскливо, чуть не вслух добавляет она, — только жалеть они ево не будут, как я. Ни одна на свете так не пожалеет его!»
И Анна Романовна начинает горячо молить Бога: ей бы выпала доля великая — стать женой Ивана, царицей Московской…
После долгой невольной разлуки состоялась наконец встреча ее с царем.
Особенно рано, чуть не до свету, поднялись в тот же день барышни. Знали, что царь пожалует.
Быстро убрали покои. Покрыли скамьи дорогими полавочниками рытого бархата да сукна заморского.
В одном из покоев стул особенный, там с самого начала стоящий в углу, выдвинули на середину, подмостив его немного досками. Весь помост коврами покрыт. Стул мехами и парчой убран.
Место царское приготовлено.
«Гнездами», по 10–12 девушек, как размещены они по комнатам, собрались там боярышни, ждут, пока позовут их.
Насурьмлены, накрашены, набелены все, как водится по обычаю.
Ждет со всеми зова и Анна. Замирает сердце. Дышать тяжело. Если долго ждать придется — не вынесет она. Но случай выручил бедняжку. Их «гнездо» — первым вызвано.
Степенно тронулись боярышни. Сверкают дорогими повязками, шелестят-шуршат нарядами парчовыми да шелковыми. На руках целые облака кисеи расшитой.
Медленно входят парами боярышни. Глаза у всех опущены. У каждой богато расшитая ширинка в руках, в ряд стали, отдали поясной поклон, челом бьют жениху державному.
Подал знак Иван. Старик-боярин, один только и пришедший с царем в покои заветные, заговорил:
— Здорово, боярышни! Откиньте фату, дайте царю видеть лица ваши ясные!
Тут впервые взглянула Анна на Ивана, так и впилась взглядом, забыв, что ей строго-настрого наказано и матерью и нянькой: глаза не пялить на государя. Сердце забилось у боярышни. Побледнел, похудел Иван за то время, что не видались они. Важный, почти строгий сидит в бармах, в блестящем уборе царском, так недавно возложенном на юношу. Словно не тот, не ее Ваня там сидит, а чужой какой-то, но еще более могучий и прекрасный, чем прежде. Таким часто во сне Анна царя видела, наяву — никогда. Просто одетый, веселый, беспечный проводил он часы в саду у вдовы-боярыни с ее дочкой-красавицей.
Ждал ли царь, знал ли вперед, что в этой именно толпе явится перед ним Анна, — только ее взор так скрестился с пытливым взором властелина.
Опустила глаза девушка и замерла. А старик-боярин, спутник Ивана, тоже Иван по имени, сын Иванов, Замятня-Кривой, дальний родич Анны и родня неближняя первой жены царя Василия, Соломониды Сабуровой, по порядку выкликает невест:
— Орина, Ондреева княжна, роду Горбатых-Суздальских…
Выступила вперед четырнадцатилетняя красавица княжна. Мягко, плавно ступает, полный стан слегка колышется. Подошла, склонилась ниц почти у самых ног Ивана. Стоя на коленях, протянула руку с ширинкой затканной и сложила ее у ног Ивана.
По знаку его подняла ширинку боярыня дворцовая, старая, которая «гнездо» привела, а теперь стоит у трона. Сбоку на столе грудой лежат другие кусочки расшитой, жемчугом и золотом украшенной ткани. Все тоже ширинки, тканые и раскрашенные в мастерских царицыных. «Отдаривать» ими царь должен девушек. Взяв со стола платок, он подает его княжне. Приняла боярышня, встала, еще раз поклон отвесила и к сторонке отошла.
— Анна Романова, роду Захарьиных, Юрьиных, Кошкина! — называет опять Замятия.
Робкими шагами приближается Анна. Колышется от изнеможения. Не дойдя на шаг до помоста, упала на колени как подкошенная. Протянула руку вперед, платок свой уронила к ногам царя.
Незаметно, чуть-чуть улыбнулся Иван. Выражение какое-то непривычное, доброе, словно слабый луч во тьме, промелькнуло на бледном, озабоченном его лице. Никто и не заметил этого. Только Анна, не глядя даже, почуяла: словно нить незримая, но живая, между нею и сидящим на троне вдруг протянулась.
Принял он платок Анны из рук старухи и, будто нечаянно, задержал его в руке. Не отложил к стороне, как первый. А другой рукою взял со стола богато расшитую ширинку и, слегка нагнувшись, кинул ее боярышне: далеко опустилась она, не мог он отдать ей в руки своего дара.
Судорожным движением схватила девушка этот лоскуток, с трудом поднялась и тихо-тихо двинулась занять место рядом с Ариной, суздальской княжной…
— Варвара Сицкая!.. — выкликает между тем Замятия.
И идут своим чередом «первые смотры» царские…
Три «гнезда» успел на этот день осмотреть Иван. Назавтра — дальше выбор пошел.
Много еще раз эти смотры повторялись. Многим иным испытаниям в рукоделии, грамоте, в знании божественных правил, хозяйственных и обыденных обычаев подвергнуты были боярышни. Десятки раз наполнялись молодые сердца надеждой и отчаянием…
После каждого «смотра» убывало число избранниц. И через две недели всего 12 невест проживало в трех лучших покоях большого «сборного» терема, недавно такого населенного, полного шумной, многолюдной толпой. Остальные все невесты, царем виденные, но отпущенные по домам, награждены на дорогу богато, смотря по знатности и положению каждой из них. Для двенадцати избранниц последний день пришел, последнее испытание готовится.
Тишина мертвая во дворце. Спят терема царские. Сторожа на стене перекликаются изредка. Двенадцать ударов пробило на башне Фроловских ворот. Гулко несутся удары в морозном воздухе и замирают вдали, в полусумраке лунной зимней ночи.
Жарко, душно в трех опочивальнях избранниц-невест. Шум какой-то послышался в переходах. Все притихло. Без скрипа повернулась дверь на смазанных петлях. Двое людей вошло в опочивальни. Царь впереди, за ним, шагах в двух, почтенный старик, тот же Иван Замятин. Тихо-тихо, словно крадучись, прошли они все покои, оглядывая спящих боярышень. Наутро судьба Анны Захарьиной была порешена.
Все двенадцать невест, пышно разряженные, стояли в ожидании царя, посреди обширного покоя. За каждою стоит мать или иная родственница и старуха-нянька, а то и две, три даже, как у богатой Ольги Годуновой.
Быстро вошел царь, окруженный боярами ближними, блестящей свитой… Сел на трон. Духовник царя, Федор Бармин, прочел молитву.
Встал Иван с трона, пошел вдоль всего ряда трепещущих, взволнованных боярышень. И сам он, очевидно, волнуется глубоко. Почти и не глядит на тех, мимо кого проходит. Раскрашенные, разряженные, укутанные в широкие наряды бабушкины, стоят они, а Иван не то видит. И дрожит у него в руке ширинка, которую он должен вместе с кольцом золотым передать избраннице, будущей царице Московской…
Кому-то достанется ширинка? Вот и мимо Анны тихо прошел царь, и слезами наполнились широко раскрытые глаза девушки. Быстро, незаметно старается она смигнуть эти непрошенные слезы. Второй раз совершает царь свой обход. У матерей, у мамок и нянек лица красные, истомленные. Так и подтолкнула бы каждая царя под руку, чтобы ее боярышне отдал ширинку желанный жених. И шепчут невольно молитвы и заклятия их старческие уста. Молятся и девушки, но про себя, беззвучно совсем… В третий раз двинулся царь вдоль всего ряда. Глядит всем прямо в лица. Вот Ольга Курбская, Евдокия Нагих, Орина Суздальская-Горбатая. Нет! Коли уже на то пошло — он и без венца может приголубить этих красавиц. А вот та, что почти с краю стоит, руки на себя наложит, схиму примет, а без венца даже к нему, к царю, не пойдет, хоть и готова положить за него свою душу.
И решился Иван. Медленно дошел он до Анны. Вдруг протянул руку… Анне Захарьиной платок и кольцо подает.
Общий невольный возглас удивления и боли вырвался у всех остальных. А девушка-счастливица не верит: сон или явь перед ней совершается? Слышит, мать сзади дергает, шепчет:
— Бери, бери скорей. Да в ноги кланяйся. Ох, Господи! Мать Пресвятая, Скоропомощница! Не передумал бы! Бери!..
Слышит голос царя:
— Што же! Тебя волим пояти. Бери ширинку и кольцо наше. И да благословит Господь, в час добрый!
Бармин подошел, осеняет ее крестным знамением. Все ей кланяются…
Поняла наконец девушка. Упала к ногам царя, целует их, плачет, смеется и лепечет:
— Ох., я… Меня… Царь… царь мой…
И снова плачет, и опять смеется.
А кругом гул поздравлений. Поднимают счастливицу. Снова заговорил Иван:
— Вижу, вижу: безмерно рада. Себя не помнит… Уведи ее, матушка-боярыня! Пусть поуспокоится!
И сам уходит из горницы, чтобы скорее могла в себя прийти невеста его избранная. И все поздравляют, пожеланья свои рассыпают перед избранницей. Бледны губы от ярости, полны очи яда, но тем униженней речи, тем льстивее величают ее все подруги, которым перешла дорогу, чьи надежды разрушила эта ничтожная, неприглядная, по их мнению, Анна Захарьина-Кошкина, эта змея хитрая, подколодная.
XVII
В особом терему поселилась теперь Анна Романовна. Недолго пришлось носить девушке имя свое прежнее. Другое, «царское имя» нарекли государыне-царевне: Анастасией назвали невесту государя и венец возложили на нее царский.
Раньше мать и нянька берегли девушку. Теперь вся почти женская родня Захарьиных, кто поближе, переселились в терем новонареченной царевны Анастасии. Берегут ее совсем как в сказке: ветру пахнуть не велят!
Торопится со свадьбой Иван. Масленица, гляди, прикатит широкая. А там и пост Великий скоро. Нельзя будет свадьбу править… На третье февраля назначено венчанье.
Если у кого была еще надежда — сплавить как-либо невесту, так нежданно-негаданно со вдовьего двора да в царские терема попавшую, теперь эти люди совсем опешили, растерялись. Впрочем, и мать царевны Ульяна Федоровна не дремлет… Сын ее Никита, Адашев Алексей, Макарий, Бармин — все, словом, кого успел расположить к предположенному браку старик Захарьин-Юрьев, Михаил, зорко все следят: извне не нанес бы кто удара их делу.
А вдова Захарьина вкруг самой нареченной царицы вьется, от всякой беды сторожит. И недаром. За два дня до свадьбы вдруг тошнить стало девушку. Пришлось о болезни царевны жениху донести. Врача-иноземца Иван немедленно прислал. Тот поглядел, говорит:
— Странная вещь. Все в порядке у государыни-царевны. Может, чего-нибудь несвежего скушала.
— Какое там? Сама все, почитай, здесь готовлю, как и ранней. Здешней стряпни недолюбливаю. Мы с дочкой попросту привыкли…
Повертел головой старик-итальянец, говорит:
— Я декохтум такой пришлю, что его сама княгиня Анна принимает. Он поможет.
Ничего не сказала Ульяна Федоровна. «Декохт» приняла, потом его потихоньку вылила. А царевну свою Анастасию крещенской водой попоила и с уголька спрыснула. К утру все прошло. Только жаловалась боярышня: вкус меди во рту. И еще вспомнила, что из ковша немного квасу отпила накануне. А принесла ей тот квас не мать, не нянька, а чужая какая-то, из дворцовых прислужниц, а кто такая — и вспомнить не может…
— Да как же ты смела! — так и вскинулась на Анастасию мать. — Наказывала я тебе многажды: из наших рук только и пить и есть, не иначе!
— Да не было вас, а я…
— Да хучь бы там што! Вот не смей — и конец. Не то царю пожалуюсь…
Кинулась на шею старухе Анастасия, целует ее, шепчет:
— Матушка, нишкни! Буду слушать. Его, гляди, не тревожь!
На том и помирились обе.
Другая беда накануне самого дня свадьбы была открыта заботливой матерью. И сама старуха поплатилась при этом. Каждый вечер имела обыкновение Ульяна Федоровна оглядеть постель дочери: не подложено ли что да корешков каких куда не сунуто ли ворогами? Хуже чем во вражеском лагере надо быть начеку в теремах. Загубят девушку…
Пока Анастасия на ночь косы переплетала, откинула покрывало вдова-боярыня, с молитвой подушки переложила, перекрестила изголовье и стала ладонью по простыням проводить, разглаживать их, чтобы лежали ровнее. Вдруг что-то кольнуло в ладонь боярыню. Смотрит: сквозь перину длинная острая игла торчит. Да так воткнута, что непременно должна была наколоться царевна, если бы мать раньше не увидала ее, не наткнулась рукой на острие.
Ничего не сказала боярыня. Незаметно вытащила иглу, спрятала ее. Смотрит, на ладони капелька крови выступила. Отерла она кровь, уложила дочь в постель, сама в соседней горнице стала укладываться и все думает:
«Не может быть, штобы нечаянно игла сюда попала. Козни вражьи. Сказать — дело подымется, каша заварится. А наутро и свадьба. Может, того и ждут, штобы как-никак поотложить венец честной. Помолчу. Благо Господь не попустил вреда моей доченьке милой. А вороги не уйдут от казни. Повадился, бают, кувшин — цел не будет».
Так и заснула. Ночью прокинулась от боли в руке, которую наколола. Распухла вся ладонь, посинела.
До утра, до рассвета дотерпела боярыня… Утро терпела. От дочери руку, обернутую платом, все прятала.
Та к венцу снаряжалась: не до руки ей материнской, не заметила.
А к вечеру доктор осмотрел руку боярыни, узнал причину опухоли и говорит:
— Грязная игла, видно, которою уколола ты руку, боярыня! Припарки надо. А там я взрежу — и пройдет… Да где нашла ты иглу-то?
— На полу, батюшка. На полу! Нигде больше! Подняла — да и вот…
— Ай-ай-ай! Какой пустяк и столько хлопот! Грязная игла! Ну, да это не опасно. Поболит немного и пройдет.
Ломит, рвет руку боярыне. А она Бога благодарит.
— Слава Тебе, Господу, Отцу-Вседержителю! Отвел беду от царевны-доченьки. На меня пошло, на мне пусть и кончится!
Весь торжественный день, 3 февраля, боярыня Ульяна Федоровна стойко провела.
Венчанье церковное отстояла, пир отсидела свадебный. Когда уж стала дочь благословлять, когда начали осыпать новобрачных хмелем, золотом, мехами соболиными путь устилали, — заметила тут Анастасия, что у матери рука обернута.
Хотела спросить: «Что с тобой, родимая?» — да не посмела. В эти торжественные минуты лишнего звука, слова молвить нельзя…
Поглядела она только вопросительно на боярыню.
— Пустое! — благословляя дочку-царицу, шепчет мать. — Порезалась малость осколочками.
Успокоилась Анастасия. Вот наконец новобрачные оставили палату, где идет общее веселье. Родич царя, поезжанин самый ближний, конюший свадебный, князь Иван Мстиславский, в сопровождении других ближних к Ивану людей, с гиком, с посвистом, сабли наголо, гарцуют вокруг царского покоя. Ни боярынь ближних, ни челяди докучной нет поблизу. Только в соседнем покое Адашев, спальник и друг царя и царицы, не то дремлет, не то глубоко задумался о чем-то, совсем притих.
Вдруг страшный, жалобный женский крик, дикий крик испуга огласил весь небольшой покой — «сенник брачный».
Адашев, который не раздеваясь протянулся было на лавке в соседней горнице, вскочил, потрясенный, и кинулся к дверям опочивальни. На пороге ее показалась сама Анастасия. Бледная, как смерть, она вся трепетала. Крупная дрожь потрясает тело. Ноги, руки ходуном так и ходят. Зубы стучат. Еле-еле могла проговорить она, хватая за руку Адашева:
— Царь… Ваня… умер… умер царь!..
И тут же свалилась без чувств на ковры.
Не веря ушам, кинулся Адашев к царскому ложу. На нем, вытянувшись, закусив до крови губу, иссиня-бледный, лежал Иван. Но не мертвым, а в обычном своем припадке «черной немочи», которой был подвержен еще с детства, когда бояре мятежные напугали его.
Накрыв Ивана концом убруса, Адашев вернулся к Анастасии, осторожно уложил ее на скамью и стал приводить в чувство.
Иван очнулся раньше жены. Когда Анастасия пришла в себя, муж и Адашев хлопотали вместе, стараясь привести в сознание напуганную царицу.
Увидя, что жена раскрыла глаза и с испугом глядит на него, Иван виновато зашептал:
— Не посетуй, горлинка. Не говорил тебе я раньше. А надоть бы! Недужен, вишь, бываю!.. Обмираю ненадолго…
— Жив?! Ты жив?! — залепетала Анастасия, заливаясь радостными слезами. — Боле ничего и не надобно мне! Жив! Жив!
Часть вторая В НЕПОГОДУ ОСЕННЮЮ
I
Ожили было на время тихие терема Кремлевские. Дрогнули их темные стены от шума, от песен, от гомона, от смеха людского. Неделю почти длилось «веселье», свадебный пир царский. Да и потом еще, когда пост настал, много тихой радости чуялось в стенах «монастыря мирского», терема царицына…
Весела и радостна была новобрачная царица — и кругом, словно отражение лучей солнечных на глади речной, — все были довольны, веселы.
Но недолго это длилось.
Сразу как-то переломилось счастливое настроение в теремах, едва сама Анастасия стала выглядеть такою грустной, растерянной. Изменился ее муж молодой. Раньше все дела забывал ради жены. А теперь — редко и видится с ним Анастасия.
Кто знал, кто и не знал причину перемены, произошедшей с царицей, — все одинаково жалели юную госпожу свою. В самое недолгое время успела царица покорить всех окружающих лаской и кротостью, справедливым и внимательным отношением даже к последней из сенных девушек.
Веселье, гость недолгий, отлетело от теремов. Снова скука, томление и тишина в них царят.
Молитва, труд, еда и сон — вот все, чем наполнена жизнь затворниц теремных, с венчанной их хозяйкой во главе.
Время к полудню близко. Мартовское вешнее солнышко заглядывает в небольшие сводчатые оконца нового «царицына верха» — каменного терема, где помещается Анастасия.
Пяльцы разные стоят у окна. Жемчугом, шелками да золотом вышивает царица покров богатый в убогую церковку Святого Христофора — Песья голова. Обет, данный еще в ту минуту, когда молилась в этом храме боярышня Анна Захарьина, свято выполняет теперь царица Анастасия.
Не одна сидит Анастасия. Боярыня с ней ближняя, тетка ее родная, Пелагея Захарьина, вдова дяди Михаила Юрьича. Грустна царица. Скоро время за стол идти. А Иван дал знать — не ждала бы его. У него столы посольские нынче. Прием большой. Одной придется за стол сесть. Вся трапеза пройдет с молчаливой торжественностью. Тоска какая!..
Уронила иглу, склонилась на руку головой. Глядит за окно широко раскрытыми глазами, которые сейчас еще больше кажутся на исхудалом лице, — и думает, думает без конца царица…
Так задумалась, что не слышит теткиной болтовни. А уже та ли не старается разговорить племянницу-государыню…
— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — раздается за дверью пискливый, резкий голос.
Это придверница очередная. Машка-полудурье, как ее зовут, кривобокая, здоровая, родня няньки Анастасииной, за дверьми произнесла обычную молитву.
Вздрогнула слегка царица от громкого голоса.
— Аминь! Што тебе, Маша?.. — спросила она толстуху, которая неуклюже совершала обычное метание перед «осударыней».
— А слышь, мамонька твоя жалует, осударыня ты моя. Поизволишь ли видеть боярыню, осударыня ты моя?
— Зови, проси! Вестимо! — обрадовалась, заторопилась Анастасия. Поднялась и, следом за ушедшей придверницей, сама пошла навстречу матери.
Низко поклонилась старуха царице-дочке, касаясь рукой до земли. Поясным поклоном ответила ей Анастасия, потом расцеловались обе. Расцеловались, обменявшись поклоном, и старухи между собою.
— Ну, вы тута покалякайте. А я пойду взглянуть, столы готовы ли? Вон, солнышко уж как высоко. Чу? И часы отбивать стали. Без чети полдень. Пойду!..
И тетка вышла, оставя мать с дочерью наедине.
— Где побывала, матушка? — спросила Анастасия, снова усаживаясь за пяльцы у окна.
— В монастыре в Вознесенском. Просвирку за твое здоровье да про зятька-осударя выймала. Вот, осударыня-царица, прими, откушай во здравие!..
И она передала дочери просфору, завернутую в белый плат.
— Благодарствуй, матушка!
Приняла сверток царица и положила его на широкий подоконник, покрытый голубым сукном. А сама снова пригорюнилась, склонила голову на руку, ждет, что мать говорить станет.
— Да што ты, милая? Што с тобой, осударыня-доченька ты моя ненаглядная? Не доходят, видно, молитвы мои горячие до Пречистой, всех скорбящих Заступницы! Не укрощается твоя печаль. И не грех осударю! Он, знаешь ли, милая… я што ошшо узнала про ево. На мальчишник-то што творилось, перед свадьбой перед самой?! И-и, Господи! Мовниками-то в мыльне были: Мстиславский, князь Иван, да брательник царский двоюродный, Володимир Ондрееич, отделенный князь Старицкий. Да Курбский Ондрей, да Суздальский-Горбатый. И верховых мальчугашей набрали туды для услуги. И такой Содом пошел. Один Адашев, Олешка, сказывают, и вина почитай не пил, и всякого греха блюлся. А еще, сказывают…
— Матушка! — негромко, с мольбой произнесла Анастасия.
— Ну, ладно, ладно. Молчу. И то сказать: быль молодцу не укор. Дело было холостое, досвадьбишное. А вот теперя што творится! Почище будет старого…
Дочь уж ничего не сказала. Глядя в окно, она больше прислушивалась к думам да к терзаниям своим, чем к словам боярыни. А та продолжает:
— Слышь, свадьба скоро беспутного Ваньки Мстиславского с красулей, с Ориной Горбатой-Суздальской. Ладно… А кто состряпал свадебку-то? Ведаешь ли? Царь сам, наш батюшка! Вишь, так нахвалил своим подлизням девку, что у князька и зубы разгорелись. Езжали не однова в гости к Горбатому-князю на двор. Тот и перетрусил: для ча ездит царь? Не сам ли целит на Орину? И ошшо помог делу, штобы скорее Мстиславскому дочку сбыть. Там што опосля будет! Мужнина доля, мужнин и стыд. Хошь бы, значит, девичью честь сберечь. Да, стой! — разойдясь вовсю, негромко и торопливо начала выкладывать свои новости дочке боярыня, — што ошшо бают!.. Евдокею-то Нагих не зря отец с маткой в этаку рань, до лета ошшо, из Москвы увезли. В вотчине ноне с маткой оне живут. И отец бы поехал, да царь, вишь, не пускает. Тоже больно хвалил он девку своим беспутным товарищам. «Такая, — баял, — этакая!» И тоже почал туды частить-гостить. Царь, вестимо! Зван-незван — примать надо. Да все Дуню, все дочку ему выводи… Помнишь, с тобой она в одном покое спала тогда…
— Помню… Хороша. Куда лучше меня!.. — слабо откликнулась Анастасия.
— На ей бы и женился. А взял тебя, — так уж дело святое, в церкви петое. Нечево на иных зариться. Там коли он с сенными али с иными паскудами — ну, куды ни шло. Все они, мужевья, што простые, што вельможные… А уж боярышень призаривать стал! А венцу вашему и всего-то без году неделя. Ты б, осударыня-доченька, подбодрилась, постаралась как-никак. Царь не царь — все же ему слово молвить можно. Муж тебе!
— Што я скажу? Што удумаю? Как буйный ветер в поле, так и царь в своей воле! Куды пожелает, туды и летит! — отвечая скорей на свои мысли, чем на слова старухи, заговорила Анастасия. — Захотел он — взял меня. Как орел пичужку малую. Хочет — несет в высь безмерную… Нет — кинет снова туды, вниз, во тьму непроглядную… И то пичужке добро, что носил ее орел могучий. Солнце близко видеть дал. Ветром пахнуло на малую, вольным ветром в поднебесье. Што мне говорить царю? И думать не о чем!
— Так-так… Это мужевьям и на руку, когда жены у них так ладны да складны. Што ни твори, только «прочь» ей не говори!.. Ну, видно, самой придется как-никак за дело браться. Вон хошь и сладко поешь ты, осударыня-дочка, а сама, ровно воск ярый, так и таешь! Што же, любо мне это видеть? На счастье, на радость дочку во царицы вела, а теперя — вот те и два дни! Иная судомойка меньше слез проливает, чем царица-осударыня Московская.
— Не плачу я, матушка!..
— Не лги. Грех. Глаза выдают. Кому скажи, да не матери. Вижу, плачешь али нет! Ну, ладно. Пойду с другого конца. Я к владыке кинусь. Ошшо поглядим!..
И, сжав губы, боярыня умолкла. Это вышло тем более кстати, что пришли с докладом к царице:
— Столы готовы. Благословит ли осударыня за трапезу сести?
И Анастасия с матерью перешли в обширную Столовую палату, где дочь уселась за особый, царский стол, а мать заняла первое место в переднем углу за тем столом, где обедали главнейшие из боярынь, приближенных к Анастасии.
II
В это же самое утро в другом месте шла горячая беседа, в которой часто поминалось имя царя.
Адашев явился к митрополиту Макарию с поручением от царя и застал там Сильвестра. А Захарьин, боярин Михаил Юрьевич, прощался с обоими.
— С чем пожаловал, сыне? — проводя до порога дядю царицы, спросил Макарий Алексея.
— Изготовиться осударь милости просил у тебя, владыко, к веселью князь Ивана Феодоровича. Слышь, в то воскресенье венец примут с Ориною Суздальской. Не терпится.
— Кому? Жениху али свату? — не вытерпев, буркнул Сильвестр не громко, но довольно отчетливо.
С легкой усмешкой кивнул ему Макарий успокоительно головой и обратился к Адашеву:
— Челом бью государю. Скажи: все-де готово у меня, што духовного чину касаемое. Пир-то во дворце, што ли, править будете?
— Должно, во дворце. Сам-то отцом посаженым. По родству своему, по ближнему.
— Породнятся, поди, поближае ошшо! Так што их сам шут веретеном не разнимет! Только бы ведать мне хотелося: князек Мстиславльский ноне ослеп али отроду глуп? Али умней умного, да дураком кажет? Дешевое отдаст, дорогого добудет? Ась?
— Буде, помолчи, отец-протопоп. Придет к тебе на духу каяться, вот ты и поспрошай князя. Авось скажет. Полно тебе стоять-маячить, Алеша. Садись, гость будешь.
— Твой раб верный, отче-владыко!
— Ну, что новенького наверху?
— Вести не глухие, да больно лихие. Звону о нас, поди, через всю Москву хватит и в Торжок попадет. Больно лихо, все не по-Божецки.
— Хе-хе, малый: по-Божецки — у Бога, в раю. А земля юдольная — людям дадена, человекам. Вот мы в ней свои порядки и заводим.
— Не свои, диавольи, — пробурчал опять протопоп.
— Постой, батько! Дай нам потолковать. Мы с тобою досыта ноне все утро грызлися. Дай с пареньком по-милому. Ну, толкуй: што и почем?
— Все в одно, владыко. Страм. Глаза бы не глядели. Сызнова старые прихвостники кадык подымают. Мало што на похоть ведут его, в дела царские-государские мешаются. Правду продают земскую. Тех наместников руку держат, кои им мзду несут, а сами народ грабят. Сызнова кровь полилася. Лобное место отдохнуло малость было. Ноне гляди, как ретиво заработали там молодцы, други сердешные, мастера заплечные. И не все за вину. Боле за правое дело, за честь свою люди гибнут. За то, што богаты, да не тароваты к царевым подлизням. Худо, владыко!..
— Худо, да не очень. Ну, дале!
— Что дальше, то горше. Еще не складней! Захарьины, што молодые, што старые, вестимо, в гору пошли. Родичи царицыны, самые што ни есть ближние. А Глинским да Вельским оно хуже ножа вострого.
— Ну, уж и Захарьины твои хороши. Сладок мед, да дерет рот. Хотели б сами головней всех быть! Да, гляди, дело их не выгорит. Хоша и собираются они выкуривать литовскую родню. Дядевьев царевых.
— Как выкуривать? Што мелешь такое, отец-протопоп? Говори толком! — быстро обратился Макарий к Сильвестру, снова вступившему в беседу.
— Што, жигануло? Вот послушай, владыко. А я толковать стану. Авось не перебьешь теперя. С Бармина все пошло. Давно я за ним примечаю. И довели мне ноне, что не сидит дома попик. По людям все, да к ему люди. Великую поруху Москве учинить, вишь, бояре крамольные ноне удумали. Запалить ее хотят. А там на Глинских беду свалят. Мол, колдуны Глинские, власть-то потеряли прежнюю при царе, при женатом, так Москву палят. Лекарек-старичок есть при бабке при царевой. Жидовин, бают. Ему царь дозволил с Лобного места да из застенка казненных брать. Он на ихних на телесах науку свою лечебную смотрит. Глядит, што где в человеке находится. Захарьиным такая повадка и на руку. Пустят в народе словечко: колдуют-де Глинские! И Москву волжбой пожгли! А сами, може, и смердов подзудят, пустят огоньку на посады. И пойдет потеха…
— Гляди, што и прав ты, отец-протопоп. Как думаешь, Алеша?
— Ох, прав. Глинские-то уж и почуяли. Прочь из Москвы просятся. И я знаю: пожаров Москве не избыть! Шуйские совсем по-старому зашевелились. Новгородцев своих булгачат.
— Сам знает ли? Царю доводил ли?
— Была речь…
— Ну, что же он?
— «Пущай, говорит, на хороший пожар я охоч поглядеть. От посадов поломя до нас, до Кремника, не досягнет. А я вон читал про Неронуса-кесаря. Выжег он сам свой стольный Рим, а потом краше прежнего отстроил. И я погляжу: може, ошшо к руке, што бояре мои палить один одного норовят. Пущай грызут друг дружку, яко скорпии. Бывало, деды мои, говорит, их сами стравливали. А тут мне и без хлопот. И палачам моим меньше забот». Я было про черный народ помянул ему, про земщину. Мол, им хуже всех придется. И без пожаров плохо: холодно, голодно. Москва-река разлиться грозит. Гляди, не осилит народ горя. Ропот зачнется. А он на ответ: «Нам, царям, земщина первый работник и друг. Ее нечего нам боятися». Я уж дале и толковать не стал! А он еще шутит: «Москва-река разольется — огонь зальет. Все выйдет ладно!».
— Толковать не стал? — заворчал укоризненно Сильвестр, пользуясь небольшим молчанием, наступившим после слов Адашева. — То-то и оно-то! Легкодухи вы все! Тако бы отроку и рубнуть с плеча про все его беззакония да про вся скверна душевная! Авось бы очухался.
— Толковал я. Вестимо, с опаскою. Вот как отче-владыко учил.
— С опаскою?! А место ли ей? Тута што опаска, што совсем пришипиться, молчать, все едино. Буен отрок. Безо всякой опаски надобно. Напрямик ломить!
— Так ли, брате? — вступил в речь Макарий. — А ежели закоснел больно отрок? Не то слушать не станет, а сам еще на советчика непрошеного подымется? Как тогда? Ты вот посмел бы такое дело учинить: коня дикого не умом, а силом осилить?
— И посмел бы! Ну, што он? Ну и пусть! Ни много ни мало, гляди, к Герману-святителю, к Зосиме-Савватию зашлет! Вся и кара. Я не мирянин. Што ж, стерплю. Побуду, поживу в обители. Телу тружданье, душе поворот на стезю правую. Во спасение души муки-то телесные. Я и спасуся! Я…
— Э, все о себе ты да о душе своей! Толк-то какой? Толк будет ли для царства?
— Единое царство ведаю: небесное! Пастырь ты, так овцу заблудшую направь. Сказать все должен как по правилу, вот и вся недолга!
— По правилу? Неправильный человек ты, протопоп, со всяческим своим правилом! Мы вот о земле обо всей, о людях смекаем. О смягчении души царской сокрушаемся. А ты со своим строченым правилом! Заладила сорока Якова. Знаешь ли?
— Знаю, знаю. Сдается: не дождаться нам добрых деньков! Как ни вертися, все одно и выходит! Припомни, владыко, мерекали мы с тобою, отрок-то, боярами запуганный, поруганный, в силу придет, отшатнется от них, от блудного житья ихнего! А он ошшо и вперед ушел! О земле обо всей не помнит. По слову Божию жить и не думает.
— Погоди, баю…
— Долго ли ждать, владыко? Десятки годов годили. Деда перегодили. Ивана Васильевича Третьяка. Отца, Василь Иваныча, избыли. Ноне внучка, другого Иван Васильича, Господь дал. И все то же на то же. Годим ошшо!
— И погоди. Не так уж мы с тобой больно стары да увечны. Дождемся чего. Как думаешь, Алеша? Ты чего не скажешь ли? Совету не дашь ли?
— Невместно мне отцу-владыке советы мои глупые тебе советовать. Думы свои скажу, как они во мне есть.
— Ну, думой поделись, ежели так тебе способнее.
— А дума моя такая: горяч больно наш государь. Душа в ем, что смола в котле, так и кипит! А делов-то мало! И бояре старые на первых местах торчат, свое гнут. Да и какое дело юному царю в мирной поре? Вот и скачет он. Народ давит. Бои потешные налаживает. Бог весть што творит порой.
— Так, так… Далей!
— Вести ноне пришли добрые: на татар на казанских беда налетела! Царь ихний, Сафай-Гирей, помирает, гляди. Наследник по ем, Утямишка-царенок, трех годов ему нет! Не миновать нам под Казанью зимовать, юрт ихний, мусульманский, отымать. Вот царь и позаймется. Кинет игры земские, негожие. Татар давить-рубить станет, ихних татарок наберет, своих трогать, гляди, не станет! Вот…
— Ладно-то оно ладно, да не совсем. Как скажешь, протопоп?
— И сказать нечего! Завоюет юрт — нам и житья от него не станет! «Мы-ста да мы-ста! Полон полонили!» Гляди, нам опосля хуже, чем татарам, придется! Мое слово — всегда одно и едино: ныне же его, часу не медля, добре под начал забрать надобно.
— Пожалуй, и ты прав. И хотел я вам…
Но Макарий не договорил.
— Господи Иисусе Христе… — вдруг раздался какой-то глухой, загробный голос за дверью покоя, где сидели друзья.
Словно из подземелья глубокого шел этот голос. И затем, сейчас же, откуда-то с высоты, совсем издалека, другой, воздушный, звонкий голос докончил обычное входное прошение.
— Сыне Божий, по-ми-луй ны! — совсем замирая в высоте, пронеслись последние звуки.
Макарий улыбнулся. Адашев вздрогнул. Сильвестр торопливо закрестился, зашептал молитву и стал боязливо озираться.
— Господи, помилуй! Наваждение, што ли? Быть не может. Помянуто имя Божие. Што за глас такой?
— Сейчас увидишь. Аминь! — обращаясь к дверям, очень громко крикнул Макарий.
Дверь раскрылась. Вошел человек небольшого роста, коренастый, широкоплечий, очень смуглый. На голове ежом торчали густые, черные как смоль волосы. Небольшая вьющаяся черная бородка и торчащие усы дополняли облик Петруса Денаро, итальянца, одного из переводчиков, каких много состояло при митрополите.
Для затеянного Макарием составления книги Четьи-Минеи необходимы были люди, способные переводить на русский язык западные источники о жизни святых.
Отдав поклоны хозяину и его гостям, которых, очевидно, знал, Петрус скромно остановился у дверей, держа в руках какой-то четырехугольный предмет, покрытый темным сукном.
— Принес? Наладил? — так же громко, как обыкновенно говорят с людьми немного глухими, произнес Макарий. — Видал ли, протопоп, мово толковника первого? Глуховат малость, а золото, не человек!
— Занятный фрязин! — вглядываясь в иностранца, отвечал Сильвестр. — Звать-то его как?
— Петрус Динара.
Итальянец, меж тем отвечая на громкий вопрос владыки, кланяясь, заговорил тоже очень громко и довольно понятно по-русски, пересыпая чужой говор словами родной речи:
— Да, да, Padre sanctissimo! Принос, принос. Гатов, гатов… Сичас, одна минута…
И с обезьяньей быстротой, даже с ужимками, напоминавшими это животное, Петрус стал разворачивать свой ящик и устанавливать его на одном из столов комнаты против гладкой стены.
— Штой-то, не колдовать ли басурман сбирается? — тревожно спросил Сильвестр.
— Помолчи, батько. Увидишь сам. Худа не будет.
— Да скажи, владыко: он это за дверьми на разные, чудные голоса голосил?
— Он самый.
— Ну, и дар даровал Господь немчину! — разводя руками, сказал Сильвестр.
Адашев, очевидно зная, что готовится, помогал итальянцу. Сам родом из «сурожан», Алексей, как и отец его, Данило, немного понимал и говорил по-итальянски. В это время, уловив знак владыки, который подмигнул толмачу сначала на Сильвестра, а потом указал на горло, Петрус, не отрываясь от дела, не раскрывая губ, стал опять чревовещать. Совсем за спиной у Сильвестра прогремел зычный голос, словно из стены:
— Кайся!
Так и вскочил протопоп.
Бледный, задрожавший внезапно, стал он оглядываться боязливо, увидал улыбку Макария, заметил, как Адашев тоже еле сдерживает смех.
— Господи, прости прегрешения наши! Энто все он же? Да зычно, да чисто, да речисто каково по-нашему! Первый раз и слышу такого штукаря. Скоромох ловкий!
— Так он и был скоромохом у себя. Много земель объехал. У англичан долго живал. По-ихнему знает. Взманили фрязина: мол, Москва богата и таровата. Он к нам и закинулся. На мою долю Господь его послал. Все что надобно перетолковать умеет с ихнего языка. И с аглицкого. А в ину минуту так и потешит, позабавит, што сам хохочу, хоша и не из веселых я.
— А што энто мастерит твой Петрус? Ишь, и ставни прикрыли. Свечи засветили. Ночь совсем в покоях сотворил, пройдоха.
— Увидишь скоро. Только гляди не полошись. Не колдовство — искусство людское сейчас будет нам явлено.
— При тебе, владыко, чего опасаться. А инако я один на один с энтим штукарем в охотку не остался б.
— Ну, гляди. Садись вот тута!
Сел хозяин и гостя с собой рядом усадил. Адашев к ним приблизился. Стоит за спиной у владыки.
Петрус в это время, установив свой ящик, зажег там небольшую масляную лампу с серебряным отражателем. Затем подошел к стене, против которой установил аппарат, снял со стены небольшой коврик, там висевший. Гладкая, светлая, обнаженная стена, выкрашенная розовой краской, была озарена огнем одного трехсвечника. Мимоходом Петрус погасил и этот трехсвечник. Теперь только сияла в комнате лампа, принесенная фрязином.
Вдруг — и ее не стало. Она куда-то была убрана.
Совершенная тьма воцарилась в покое. И на стене, против ящика итальянца, виднелся бледный круг света.
— Штой-то он учнет делать? — невольным шепотом спросил Сильвестр.
— Помолчи, батько! Потерпи. Сейчас увидишь! Все уразумеешь!
В то же мгновение светлый круг засиял очень ярко, увеличился. В нем образовались очертания не то человека, не то духа какого-то.
— Я волжбу твару. Я — графа Эндора! — зазвучал замогильный, скрипучий голос совсем, совсем оттуда, где явился призрак.
— Саул ко мне идет… Судьба повелителя ждет…
Мелькнуло что-то в светлом круге перед глазами пораженного Сильвестра.
Петрус совершил перемену стекол в своем аппарате — первобытном волшебном фонаре — и уж две фигуры видны на стене. Царь Саул вопрошает грубым, властным голосом:
— Гавари, старух: какой мой судьба?
— Не я скажет… Скажет тень Самуило! — скрипит волшебница.
Новое мелькание. Тень какая-то замогильная в белом саване вырастает, парит в воздухе перед Саулом и произносит заглушённым, нездешним голосом:
— Час настал. Кайся!
— Фу-ты, Осподи! — вздрогнув, опять всполошился Сильвестр. — Ведь уже вижу, што не чары, просто игра энто хитрая. А жуть берет. Буде, владыко! Свету бы! Испарина индо прошибла от страху.
— Буде! — очень громко приказал Петрусу Макарий.
Адашев быстро раскрыл ставень, впустил лучи солнца в покой. Фрязин стал собирать свой ящик.
— Поставь его вон к сторонке! — распорядился Макарий. — А я тебе и новых стеклышек с образками наготовлю. Ноне посвободнее время у меня. Гисторию-то Макбетуса-короля истолковал ли мне с аглицкого? А?
— Да, да. Тражедиа есть готов. Я буду читай, када прикажит.
— Ладно, опосля. Ступай с Христом! — И снова осенив крестным знамением набожного итальянца, он отпустил его.
— А ты што так призадумался, отец-протопоп? Али штуки энтаго фрязина таково тебя за сердце взяли?
— Захватили, забрали, что греха таить, отче-владыко. Да, как энто он? Хто готовит ему образа? Как просиять они так могут, что на стене видны? Не посетуй, толком скажи, владыко.
— Скажу. Труд невелик. Стекла цветные видал ли в оконницах?
— Видал в немецкой слободе. У аптекаря. И в моленной ихней. Стой. Там на одном стекле — святой ихний был. Солнцем как ударило — он на стене на белом так и вышел. И здеся, видно, тако же?
— Так само. Угадал, батько. Знаешь: малость и мне дару Божьего дадено. Умею малость лик начертать человеческий. Случалось и образа обряживать.
— Не малость, владыко! Велик дар тебе Бог вложил в душу.
— Ну, пускай. Вот как меня Петрус наставил, гляди: беру я скло. Краску такую разведу, тонкую, не густую. Словно бы слюда, прозрачную, особливо как подсохнет. И рисую. Вот Саула с Самуилом. А то и иное што можно. Народ попугать! Ха-ха…
— Не то пугать, совсем можно страху на душу навести. Вот бы…
— Што, осекся? Толкуй далей…
— Вот бы… — оглядевшись, тихо заговорил Сильвестр, — отрока — буя нашего, царя юного. При каком-нибудь часе таком, способном. Ему бы показать муки адские и пригрозить. Авось опамятуется? По-Божьему жить учнет?
Макарий, который к этому и клонил разговор все время, быстро закивал головой.
— Ну и умен ты, батько! Ловко измыслил. Как только подстроите вы? А я бы вам и начертал стеклышки пострашнее, и Петруса мово научил бы вам помочь.
— Во, во!.. Я о нем и думал. Мы бы с Алешой могли ночной порою время улучить? Как мыслишь, Алеша? Отвадили бы отрока надолго от греха?! А?
— Пожалуй! — живо отозвался Алексей.
— Ну, так давай, обсудим все по ряду! — довольным тоном заговорил Макарий. — Я рад доброму делу помочь.
И, усевшись поближе друг к другу, они стали обсуждать план дальнейших действий, с целью — исправить отрока-государя, наставить его на путь истинный.
III
Если не пророки, так верные отгадчики были все три друга, толковавшие о царе и о делах московских в келье митрополичьей.
Пожары за пожарами скоро начались в подмосковных посадах. То один, то другой порядок домов так и загорится-запылает весь.
Началась пожога с 12 апреля. В Занеглименье — в Белом городу — чуть ли не шесть-семь сотен домов так и выкосило. 20-го повторилась беда.
Бояре приказали ловить поджигателей, зная, что таков уж обычай на Москве: из мести врагу красного петуха пускать.
Изловили нескольких холопей; среди них одного из числа кабальных князя Глинского, Юрия.
Захарьины свою линию ведут, раздувают дело, толки сеют тревожные. А народ свое толкует между прочим: за грех бояр Господь покарал!
Кроме пожаров мор посетил Москву. Сперва как и ждали того, Москва-река разлилась весною очень сильно. Не только множество скота потонуло в прибрежных посадах, но и людские трупы остались лежать в тине, на берегу, когда отхлынул весенний паводок.
Гнить все стало. Убирать трупы некому. Вот и мор.
Забубнил простой народ, зашушукал по избам.
— За грехи Господь карает! Да не за земские. Сам-то осударь наш отрок дюже зазорно живет, неугодно для Оспода! Не то по полям с хортами, по селу, по деревне порой скачет, народ православный давит, словно бы бусурмане то были, вороги некрещеные! Неладно, ой неладно! Не бояре думные, не отцы духовные ноне — бражники, скоморохи да гусельники первые люди в царских теремах…
Так толковал народ.
Ивану доносили об этом. Но он только презрительно пожимал плечами, полагая, что советники-бояре его запугать хотят.
Уходя подальше от зачумленной мором Москвы, выехал царь на лето в село свое Островское. Там кроме бражничанья — и пытками, забавами дикими потешал себя властелин.
Анастасия в это время как раз почуяла, что новая жизнь забилась у нее под сердцем, и старалась только укрыться на своей половине подальше да получше, чтобы не долетали сюда отзвуки дикого веселья царского.
Тосковала, плакала юная женщина, но сама же старалась осилить свою скорбь, развеять ее и все шептала про себя:
— Дитятко мое нероженое! За что его печаловать я буду? Уж сама снесу лучше. Все стерплю!
И только улыбалась на все сквозь слезы.
Знал это Макарий и чаще да больше задумываться стал.
4 июня 1547 года, уж под вечер, примчался на митрополичий двор гонец какой-то из села Островского. Конь в пене, дрожит, шатается… Видно, все 10–12 верст сломя голову мчал. Всадник в пыли, говорить не может, так горло и губы пересохли.
Подал служке столбчик невелик, запечатанный и прохрипел:
— От спальника. От Адашева. Самому отцу… митро… митрополиту… скореича!
Как только прочел Макарий записку Адашева, так и вскочил, кликнул:
— Отца Пафнутия! Поживей ко мне!..
Ключарь отец Пафнутий явился через пять-шесть минут, выслушал, что на ухо приказал ему Макарий, и чуть не бегом кинулся через площадь, прямо к шатрообразной звоннице Ивановской, где главные колокола соборные темнеют смутными своими очертаниями в пролетах деревянного сруба, среди наступающих сумерек.
— Слышь, Сема! — обратился тут же Макарий к любимому своему послушнику. — Беги на людской двор, вели что ни есть у нас самого быстрого коня седлать. Да пусть Федька… он скачет лихо… Пускай изготовится в единый миг! Я ему грамотку к царю дам. Беда прилучилась. Сейчас отец Пафнутий мне сказал, что главный колокол, Благовестник нарицаемый, сорвался и на помост упал. Не к добру тот знак!
Помчался юный монашек. Через каких-нибудь пять минут гонец скакал с посланием митрополита в село Островское.
Когда выезжал гонец из Куретных ворот, в ту самую минуту на Ивановской площади народ быстро стал собираться перед звонницей.
Грохот какой-то там раздался. Звон гулкий, хотя и заглушённый пошел. Словно чья-то грудь гигантская издала стон жалобный, рыдание короткое.
Бледный выбежал из-под звонницы ключарь Пафнутий и объявил:
— Бяды, братия! Благовестник сорвался. Вниз так и грохнул. Не к добру…
— К худу, к худу! — зарокотала толпа.
— Што и говорить: худо будет. Хоша бы боле уж и некуды!
А Макарий, перечитывая записку Адашева, шептал:
— Поспеет ли? Господи, поспел бы…
На куске хартии так стояло, наскоро написанное Адашевым: «Близко часу — стал пытать псковичей-челобитчиков, подученный на такое дело Глинскими. Поспеши сам ли сюды али как останови бесчинство. И горе и позор будет, коли запытает невинных, мало не сотню душ. Столбчик мой энтот в огонь кинуть не позабудь, отче-владыко!».
Подписи нет. Знает Макарий руку Адашева. Знает и псковичей, которые по его же, владычному совету, косвенно данному, отправились к царю жаловаться на зверя-наместника псковского, на князя Пронского-Турунтая, поставленного на воеводство Глинскими и явно грабящего народ.
Вовремя поспел гонец митрополита. Огнем стал уж прижигать несчастных жалобщиков озверелый Иван. Да еще глумится над бедняками:
— Божий вам суд творю. Вынесете огонь — по вашему челобитью сделаю, удалю Турунтая!
Узнав плохую весть о падении колокола, Иван все бросил, даже Анастасию не дождался, в Москву кинулся — и псковичи были спасены.
IV
Угроза свыше, за какую сочли все случай с падением Благовестника, не надолго образумила Ивана.
Двадцатого июня 1547 года, взволнованная, бледная, встретила вечером, в Столовой палате, царица Анастасия юного семнадцатилетнего супруга и царя, который всего-то годом старше жены.
Бледна за последнее время Анастасия, потому что «непраздна» ходит.
Вот уже около пяти месяцев, как толкуют ей прислужницы старые и сама боярыня-матушка, Иулания Захарьина-Кошкина, — новая жизнь зародилась под сердцем у этого полуребенка, у молодой царицы Московской…
Но сегодня особенно плохо выглядит царица, едва на ногах стоит, с трудом мужу поклон отдала, когда появился он к вечернему столу, после целого дня разлуки.
У Ивана тоже какая-то забота видна. Но все-таки он внимательно вглядывается в жену, видит, что плохо ей.
— Каков добр-здоров ли нынче, дал Господь, государь? — после поклона задает обычный вопрос Анастасия. — Гляди, с самого утра и не повидала я тебя, соколика ясного! — негромко примолвливает она, стесняясь присутствия своих боярынь и Челяднина с двоюродным братом ее, Григорием Юрьичем, которые провожают за трапезу царя.
— Живем, ничего, Бог милует! — также сдержанно, по обычаю, ответил Иван, садясь за стол и знаком отпуская провожатых.
Семейная трапеза у молодых супругов. Мать Анастасии только и могла бы принять здесь участие, но старухе что-то неможется.
Отдохнуть от московской жары и шума отьехала она на недельку-другую в свою вотчину подмосковную.
А бабка царя, княгиня Анна Глинская, с одним из сыновей, с Михаилом Васильевичем, — тоже в отъезде. Во Ржев заблаговременно уехали, как только на Москве пожары и волнения народные пошли, как только слухи забродили, что Глинских собирается чернь пощупать, за многие обиды счеты свои с надменными князьями свести…
— Как день продневал, государь? — уже смелее, теплее и проще спросила Анастасия, когда ее боярыни, крайчая и столовая, начали суетиться с подачей блюд и напитков.
— Как? Ино — никак. А другу половину — по-старому. К заутрене — у праздника… Левкия нынче, помнишь ли?
— Глядела в святцы, Ванюшка.
— Ну, в думе дела. С Казанью — войной пахнет. Да, ради воскресного дня, выход был из собору. А там посольские часы. Нейстрийский император, гляди, еще даров наслал. Нужда ему, видно, в нас какая приспела… Даром немец не раскошелится.
— Вестимо!
— Дары не то штоб дюже богаты. А занятные. Кузнь тонкая, хитрая, веницейская работа. Воинские снаряды. И для тебя кой-што. Заутра принесут покажут. И еще птиц заморских да обезьянов наслал. Мало их, што ль, у нас? Ну, да сказано: дареному коню… Да, слышь… Гляжу я: што с тобой, Натушка? И есть не ешь, почитай. И глядишь не по-хорошему? Али это твое… Ну, знаешь… так скрутило тебя?..
— Нет, государь! Нет, Ванюшка. Дело такое. Дело наше женское. Божья воля. А правда твоя: истомно мне. Больно уж вести худые пошли.
— Вести? А хто вестует? Кто смел? Склыки, поди. Наговоры дурацкие! Так ты и не слушай и веры не давай, а нистолечко! Што уж мне, и повеселить души нельзя? Што я, на помочах у кого ходить стану?! Да я тех вестовщиков…
Весь багровый от приступа гнева, Иван с угрозой сжал в кулак холеные, белые пальцы своей небольшой, но полной и сильной руки.
Княгиня Алена Волконская, боярыня Варвара Смерд-Плещеева и Оксинья Губина, служившие за столом, мгновенно куда-то так и исчезли, чтобы не попасть Ивану на глаза в первую минуту внезапно налетевшей грозы.
— Штой-то ты, Ванюшка, родименький! — робко, ласково залепетала царица. — Нешто б я могла? Буде оно и так, как ты мыслишь, государь. Твое государское дело. Мне ли сетовать? Раба я твоя была искони, рабою буду. Как и посейчас. Мое ли дело, как ты сердечушко тешишь свое, чем забавляешь свое величество? Нет, про иное я… Недоброе для тебя, нехорошее.
Не столько смиренная речь или слова жены, сколько звуки самого голоса ее, рокочущие, нежные, проникающие ему в сердце, так же быстро утушили гнев царя, как неожиданно вспыхнула молния.
— Ладно уж. Не прихиляйся. Раба не раба. Жена все ж таки… Царица моя богоданная. И, вестимо, ежели наскажут злыдни про меня какую небылицу, все ж тебе не по сердцу. Ну а ежели я ошибся, оно и лучше. Сказывай: чем нынче пришибли тебя, что и голосу у тебя словно не стало?
— Напужалась я, правда твоя, Ванюшка! Лихие люди, сказывают, грозятся Москву спалить. И нашим-де теремам писаным, златоверхим не устоять. Да бают, на твое царское здоровье удумали. Да и вовсе новых царей себе норовят. Из Литвы будто. Да…
Угрюмо слушал жену юноша, почти совсем закрыв глаза, нажимая лбом на левую руку, еще не разжавшую кулака. Пальцами правой руки, словно отбивая такт речам царицы, он ударял по столешнице.
— Ну, ладно! Достальное сам ведаю. Ишь, и до тебя шуревья добрались. И тебе душу замутили. Мало им, видать, меня одного! К сестре-царице подбираются. Да ты не маленька. Али не разумеешь: пря идет между братанами и дядьями твоими с моими дядевьями и бабкою. Один другому поперек пути што кость поперек горла стали. Горла-то у них на што широки, а один другого не проглотнут никак. Да и вместе жить не удосужатся. Ладно же. Пускай грызутся! Не время мое еще. Не приспело оно. А готовлю я кнуты на их на всех.
— Ванюшка, неужто и братовья меня морочить взялися? И все неправда, чем грозили?
— Правда, да не истинная. Може, пожары да запалы все те, каки были, каки еще будут, и ихних рук не миновали. Може, в самделе, литовцы-родичи меня спихнуть мыслят? Пожди, все узнаем!
— Узнай, узнай, миленький! И хто виновен. Не то брат мне, матушка будь родная — словечка не скажу! Казни и милуй, как сам поволишь, по заслуге. Да не мысли про меня плохо, касатик. Што умыслы во мне какие лукавые?.. Нет, касатик! Только за тебя и печалуюсь. Тебя беречи хочу.
— Знаю, милая. Вижу, кралюшка! — нежно привлекая к себе взволнованную, порозовевшую жену, совсем иным, непривычным ему тоном заговорил Иван. — Все я вижу. А разумею много иное, чего думным дьякам да боярам моим седобородым да попам долгогривым и в лоб не влетывало. И в книгах, в хартиях старых много читывал… И бабка Анна, поди, больше половины века за русской да за литовской гранью прожила. С дедом покойным Васильем да с дядей же Михаилом при разных дворах у владык и маэстатов эуропских побывала. И у немцев. А того пуще — у италийских государей. Знаешь, из тех земель и у меня есть не один фрязин: и зодчие и кузнь куют золотую, серебряную и всякую.
— Знаю, Ваня. Вот, поди, там хорошо живется, а?
— Не чета нашему!
— А города-посады какие? Не леса вон как наши тамо кругом, а сады-огороды, да с цветами да с травами. Вон как на листах у тебя показано?
— Вот, вот. Видела?
— Видела. Не скоро еще Москве такой быть! — с сожалением заметила Анастасия.
— Пожди, может, будет! Станут бояре друг дружку палить, а я прикажу не то в Кремле, а и на ближних посадах только каменны да черепичны церкви да палаты складывать. А бревенчатых ни-ни!
— Ванюшка, богатеи построются. А беднота как же? Ей нечем и избу вывести, коли старая сгорит. Оно бы куда ладно: град украсить. Да бедноты жаль! Гляди, с голоду еще подымутся, как оно бывало. Боюсь я за тебя.
— Меня бойся. А за меня Бог стоит! Из пелен младенца он возвел меня к трону. Из злокозненной стаи бояр моих, словно из пещи огненной, извел и возвеличил, пока слаба была и шуйца и десница моя. Так ноне, когда уж держу бразды царства. Худо ли, право ли, а крепко держу! Теперь я ни бояр, ни черни не страшуся. Так ли, сяк ли я буду над ими владыко, не они надо мной. И век мой не теперь кончится. И мужи святые, и волхвы демонские одно мне толкуют: долго и велико будет царенье мое. Так я же понемногу и поверну все, как мне самому манится. Покудова пускай еще мнят о себе. Пусть потешаются, коли я ино слово и по-ихнему творю. Одного не видят: я — в гору, они — к долу! Так есть, иначе и быть тому нельзя!
Раскрыла широко глаза царица, глядит: словно преобразился ее Ваня, ее царь ненаглядный. Усталое, бледное лицо порозовело, глаза сверкают. Он откинулся на лавке, прислонился к стене, словно в палате послов принимает — величавый, сияющий. И молодое лицо с легким вьющимся пушком на бороде, с мягкими юношескими усиками кажется теперь таким значительным, важным, но без обычной строгости.
Приоткрытые розовые губки Анастасии, ее широко раскрытые глаза полны такой любовью, восторгом и нежностью, что невольно Иван, теперь замолкнувший, посмотрел на жену, улыбнулся сперва, а там и совсем расхохотался веселым, звонким, прежним своим, привычным хохотом.
— Ах ты, гусыня!.. Што загляделась? Давно не видала? Не признала, поди?
Совсем смутилась, вспыхнула, застыдясь, царица. Закрыла лицо руками, кинулась к мужу и, заметя его руку недалеко от своего лица, тихо коснулась ее пересохшими, трепещущими губами.
Какое-то детское, радостное, удивительно доброе выражение озарило все лицо угрюмого обыкновенно юноши.
Ласковым жестом, напоминающим отца, когда тот обнимает своего ребенка, приподнял царь жену и негромко, словно бы даже укоризненно, заговорил:
— Эй, Настек! Не забывай: не праздна ты, девонька! Не очень тормошись. Гляди, полпята месяца не пройдет. Наследника мне принести должна. Царевича богоданного, первенького, любименького. Так уж ты…
Совсем растерялась Анастасия, едва лепечет:
— Да я… Да штой-то ты? Я уж знаю… Ничего и не думаю, берегусь, Бог видит. А только очень уж жаль мне тебя, миленькой ты мой… Дорогой ты… родименькой… А я — нет. Я ничего. Пуще глазу и себя берегу, и его, нерожоного, желанного.
И совсем прижалась к мужу, слушая чутко, как порывисто бьется его горячее непокойное сердце. А он даже дыхание затаить старается, чтобы заглушить порывистую работу этого сердца.
V
22 июня, в полночь с понедельника на вторник, порывистый северо-западный ветер забушевал над спящим темным городом, над белокаменной Москвой, над ее деревянными, чернеющими в полумгле посадами и ближними выселками пригородными.
Из-за дальних лесов, от Миус, налетали порывы урагана, и все чаще, все сильнее.
Вихри вздымали глубокую пыль столбом на дорогах, на площадях, в переулках и улицах, везде, где обнаженная земля, давно не видавшая влаги, была истоптана, изьезжена, обращена в прах колесами, копытами конскими и людскими ногами.
Шумели и гнулись деревья в густых садах, раскинутых почти при каждом дворе в самой Москве, не говоря уже о посадах.
Гудели, словно спросонья, слабо откликаясь на удары ветра, колокола церквей, по большей части висящие в небольших открытых шатрах — навесах рядом с церквами.
Шуршат соломенные крыши на бедных избах, стучит и потрескивает драница на крышах богатых домов. Стучат, раскачиваясь, ветви в небольшие оконца, обращенные по большей части во двор или в сад.
Жутко москвичам. Давно такой бури не бывало. И еще хоть бы дождь при этом. Ждут люди дождичка. Но небо почти ясно. Показались на краю ночного неба длинные нити передовых облаков. Быстро несутся они, приближаются, проносятся легкой сетью, но не скипаются, не хотят склубиться в одну черную, сплошную тучу грозовую, дожденосную.
И зарницы сильные ярко сверкают вдалеке. Но грому почти не слыхать. Так, чуть рокочет где-то вдалеке… Сухая гроза, как говорится.
И не спят многие, особенно женщины. Свечи у икон зажгли, поднялись, молятся… Дети малые, словно предчувствуя какую-то беду, тоже неспокойны. Где тревожатся, мечутся во сне, а где и вовсе встали, поднялись, мать будят плачем или к матери, уже не спящей, вставшей на молитву, так и жмутся, так и тянутся.
— Господи, помилуй, спаси младенчиков! — с особенно горячей мольбою начинают тогда шептать материнские уста.
На улицах нигде души живой не видно. Даже бездомные собаки, бродящие ночью на поисках за добычей, и те попрятались куда-то.
Воздух весь, как и бывает перед грозой, сухой, густой какой-то. Налетит могучий порыв ветра и принесет все-таки с тучами пыли запах лесов, полей.
Умчался вихрь — и нечем дышать. Земля, пропитанная смрадными соками двухсоттысячного поселка людского, теперь словно обратно выдыхает миазмы, поглощенные ею. Это тяжелое, сухое дыхание невыносимо для человеческой груди.
И в домах тяжело дышать, и на просторе. Но никого не видно в переулках и на площадях. У кружал, у притонов, где порою всю ночь копошатся какие-то шалые тени, сейчас нет никого.
За Неглинкой-рекой, словно сказочные, шестирукие великаны, вытянули на высоте свои крылья черные ряды мельниц.
Иные из них неистово машут этими руками. Другие повернуты, отставлены от ветра, но закрепленные крылья все-таки шевелятся, выгибаются, поскрипывают так жалобно, так таинственно.
Во многих местах города и на посадах рогатками улицы забраны. У рогаток обыкновенно стража стоит. Смотрят, если кто по нужде идет или едет ночью, опрашивают каждого, опознают.
Сейчас и у рогаток пусто, безлюдно. Сторожа попрятались по хибаркам, устроенным для них где-нибудь неподалеку. Только иной бердыш свой оставил вместо себя на страже у переезда, у рогатки, на пустынной, темной улице.
Время уж близко к рассвету. Хоть грозовыми тучами все небо обложено — тусклый, слабый свет, предвещающий приближение утра, разливается над Москвой.
У небольшой, старенькой церковки во имя Воздвиженья Честного Креста, что на Арбате, почти на краю базарной площади, показались два человека, судя по одежде, кабальные холопи боярские.
Хотя и попутный им ветер налетает из-за домов, вырывается из горловин, какими глядят на грязную площадь окружающие ее улицы и переулки с тупиками, но порывы вихря так сильны, что приходится большое напряжение делать порой, только бы не свалиться, удержаться на ногах.
— Слышь, Будилка! — негромко обратился один из холопей к товарищу, приземистому, кряжистому новгородцу. — Коли зачинать, так оно само пора. Скоро и рассвенет, люди вставать почнут. Гляди, врюхаемся…
— Мышья душа, чего трепыхаешься? Небось не врюхаюсь! А только и то думно мне: починать ли? Ишь, ветры-то сильны таковы. Кабыть на наш угол не повернуло. И сами сгорим, не то людей попалим.
— Эва! Кады спохватился! Уж не калякай. Не про то послан. Робь, и концы в воду. Глянь-кось!
И помуслив палец, «мышья душа», как его звал товарищ, а иначе Мижуй, вятич, из дворни Захарьиных, Данилы, поднял этот влажный палец над головой и подержал мгновенье-другое.
— Во!.. Вона эвон тяга откедова. Прямо туда на Москву-реку и несет. От нас, значит, на посад, на слободу на Хамовничью. Да туды и не дотянет. Вал земляной поперек лежит, огня не пустит. А полевуручь — вода. Скажем, через «белу» стенку огонь перекинется. И то Кремлевски палаты за своими вторыми стенами, за высокими, целы стоят. А вправуручь — пустыри велики. Поварская слобода не загорится. Только вон энтот клин Арбацкой и выгорит. А тут все — беднота. Им не мудреное дело новые избы поставить…
И Мижуй, широко раздвинув руки, показал вперед от себя: какой, по его мнению, клин домов должен пострадать от пожара.
— Да что головой качаешь, словно козел на волков? Уж я ли не знаю? Не впервой! Как баю, так и будет. Уж мне дело знакомо. Мижуй-Скоропал не дарма зовусь. Валяй!
И он осторожно двинулся вперед, в обход старой церковки, с площади, углубляясь в ближайший тупичок, куда выходила задняя стена деревянного храма, откуда, очевидно, решено было начать поджог.
— А зачем с церкви Божией починать? — опять нерешительно зашептал сильный, но несообразительный и неопытный еще поджигатель Будила.
— Ворона! Душа-то у тея есть аль нетути? Ветер вон как тянет. Сухмень. Домишки словно грибы. Пора подрассветная. Запалить жилье — люди не выскочат, прокинуться от крепкого сна не поспеют, сгорят! А церковь — она пустая. Заполыхает — в набат ударют. Кто ближе — из домов повыскочат храм Божий тушить. Вот и не сгорят души хрещеные. Да буде скулить. Вишь, кладовушка малая за углом? С нее и починать надо. Церковь от нее и загорится. Все же не нашими руками.
Только что оба поджигателя собирались проскользнуть в узенький проход, оставленный между кладовушкой и задней стенкой церкви, как оттуда шарахнулся кто-то, уже раньше проникший сюда.
— Стой!
— Держи!
— Кто тута? — сразу раздалось в три голоса.
Три смертельно напуганных человека застыли на двух концах узенького прохода.
— Тьфу, нечистая сила! — первый опомнился Мижуй. — Да энто же Нелюбка, дурья голова! Ух, напужал, черт! Лешие драли б тебя, оборотня проклятущего! Как ты сюды затесался? Твой конец нешто тута? Ты к Болоту ближе послан. Тута наша черта.
Высокий, обрюзглый телом и лицом напоминающий теперешних менял, Нелюб, тоже кабальный Захарьина, только Никиты, брата Анастасии, часто отдуваясь, негромко заговорил:
— Бо-лото? Пущай хто хошь к Болоту идет. Тамо торг ныне рано соберется. Мне башка дорога. А я думаю: тута подпалю — само до Болота докатится.
— Ишь ты, размыслил как, не хуже пушкаря заморского. Без трубы палить собирается. Ну, поглядим, что ты тута настряпал, дурья голова.
— А ты бы язык прикусил, хамье дубовое. Не ровня я тебе. Как бы батько наш, церковник, не помер — и я бы в кабалу не записывался. Дьячком он был и в дьяконы ладил уже.
— Ладил, да не долез. Оно и не в счет! Меньше бы водки лакал покойный, може, и не помер бы. Ну, стружки, ну, щепа тут. Ладно. Трут у тея, Будилка? Креси огонь. А я маненечко составцу присыплю — горело бы шибче.
И, достав из кармана завернутый в тряпицу ком какой-то смеси, куда главным образом входила сера, селитра, жир бараний и смола, — стал мазать стены кладовушки и бревенчатый сруб церковки этим составом.
— Вот. Шибко огонь захватит. Зажигай!
Будила, успевший выбить искру и зажечь кусок трута, сунул последний в стружки, приготовленные раньше Нелюбом, и стал раздувать огонек.
Вот загорелась первая тонкая полоска дерева. Огонь прозмеился по ней неровными язычками. Соседние, полупрозрачные, перевитые стружки порозовели, словно насквозь пронизанные отблеском первого огонька.
С легким звуком загорелись еще другие свитки стружек и куски щепы, высушенной от долгого лежания под лучами солнца. Огонек стал быстро расти, смелее перескакивать со щепки на щепку.
— Ладно! Готово дело! Теперя ходу! — шепнул товарищам Мижуй, и все быстро стали удаляться от разожженного ими костра, скрываясь в ближайших переулках, прилегающих к церкви.
Мастера своего дела были поджигатели! Четверти часа не прошло, как вся церковка пылала в огне. Кругом сновал народ, полуодетый, напуганный. Крики, плач носились по воздуху. Бабы выбегали из соседних изб, вынося на руках детей или бедный скарб и складывая все с наветренной стороны площади. Стук чугунных бил, клепал, удары в колокола на ближайших звонницах, — все это смешалось в один нестройный, пугающий шум.
Едва разгорелось пламя первого пожара, перекидываясь на соседние, тесно скученные избы, тут же и в других местах, далеко от этой площади, вспыхнули пожары. Оттуда стали разноситься кругом те же звуки набата, крики испуга и отчаянья. А буря, словно радуясь людской беде, подхватывала горящие головни, пуки пылающей соломы с крыш и разносила все дальше и шире эти зловещие факелы, как посев горя и несчастья, кидая их на темные крыши цельных строений.
— Поджоги! — почти сейчас же вырвалось из уст обезумевшей толпы, когда пожары почти одновременно запылали в двух-трех концах этого посада.
— Вестимо, поджоги! — подхватил Нелюб, уже шнырявший тут же среди толпы. — Я верно знаю, что поджоги. На дворе у отца протопопа, у батьки Федора Бармина, слышь, все бают: на духу ему один покаялся: удумал-де Москву запалить по договору великому. И имя называл…
— Имя? Какое имя? Скажи, добрый человек.
— Да и баять-то боязно, кабыть языка не урезали. Мало ль докащиков в народе. Подслухают да перенесут.
— Не бойсь, не выдадим! Имя скажи.
— Ну имени не скажу. А приметы — поведаю. Голобородые они, подговорщики. Усатые. И челядь у них такая ж. И на духу который каялся — из них же, ихней братии. Лих, наш брат, православный, а не католик, хоша тоже из литвинов.
— Глинские? — сразу вырвалось из нескольких грудей.
— Я не называл. Сами догадались! — гнусавым голосом подхватил поджигатель и подстрекатель. — Сами назвали. Злы стали литовцы-князья, что царь к ним остуду имеет. Вот на людях царевых и срывают досаду. Знаете, бояре в сваре, а холопи — в беде. А ошшо сказывали. Може, и сами видывали, люди добрые: старица одна, роду великого, по Москве в колымаге часто езживает. Не по церквам она, не по монастырям, а все к еретикам чужеземным, к лекарям-знахарям заморским. Все в Заречную, стрелецкую слободу, да в немецкую. Да будто бы там сердца человечьи ей в воде проклятой настаивают. А она той водой волжбу творит. По Москве проезжаючи, стены кропит. Либо сжечь всех пытается, либо мор назвать. Все за родичей в отместку, за литовских князей, которым величанье бояр русских не по нутру.
— Бабка царева? Она! Никому другому! — загалдели в толпе.
— Она, она!.. Я сам видел! — подхватил и Мижуй, подоспевший на подмогу товарищу. — Трех дней нет ошшо, мимо энтого угла проезжала она.
— Проезжала, верно! — подтвердили голоса.
— Так што ж, неуж так и потерпим, православные? — вдруг вырезался озлобленный, визгливый бабий голос. — Вон у меня последняя хибара полыхает. С двумя детками — головы негде склонить. И потакать ей станем?..
Зашумела, забродила, загалдела обозленная толпа.
— Эй, галманы, буде глотки драть! — властно прозвучал тут голос городового приказчика, заменявшего тогда полицию обывательскую. — Чем злыдней слушать, лучше воду таскайте! Да вон с угла избу бороните. На тот бы порядок огня не перекинуло.
Неохотно, понукаемые приказчиком и его десятниками, стали опять работать люди, отстаивая от огня этот угол.
Но ураган смеялся над людскими усилиями.
Солнце бросило первые жаркие, огнистые лучи сквозь полог туч, на восток; но лучи эти совсем багровели, пронизывая иную темную завесу, облака густого дыма, который носился по ветру, свивался, разрывался на клочки и казался каким-то сказочным чудовищем, реющим по воздуху. Унизанное искрами, озаренное и лучами солнца, и отблеском пожарных костров чудовище это словно хотело в своих объятиях задушить последний проблеск жизни, собиралось своими звеньями покрыть на далекое пространство все кругом!..
Вся Москва в страхе: давно не бывало такого пожара, как нынешний, что от Арбата начался. Всюду люди, даже в очень далеких углах, стали скарб собирать или в саду, в огороде в землю зарывать что получше, подороже. Вдруг и тут подожгут или само загорится?
Не утихает буря. И дождя тоже нет. Огонь нечем заливать. Жалкие усилия людей ни к чему не ведут!
В Кремле тоже переполох великий.
Вот и к обедням ударили. Во всех церквах кремлевских и по Москве служба идет своим порядком. Только особенно горячо молят Бога и священный клир, и прихожане: отвел бы Он напасть!
Бледная, как мертвец, стоит в своей молельне Анастасия и горячо просит о том же. За людей, за себя, особенно за Ивана молится: спас бы Господь их всех от беды…
Вот упала она ниц, да так и замерла в слезах, ударяясь лбом о холодный помост.
Вдруг, услыхав знакомые быстрые шаги, на полуслове молитву оборвала, поднялась, навстречу мужу кинулась.
— Уезжать, што ли, нам надобе?
— Куды ошшо ехать собралась? Ишь, непоседа! — шуткой стараясь прикрыть свое тяжелое волнение, невольный испуг, ответил царь. — Гляди, и кончено дело. Затихает пожарище. Глядел я туды со стены, с башни. Веришь, милая, от площади Арбатской так клином и выголило, словно ножом срезало. Вот энтакий кус!
И Иван сделал такой же жест, каким ночью Мижуй определил будущее пожарище. Не ошибся опытный «мастер».
— А в энту пору что там видно?
— Теперя, почитай, ничего. Гореть нечему. И дело с концом. Помолись да опочинь. Рано нынче подняли тебя. Перепугалась как…
Успокоенная царица хотела было вернуться на молитву, как вдруг быстро вошел Адашев.
— Не посетуй, осударь, без зову, без повещенья. Дело не терпит. Собираться бы, выезжать тебе с царицей и с кем там позволишь. Повернул огонь… Ветер насустричь ночному поднялся. На Кремль так и несет пожарище. Головни, вишь, уже главы Успенью посыпало.
Анастасия так и опустилась, обессилев от страха, на скамью у стены. Ноги у нее совсем подкосились. Вздрогнул Иван, еще бледнее чем раньше стал.
— Барки готовы?
— Снаряжены. С утра самого к Тайницким воротам причалены. Садиться поизволь! А я тута уж все прикажу.
— Да разве правда? — начал было Иван.
— Што? Пожарище велико ль? Кремлю не уцелеть ли? Сам погляди поизволь, осударь!
— Да, я сам… Потерпи часок, касатушка! — сказал уже на ходу жене царь и вышел из молельни.
Грозное зрелище увидал Иван с высоты башни, что у Троицких ворот.
Дувший прежде с северо-запада ураган круто повернул, налетел прямо с запада, ударил на восток, кидая на Кремль, на посады, еще уцелевшие у высоких кремлевских стен, тучи искр, столбы дыма и пламени, которое пожирало догорающие избы на прежнем пепелище, на окраинах его.
Гудят, воют новые потоки огня. Взлетают на воздух, кружат вихрем огнистые хлопья. Целые горящие плахи — с ураганом, с пылью, с дымом — носятся по воздуху.
Неудержимая огненная река катится на Кремль. Дышать трудно от зноя, рожденного пожарищем. Дым душит. Вот отдельные волны огненной реки, подкатясь к Неглинке-реке, тут стихают. Но высокая крыша Успенского собора стала загораться от налетающих на нее головней. Мост Троицкий, башня Собакина стали загораться.
В ужасе кинулся Иван за царицей.
Уселись в колымаги, уже стоявшие на всякий случай во дворе, и доехали до Тайницких ворот, сели в барки… К Воробьевым горам двинулись. Там безопасней.
Почти без чувств полулежит Анастасия под навесом царской барки.
— Скажи, что там? — бледными, пересохшими губами все спрашивает она.
Иван словно и не видит, как ей плохо. Он поражен, подавлен ужасом. И хрипло, негромко говорит ей, что он видел:
— Не ждал, видно, народ, што в энту сторону буря повеет. На площадях, на улицах кучами сбились. Скарб выносят. Толкуют стоят. Вдруг на их дым и полымя понесло. Совсем на восход солнца веять стало. Кружит по небу полымя, на землю кидается, все так и крушит. Сейчас тута горело. Глянь, через две улицы всполыхнули избы. Справа, слева… Людей огнем обошло. Кто сквозь стену огненную кидается. Все загорится на ем. Он назад. И мечется, словно грешник в аду… Власы пылают. Одежда дымится, тлеет. А другие, ровно ошалелые, на площади али бо по улице взад-вперед мечутся. Иной стоит громко молится. Иной вовсе песни поет, смеется. Видно мне с башни… Сейчас вот за Неглинкой дело было. Базарную площадь огнем обвело. Страшно, Настюша! А кругом, верст на десять, там все огонь. Слышишь, как воет, как гудет…
Правда — даже здесь, на Москве-реке, хотя барки проезжали мимо пустырей, выгоревших уже дотла, и здесь было слышно, как по ту сторону Кремля трещит, воет пожар, кричат люди, лают собаки, ревет скот.
А звон набатных колоколов прорезает порой каким-то безнадежным, отчаянным стоном хаос диких, смешанных голосов.
Анастасия, совсем изнеможенная, укрывает лицо на груди мужа. Но то, что он говорит, так и стоит у нее перед глазами.
Смолкнул Иван. Сквозь полы навеса смотрит на берега реки, на место утреннего пожарища. И здесь печально, грустно все глядит. Изба кое-где догорает. Стены церквей дотлевают. Дым пологом стелется, не давая свободно дышать. И только островками зеленеют где-нигде: сад, чудом уцелевший, пустырь, покрытый травою, зеленые берега пруда или ставка небольшого.
Загляделся-задумался Иван. Задремела-забылась на миг совсем больная, измученная царица. Медленно плывут барки к Воробьевым горам.
Теплый летний июльский вечер спускается над рекой. Ураган затихать стал. А в Кремле — видно отсюда — верхи на церквах загораться стали.
Сжимается сердце у Ивана…
На соседней барке брат царский Юрий Васильевич плывет. Да не один. Невесту и он себе облюбовал, когда царь девушек на смотры собрал.
Самая дородная из всех, хохотушка-княжна Иулиания Палецкая, пленила сердце царевича. Он упросил брата. Княжну назначили невестой Юрию. Поселили в Кремле. Осенью свадьба.
Но Юрий уже не расстается со своей нареченной, благо старший брат позволяет, не сердится.
Сидят они сейчас вдвоем, тоже под навесом, на второй барке. Сказки им говорит старик-бахарь. Жуют оба что-то. Поталкивают, заигрывают друг с другом пятнадцатилетний жених и четырнадцатилетняя невеста.
Им нет почти и дела, что такое горе великое на Москву пришло. Кроме домов и добра, 2000 человек, все больше старые, больные и дети, сгорели в тот день…
VI
Co вторника до самой пятницы бушевал ветер, то ослабевая немного, то снова налетая, как бешеный, подымая новые снопы пламени, раздувая старые, потухшие пожарища. Потом наступило затишье. Ветер упал, совсем прекратился, словно и не было его. Только курились и дымились остатки домов и храмов в Кремле и на посадах, лежащих на север и на запад от Кремля. Порою вместе с едкою струею дыма долетал сюда и чад сгоревших человеческих тел, не в конец испепеленных пламенем. Бродили потерянные погорельцы по местам, где недавно стояли их дворы. Иной искал остатки имущества, бродил между обгорелыми пнями своего раньше тенистого сада, стараясь припомнить, угадать: где то место, где перед пожаром зарыл он ценный скарб? Другие рылись под обломками, надеясь найти хотя бы какие-нибудь останки погибших в пламени близких, дорогих им людей.
Раньше с трудом, но можно было дышать, даже отрадно было втянуть струю свежего, прохладного воздуха, которую вносило ураганом в знойный, раскаленный пояс пожарища. Теперь же люди положительно задыхались. Дышалось с трудом, тяжело-тяжело.
И, несмотря на это, шумная жизнь закипала на особенно бойких, привычных торговых местах, особенно на Кремлевской Ивановской площади, где и земля еще полураскалена от недавних пожаров, где сизый дымок вьется над грудами головешек и углей, чернеющих повсюду.
Оборванные, закоптелые, обожженные порою люди скипелись уже в шумный муравейник, покупают, продают, меняют. Крестьяне окрестные нахлынули отовсюду, сообразив, что теперь всему найдется сбыт в погорелом стольном городе.
Вид у большинства из толпы ужасный. Лица истомленные, озлобленные. Немало и зверского вида мужиков появилось, неведомо откуда. Это колодники, сидевшие по разным темницам.
Когда загорались остроги, порою сторожа сами выпускали заключенных и уходили вместе с ними от огня. Порою власти забывали о несчастных, стража разбегалась. Десятники тоже. Тогда колодники, обезумевшие от ужаса, ломали затворы и разбегались.
Впрочем, тюрьмы были не очень-то крепко устроены. И без пожара бежать из них бывало не трудно кому не лень. Только «особливые» злодеи содержались покрепче, за особыми «приставами», больше охраняемые живой стражей, чем крепкими стенами.
Два дня царило затишье в природе. Зато, придя в себя, избавясь от стихийного огня, от пламени, пожравшего все кругом и замершего только по недостатку пищи, люди начали сами кипеть и бушевать, как буря.
Стали искать поджигателей, ловили, мучили, разрывали их на части. Грабили, убивали просто ради наживы, а не то чтобы совершая мнимое возмездие.
Дурные, тяжелые вести каждый час, каждую минуту доносились к Ивану в Воробьевский дворец.
А тут еще с испугу, от всех волнений — и с Анастасией беда приключилась. Раньше времени пришлось собрать докторов, повитух. Все ждут: принесет ли Господь, или беда случится, не окончится благополучно «тягота» царицы.
К полудню только, в воскресенье, высокие, редкие облака, медленно проносящиеся над Москвой, стали спускаться все ниже, стали темнеть и клубиться, предвещая давно желанный ливень. Молнии стали поблескивать, гром погромыхивать принялся.
В одной из самых обширных горниц дворца, окна которой, несмотря на духоту, плотно закрыты, лежит бледная, словно прозрачная лицом, Анастасия.
Лекарь-немчин только что ушел, разрешив Ивану смирно посидеть у постели больной. Уходя, он пошушукался о чем-то с пожилой бабкой-повитухой, помогавшей ему, и заявил царю, так и не сводившему воспаленных, усталых глаз с доктора:
— Хвала Господу, великий царь! Опасность прошла. Если кровь не явится снова — все пойдет своим чередом и в должный срок, даст Бог, получишь ты утеху душе и наследника трону своему.
— Аминь! Аминь, аминь, Господи!.. Я… Я тебя тогда… — быстро, взволнованно зашептал лекарю Иван, но так и не договорил, махнул рукой, и тот, низко кланяясь, вышел.
Когда с успокоенным, просветлевшим лицом он подошел и уселся подле кровати, где под пологом лежала Анастасия, царица сразу заметила перемену в лице мужа и, слабо улыбнувшись, проговорила:
— Вишь, моя правда была, касатик! Не велика беда еще. Помогут нам с тобой Матерь Господа и святые угодники. Не печалуйся же, Ванюшка!
— Нет, нет, милая… ласточка! Зоренька… И ты уже успокой свою душеньку. Глазыньки-то закрой. Подреми малость!
— Не дремется, Ванюшка! А без дремы глаза заведу — хуже оно. Все мне пожога мерещится. Да вон старицы те, монашки, что, сказывают, во храме, все десять живьем сгорели. Давит мне грудь да сердечушко. Все дума единая покою не дает: к заступе, к Скоропомощнице прибегли они, к образу Пречистой кинулись. И не спаслися! Слышь, дымом задушило их, а там истлели, когда половицы загорелись во храме. Одна, говорят, мать Иринея еще жила, когда тушить огонь стали. Охала… Стенала, Господи!..
И тонкими, исхудалыми пальцами царица прикрыла лицо, по которому тихо катились редкие слезинки.
Иван не знал, что сказать, чем успокоить жену, которой так вредно тосковать и волноваться. Его самого давило событие, о котором вспомнила Анастасия. Да и, кроме того, она не знала, что сам митрополит Макарий, унося из пожарища чудотворный образ Владимирской Божией Матери, расшибся, когда спускали старца по веревке со стены Кремля, охваченного пожаром.
— Не думай, ясочка! Так полагаю: грешны были старицы. Вот и покарал Господь.
— Грешница? Што ты? Сестра-то Досифея? Али старица честная Левкадия? Да святей их не сыскать на Москве! Редкой жизни подвижницы.
— Ну, значит, Господь больно возлюбил их. Венца мученического удостоил. В селенья призвал свои райские.
— А што мыслишь? Должно быть, так.
И, словно успокоясь на этой отрадной мысли, больная затихла, замолчала.
«Не за твои ли грехи все эти жертвы, весь этот ужас?» — что-то против воли так и шептало смятенному юноше, когда он с затаенным страхом впивался глазами в бледное лицо любимой жены, единственного существа, которое ему казалось близким и дорогим на свете.
А громко между тем он проворчал, косясь в сторону женщин, ожидавших в глубине комнаты приказаний царицы:
— Болтали бы поменьше! Только тревожите осударыню!
Те так и замерли на местах, стараясь без звука, лицом выразить, что они неповинны нисколько в излишней болтовне.
Вдруг быстрые шаги замерли извне у самой двери, которая чуть приотворилась.
Так и кинулась к дверям боярыня бельевая, княгиня Анна Смерд-Плещеева, толстая, низенькая, словно кубарь подкатилась.
— Ни-ни! Неможно! Дремлет… почивать собирается свет осударыня! — зашипела она было сдобным голосом своим, сдавленным теперь голосом.
Но подошедший к двери Адашев слушать не стал.
— Осударя скорея сюда проси! Жаловал бы.
Иван, почуяв, что дело важное, если Алексей чуть не врывается в опочивальню к больной, — в одно мгновенье очутился за порогом, быстро прошел мимо Адашева, кивнув ему следовать за собой.
— Ну, што там ошшо? — спросил он тихо на ходу, уже переступив порог второй от опочивальни комнаты.
— Мятеж, осударь! Князя Юрия смерды пьяные, злодеи окаянные, на клочья разнесли.
— Дядю? — не то с ужасом, не то с бешенством хрипло выкрикнул Иван и смолк, тяжело дыша, ожидая, что дальше ему станут говорить.
Адашев, поняв молчание царя, продолжал:
— На нынче, сам ведаешь, сыск назначен был о речах воровских, о склоках, кои в народ пошли, будто Глинские виной в пожарище. Будто они поджигали, волхвовали. Чары творили. И в сей час на площади на Ивановской все грозное дело и содеялось. Сам ведаешь: колодники на волю вырвались. И смерды, и холопи, и вольные люди из тех, кто победней, кружала разбивали, брагу-вино бочками на улицы выкатывали. А больше от горя, от разору великого охмелели. Кровью запить меды захотелось им, видно. Подстрекнул хтой-то. Мало ли врагов у кажного. И у меня…
— И у меня… знаю! И врагов дядьевых знаю же… Дале!
— Так и загомонила вся площадь… Только и зыку идет по всей по Ивановской: «Глинские Москву пожгли. Юрашка, Михалка… да…». Не посетуй, осударь, скажу, что слышал: «Да колдунья, бабка царева! Бей их!».
— А Юрий тута был!
— Как на грех! Подбили князя, мол, «нечего смердов робеть!». А как до дела пришло — все и сробели. Он было во храм Божий кинулся, в Успенском при алтаре притаился. Нашли, диаволы! Воволокли. Не живого уж, почитай, мертвого. Через Кремль на Лобное так и поволокли!
— А стрельцы што же?
— Бояре, воеводы молчат, стоят, стрельцам не приказывают, боятся: народ бы пуще не озлить. На их бы на самих люд не кинулся. А смерды вконец очумели. Князь Михаилу искать принялися. Княгиню-старицу, бабку твою, вишь, им подавай. Стали баять, што во Ржеве те — куды! И слышать не хотят. Орьмя-орут, во всю Ивановскую! «На Воробьевых они. У осударя в терему притаилися. Гайда, вынимать злодеев литовских пойдем!» И ватага, тысяч с десять человек, так сюда и кинулась… Я о конь, вот и доскакал ранней. Изготовься, осударь!
И Адашев смолк. Какой-то странный звук нарушил воцарившуюся мгновенно тишину.
Иван, весь дрожа от ярости, слушал любимца. Воздух с шумом вылетал у него из груди. Он все теребил тяжелую золотую цепь с крестом, висящую у него на шее.
Когда Адашев замолк, Иван судорожным движением с такой силой дернул эту цепь, что она порвалась, середина осталась на крепко стиснутых пальцах юноши, а концы со звоном упали на пол.
Бледно до синевы лицо царя, губы тоже побелели и сжаты. Пена проступает на них. Тревожно глядит Адашев.
Неужели опять припадок начнется, как три дня тому назад, после прибытия на Воробьевы, после мучительной поездки мимо пожарища? Нет. Овладеет, видимо, собой Иван. Не так порывисто, не так хрипло дышит. Лицо из бледного становится багровым. Жилы так и напружились на лбу, на висках, на руке, в которой зажата порванная цепь. Это тоже не добрые признаки. Припадок гнева, слепой ярости, очевидно, овладеет раздраженным юношей… Чем-то он закончится!
А Иван размеренно и сильно начал бичевать пол и соседнюю скамью концами порванной цепи, от которой так и отлетали звенья, и с трудом заговорил:
— Всех изымать! Перевязать! Заковать! А потом… потом… я скажу, что им сделать! Я…
— Осударь, тысяч с десяток смердов! Есть и с припасом. Секиры, вилы, топоры да и пищали, гляди. Всех не перевяжешь! Как на грех, полка-двух у нас тут на Воробьевых не соберется. Не ждали дела такого! Не сдогадалися.
— Не сдогадалися? Стрельцов мало? Меня с больным подружием смердам предали, подлые. А?! Настя-то!.. С ей што будет?..
И, выронив цепь, Иван даже лицо закрыл руками от ужаса перед картиной того, что будет с любимой его женою…
— Осударь, не печалуйся! Все уладим. Тебя и осударыню-царицу в жисть не выдадим! Сами сгибнем, а вас и коснуться не посмеет нихто. Воротынский, Вельский… Я им уже сказывал. Они ли, энти воеводы, за тебя ль не постоят? Отборные люди у нас. Один десятерых стоит. Все ладно будет. А уж ежели до зарезу придет, спаси Бог! Уйдем невредимы. Знаешь ли, до самой реки и под рекой дале — ходы тут прорыты. Тайники есть… Все укроемся!
— Ну, будь, што Бог даст! — вдруг совсем подавленным голосом произнес Иван и быстро кинулся назад, в опочивальню Анастасьи, оставив на месте Адашева, который стоял в недоумении. Но через несколько мгновений, словно решив какую-то задачу в уме, спальник прошептал:
— Ее успокоить кинулся! — и тихо вышел из горницы делать дальнейшие распоряжения.
Адашев не ошибся.
Осторожно склонясь над женой, Иван негромко окликнул ее:
— Почиваешь ли, Настенька?
— Нет, голубь! Затишало в душе у меня от речей твоих, и я рада. Хочу поправиться. Тебе бы радость принести. До хорошего конца с Божьей милостью дожить: первенцем хочу царя мово порадовать. То-то бы, Господи!..
Надеждой, мольбой звенит голос молодой женщины. Мукой передернуло лицо Ивана.
— Бог даст… Он пошлет, Спас Милостивый. Слышь, Настек, злодеев тамо, поджигателев, изловили. Сюды их привести повелел я. И народ за ними же, обозляся, кинулся. Гляди, галдеть учнут у подворотни, што им не дали самосудом воров казнить. Ты не пужайся. Гляди… Стрельцов под рукой много, конных и пешей рати. Што б тамо ни творилось, што ни учуяла бы — покойна будь! Я над тобой блюду, оберечи сумею…
И ласково, осторожно проведя по волосам больной, быстро вышел из опочивальни.
VII
Недалеко он ушел. Через два покоя, у окна, выходившего прямо во двор широкий, откуда видны были ворота дворцовые, и частокол, отделяющий двор от дороги, вьющейся вниз, к Москве-реке, — здесь остановился Иван и стал глядеть. Здесь нашел его Адашев, очень скоро вернувшийся со двора.
— Подваливает чернь проклятая, смерды поганые, осударь! Да понемногу. Видно, не мало их по пути во кружалах, а то и просто по избам придорожным осталось. Все такой там люд, што и выпить не прочь, и чужим поживиться горазды.
Слушает Иван Адашева, слушает дальнейшие донесения воеводы и вестовщиков, приказы, распоряжения отдает, отвергает чужие советы или соглашается. И спокоен на вид. Но грозное, страшное это спокойствие.
Захарьины тут появились, Курбский, Челяднины… Вся свита царева.
За стенами мятеж готовится…
Взором проводив мужа, закрыла глаза Анастасья, смежила полупрозрачные, тонкие веки свои и, смутно улавливая набегающий издалека рокот возбужденной людской толпы, готовилась было совсем задремать.
«Ишь, зверье какое! Самосудом хотят!» — слабо шевельнулась последняя сознатеяьная мысль в ее усталом мозгу, и она на миг-другой позабылась.
— Бей колдунов-поджигателей! Литовцев нам подавай! Анну-еретицу, ведьму старую, запальницу!.. Бабку цареву давайте нам, ироды! Што за нехристей стоите? Али мы не свои вам?
Такие крики сразу заставили прокинуться Анастасью. Она широко раскрыла глаза и напрягла свой утонченный от болезни слух.
Крики доносились довольно ясно, хотя опочивальня и удалена была от внешнего двора, перед которым, набегая, скипалась толпа озверелой, пьяной челяди.
Дворец потешный, летний, не очень грузно строенный, весь деревянный, с массой окон, дверей, крылец, ходов и балконов, отражал и пропускал звуки очень хорошо. Опущенные на оконца сукна, сукна на дверях и на полу заглушали, правда, все звуки, приходящие в покой извне, но не преграждали им пути.
Понимает это Иван, сидя недалеко от опочивальни, и вдвойне страдает. За себя, за гордость свою царскую, за свое величие, за жену больную. Он трепещет ее страхом, подавлен ее муками.
Приподнялась на постели Анастасия. Кинулись к ней прислужницы, поддерживают. Слушает царица, бледная, застывшая, неподвижная… Словно из мрамора изваянное изображение, а не живое существо полулежит здесь. Помертвели и женщины, окружающие царицу. За нее, за себя боятся. А она не только вслушивается — старается вообразить, что там творится, перед дворцовыми воротами, на покатом зеленом лугу, который широко раскинулся до самой воды.
Вот стихнул гомон. Смолкли дикие крики.
Что такое? Образумились? Ушли?
Слабой надеждой загорелся неподвижный взор Анастасии.
Ей кажется, она слышит звяканье оружия у тына дворцового. Так и видит пищальников, алебардщиков, которые и на самом деле живой стеной протянулись от ворот, охраняют дворец.
Затихла толпа от того, что показался этот самый отряд из внезапно распахнувшихся ворот, а впереди князья Воротынский и Вельский, славные, отважные воеводы. Знает их, любит вся Москва.
Заговорил Воротынский:
— Слышьте, братцы, христиане-православные! Буде вам! Беды не накликайте! Царь гневается. Осударыня недужна… Смиритеся!
— Да Бог и с ими!.. Живут на многие лета царь с царицею! Поджигателев нам сюды! Ведунью старую! Да князя Михаилу… Не уйдем без этого!
Не много и мятежных тут сошлось. Тысячи две человек. Остальные по пути растаяли. А особенно галдит кучка убежавших колодников и всякого люда воровского, которому любо в мутной воде поживу искать.
Опять заговорил Воротынский:
— Слышьте, послухайте меня! Истинно говорю: жаль мне вас. Домой ступайте, проспитесь. Не к добру артачитесь. В последний раз имя осударево в поруку даю: нет ни бабки царской, ни дяди его тута. Во Ржеве, почитай, с неделю они сидят уже. Туды киньтесь… А того лучше потерпите… Царь уж суд нарядил. Разыщем, кто Москву палил. Не покроет царь злодеев, будь хоть самы милые люди, родня его ближняя. Вот што царь сказать велел. А теперь не послушаете — не взыщите. Плохо вам буде!
— Не пужай, боярин! Стреляные тетери, не бежим от потери! Не идем, покеда поджигателев вынуть не дадут нам! Во Ржев?! Враки! Не по яблочки ль по ржевски теперя поехали? — глумливо раздалось из толпы.
— Чаво глядеть?! Ломи! Вали, собор, на широкий двор! — махая топорами и дубинами, заорали колодники-коноводы.
И передние, самые наглые из толпы, так и кинулись вперед, хватая за пищали, за концы бердышей ратников.
Но таких смельчаков было совсем немного.
На остальную толпу повлияли слова воеводы, и она если еще и не расходилась, то потому, что была захвачена интересом к тому, что делают совсем, очевидно, ошалелые коноводы.
Тем плохо пришлось.
— Бей, хватай их! — властно прозвучал приказ, когда Воротынский увидел, что бунтует одна небольшая кучка.
Засверкали секиры-бердыши. Кое-где грохнула пистоль или самопал… Человек десять самых назойливых, самых отчаянных повалилось с раскроенной головой, с перебитыми руками, с простреленной грудью. Остальные с криками ужаса кинулись врассыпную бежать. Стрельцы ловили, вязали убегающих. Человек 30–40 в каких-нибудь пять минут лежали и стояли у ворот со скрученными назад руками.
Слышала это все Анастасия. Видел и слышал Иван. Тихо мерным шагом спустился он вниз, появился перед кучкой связанных злодеев. Увидя царя, все отступили.
Оглядываясь на оконца дворца, словно желая сквозь стены знать, что теперь с Анастасией, Иван в то же время шарил за поясом. Не найдя ничего, потянулся к ближайшему из окружающих, к Воротынскому, вытащил тесак у него из ножен и стал с размаха наносить тяжелый удар за ударом по шее, по плечам, куда попало двум-трем из связанных недругов своих, шепотом приговаривая:
— Гады!.. гады… смерды вонючие! Мятежники! Всех изрубить, всех повесить! Четвертовать поганых! Башки им безмозглые посносить!
И продолжал рубить мертвые уже, иссеченные тела, из которых кровь так и брызгала, обагряя ему одежду и руки.
— Осударыню бы успокоить поизволь, батюшка-царь! — желая прекратить тяжелую сцену, слегка выступая вперед, осторожно напомнил Адашев.
— Что?! — занося и над ним тесак, крикнул было Иван, но опомнился под влиянием блестящего взора, которым глядел Алексей ему прямо в глаза.
Словно от сна очнувшись, он кинул тесак, властно крикнув:
— Всем энтим башки долой безмозглые! — и кинулся к жене.
А там большой переполох царит. Опять беда с царицей. Кровь показалась. Муки у нее начались.
Но услыхав шаги Ивана, она сдержалась, быстро укуталась в покрывало до самого подбородка и повелительно шепнула всем окружающим:
— Гляньте! Осударю не сказывайте! Ему не словушка! Гляньте.
Улыбаясь, встретила Анастасия мужа.
— Што, али сладилось? Тихо стало, слышу я.
— Сладилось, голубка! Да штой-то ты смерти бледней лежишь? Не приключилось ли чего?
— Чему быть-то? Просто потревожилась малость, не стану греха таить. Теперь, коли все минуло, и ладно. Сосну, отдохну. Ступай, касатик! Вон и ты сам с собой не схож стал. И в крови вон весь кафтан. Видно, злодеев карал. Так им и надо! Ну, иди же! Дай сосну, попытаюсь…
— Спи… Все минуло! Не тревожься, — только и мог проговорить Иван, затем торопливо вышел из опочивальни, чувствуя, как нехорошо было явиться сюда в одежде, обагренной кровью.
Анастасия же, едва дверь закрылась за мужем, перестала улыбаться, вся вытянулась от муки, с искаженным лицом еще раз прошептала окружающим женщинам:
— Гляньте ж, нишкните царю! Оох… сама… оох… потом сама…
Помертвела, обессилела окончательно от боли и умолкла, затихла, лишась последней искры сознания…
VIII
Грозовая ночь настала за этим тревожным, боевым днем.
Ливень, молнии, раскаты грома, казалось, хотят смыть с лица земли все следы преступления, заглушить вопли отчаяния и злобы, какие только звучали за предыдущие дни в этом углу грешной земли!..
Под навесом тяжелых, непроглядных грозовых туч, раздираемых порою причудливыми извивами бичующей тьму молнии, творится много тайн и чудес. И свет дневной никогда не озаряет таких глубоких, губительных тайн, какие может видеть око Божие при сверкающих проблесках грозовой молнии ночной.
К рассвету гроза стала затихать…
В раскрытые окна опочивальни Ивана веет дивной свежестью и ароматом из старинного развесистого сада, где еще цветет черемуха и бузок.
Сам Иван, бледный, со следами пены на углах губ, лежит на постели.
Адашев сидит близ него.
Сильвестр, протопоп Благовещенский, стоит у аналоя, молится, порою поглядывая на юношу.
— Ну, што? Как? — спрашивает он Адашева.
— Никак, в себя приходит… не уйти ль тебе теперя, отче?
— Нет, пускай! Припомнит, крепче будет! — властно отвечает протопоп.
Иван раскрывает глаза. Мутные, блуждающие они, как всегда после сильного припадка. Голова тяжела. Затылок ломит. Вдруг, взглянув к аналою и различив темную плотную фигуру попа, юноша весь затрепетал.
— Так… так мне не снилось? Так правда? — стуча зубами от озноба, едва выговорил он.
— Правда, чадо мое! Все есть истинно, что от Бога! А ты сам видел: то было не от иного кого.
Ничего не отвечая, Иван упал опять лицом в подушку и затих.
Через несколько времени он быстро поднялся, но сейчас же упал было обратно, не поддержи его рука Адашева.
— Господи, ослабел-то как!.. Алеша, к Насте пройти допомоги! — тихо проговорил Иван.
Адашев вопросительно взглянул на Сильвестра. Тот кивнул головой.
— Изволь, осударь! Да што было с тобой? Отец-протопоп позвал меня, когда тебе занедужилось. А отчего это — не ведаю. Не приключилось ли чего?
— Потом… после… К Насте! — опять повторил Иван.
— Не послать ли спросить? Може, спит осударыня? — начал было Адашев, но, заметя нетерпеливый жест царя, умолк.
— Што же, не беда! Разбудит сам осударь свою царицу богоданную, — вмешался теперь Сильвестр.
Опять легкая дрожь испуга пробежала по телу Ивана. Но он ничего не сказал и тихо, с помощью Алексея, двинулся из горницы.
Тяжела была эта ночь и для Анастасии. Она крепко спала, когда Иван подсел осторожно к ее изголовью и, облокотясь на подушки рукой, пристально вглядывался в милое ему, сейчас мертвенно-бледное, бескровное личико. Смеженные глаза были окружены густой синевой. Щеки впали, черты обострились. Только слабое, редкое дыхание говорило, что перед ним не труп, а живая Анастасия. Долго сидел он, пока голова его не отяжелела. Иван склонился на подушку головой и сразу крепко заснул.
Сколько времени проспал, Иван не помнил. Проснулся же, почуяв на лице своем нежное, легкое прикосновение пальцев Анастасии.
Она недавно перед этим раскрыла глаза, увидала мужа и шепотом спросила мать, сидевшую поодаль:
— Давно ли Ваня пожаловал?
— Часочка с два будет.
— Знает? Сказали?
— Мы? А ни словушка!
— Вот и добро! Я сама… потом…
И молодая женщина, недавно перетерпевшая великую муку, словно забыла обо всем, о себе самой, ловя дыхание спящего мужа.
Скоро он стал трепетать во сне… застонал, завозился.
— Ваня! Ваня! — тихо зашептала Анастасия и, чтобы разбудить спящего, слегка коснулась его лица своими исхудалыми, прозрачными пальцами.
Пробудясь, не поднимая головы, Иван встретился взором с глазами жены, ближе еще придвинулся к ней и зашептал:
— Знаешь, Настя, чудо нынче ночью было!
— Чудо? — сразу заражаясь его боязливым волнением, спросила жена. — Какое? Скажи.
— Скажу… Скажу… Слушай! Батюшка осударь покойный… родитель являлся ко мне.
— В видении сонном?
— Кое там видение? Въяве. Вот как тебя вижу. И… и все вот… кого карал, кого казнить доводилося… Страшно таково! И… и… себя видел… да, знаешь. В геенне огненной, вот как… Поп там пришел… Селиверст. Знаешь, Благовещенской. Ну, вот и стал пенять мне… А там и кричит: «Хошь, покажу тебе тайну незримую, как дозволено ныне дать знамение тебе, юное чадо маловерное, гордыни преисполненное?». И позвал… И голоса пошли. Светильники угасли в покое. А перед очами появился он… родитель. Говорил… Сам я слышал. Грехи мои высчитывал… «Последняя, молвил, мера настала!» И пошли все, те… знаешь… казненные… чередом пошли…
Иван умолк.
Анастасья так была слаба, что даже не могла достаточно ясно представить себе, что было с мужем.
Она видела, что лицо его скорбно, устало. Словно он постарел лет на десять за одну эту ночь.
— И потом, потом, — продолжал Иван, — сказано мне было: Селиверста бы я слушал! Алешу бы слушал… Да тебя третью… А боле — никого! А себя што-бы и совсем не слушал! Все бы смирял бы себя да норов свой горячий. И тогда великим, славным царем пребуду на многие годы. И славу Соломона стяжаю, и Давиду уподоблюся. А ежели нет?.. Страшно, што видеть довелось. Вот так и стою сам же перед собою. И кругом огонь. И личины мерзкие, слуги адовы. Ликуют, огонь раздувают, жгут меня… Ох, страшно!
Упав в подушку лицом, он совсем по-детски приник к плечу Анастасьи.
Та нежно, тихо гладила его по волосам, словно желая отогнать все страхи от смятенной души юноши.
— Ванюшка! — слабо заговорила она. — Да слышь! Ладно ведь оно тебе привиделось. Не худое што! И сказано: будешь «вровень с Соломоном-царем; славен, что сам Давид». Так и будет. Чего же пужаться? А муки адские? Не станешь никого обижать — и уготовает Господь Милосердный место в селениях Своих. Да я… Я уж лучше сама обрекусь на геенну огненную! Ты бы счастлив да покоен был.
Долго еще шептались они, и успокоенным ушел от жены Иван.
Преодолев собственную слабость, она все сделала, чтобы ободрить мужа.
Ясное, тихое утро занималось над русской землей. Светлая пора настала для царства Московского, когда юный царь Иван очутился во власти нового духовника своего, попа Сильвестра и Алексея Адашева, то есть, вернее, подчинился вдохновителю ихнему, Макарию, когда он стал слушать их и жену свою, кроткую, чуткую царицу Анастасию.
IX
Два с половиною года прошло после этой страшной, грозовой ночи.
Не мало еще пролетело гроз и над всей землей, и над теремами, над дворцом царя Ивана. Но уж это не по вине юного царя, который словно переродился весь с самой роковой ночи.
После первого несчастья около двух лет скрытно тосковала Анастасия, видя, что судьба не дает ей утехи быть матерью. Досадовал и сам Иван, что нет у них потомства.
Только 10 августа 1549 года родилась благополучно у молодых супругов первая дочь, названная в честь недавно скончавшейся бабушки Анной. Недолго пожила малютка. Году еще ей не было. Иван отправился Казань воевать, а когда вскоре вернулся из неудачного похода домой — он уже не застал в живых девочки.
Еще через год вторая дочка, Марья, у царя родилась. Тоже не больше года радовала она бедную Анастасию. Схоронив вторую девочку, совсем осунулась, явно хиреть стала царица.
И отца мало радовали дочери…
Иван осенью 1552 года отправился в свой последний, так счастливо законченный, казанский поход. А царица в третий раз готовилась стать матерью.
— Смотри, — шепнул ей на расставанье муж, — наследника мне давай! Не то совсем разлюблю!
Шутя он это сказал. Крепко обнял, горячо расцеловал любимую, кроткую, добрую царицу. Но все же с мучительной тоскою стала ожидать она минуты разрешения.
В мае уехал государь, а в сентябре уже добрые вести стали приходить из-под самой Казани. Одолевали русские мусульман.
Добрые сны и предвещания видит и слышит Анастасия. Напряженные нервы как будто позволяют провидеть грядущее. Да все не верится ей.
А время идет. Час приспевает. Что Бог пошлет измученной женщине?
С первыми лучами рассвета, в воскресенье 9 октября, встала молодая царица, и так хорошо у нее на душе, глаза сияют тихой радостью.
Сейчас же все окружающие женщины это заметили.
— Бог милости послал, добра-здорова прокинулась, осударыня, ноне! — заметила дежурная постельница, Оксинья Губина, подавая свежую сорочку Анастасье и осторожно надевая ее на царицу.
— Больно сон значный да радошный привиделся мне, Оксиньюшка! Вот и я…
— Радошен сон в руку. А нонеча праздник, воскресный день. До обедень все и сбудется. Исполати да в добрый час!
— Сбудется… сбудется! Вот и сейчас чует сердечушко: неспроста оно провиделось… Слушай, Оксиньюшка! Поведаю сон мой чудный.
— Ох, поизволь, скажи, осударыня! Больно знать манится.
— Слушай! Только соромно мне… Такое это мне привиделось! Необычайное больно…
— И-и, осударыня-матушка! Я ли не раба твоя верная, самая последняя. Тебе ли соромиться передо мною, старой отымалкою? Поведай уж, пожалуй свою рабу недостойную.
— Слушай… Ваня мой… сам царь наш славный мне привиделся. Стой… Идет кто-то? Не гонец ли от него? Вести должны быть от милого!
Вошла боярыня Иулиания Федоровна, которой доложили, что проснулась царица.
После обмена приветствиями, причем мать низко кланялась и величала дочь «осударыней-царицей», Анастасия живо заговорила:
— Хорошо, што пришла поранней! Сон я тебе расскажу мой нынешний…
— Говори, поведай, доченька! Слушаю, осударыня-царица моя богоданная!
— Не смейся, гляди, матушка! Царя я видела. Снился мне…
— Што смешного? Курице — просо, женке — муж грезится. Дело не грешное, во храме Божием петое.
— Да нет, погоди, постой! Доскажу… Будто, сына Господь нам послал. Да… Не гляди так мне в рот прямо, Оксинья. Да… Не от меня, а… а…
— А от кого же, прости Господи?
— От ево самово! Будто он, осударь, вошел в опочивальню мою, бледный, только радостен лицом. Несет на руках паренечка. Совсем малого, новорожденного. И сказывает мне: «Бери, Настек! Вот я тебе сына принес…». Положил мне ево на лоно, а сам лег да охает: «Больно, — сказывает, — нелегко было… Тебе бы не выносить таково. Гляди, не простой он!». Глянула я и обмерла… У младенца и зубки все, и кафтанец на нем есть, а поверх кафтанца — кольчужинка, наряд весь воинский надет… А на головке, что темными кудерками обложена, на ей венчик золотой, да не русский, а словно восточный, вон как цари татарские написаны бывают. И венчик тот не надет, а прирос к темечку. Словно из головки вырос у мальчушечки. Дивлюсь я диву, а осударь смеется и говорит: «Радуйся, царя казанского принес я тебе!». И стала я кланяться, Ваню благодарить. Да тут и прокинулася. Нет ли гонцов? Быть иного не может, что овладел мой осударь юртом Казанским.
— А это твой сон пророчит. А еще и то, что сына, дочка, не нынче завтра жди.
— Разве уж последние дни подошли? — слегка робея, спросила Анастасия.
— Так по счету выходит. Да и сон твой о том же сказал. Внука жду от тебя, осударыня-царица.
— А слушай, матушка родимая… Кто мне шепчет — не знаю, только вот и сейчас чуется, что права ты.
— Хто шепчет? Некому иному — ангел твой хранитель, матушка ты наша, заступница, святая душенька! Погляди, нынче ж сон сбываться начнет! — умильно-вкрадчиво подхватила Губина, с приходом Захарьиной отошедшая подале, к дверям. — А теперь личико омыть, освежить красу твою писаную не позволишь ли?
И своим чередом пошел утренний обиход царицы Анастасии.
Все сбылось, как ожидала царица сама и все ее приближенные. К вечеру боли первые начались. А на рассвете, 11 октября, во вторник, увидел свет первый сын царя Ивана и Анастасии, нареченный тут же Дмитрием, как еще раньше решили родители.
— Сын… сын! — забыв все недавние муки, осторожно прижав ребенка к своей груди, тихо шептала Анастасия.
Легкие, сладкие слезы текли по ее лицу, еще не успевшему высохнуть от иных, мучительных слез, от пота холодного, недавно проступавшего у страдающей матери.
И вдруг, не разжимая рук, нежно охвативших малютку, она погрузилась в крепкий, целительный сон, не слыша, не видя, кто и как хлопотал вокруг нее, как взяли царевича, что с ней самой делали.
X
Радость, как и горе, не ходит одна. В субботу, 15 октября, так и влетела в опочивальню царица юркая, пройдошливая грекиня, жена кир Василия Траханиота, казначея малой казны царицыной. Дня четыре уж, как она сторожила гонцов из Казани — и удалось-таки ей.
— Ошалела ты, што ль, боярыня! — зашипела на вбежавшую бабка-повитуха, как раз в это время выкупавшая царевича и подававшая его матери к груди.
Всполошились все остальные, бывшие тут же, в темном, душном покое с завешанными окнами, освещенном как ночью, по обычаю. Все эти женщины так и вскинулись на гречанку.
— Без зову, без докладу! Не базар тут тебе, срамница!
Но та и внимания не обращает. Отвесив земной поклон Анастасии, она торопливо, захлебываясь, стала лепетать своим ломаным русским языком:
— Ma, конец приканили. Касани ваивали иму кесарьски велициства, осударика Яни Базилицы. Цицас канеци привадили буди на осударыни-сариса.
Сразу все поняли лепет гречанки и просияли, прощая ее назойливое вторжение.
— Гонец? Сюды его! Сама… слышать хочу. С порогу пусть доложит! Полог задерни. Варя! Оксинья, зови гонца к порогу! Матушка, возьми Митеньку… Ишь, сыт, дремлет! — Так и затрепетала, заволновалась, заторопилась царица, протягивая царевича Захарьиной.
Полог у постели задернули, дверь в соседний покой распахнули. Через четверть часа, забрызганный грязью, усталый, едва держась на ногах, подошел к этой двери сотник полка царского, Забой Путята, 2 октября, в самый день взятия Казани, посланный с вестями к царице. Силач, лихой наездник где верхом, где на колесах, загоняя и меняя коней по пути, меньше чем в две недели успел он добраться до цели, несмотря на огромное расстояние, не глядя на отсутствие путей, на дожди осенние, портившие и то подобие дорог, какое существовало между редкими поселками и городами московскими.
Были с ним еще люди посланы, провожатые и сотоварищи, но все отстали по пути.
Теперь, ударив челом на пороге заветной горницы, куда даже первые вельможи не имели доступа, Путята стал докладывать, не отрывая взора от земли, не подымаясь с колен:
— Осударь, великий князь Московский, царь всея Руси и царь Казанский и иных изволил-повелел тебе, осударыня-царица, челом бить. Все ль подобру-поздорову жити, осударыня, изволишь? А он-де, великий осударь, жив-здоров, тебе челом бьет…
— Здрав, цел мой царь великий? Казанский царь? Взята, баешь, твердыня мусульманская? Господу хвала! А мы здоровы же, Богу в похвалу, царю моему на радость! Недавно гонца слали. Ныне еще пошлю же. Слышь, воин славный, как звать, не ведаю…
— Путята Забой, раб твой верный, холоп последний, царица-матушка.
— Путятушка… Забоюшко, — усиливая, как могла, слабый голос, говорит Анастасия, — спасибо тебе великое, милость к тебе наша царская неизменная! А и у нас радость, слыхал ли? Царевича Господь послал земле. Люби его, служи ему, Забоюшко, как царю, поди, служил!
— Слышал уж я по пути, к тебе, матушка-царица, идучи. Послужу… постараюсь! Жив буди царевич наш Димитрий свет Иваныч на многая лета!
— На многая лета! — разноголосым, нестройным хором подхватили женщины, бывшие при царице.
— На многая… многая лета! — словно молитву творя, зашептала Анастасия, глядя на ребенка, которого баюкала старуха Захарьина, касаясь концом языка до лба ребенка и сплевывая по сторонам, шепча приговоры от сглазу.
От криков ребенок проснулся было, пискнул, но, убаюкиваемый бабкой, опять заснул.
— Что так хрипло говоришь, Забоюшко? Али захворал путем? Али с устатку? Давно ли видел осударя?
— Завтра второе воскресенье будет, как наша Казань, как видал я лик светлый царский. А голос упал у раба твоего, царица-матушка, от пути дальнего несменного. Как выехал я, почитай, и спать не привелось за весь путь инако, как в телеге али на седле, дорогой скачучи. Не взыщи… Тебя, осударыня, порадовать манилось поскорее!
— Спаси тя Господь! Ну, ступай, передохни. А опосля сызнова призову тебя. Толком мне все поведаешь. Наблюди, штобы все было у Забоюшки, у гонца нашего верного, Матвеевна! — обратилась царица к Смерд-Плещеевой.
Еще раз ударил челом Путята и ушел, сопровождаемый боярыней.
Успокоясь немного от радостного волнения, которое только сил придало Анастасии, она стала судить-рядить с близкими боярынями: кого послать поздравить царя с взятием Казани, поведать отцу о рождении первенца-наследника? Весть великая и честь немалая…
Но бойкая гречанка, Евлалия Траханиотова, так теперь и застрявшая в опочивальне, сумела подбиться к признательной за добрую весть царице — и ее муж назначен был послом навстречу Ивану, который, конечно, теперь и сам уж двинулся от покоренного города обратно к Москве.
XI
Еще три недели прошло, и 10 ноября 1552 года торжественно совершился вьезд юного царя-победителя в стольный град Москву. Сотни тысяч народа из отдаленных концов земли сошлись, не глядя на осенние дни ненастные, съехались по вязким дорогам луговым, по узким колеям лесным и проселочным. Широко разошлись вести о победе казанской, о том, что десятки тысяч пленных христиан после долгих, тяжких мучений из многолетней неволи освобождены царем. Да путь речной широкий, Волга богатая к Москве отошла, русской рекой стала.
За все за это земля восторженно встретила победителя. Судьба сына ему даровала. И он, в свою очередь, щедро всех одарил, соратников своих и просто люд подвластный. Около миллиона рублей было роздано деньгами и вещами во время наставших ликований. А сколько новых земель в Казанском царстве было роздано, так и не счесть. И старых немало вотчин раздал юный царь главным помощникам своим, воеводам и князьям.
Все кругом пошло хорошо.
Только в семье не совсем что-то ладится у юной и, казалось бы, счастливой царственной четы.
Покорный вполне новым своим друзьям и руководителям Сильвестру и Адашеву, Иван во время осады казанской слегка вышел из-под их воли, сознавая, что он — настоящий, единственный повелитель и господин сотням тысяч люда ратного, что по слову его готовы все и жизнь и добро свое отдать. А в то же время он сам, как ребенок, как школьник, не смеет повеселиться, пожить, как ему хочется. Даже надеть то или другое платье, поесть, что любит, не может без соизволения духовника, без ласкового одобрения спальника своего, Алексея Адашева.
Сильно тяготит это царя. А руководители юноши, упоенные властью, доставленною им при помощи мудрого старика Макария, не думали только о благе царства, как митрополит московский, не искали только исправления Ивана. И самим хотелось им обоим воспользоваться такой удачей. Окружающие новых друзей царских родные и близкие люди тоже старались, чтобы им на долю перепала малая толика благ земных в такой крупной, царственной игре.
Быстро проник во все это наблюдательный, подозрительный до болезненности Иван.
Особенный случай один скоро и совсем раскрыл ему глаза.
Из всех недостатков и пороков, какими от юных лет заражен был Иван, не отвык он и теперь от одного, от любострастия. Под Казанью особенно давал волю своим страстям Иван. Об этом скоро вести до Москвы дошли. Сильвестр стал Ивану грозные письма писать, Адашев корил его. И царице донесли о таких похождениях супруга.
Больная, она поплакала только.
Когда же Иван вернулся, застал жену еще полубольную и не оставил тех же похождений, какие завел было под Казанью, — все скоро стало известно Анастасье. Но она только плакала втихомолку да еще больше слабела и бледнела, вызывая этим жалость, но не порывы страсти в своем муже.
Подбивали Анастасию и родные, и приспешники Сильвестра поговорить царю — жил бы почестнее. Но она только покачает грустно головой, ничего не ответит советчикам — так дело и кончается.
Впрочем, недолго такая неопределенная, смутная тоска давила сердце царице. Скоро и очевидная, стихийная беда налетела.
У Москвы ли реки простудился Иван, когда со всем двором, с митрополитом и попами кремлевскими спустился туда 26 февраля, чтобы крестить торжественно Эддин-Гирея, последнего хана грозной доселе казанской орды, взятого в плен в день покорения Казани. Дошло ли и до царя Московского дыханье чумной заразы, которая еще с конца зимы по всему царству разлилась и, говорят, была занесена из той же Казани вместе с награбленной добычей, — как знать! Только сильно занемог Иван. Свалился, в жару лежит. Говорят старики-бояре, что пора и о преемнике подумать! Плох очень царь, накануне смерти.
Все это знает и слышит Анастасия. Ей не позволяют видеть больного. Она царевича кормит. Да и самой тоже заразу захватить нехорошо.
Крепится ради малютки и молодая мать. Чего это ей стоит — иконы знают в опочивальне ее, лики Богоматери, Спаса и всех святых заступников мира христианского, перед которыми, в сиянии лампад, она ночь напролет на молитве, поклоны отбивает, молитвы творит.
А днем тихо, мерно, однообразно тянутся часы в терему венчанной затворницы.
Только слухи да вести, одна другой тревожней и грозней, тайно и явно достигают ушей Анастасии.
— Слышала ль, доченька? — спрашивает исхудавшая от тревоги боярыня Захарьина. — Старица-то почестная, княгиня удельная Евфросиния, што удумала? Какую бучу взбила? Наместо царевича, наместо Митяньки-то нашего — свово сыночка в цари прочит, в осудари Московские. Какова еретица старая!
— Што ты, матушка? Нешто можно? Брат по брате ноне на стол не сажается. Сыну по отцу место и власть царская, и наследие дедовское. Хто того не ведает! Так плетут, поди, штобы нас с братцем, Княж-Володимиром поссорить да с честной матерью-княгиней его…
— Глупа ты, доченька, хошь и осударыней стала, — вспылив, не удержалась Захарьина. — Старицких род — смутьяны ведомые. Ниоткуда столько горя и деду и родителю осудареву не было, как от двора княжого из Старицы. И удел бы тот от их отобрать давно пора навечно. На свою недолю осударь наш вернул князю Володимиру земли отчие. Вон теперь дядя на племянного и пошел! На Митяньку на нашего. Да ошшо сказывают: поп Селиверст, святоша энтот, да лиса Алеша с ним же за Старицкого руку тянут. А смерд ползучий, старый бражник, батько Адашева, — и прямо в похлебники княжевы пошел, людей сбивает, за Володимира стояли бы…
Задумалась Анастасия. Припомнились ей намеки преданных людей из среды окружающих боярынь и челяди. Прямо не смогли они, как старая Захарьина, а обиняками наводили на мысль царицу, что заговоры ведутся против нее и царевича Дмитрия и против самого больного царя.
Братья царицы, понимая, что вся их судьба зависит от благополучия Ивана и его наследника Дмитрия, все пружины пустили в ход, вызнали, что только было возможно, и также подтвердили сестре, что беда близка.
— Умрет Иван, — сказал ей брат Никита, — и нам всем крышка! Хошь колоду загодя готовь! Царевича, слышь, посхимить ладят. Тебя туды же! Ну, да жить вам недолго обоим дадут. А уж про нас, про Захарьиных, да про всех про наших свойственников да родичей — уж и баять неча! Кого куды, лишь бы на белом свету не осталося и корня нашего.
— Што же делать? Што делать? — ломая тонкие бледные пальцы, спросила Анастасия.
— Што делать? Ничего не поделаешь. Наготове будь. Мы уж стараемся. А ты ошшо попытай, с Адашевым потолкуй. Великую силу проходимец худородный энтот забрал. Ну, да авось не позабыл, сколь ты добра к нему была. Поможет. А он — ой-ой сколь велика шишка ноне. Да со старцем-владыкой словцом перекинься. Ведомо нам, он за нас же… за царевича… А там видно буде. Што Бог даст! Мы ошшо разок с братаном к самому царю потолковать проберемся. Сказывал лекарь, полегшало ему. Не так уж зараза лютует. Да тут гадать нечего. Помирать все едино! На дыбе ли, от чумы ли…
— Нешто чума у Ванюшки? — задрожав, спросила Анастасия.
— Ну, што там ни есть — все худо… Так вот, попомни, что тебе сказано, осударыня-сестрица!
Ушел и оставил совсем подавленной бедную женщину.
XII
Разговор этот происходил в страстную субботу, когда у больного как раз перелом в болезни наступил. Он, весь пылая, лежал в забытьи и, казалось, уснул. Лекаря и монахи-знатцы, окружавшие больного царя, решили, что теперь выяснится вопрос: жив будет Иван или умрет? Влили прием лекарства ему в рот, проглотить заставили и разошлись: кто в церковь к пасхальной службе, кто домой отдохнуть после ряда бессонных ночей.
Один чтец-монах остался в опочивальне, чтобы пить подать Ивану или читать ему, когда тот проснется. Больше всего больной не выносил тишины и приказывал читать себе, когда приходил в сознание.
Полумрак в покое, озаренном лампадами да одною свечою восковой, тишина, нарушаемая только шумным дыханием больного, скоро сделали свое, и размеренное дыхание с легким храпом, издаваемое чтецом, присоединилось к звукам, наполняющим покой, где легкий синеватый дым клочками носится, проникая из соседней комнаты.
Там на железных жаровнях трещат ветви можжевельника, дым которого считается одним из лучших средств, охраняющих от всякой заразы.
Полночь близко. Залиты огнями дворцовые все приделы и церковки, все храмы кремлевские; все церкви московские огнями искрятся.
Только в этой части дворца — мрак и тишина.
Кроме дыхания двух людей, царя и монаха, слышно в опочивальне у больного, как где-то мышь грызется. Сверчок завел свою усыпляющую песенку. Червь древесный тикает в стене, точит тяжелые, вековые бревна дубовые, из которых сложен накат в покое. Положили Ивана не в каменной половине дворца, а в деревянной, выходящей прямо в сад, уже начинающий пробуждаться от весенних лучей…
Длинными, извилистыми, темными сейчас, сенями и переходами соединена эта постройка с главными дворцовыми строениями.
Ровно в полночь, когда перезвон пасхальный зазвучал и разлился широко во влажном, теплом воздухе надо всей Москвой, — тихо приоткрылась дверь опочивальни Ивана и на пороге появилась Анастасия.
Разглядев в глубине покоя на широком ложе спящего больного, она стала издали крестить его и зашептала:
— Христос воскресе, миленький! Оздравел бы ты скореича, желанненький! Христос воскресе!
И затем, нагнувшись, покатила по полу красное яичко, которое принесла, стараясь, чтобы оно достигло до кровати больного.
В это время отец-монах, почуяв спросонок, должно быть, присутствие живого человека, стал протирать глаза.
Как тень, неслышно и быстро исчезла царица.
— Тьфу ты, наваждение бесовское! Почудилось мне, што ли, што дверь приоткрыл хтой-то? Нету… Вона и дверь не по-прежнему. И… крашенка откуль-то на полу лежит. Мара, да и все тут. Да воскреснет Бог, да расточатся врази его!
Так бормотал монах, потревоженный среди сладкой дремоты.
Анастасия в это время прямо в мыльню прошла, где уже ждала ее верная карлица, горбатая девка сенная.
Сбросив с себя, что было на ней, царица омылась трижды, надела другое белое платье и, выходя из мыльни, сказала провожатой:
— Слышь, Олька: все спали в сей же час. Видела: где была я в этом во всем? Хвори бы не передать кому! Ничего себе не бери! Все спали в печурке, тута же. А я тебе иное пожалую. И обувку и рубах пару. Гляди же!
— Ах, матушка! Дура я, да не без ума вовсе. Глянь-ка, осударыня, при тебе все спалю!
Распахнула жерло печи, которая пылала в мыльне, и вещь за вещью все туда было брошено.
Не дождавшись конца этого всесожжения, царица к себе опять, к царевичу в покой поспешила.
Пусто еще на половине Анастасии. Только «мама» Димитрия, пожилая боярыня, Дарья Федосеевна Головина, сестра казначея царского, сидит сторожит малютку. А тот спит и слабо во сне улыбается.
— Ангелов видит небось ангельчик наш! — шепчет матери старуха. А сама где была, осударыня? Неужто в мыльне? Што за нужда приспела?
— Так надо было! — поправляя повязку на мокрых волосах, ответила Анастасия. — Хочешь, Федосеевна, — за другими и ты в моленну ступай! И разговляйся опосля! Без меня, прошу, недужится мне. Я с Митенькой побуду… Сюды и принесешь яичко, да хлеба святого. И я разговеюся, а в палату Столовую не выйду.
— Как поизволишь, матушка-осударыня! Пойду помолю Господа. За твое здравие, за птенчика нашего. Охо-хо, грехи наши тяжкие…
И старуха вышла.
А царица, поцеловав осторожно сына, шепнув и ему тихонько: «Христос воскресе!» — кинулась на колени перед киотом и стала молиться за обоих: за сына и за отца…
Вдруг дверь скрипнула у нее за спиной, вошел осторожно кто-то.
— Ты, девушка? — спросила Анастасия, думая, что вошла горбатая Ольга. Но оглянулась и замерла.
Адашев, о котором ей говорили как о возможном спасителе и защитнике, стоял на пороге заветной комнаты, на пороге опочивальни царевича и, отдав земной поклон, произнес:
— Христос воскресе, матушка-царица! Бог радости послал…
«Что нужно ему?» — пронеслось в уме у одинокой женщины.
Но, овладев своим смущением, она приветливо поклонилась незваному гостю и ответила:
— Воистину воскресе!
XIII
Ранним утром, только успел митрополит Макарий проснуться, хотя и лег-то всего часа три тому назад, только омыл лицо и облачился в ряску темненькую, поношенную, затрапезную, собираясь домашнюю службу править, как молодой служка вошел и доложил, что Чудовским переходом осударыня к владыке жалует.
«Господи, что еще приключилося?» — подумал старик и пошел навстречу державной гостье.
Подойдя под благословение святителя, который осенил крестом и двух старух-боярынь, сопровождавших царицу не только до сеней, но и в покои владыки, Анастасия обратилась к провожатым, благоговейно совершившим обряд христосования с владыкой, и сказала им:
— Повыдьте покамест в сенцы, Матвеевна, Левонидовна. Слово есть у меня к владыке.
Бесшумно, быстро уплыли из покоя боярыни.
— Помилуй, Господи! Не беда ли какая, чадо мое милое, што ты и на себя не походишь ныне? И личиком помертвела, и ноги не держат… Садись, садись, болезная! Поведай все, что есть на душе.
— Затем и пришла, владыко! Давно ты мне заместо отца роднова, так и ноне еще пораду дай в великом деле. Вишь, и сам слыхал, поди: землю, венец царский отнять злые люди позадумали у сына, у Митеньки мово.
— Да что ты мятешься так, милая? Сам царь Иван еще жив. Гляди, немало и сам он в том венце еще поцарит, повеличается.
— О-ох, нет! Видела я ево вечор, друга милого, сокола ясного. Совсем помирает. Бледный, худой, страшный лежал. Где выжить! Да и люди сказывали: последние часы ему, голубчику, пришли…
— Кто сказывал? Какой ворог али безумец злой?
— Ада… Адашев Алексей, — не сразу решилась назвать Анастасия, как будто ей чего-то совестно стало.
— Эге! Значит, не мимо было мне толковано, што он лукавить больно шибко стал. А когда же ты видела Алешу?
— Я… я, владыко, почитай, и пришла затем. Хочу тебе о нем поведать… О речах его… о том, што сотворил он со мной.
— Говори, говори скорее! — заторопил, очевидно встревоженный, старец. — Видать, совсем стыд и Бога забыл малый!
— О-ох, забыл, владыко! В ночи пришел… о полуночи. Уж не посетуй: все как на духу поведаю тебе. «Христос воскресе!» — говорит. Да не братское дал целование, а сатанинское, Иудино! Душу мне смутить пытал. Я и обмерла. Одна-одинешенька. Дворня на разговенах. Один Митя тута в колыске… Да Господь незримый, да иконы святые… Стерпела я лобзание нечистое, окаянное. «Зачем пришел?» — пытаю ево. А он и говорит: «У царя ты сейчас была, доведался я. Видела: помирает! а и не помрет — все едино. Володимир-князь народ взбулгачил, бояр первых, Шуйских, Мстиславских, Палецких. Попу Селивестру клобук митрополичий посулили. Так и он всех своих доброхотов на то же склонит. Захватят, постригут вас с Иваном же! Не зря тоже вести ходили пущены, что от Овчинина корня идет муж твой»… Так и сказал, владыко, энтот смерд непотребный! «И будет Володимир царем! Только ежели меня послушаешь, меня на то же место поставишь, как княгиня Елена покойная Ваню Телепнева поставила, — все поиначу тогда. Умрет царь — сам на тебе женюсь. Вдовец я теперя, человек вольный. И ворогов ваших нынче ж в ночь похватать велю, в мешки каменные рассажаю. Выживет царь — тоже рад будет, што я землю от злодеев ослобонил. А как мы с тобой поладили — одному Богу знать надобно, людям дела нету! Мила ты мне». Не осуди, владыко: все хочу сказать.
— Толкуй, толкуй, милая!
— «Мила ты мне. Всех милей… И для тебя себя не пожалею». Што говорила я ему на ответ — и не помню уже! Молчала, кажись, молитву шептала, заклятье, словно от нечистого. А може, думается: нечистый то и был. Стоял он долго, в лицо мне глядел, ровно прочесть там што пытался. Да вдруг как захохочет, когда я за икону чудотворную, за крест святой рукой ухватилась. «Не бойсь! — крикнул. — Не диавол я! Не твори заклятия. Хотел я твои мысли узнать. И все по-нарошному говорил тебе!»… Гляжу, и ушел, словно не было ево в покое, словно сгинул… Митя… спит в колыбельке. Я стою поблизу, шепчу молитвы… Тут бабы мои подошли… Я и опамятовалась. Скажи же сам, отче-владыко: што энто было такое? Дрожу я и по сей час, как помыслю о том.
— Искушение, дщерь моя милая. Искушение было душе твоей чистой ниспослано. Да чистое так чистым и пребудет. Покойна будь! И царь не умрет, и царевичу твому ничего не поделают. Я тоже кой-што померекиваю. Ишь ты, протопопу любезному клобука захотелось митрополичьего!.. Да ты и своего дела не управишь, не то владыкой всея Руси тебе быть, Сильвеструшко. Алешка тоже по себе панихиду спел. Не печалуйся, касатка! Покойна будь. За вас, за род за царский, — тоже не мало заступников. Кто по доброй воле, по совести. А иные — за подачку хорошую. Ошшо поборемся! Я все ведаю. Жди и Богу молись! Молиться ты умеешь, дочка, знаю… Христос тебя благослови!
Успокоив, уговорив напуганную женщину, ласково отпустил ее Макарий.
И он не обманул ее.
В то же самое утро Иван, проснувшись после перелома болезни, так хорошо почувствовал себя, что мог выслушать подробное донесение о всех последних событиях, сделанное и Захарьиными, и еще двумя-тремя преданными людьми из бояр и князей.
— Не дам я им долго воловодиться! — слабым, но решительным голосом сказал Иван. — Слышь, дьяк! — обратился он к писцу своему ближнему, к Ивану Висковатому. — Строчи столбец. Наутро присягу наладь… Мите, царевичу, Дума, и бояре, и воеводы, и черные люди, Москва вся и земля вся пускай крест целуют, како моему наследнику. Вот и конец делу!
— Не пойдут, осударь! А хто и пойдет, иные не пустят! — заговорил, волнуясь, Данило Юрьин-Захарьин, шурин царский. — Вишь, единая их речь: малышу спеленатому крест целовать, по-ихнему выходит: нам, Захарьиным, на службу записать все роды первые. Будто мы самые к царевичу станем близкие. И силу-власть заберем. Вот их злоба какова!
— Креста целовать царевичу не станут? Коли царь приказал? Поглядим! Делай, што велено, Митрич! — подтвердил царь Висковатому.
Тот вышел распоряжения отдать. А Иван всех отпустил и от слабости задремал…
XIV
Бурно следующий день прошел во дворце. Еще тревожней пролетели ночь и третий день праздника. До кровавой распри едва дело не дошло.
Тут Сильвестр явно обнаружил свое участие в заговоре двоюродного брата царского, Владимира, князя удельного, Старицкого. Старик Адашев тоже не сумел концов схоронить. Выдал себя с головой. Сын его Алексей пролавировал ловко. Но нерешительность спальника-любимца тоже стоила предательства в глазах Ивана.
Все ж таки дело так именно окончилось, как пророчил Макарий.
Кто по доброй воле, кто под угрозой, все присягнули Димитрию как наследнику царства. Евфросинии Старицкой пришлось даже в монастыре укрыться, схиму принять под именем старицы Евдокии, чтобы избежать более тяжелого наказания за происки. С Владимиром царь по виду сохранил добрые отношения, но глубоко в сердце затаил злобу против неожиданного противника.
Быстро стал поправляться после болезни Иван. Расцвела и Настасья, за мужа, за сына радуясь.
Только хотелось ей совсем освободить бы мужа из-под влияния Сильвестра и Адашева, которые еще цепко держались за остатки прежней власти над царем.
Случай или, вернее, тот же всезнающий и всемогущий Макарий незаметно и тут помог царице.
Порядком уже оправился после болезни Иван и проживал летом на тех же Воробьевых горах, во дворце потешном.
Как-то утром заявился к Анастасии Никита Романович Захарьин и, ударив челом, объявил:
— Недужна матушка-осударыня наша штой-то стала. Не навестишь ли ее, пожалуешь, осударыня-царица?
— Вестимо же, пойдем! Сейчас снаряжаться велю. А што с родимою?
— Не то штобы очень плохо… Старость, вестимо, не радость. Уж потрудись, сестрица-осударыня!
Подана была колымага, и с малым поездом поспешила Анастасия в московский дом Захарьиных, в тот дом, где ее девичество так мирно протекло.
Войдя без провожатых, только с одною Головиной да с Митей, в опочивальню матери, царица была удивлена.
Старуха встретила ее на ногах и вовсе не казалась больной.
— Иди поцелуй мать-то попросту! Не так, как у тебя, когда в терему царском видимся! — заявила старуха.
Расцеловались.
— А теперя садись, пожди маненько. Братовья, вишь, утеху для тебя придумали. Больно скушна ты стала. Так штукаря нашли. Бают, развеселит тебя.
Улыбнулась слабо Анастасия.
— Што ж, я бы рада… Пускай приходит штукарь! Поглядим…
Села в ожидании, стала малютку кормить.
— Подь-ка, матка! — обратилась к Головиной Захарьина. — Скажи сыночку, што я лекаря зову. Он уж знает…
Десять минут не прошло, как в покой старухи Захарьиной вошел Никита, а за ним тот же самый фрязин, переводчик и чревовещатель, которого лет шесть тому назад Сильвестр и Адашев у Макария видели.
Воспользовавшись в роковую ночь искусством итальянца, оба временщика постарались потом удалить опасного свидетеля, послали его будто бы для надзора далеко, на Урал, на заводы, где руду плавят всякую.
Но Макарий разыскал и вернул нужного человека.
Вошел он, постаревший, но такой же юркий, живой. Отдал поклон, все окна завесить попросил, поставил на стол какой-то ящик темный, а напротив него, на стене, развесил гладенько полотна кусок широкий.
В полутьме комнаты, озаряемой только светом лампады, отчетливо вырезался на белом полотне круг света, выходящий из волшебного фонаря, установленного и приведенного в действие итальянцем.
— Комедию он нам покажет, сестрица! — говорит Никита. — И на разные голоса голосить станет… Так ты не пужайся!
Прижалась к матери Настасья и глядит на светлый круг. Тени на нем замелькали. Очертания вырезаются. Тела… Лица… Прозрачная, мертвенная какая-то.
Старуха вот стоит, и голос скрипучий раздался:
— Царь Саул! Трепещи… Тень Самуила-пророка предстанет тебе.
— Не боюся! Пускай предстанет! — уже другим голосом раздается ответ.
И выплывает на светлом кругу третья фигура: мертвец настоящий, закутанный в саван. Только лицо открыто. И мертвец глухо говорит:
— Саул, Саул! Пробил час твой! Покайся! Если не хочешь погибнуть, пророка Господня слушайся и Бога бойся!
Трепещет Анастасия. К груди своей царевича прижимает, сама к матери жмется. А та ей шепчет:
— Не слыхала ты разве доселе ни о чем таком?
— Слыхала… От «самого». Только не сказано мне было, что это дело рук человеческих. Стой! Да… Да ведь Ване протопоп Селивестр таки же чудеса в ту ночь огненную казал. Так неужто ж?..
— Энто самое и было. Молчи, фрязину виду не показывай! Не пужай его! Сама понимаешь — пригодится он нам! — говорит брат.
— Понимаю, понимаю! — шепчет Анастасия.
И, замерев теперь уже не от страха, а от волнения, смотрит, какие еще чудеса покажет ей искусник заморский.
Еще через несколько дней у себя, в том же дворце Воробьевском, улучив минутку удобную, показала Ивану жена штуки фрязина и раскрыла ему также глаза на чудеса роковой ночи, когда Сильвестр и Адашев напугали юношу и овладели надолго умом и волей его.
А через две недели Иван вдруг в объезд далекий по разным монастырям собрался, с женой, с царевичем…
Порешил он покончить и с протопопом, и с Адашевым, и со всеми теми боярами, князьями мятежными, которые в числе десяти — двенадцати родов еще боролись с возрастающей на Руси самодержавной властью царской. Но раньше пожелал юный правитель узнать, как народ на него смотрит. Может ли он на земскую силу опереться и против бояр ее выставить?
Поняли это бояре-крамольники. Всеми силами мешали Ивану в его затее. Не остановились даже перед тем, чтобы в пути убить малютку царевича: отравили Димитрия!
Стерпел все Иван, выполнил свой замысел — и довел дело до конца.
Году не прошло — утешила царица мужа в потере сына: второго царевича, Ивана, родила. Только сама не могла утешиться… А 26 февраля 1556 года родилась у них дочь, Евдокия, лет четырех и скончавшаяся.
А 11 мая 1557-го родился еще сын Федор, слабый, больной ребенок, однако, выживший и даже переживший старшего, крепкого, красивого брата своего…
XV
Ни дети, ни годы, ни смуты, ни заботы, какими полна была жизнь царя Московского и жены его, нисколько не влияли, казалось, на Анастасию. Правда, черты лица ее утратили прежнюю девическую мягкость и неопределенную округлость, стали определеннее, законченнее, тоньше. Но то же чистое, безмятежное выражение в глазах. Та же кроткая, пленительная улыбка почти всегда озаряет лицо, если только грусть и слезы не туманят его.
С детьми ли царица, во храме ли, приказы ли отдает, нищих ли оделяет или молит ожесточенного, разгневанного государя за бояр опальных, из беды их выручает — постоянно каким-то внутренним светом озарено это бледное прекрасное лицо.
А Сильвестр, постепенно испытавший охлаждение царя, затем опалу, клянет всячески бедняжку, считая ее корнем всех зол.
— Иезавель нечестивая, не царица она кроткая! Все прикидывается. А сама крови так и жаждет, так и просит от обезумевшего супруга и царя своего! — вопил сперва по всей Москве и теперь продолжает в далеком монастыре, в изгнании, твердит Сильвестр.
Адашев, чуя, что почва уходит из-под ног, то же самое про Анастасию, только не так громко говорит.
Знает царица, знает Иван об этом. Терпит до поры.
Узнал Иван, что народ весь стоит за него, а не за бояр, и постепенно решил извести многовластие в царстве своем упрямый, настойчивый молодой повелитель…
Вспоминает он дни своей юности, детские годы свои и шепчет:
— Видно, сызнова за топор взяться надо! Давненько на Лобной площади голов не сымали кичливых, мятежных, боярских! Я опять начну…
Чуют бояре приближение грозы и делают последние усилия сломить или хоть устрашить того, кто угрожает стародавнему дружинному укладу московскому.
Правда, по стопам отца и деда-самодержца идет Иван. Да уж больно рано начал… И шагает решительно!
Последним ударом, нанесенным Ивану в глухой борьбе боярства с самовластием царским была смерть Анастасии.
Случилось это осенью 1560 года.
Но болезнь, подкосившая царицу, задолго до того началась.
Уже не только Казань — и Астрахань подпала Москве к тому времени.
Ливонию начал Иван воевать, на крымскую орду зариться…
Осенью 1559 года собрался он в октябре со всею семьей в обычный монастырский обьезд, на богомолье…
Целый месяц проездили. Дороги подморозило было, и ехать хорошо привелось.
Уже и домой, на Москву, царский поезд повернул. В Можайске на денек передохнуть остановились всем огромным, длинным поездом, с колымагами тяжелыми, царскими, с возками, в которые по двенадцать коней запрягать надо. И телеги обозные, и челядь, и вершники — все тут же. Одна беда: коней мало.
Бояре, царем недовольные, не очень-то позаботились, чтобы на пути Ивану народ лошадей выставлял побольше.
Раскинулся на ночь весь поезд, станом стал под стенами небольшого монастыря, что белеет верстах в пяти под городом. Гонцы во все концы рассыпались — лошадей свежих добывать, к столу царскому припасов искать.
С вечера мороз сильнее ударил. Заиндевели совсем жнивы пожелтелые, снежком было их еще гуще, чем до того, покрыло.
А под утро южным ветром потянуло. Солнце совсем по-вешнему пригрело. На буграх снег неглубокий таять стал, по перелогам вода зажурчала. Настоящая оттепель началась, с теплым крупным дождем.
Дороги сразу развезло: ни пройти ни проехать!
Не то двенадцать — и двадцать коней иную тяжелую каптанку не вытянут: грязь по ступицу! И ноги коням трудно из этой густой грязи вытягивать, не то — возки везти.
Отстоял царь с царицею раннюю обедню в монастыре, где кое-как переночевать пришлось, откушали — и приказал он к поезду собираться, хотя бы до Можайска доехать. Верст пять до города всего. А в монастыре тесно, сыро, бедно… В городе все-таки можно одну-две избы получше выбрать, переждать, пока коней приведут сколько требуется.
Угрюмый, злой вышел на крыльцо Иван, смотрит, как люди хлопочут, как кони напрягают все силы, чтобы тяжелый возок царский, даже пустой, из грязи вытащить, от места ночевки к крыльцу его подать.
— Доберемся ль мы до жилья, до городу, Ваня? — обратился царь к охотничьему своему и молочному брату, Челяднину, распоряжавшемуся челядью.
— Авось Бог поможет! Вишь, я в возок-то уж из обоза лишних три пары припречь приказал! Вывезут, ничего!
— Ну, ладно… А уж приказу ямскому я попомню, как они царю смену изготовили, середь поля, середь грязи посадили, с царицею недужной! С детьми малыми… Особливо энтому старому хрычу, Одоевскому! Как тестем стал братцу, князь Владимиру, так и почал против нас ковы строить. Ладно! Со всеми сочтуся. И не ждут они, что я им уготовать хочу… Ну, коли ехать, так с Богом! Пущай царицу кликнут!
Уселся Иван в возок тяжелый.
Вышла на крыльцо и Анастасия Романовна, в шубе тяжелой, собольей, в меховой шапке, тепло укутана, хоть и оттепель на дворе. Все зябнет да кашляет царица. Особенно по ночам.
Сухой, упорный кашель порою и уснуть не дает…
— Ванюшка, а доедем ли? — спросила она, усаживаясь рядом с Иваном. — Ишь, будто море разлилося, землю размыло! Дороги и не видать. А здесь и перегодить бы можно.
— Монастырских клопов кормить? Караваем черным чад малых питать? Садись уж, не распаляй сердце. И без тебя нудно!
Замахала рукой Анастасия, словно желая успокоить мужа, и стала детей получше усаживать да укутывать.
— Ваня, ты большой… Насупротив, к «маме», к Патрикевне, садися. Так… Докушка меж мной и осударем-батюшкой сядет. А Федяньку, Домна, Патрикевне на руки дай. Вот, в добрый час! Сели, осударь!
И она потянулась погладить по голове любимца своего, пятилетнего царевича Ивана, который, тоже очень тепло укутанный, весь так и раскраснелся, сидит, покрытый испариной. Теплый день, душная колымага и груда одежды совсем истомили мальчика.
Евдокия, на год младше брата, худенькая, болезненная, тихо уселась, совсем притаясь за широкой спиной отца. Ей приятно, что так тепло сейчас. Она тоже зябнет постоянно, как и мать.
Федя, двух лет, полненький, но прозрачно-бледный ребенок с очень большой головой, безучастен ко всему, сидит на коленях у «мамы», боярыни Варвары Патрикеевны Нагой.
— Трогай! — приказал Иван Челяднину и захлопнул дверь возка.
Слюда, вставленная в дверцах по обе стороны, пропускает довольно свету в возок, по величине и устройству похожий на жилую комнату.
Внутри, под сиденьями — целый склад всего, что могло понадобиться в пути. Даже ночевать в случае крайности можно в таком возке. Столик складной прилажен тут же. Вместо рессор он весь качается на ременных тяжах непомерной толщины и крепости, выкроенных из цельных буйволовых шкур.
Колеса, высокие, тяжелые, словно маховики теперешние, сверху еще окованы толстыми железными шинами и весят сами по себе десятки пудов.
Неудивительно, что и по хорошей дороге возок оставляет всегда глубокие колеи.
А сейчас, когда землю дождем размывать стало, чуть не по ступицу уходят эти колеса в мягкий грунт немощеных, глинистых и черноземных дорог.
По слову царя загикали возничие, защелками бичами вершники, засуетились провожающие поезд челядинцы, подпирая возок с боков и сзади, чтобы легче было коням такую громаду с места сдвинуть. А там раскатится возок, разойдутся лошади — и пойдет дело.
Напряглось целых два десятка разношерстных лошадиных грудей, натянулись постромки, раз-другой дернули кони. Чмокнула, хлюпнула под копытами жидкая грязь, в которой тонули колеса, и возок сдвинулся.
— Господи, Спас Милостивый! Храни и помилуй. В добрый час да в пору! — истово стали креститься все, сидящие внутри.
Другие экипажи с провожатыми и обоз, сгрудившийся раньше на монастырском лугу, стали кое-как вытягиваться за царским возком. Чуть не на версту растянулся поезд.
Пока дорога от монастыря легким уклоном с холма сбегала к речке небольшой — все хорошо было.
Десять пар коней, вытянувшись длинным гусем, дружно месят грязь мохнатыми ногами, тянут колымагу. Бойко миновали подновленный бревенчатый мосток, перекинутый через речонку, пересыхающую летом, но теперь полную водой.
По ту сторону речки уже не под гору дорога, а слегка в гору идет. И топкая полоса, кроме того, отделяет этот подьем небольшой от самого берега речного.
С раската подхватили кони возок за мостом, миновали топкое место, к тому же слегка теперь фашинником загаченное. Вот и кверху стали передние кони взбираться, скользя по грязи, надымаясь и напрягаясь до последнего. Все десять пар подымаются по скату. И возок на несколько саженей продвинулся кверху. Стоит еще четверть версты миновать, до перевала добраться — и там ровная дорога пойдет.
Но передние колеса возка вдруг скользнули, ухнули в колдобину, вымытую на дороге, — и возок остановился. Быстро стали грузнуть колеса. Напрасно хлещут коней провожатые, сами напрасно из сил выбиваются. Не сдвинуть возка!
И весь поезд остановился сзади. Кто на мосту, кто еще на том берегу.
С грохотом распахнулась дверь возка. Сердце упало у тех, кто поближе стоял. Иван высунулся весь, не глядит, что крупный дождь, льющий с утра, так и мочит ему шубу, шапку, за ворот пробирается.
— Ваня! — крикнул он Челяднину. — Нету моей моченьки! Сатана, видно, сам ходу нам не дает! Вели каки-нибудь дроги, телегу, што полегче, пусть дают!.. Пересядем с царицей! До избы до какой добраться хоша!..
Грузно поскакал на сытом, сильном коне Челяднин назад, высадил из двух небольших колымаг кой-кого из свиты царской — и подъехали эти колымаги к возку.
— Припрягайте по две пары ошшо к колымажным двум парам! — велит Челяднин.
Выпрягли из возка четыре пары коней получше, ведут, припрягают к колымагам. А пар столбом так и валит от взмыленных животных.
— Выходи, Настюшка! Эй, вы! — крикнул Иван к челяди: — Хто поздоровей! Пересадите государыню!..
Спешился старый, но могучий, коренастый, как медведь, доезжачий Васька Ширяй, бережно, как ребенка, подхватил Анастасию, стоящую на подножке возка, и перенес в колымагу, теперь обьехавшую застрявший возок.
Также перенес он и царевну, и Ивана-царевича, «маму» — боярыню Толстую, державшую Федора на руках.
Вернувшись, он протянул было свои волосатые руки, чтобы поднять и самого Ивана, перенести его во вторую колымагу, так как в первой весть больше некуда.
— Эка, обрадовался, дурень! — отмахнувшись рукой и улыбаясь невольно, сказал Иван. — Коня мне подайте!
Живо подвели ему коня, с которого слез перед тем Ширяй.
Вскочил в седло царь, добрался до колымаги и с седла пересел в нее.
Поезд снова тронулся в путь, оставляя за собой возок, который так и чернел своей громадой на фоне серого, дождливого дня.
Жарко стало в возке Анастасии. Распахнула она шубу. Ветром, дождем обвеяло ее, пока переносили в колымагу царицу. И в самой колымаге дует отовсюду, не то что в закрытом домике на колесах, в котором постоянно ездить приходилось раньше.
В Можайске остановился поезд у двора воеводы Крутнева. Царская семья у воеводы, в лучшем доме, какой есть в городке, поселилась. Другие кое-как приютились у попа, у целовальника, у торговых людей, чьи избы почище да попросторней. Надо свежих коней ждать, чтобы дальше ехать, прежние измучены. Да и снова мороз легкий к вечеру ударил, когда уже к городу подьезжать стали. Может быть, по-прежнему, путь хороший установится. Переждать решил Иван.
В домашней «крестовой палате» Крутнева, как водится, царь с царицей службу отстояли… Повечеряли и отдыхать пошли.
Наутро новая беда приспела: вся в жару лежит Анастасия, мечется, никого не узнает.
Совсем потемнел Иван. Ни лекарств, ни докторов с ним нет хороших. Все в Москве! А туда когда еще добраться Бог приведет!
Мечется, бегает Иван по небольшой горенке, рядом с тою, где жена лежит. Слушает стон и бред ее невнятный. Вот закашлялась… Что это? Тазом брякнули… Не выдержал, кинулся он туда…
Ноги подкосились, в глазах потемнело у Ивана! Кашляет Анастасия, а у нее изо рта, по подбородку, по груди тонкая струйка темной крови так и полилася, все больше, все светлее делается. Вот целым сгустком кровь упала в таз серебряный, который держит у подбородка больной лекарь Схарья.
Он царя после взятия Казани от тяжкой болезни вылечил — и теперь, как на счастье, взял его Иван с собою. Пригодился жидовин.
Перестала кашлять Анастасия. Откинулась на подушку, тоже алеющую и мокрую совсем, лежит, тяжело дышит. Но кровь не льется больше. Что-то в рот успел вылить больной женщине лекарь — и остановил кровь.
— Схарья! Слышь, Схарьюшка! Да што ж это? Неужто умирает? Почему? С чего? Не зелья ли подсыпали? Нешто можно так, сразу? Скажи, Схарьюшка, ничего не бойся! Правду говори! Не то…
И мольба, и горе — угроза, гнев скрытый, сдержанный, но тем более ужасный, — все это вместе перепутано, все звучит в голосе, в речах Ивана.
Качает своей плешивой головой старик, сдвигает назад черную скуфейку на остатках черных когда-то, курчавых волос.
Что сказать? Оспаривать нелепую догадку? Схарья не так глуп, он хорошо знает своего господина.
Сказать «да»?..
Но сейчас же начнутся сыски, допросы, пытки и казни. Это тоже не годится. Почесывает в затылке старый мудрец и медленно, как всегда, говорит:
— Зелье? Ну, а почему же не может это случиться от зелья? Очень может случиться. Разве ж мало на свете злодеев, которые и Бога не боятся, и себя не жалеют! Ну а почему не может быть так, что царица всемилостивая простудилась немножко. А в дороге кушать ей разве дают что надо? Вот из желудка кровь и пошла немножко через горло. Почему ж бы ей не пойти, если ее много там собралось? Как думаешь, великий государь?
— Ума ты решился, жид? Тебе лучше знать, што надоть думать мне! Не лекарь я… Ты и узнавай!
— А рази же я говорил, что не стану узнавать? Я все узнаю. Только времени надо немножко. Старый Схарья, плохо он лечил светлого царя? Разве он не вылечил его? Так царицу еще легче будет вылечить. Все-таки она не великий господин и царь всея Руси… Казанский… и Астрахан…
— Ну, раскалякался! Буде! Вылечить ее мне, да поскорей! Слышишь? Тогда… тогда сам проси, чего захочешь! Золотом засыплю! А не вылечишь…
— А не хочет ли сказать великий господин, что если бедный Схарья не вылечит, дак ему будет самому черная смерть?..
— Ты сказал…
— Так разве ж Схарья посмеет не вылечить! Великий государь может верить Схарье. Хоть он и старик, а пожить еще при дворе такого великого, доброго и щедрого царя Схарье хочется. Пойдемте же теперь! Затихла государыня… Может, заснет! Это для болезни лучше всякого лекарства будет.
И оба вышли потихоньку.
Схарья постарался. И природа тоже помогла ему. Ростепель сырая быстро прошла. Настали сухие, морозные дни. Жар у Анастасии скоро спал.
Тут наехали еще врачи, за которыми послал гонцов Иван. Привели лошадей, подоспели обозы с необходимыми припасами, с мехами, с постелями.
Только из бояр-правителей, за которыми тоже посылал Иван, никто почти не явился. Дела по службе, по приказам у каждого нашлись… Иные больными сказались.
Чуют, не для приятных бесед царь зовет, и решили: пройдет время, приедет на Москву уже остывший. Тогда не так страшно и говорить будет с юным повелителем. И эту обиду молча затаил в себе Иван. Только торопится жену живою домой довезти.
— Дома и стены помогают! — говорит он Насте, уже пришедшей в себя.
А больная, словно извиняясь за причиненные мужу заботы и хлопоты, тихо отвечает:
— Ванюшка, да мне совсем лучше!.. Не печалуйся. Вишь, и Схарья толкует: пустое все… Увидишь, как я опять располнею, заалеюсь! Ты теперя, лих, и не гляди на меня. Не то разлюбишь. А мне совсем хорошо.
Устала от такой долгой речи, закашлялась Анастасия. Большой красный шелковый плат к губам прижимает, чтобы не заметил муж пятен крови — когда та из горла снова покажется. Хоть понемногу, а изредка является еще эта гостья непрошеная.
Все замечает Иван. Невольно руки у него сжимаются. Грозит он вдаль кому-то и шепчет:
— Изверги, предатели! Гады ядовитые!.. Ни сами очей не кажут, ни путей повыправить не удосужились… Рады, гляди, если весь род наш царский тут и загинет! Без людской, без Божьей помощи! Добро же! Сочтемся, други милые!..
На много ночей лишились бы сна бояре ленивые, отяжелелые, если бы видели сейчас лицо Ивана, если бы слышали шипящие звуки его голоса…
XVI
Около девяти месяцев прошло со времени этой неудачной поездки на богомолье.
Иван, вернувшись на Москву, не привел еще в исполнение своих угроз. Почти не вмешивается он и в дела государские. Совсем расхворалась Анастасия, тает как воск. Не помогают ей усилия врачей, своих и приезжих из Киева, из Кракова, из Германии, которых поспешил вызвать Иван.
А бледная, тихая малютка Докушка — она еще зимой прошлого года, как приехали в Москву, умерла незаметно, скромно, как и провела свой недолгий век на этой печальной земле.
Под тяжелым, каменным саркофагом схоронили исхудалое, маленькое тельце. И все почти забыли о царевне, кроме больной матери. Пока хворала дочка, молила царица св. Онуфрия, детского целителя. Он не помог. И тоскующая мать льет слезы по ночам перед ликом Божьей Матери, всех скорбящих Утешительницы. Не глядя на горе, на болезнь, царица по-прежнему ведет свой обиход, схожий больше с подвигом монашеским, чем с мирским житием.
Предоставляя себя в полное распоряжение врачей, она больше верит силе чудес… Часто иконы подымает чудотворные, принимает их в своих покоях. Хранит в особых сосудах воду святую от мощей различных угодников и пользуется ею.
Особенно чтит она воду из двух источников Сольвычегодской пустыни во имя Божией Матери Одигитрии, основанной лет пять тому назад. Тогда же, ночью, едва услышав от своих боярынь об этой новой пустыни, лежала, не спала Анастасия, тосковала, что часто детей берет у нее судьба, что сама часто хворает.
Задремала на время и увидела во сне Богоматерь, которая сказала ей:
— Пошли в новую пустынь Христофорову, во имя Мое основанную! Не славна еще пустынь и людям мало ведома. Вели привезти оттуда воды, вытекающей из камня. И получишь все, о чем молишь, когда с верой изопьешь воды той.
Проснулась царица, мужу про сон сказала. На другой день вторично тот же сон повторился.
Послал Иван в пустынь, добыл там воды, привезли Анастасье — и каждый раз, когда пила она эту воду, словно гнет спадал с души, силы крепли телесные.
Но теперь — ничто не помогает. Слишком силен недуг!
Перемогает себя царица, по церквам сама ходит, молебны служит. Дары вносит щедрые и на монастыри, и на храмы.
Душа понемногу успокаивается у Анастасии, а тело все больше и больше слабеет.
Наконец не в силах больше она и с постели подняться. Порою потоки крови, вырываясь из груди, душат ее. Больно, тяжко… Дышать трудно.
И ни стоном, ни жалобой не выдает муки своей царица. Ивана утешает, который почти не отходит от нее.
— Ванюшка, чего тоскуешь, милый? Оздоровею. Вешни дни настанут — и встану. А… а не встану? Тоже воля Божия! Ты не скучай, гляди! Я коли увижу — сама тосковать тамо учну. Ладно ли? О ребятках наших подумай. Иную каку царицу себе сыщи! Молод ты… негоже долго вдовым быть. Малость побудь. Не сразу оженись… А все же мать деткам надобна…
— Настя… Настюшка! Да што ты это? — начал было Иван. Но слезы не дали говорить.
— Ничего, любый! Так, про всяк случай советуемся мы с тобой… Нельзя же… Век, почитай, вместе прожили… 14 годков… Ваня, вон сколько! И мало когда спорилися… Почитай, без всякой свары прожили! Как оно и в законе… Чего же тебе?.. Вот в останный раз и посоветуемся, голубь мой! По душе… безлестно! Я ли не любила тебя? — сам ведаешь… И деток… И царство твое… И буду вас любить! И Бога молить стану за вас… А ты… Слышь, Ваня… Порой смиряй сердечушко! Золотое оно у тебя… Да, поди, горячее. Сможешь — попомни, смиряй его…
— Буду помнить, Настюшка! Да стой… Неужто ж вправу ты…
— Уйти собираюсь отседова? Видно, так придется, Ванечка! Да будет воля Его… И ты чаще так говори… Он и приведет тебя ко всем путям твоим… И все даст, чего вороги отнять захотят. Знаю, верю я… Слышь, легко мне нонче таково! Верно, помру скоро… Не печалься, еще тебя молю… Да… детишек позвать бы…
Привели Ваню-царевича. Седьмой год уж ему. Вот он понимает. Стоит — слезы градом сыплются. Жаль ему расстаться с матерью.
И Федор, пятилетний, на брата глядя, хнычет жалобно. А сам глядит рассеянно по сторонам.
Лучи осеннего августовского солнца, косые, вечерние, красноватые лучи ударяют сквозь оконце опочивальни, где лежит Анастасия.
Ее приближенные боярыни и слуги — в соседней комнате, тоже рыдают, негромко, сдержанно. Священный весь клир наготове. Посхимить должны в миг смерти царицу. Макарию дали знать. Тот сам болен, но сказал, что придет.
Обняла Анастасия Федю, благословила, поцеловала! Потом привлекла старшего сына к себе, охватила его шейку ослабелой, исхудалой рукой, прилегла щекой к его щеке и шепчет:
— Люби государя-батюшку, Ваня! Бойся, слушай его… Вырастешь — такой же смелый, славный будь. И… и добра твори много людям своим… Бог тебе за то добро сторицей пошлет! Пускай зло тебе сделают — а ты прости! Нужно ежели — покарай злодея, да тут же сердцем прости, пожалей его. Так себе скажи: царь-де ослушника карает, а человек — сам грешен, он милует. Слышь, сыночек? Разумеешь? Попомнишь ли?
— Слышу. Попомню, матушка-осударыня.
— Помни!..
И еще, еще целует мальчика.
За руку мужа взяла, жмет слабо, как только может… Вдруг — задрожала вся. Глаза засверкали, лицо приняло какое-то удивленно-радостное выражение.
— А… Машута… Аннушка… Докушка… И вы. Благослови вас Господь! Ми… Митенька… Ты? Пора?.. Вижу… Слышу… Ми… Митень…
Не договорила… Вытянулась, впала в беспамятство совсем. Хрипло дышит. Тяжело так…
Крикнул Иван. Сбежались люди.
Обряд пострижения начался.
Еще раз крикнул Иван, припас лицом к ногам умирающей — и весь забился, затрепетал от неистовых, громких рыданий. А сквозь эти рыдания хрипло вырываются крики порой:
— Злодеи! Вороги! Убили! Отняли! Извели до сроку, проклятые.
Прорезают эти отрывистые зловещие крики такой же зловещий, но мерный напев клира, возлагающего схиму на умирающую Анастасию.
11 августа 1560 года, в девятом часу вечера, ее не стало.
XVII
Долго ли тосковал и плакал Иван по жене, которую так любил? — никто не знал. Последняя вспышка дикого отчаяния разыгралась, когда стали забивать крышку колоды-домовины (гроба) с останками царицы.
Рыдал, проклинал, грозил Иван страшным, хриплым от слез голосом. И, наконец, свалился в припадке падучей, которая теперь появлялась все-таки у него, хотя и реже, чем в раннем детстве.
Схоронили Анастасию — и прежняя какая-то несменная угрюмость застыла на лице у царя.
И раньше редко с кем-либо, кроме простых людей, бывал приветлив Иван. Но в семье, в своих жилых покоях, он и смеялся, и простым, добрым умел бывать.
Теперь все это ушло.
Судит царь, послов принимает, во храме стоит, на охоту выезжает или предается шумному, нездоровому веселью порой — и все одно и то же, безучастно мрачное лицо у него, лицо, наводящее страх на людей непривычных. Если и улыбнется он, так кривой, нехорошей улыбкой. И тогда именно, когда другие плакать собираются над чужой бедой или над собственным страданием.
На пытках, в застенке — по-старому часто стали видеть молодого повелителя. Кровавые прежние забавы с медвежьими и псовыми боями припомнил он.
Миновали светлые дни на Москве.
Первыми и самыми крупными жертвами этой перемены были протопоп Сильвестр и Адашев.
Сильвестр и то уж ушел от двора, еще при жизни царицы, когда заметил, что Иван не только перестал его слушать, но все наперекор делает.
В дальнем Белозерском скиту, по совету Макария, как бы в добровольном изгнании, поселился протопоп.
Адашев тоже словно в почетной ссылке находится: воеводой царским в Ливонии, в Феллине-городке.
Но Ивану мало этого. Он нашел свидетелей из лиц, которые враждебны были обоим опальным. И стал заочно судить обоих, обвиняя именно их в том, что они «на царицу, в бозе усопшую, помышляли, чары творили, зелье ей потайно давали, на след сыпали».
Верит, не верит сам царь обвинению — не все ли равно?
Нарядили суд, заочно осудили обоих.
Адашев, переведенный под стражей в это время в Дерпт, чтобы убежать не мог, не дождался приговора, сам покончил с собой.
Сильвестра в Соловецкий скит заточили, причем строго было наказано: самую тяжкую работу возлагать на бывшего правителя царством, всяческими лишениями изнурять его.
Делали ли монахи по приказу? — кто знает.
Но Иван доволен: хотя немного выместил врагам, тем, кого считает главными угнетателями своими, да еще хитростью опутавшими волю его.
Редко видит теперь сыновей Иван.
С ними бабка Захарьина больше находится. А если приведут старшего, Ваню, к отцу на поклон, хмурится Иван. Лицом ребенок на мать очень похож. И словно укор за что-то читает Иван в глазах бойкого, живого мальчика, в этих больших, ясных, невинных глазах, взятых у Анастасии.
Тяжела голова от вечерней пирушки, душа полна кровавыми или соблазнительными картинами, без которых дня не проходит теперь. А Ваня-царевич глядит на отца чистыми глазами своими и «челом бьет», спрашивает:
— Добр ли, здоров, осударь-батюшка? Хорошо ли почивал, родименький? Бог милости послал: вот вынул я просвирку за твое осударево здравие!
Махнет рукой, чтоб уводили скорее сыновей — Ваню, разговорчивого, и Федю, тяжелого, молчаливого, который напоминает отцу слабоумного брата Юрия, когда тот ребенком еще был.
И опять один Иван, опять от тоски темнеют глаза, стареет он лицом.
И всюду, всегда он один: на пирах, в Думе, на поле ратном, в Ливонии, которую решил вконец покорить.
В церкви и на площади людной — везде одиноким, затравленным себя он чувствует. Словно враг близко, за чьей-то спиной сторожит его, удар навести собирается. И чтобы выйти из этого состояния одиночества и тайного страха, Иван сам на дыбу вздымает людей, рубить, колоть, жечь велит и помогает своими руками палачам. Легче ему тогда, проходит личный страх, забывается одиночество.
Зато ночи — вот пытка Ивану!
Совесть в темноте, в тишине пробуждается, светлые дни с Настей вспоминаются. Образы казненных, тени замученных вереницей медленно перед глазами влачатся, грозят иной, загробной карой, возмездием Божеским.
Закричит Иван… Войдут близкие слуги, спальники, дежурящие рядом с опочивальней царя. Легче ему. Но стыд жжет душу.
«Ишь, словно дате малое, один побыть в ночи боится царь! — скажут». Так думает Иван. И приказывает дьяка позвать. Нужно-де важную епистолию составить.
Или за Схарьей посылает.
Придет старик жидовин. Знает уже он, давно понял, в чем дело!
И тихо начинает беседовать с царем, дает ему питья успокоительного. Уверяет, что это «приступ трясучки» у повелителя.
— Ну, это ж не так опасно. Вот заснет великий государь — и к утречку все минет. Разве ж я не правду говорю?
— Правду, правду. Мне и то лучше! Ступай, старый, спи!
Отпустит Схарью, успокоенный и речами и напитком лекаря, Иван и снова ложится, засыпает…
Новые приближенные люди, которые теперь, наряду с Захарьиными, окружают царя, все видят, все примечают… И толкуют между собой:
— Жениться бы в другое надо царю…
Не по душе эта мысль Захарьиным. Но и они сознают, что не миновать того. И стараются только, чтобы не из влиятельного рода какого-нибудь взял вторую жену царь.
«Спихнут нас тогда совсем!» — думают родичи покойной царицы.
И потихоньку работа началась. Со всех сторон вдруг заговорили о второй женитьбе Ивана как о деле решенном.
А ему внушают постепенно, как хорошо было бы на Востоке, в предгорьях Кавказа, друзьями заручиться. Тогда Крыму вот какую можно пакость подложить… Того и гляди, по следам Казани с Астраханью — весь Сарайчик, орду, ханство Крымское Москве покорить. Поставить русские города на Тереке, в Кабарде. Они сослужат службу.
И сам Иван давно мечтает об этом. Потому и заговорили люди. Знают, где слабое место повелителя.
А с другой стороны — только и слышно стало речей, что о красоте княжны Кученей, брат которой, Михайло Темгрюкович, сын сильного «жеженского» владетеля, кабардинского князя черкесского Темгрюка, недавно на службу к царю явился и самым ревностным образом, как истый азиат, выполняет малейший приказ Ивана.
Много дней велась работа.
И пришло дело к концу. На одном из пиров крикнул Иван князю Темгрюковичу:
— Слышь, черномазый хорт! Подь сюды!
Стройного, тонкого, загорелого черкеса-горца так прозвал Иван особенно за его перетянутую ремнем, тонкую, как у осы, талию, напоминавшую поджатый живот у хорта.
Сорвался с места, подбежал князь, низко кланяется, улыбается, сверкающие зубы так и скалит.
— Твой раб, повелитель… Что поизволишь?
— Правду сказать можешь? Сумеешь ли?
— Аллах… то есть Христос не велит лгать никому, а владыке — и подавно.
— Ну, то-то ж. У вас, у азиатов, все ж таки совести малость поболе, чем у моих бояр. У них жиром совесть заплыла, золотом краденым завалена. Вот правду и поведай мне! Так ли хороша сестра твоя, как молва идет?
— Ай-ай хороша! Ах, как красива! Выйдет днем — солнце остановится, чтобы посмотреть на нее. Ночью звезды с неба падают, а луна за тучей кроется. Стыдно им, что глаза сестры ярче звезд, что лицом она светлей полной луны, в небесах сияющей. Соловьи под окном ее круглый год поют, умирают от любви, от тоски по ней. Сам шах перский, повелитель Ирана, сейчас к ней сватов шлет…
— Шах? Не врешь? Ну, не дадим мы ее магометанину неверному! Заутро же послов снаряжу. А ты отцу толком напиши, Чтобы скорей высылал дочку, не кочевряжился б. Не то… Знаешь меня! Мои воеводы к вашим аулам поближе стоят, чем бунчуки шаха перского. Слышал? Ступай напивайся допьяна! Ноне справлю сговор заглазный свой.
Ниц упал Темгрюкович, прижал к устам край кафтана царского и, весь перерожденный, словно пополневший, на голову выросший, сел на место, не на прежнее, а много ближе к царю, силой заставя потесниться бояр и воевод, сидевших на скамье в этом конце стола.
— Гляди, агарянин, не больно дмися! Лопнешь, гляди, — проворчал ему невольный новый сосед, князь Воротынский, прямой, грубоватый воин. — Не сказал царь, что в жены, гляди, как бы в «женищи» не взял сестренку-красулю твою.
Потянулась было к кинжалу рука горячего горца. Но он успел овладеть собой, даже улыбнулся и учтиво ответил:
— Спасибо за опаску, князь! Сейчас видать, что привык ты в поле врагов сторожить, мало в царском дому живал. Не знаешь али позабыл: воля царя — закон для рабов, чего бы ни пожелал повелитель.
Ничего не ответил на лукавую речь Воротынский, с соседом по другую сторону толковать стал.
Месяца через три привезли пятнадцатилетнюю княжну Кученей Темгрюковну, восточную смуглую красавицу, на Москву. Ее и весь богатый поезд, состоявший из свиты, отпущенной князем Темгрюком, и из посольства, наряженного Иваном, — поместили в богатом доме, на дворе князя Ивана Михайловича Шуйского, митрополичьего боярина, недалеко от Симонова монастыря.
Сам Макарий просветил христианством княжну Кученей. Это тем легче было сделать, что мать у нее была русская пленница и княжна черкесская, хотя плохо, но говорила по-русски.
Новообращенной царевне-невесте дали имя Мария, и 21 августа 1562 года состоялась пышная свадьба царская.
XVIII
Настал 1564 год. 20 лет прошло со дня венчания Ивана на царство. Молод он еще, но уже много перенес, много и других вытерпеть заставил.
Темные дни настали для Руси. Темные дни пришли и для Ивана, хотя весело, буйно проводит он свои ночи, обращая их в день. Непрестанно об одном только думает Иван — врагов своих извести, от них оберечься. И тянутся розыски, пытки, казни без конца.
После смерти Анастасии, после удаления Сильвестра и Адашева — счастье словно навсегда покинуло царя. Ряд военных неудач, заботы по царству, где мор и голод стали обычными гостями, завершился потерей доброго, прозорливого старца Макария, царского друга и наставника.
Правда, ведя новую, шумную жизнь, редко стал Иван заглядывать в келью первосвятителя. Но тот издали все-таки успевал влиять на царя и в пользу царя…
А в этом году тихо скончался, словно угас, Макарий, умевший 22 года продержаться на престоле митрополитов московских и всея Руси.
Умирая, так же как Анастасия, молил старик Ивана:
— Чадо, смиряй сердце свое! Помни о Судне Нездешнем, Кой будет и тебя судить в некие дни!
Благословил царя — и затихать стал… Невольно две слезы показались на глазах у Ивана. Давно уж не появлялись у него слезы. Это были последние.
Присмирел на короткое время Иван после смерти владыки, но скоро опять все пошло по-старому: кровь, вино рекой полились.
Рано проснулся в один из вешних дней государь и к общей семейной молитве вышел.
Всегда на эту молитву подымается он, как бы поздно ни ушел накануне от стола вечернего.
Кончилась молитва.
— Как детки ноне почивали? — обратился царь с обычным вопросом к молодой жене, дикарке-красавице, Марии Темгрюковне. — Как сама в здоровье твоем?
— Тихо, ладно! Благодаренье Осподу! — гортанным говором отвечает стройная черкешенка, не смея глаз поднять на своего супруга и повелителя, опустив голову, отягченную двумя тяжелыми косами волос, черных, как ночь. Не отняли у нее этой красоты. Пожалел Иван.
Плохо говорит по-московски Мария, но все понимает. Только обычаи здешние чужды и дики ей, хотя напоминают порядки родного гарема, где росла княжна у матери.
Задыхается здесь царица, грудь которой привыкла к вольному горному воздуху. Тяжело ей дышится здесь, в затхлом, спертом воздухе царских теремов, где не цветами, не лесами пахнет, а ладаном несет да травами сухими, целебными.
Давит ей голову высокий убор, кика жемчужная, дорогими камнями унизанная. Жмет плечи душегрея парчовая, тяжел сарафан аксамитный, шумливый, богато расшитый кругом.
Легче дикарке, когда царю охота придет и велит он ей надеть свое платье девичье, азиатское, полупрозрачные шальвары, длинный бешмет разрезной, небольшую шапочку, монетами унизанную.
И сам иногда черкесом нарядится, пугает сыновей непривычным нарядом, особенно робкого Федю, которого брат давно уже «царевной Федорушкой» зовет.
Вот и сейчас тоже хотелось бы Ивану побыть с детьми, душою отдохнуть, послушать их щебетанье веселое, подразнить бы капризного, вспыльчивого старшего царевича, который только лицом в мать, а по нраву напоминает самого царя в детстве. И жену приласкать бы надо. Да времени нет! Гонцы с плохими вестями из Литвы, из Крыма, из Ливонской земли, отовсюду прискакали.
Такие гонцы с плохими вестями теперь со всех сторон, словно вороны зловещие, так и слетаются. Иногда гонца тут и убил бы, так неприятна весть. Да не виноват он в своих вестях. И что ни весть, то плохая. Всех не убьешь!
Теперь надо идти, ответы писать, приказы новые посылать воеводам и наместникам на все границы земли русской.
Бегло приласкав детей, приблизился царь к Марии и говорит:
— Буде невеститься! Все очи долу держишь. Али не привыкла ко мне? Али соромишься, что чужих деток пестуешь, а своих Бог не дал? Будут, погоди… Заведем еще с тобою! Давно ли повенчаны? А скажи, Маруша, хотела бы деток?
— Как хотела бы, осударь! — вся зардевшись, шепчет она.
— Ладно. Сбудется по желанию твоему! А покуда — этих мне береги.
Поцеловал жену и вышел…
Со вздохом поглядела ему вслед Мария. Не верится, что Бог даст ей утеху, детей пошлет. Слишком грубы, даже порою жестоки ласки царя.
Часто же ему словно и глядеть противно на ее женскую красоту. Не зря толкуют, что иные, нездешние, азиатские обычаи завелись у Ивана, что и гарем он имеет тайный, да и похуже еще многое. Все знал брат Михайло, но ничего не сказал, конечно, ни отцу, ни сестре, когда устраивал этот брак ее с Иваном.
Терпит, молчит Мария. Что делать?
Такова женская доля, что в Кабарде, что в Москве: игрушкой, рабою быть у отцов, у братьев, у мужей своих.
И, смахнув слезинку, грустно улыбается царица, слушает, как окружившие ее пасынки и другие дети, призванные играть с царевичами, толкуют «матушке-царице» о новой проказе братца Ванюшки.
По ночам не спит, плачет свободней Мария. И все больше бледнеет ее лицо, из матово-смуглого прозрачно-восковым делается. Кашель резкий, озноб, испарина отымают силы…
— Чахнет молодая царица наша! — стали шептать по углам во дворце.
— Порчу напустили и на эту жену! — угрюмо думает Иван и намечает: кого пытать, кого казнить еще придется, если доконают и эту, как Настю доконали. Соображает, кому мешает новая жена его.
«Никому, как Захарьиным! — мелькает в больном мозгу. — Им невтерпеж, что новые люди кругом меня, родичи Марушкины. Вот и умыслили лихо. Ну, поглядим, што будет!..»
И сверкает глазами, сжимает посох свой царский с наконечником острым, стальным, без которого никуда не выходит теперь Иван.
А Захарьины и не чуют, какая гроза над головами всего ихнего рода сбирается…
Долго хирела Мария. Кровью, как и Анастасия, кашлять стала.
Раза два за те семь лет, какие прожила она в теремах царских, являлась у всех надежда, что даст царица плод брачный Ивану. Но все печально кончалось, только еще больше подкашивая слабые силы женщины.
XIX
Ранней весной, 1569 года, только было первые лучи веселые заиграли на главах золоченых в Кремле, выглянули в сводчатые душные покои дворцовые, — возвестили Ивана, что отходит Мария.
Пошел он проститься с умирающей, которая давно уже по имени только жена ему.
Как увидал он первую струйку крови на устах у больной года два тому назад, так уже почти и не виделся с нею. Разве за молитвой или за трапезой.
Подошел Иван к постели — и отшатнулся.
Не двадцатидвухлетняя, хотя бы и больная, женщина лежит перед ним, а старуха, скелет полуживой, с заостренным, клювообразным носом, с провалившимися щеками, на которых два пурпурных пятна горят.
Губы, когда-то полные, пунцовые, влажные, — потемнели, высохли, покрыты слизью и запекшимися следами крови. Руки плетьми лежат вдоль тела, поверх парчового покрова постельного. Только глаза еще живут, горят даже каким-то удвоенным, нездешним огнем.
У ног постели оба царевича стоят.
Ваня, пятнадцатилетний красавец богатырь, нередко принимавший уже участие в пирушках отцовских, полюбил тихую, кроткую, ласковую мачеху и теперь искренне опечален ее близкой смертью.
Федор, мягкий, женственный, с трудом привыкающий к дворцовой жизни, недавно взятый еще из женского терема на мужскую половину, совсем подавлен горем.
Мария взглянула на вошедшего Ивана, глазами знак сделала, когда тот спросил:
— Маруша, узнаешь меня?
И снова перевела взгляд на пасынков. Потом зашевелила пальцами, словно подозвать хотела их.
Наклонились оба… Она слегка коснулась до их головы концами холодеющих пальцев, потом, с последним усилием, переместила руку свою на небольшую иконку, подарок христианки матери, теперь возложенную на грудь умирающей по ее просьбе.
Губы царицы что-то шепчут, но голос не повинуется. Не слышно ни звука. Так и умерла она. Нельзя было узнать, молитву шептала в последний миг Мария или просила о чем-нибудь живущих: мужа, детей, которым старалась заменить родную мать…
Примечания
1
Теперь — это Троицкие ворота.
(обратно)2
Мясницкие теперь.
(обратно)3
См. «Житие Геннадия, Костромского и Любимоградского Чудотворца».
(обратно)4
См. Царственную книгу.
(обратно)5
См. древний план Кремля, времен Бориса Годунова, с описанием у И. Е. Забелина («История города Москвы», с. 305).
(обратно)



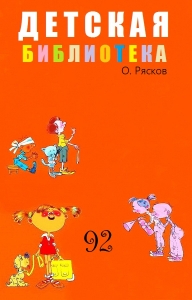

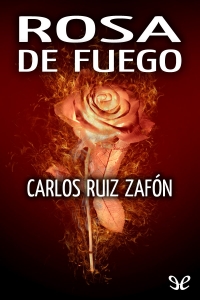
Комментарии к книге «Венчанные затворницы», Лев Григорьевич Жданов
Всего 0 комментариев