Ян Гийу Путь в Иерусалим
Благими намерениями вымощена дорога в ад.
«Jacula Prudentum», 1651Глава I
В год 1150 от Рождества Христова, когда безбожники-сарацины, позор земли и воинство Антихриста, нанесли нам многочисленные поражения в Святой Земле, на госпожу Сигрид снизошел Святой Дух, и было ей видение, изменившее всю ее жизнь.
Вероятно, это видение сократило ее дни, но одно совершенно ясно — с этого дня она стала другой. Менее очевидно то, о чем много позже написал монах Тибольд, — в тот миг, когда Святой Дух явился Сигрид, было положено начало новому северному королевству, которое позже стали называть Швецией.
Это случилось в день святого Тивуртия, который в Западном Геталанде считается началом лета. Никогда еще в Скаре не собиралось так много народу, потому что никогда еще не было здесь такого праздника — праздника освящения нового собора.
Церемония длилась уже второй час. Процессия трижды обошла вокруг церкви, но двигалась она необычайно медленно, поскольку епископ Эдгрим был очень стар и шел так, словно отправлялся в свой последний путь. К тому же казалось, что епископ немного растерян, и первую молитву в освященной церкви он прочитал на обычном языке вместо латыни: «Бог, Ты, который невидимо хранит все, но для спасения людей Ты делаешь свою власть видимой, возьми Твое жилище и царствуй в этом храме, чтобы все, кто собрались здесь на молитву, получили часть Твоего утешения и помощи».
И Бог действительно, для спасения людей или по другой причине, сделал свою власть видимой. Это было действо, которое никто и никогда не видел ранее в Западном Геталанде: сияющие цвета расшитых золотом епископских одеяний, светло-синий и темно-красный шелк, благовония из кадил, которые покачивались в руках каноников, и прекрасная, неземная музыка — никто в Западном Геталанде раньше не слышал ничего подобного. А если взглянуть вверх, то создавалось впечатление, что созерцаешь небо, хотя и под сводами храма. Было непостижимо, как бургундские и английские зодчие сумели создать такие высокие и нерушимые своды. И трудно было поверить, что Бог не разгневался на людей, дерзнувших воздвигнуть собор высотой до божественных небес.
Госпожа Сигрид была женщиной практичной. Именно поэтому некоторые говорили, что она сурова. У нее не было никакого желания отправляться в тяжелый путь до Скары, поскольку весна в этом году пришла рано, дороги развезло от грязи, и она испытывала беспокойство при мысли о том, что ей придется в ее нынешнем благословенном состоянии трястись в повозке. В земной жизни она больше всего опасалась предстоящего рождения второго ребенка. Она прекрасно понимала, что если речь идет об освящении церкви, то это означает, что нужно несколько часов стоять на каменном полу, периодически опускаясь на колени, а сейчас это было для нее мукой. В том, что касается многочисленных правил церковной жизни, Сигрид была намного более сведуща, чем многие стурманы и их дочери. Познания эти, без сомнения, она приобрела не вследствие глубокой веры и не по собственному желанию. Когда Сигрид было шестнадцать, ее отец не без оснований заподозрил, что она уделяет чересчур много внимания одному их родственнику из Норвегии. Это могло привести к тому, чем дома занимаются только в супружестве, как грубо выразился ее отец. И вот девушку отправили на пять лет в монастырь в Норвегию, и, пожалуй, так бы она и прожила всю жизнь монахиней, если бы вдруг не стала наследницей бездетного дяди из Восточного Геталанда, и потому оказалось, что выгоднее отдать ее замуж, чем держать в монастыре.
Словом, Сигрид знала, когда нужно стоять, а когда падать на колени, когда нужно бормотать вместе со всеми «Патер Ностер» или «Аве Мария», которые читал кто-либо из стоящих впереди епископов, а когда совершать собственную молитву. И каждый раз, когда нужно было совершать собственную молитву, она просила за свою жизнь.
Три года назад Бог подарил ей сына. Роды длились двое суток, два раза всходило и заходило солнце, пока она обливалась потом, в страхе и боли. Она чувствовала, что умирает, и наконец это поняли и все те добрые женщины, которые помогали ей. Они послали в Форсхем за священником, который отпустил ей грехи и соборовал ее. Но тогда Сигрид осталась жива.
«Больше никогда», — надеялась она. И теперь она молилась о том, чтобы больше не было этой боли, этого смертельного страха. Она прекрасно знала, что эгоистично так думать. Ведь женщины часто умирают от родов, человек должен рождаться в страдании. Но Сигрид молила Пресвятую Деву пощадить ее и пыталась исполнять свои супружеские обязанности так, чтобы не пришлось снова рожать. Ведь их сын Эскиль был жив, и это был хорошо сложенный и здоровый крепыш.
Разумеется, Пресвятая Дева покарала ее. Обязанность людей — наполнять землю, поэтому как можно просить, чтобы твоя молитва была услышана, если просишь как раз о том, чтобы тебя освободили от этой обязанности? Так что теперь ее ожидали новые страдания. И все-таки она снова и снова молила Пресвятую Деву помочь ей избежать мучений.
Для того чтобы по крайней мере избавиться от меньшего, но более унизительного страдания — в течение многих часов стоять, опускаться на колени, снова подниматься, она велела окрестить свою рабыню Сут. Теперь Сигрид могла взять Сут с собой в храм Божий и опираться на ее руку, когда нужно было преклонить колени. Огромные черные глаза Сут напоминали глаза испуганной лошади, и если раньше она не была христианкой, то теперь-то уж точно должна была ею стать.
На три ряда впереди Сигрид стояли конунг Сверкер и королева Ульвхильд. Они оба были в летах, и им становилось все труднее подниматься и падать на колени без натужного пыхтения и непотребных звуков. Сигрид находилась в церкви скорее ради них, а не ради Бога. Король Сверкер никогда особо не ценил ни ее норвежский и вестгетский роды, ни норвежский и Фолькунгов роды ее мужа. Теперь же, в старости, король стал с подозрением и беспокойством относиться к тому, что ждало его после окончания жизни земной. Не разделять религиозное рвение короля означало навлечь на себя его гнев. Если мужчина или женщина противились Богу, это можно было уладить с Ним самим. Поссориться с королем, как считала Сигрид, было гораздо опаснее.
Но на третьем часу церемонии голова у Сигрид закружилась, стало труднее стоять на коленях, а ребенок в утробе, словно протестуя, толкался все сильнее. Ей почудилось, что пол из отполированного светло-желтого камня закачался под ногами и вот-вот разверзнется, чтобы поглотить ее. И тогда Сигрид совершила неслыханное. Шурша шелками, она решительно направилась к дальней боковой скамье и села. Это видели все, в том числе и король.
Как раз в тот момент, когда она с облегчением опустилась на маленькую каменную скамейку, стоявшую у стены бокового нефа, в церковь вступила процессия монахов с острова Люре. Сигрид вытерла платочком лицо и ободряюще помахала рукой сыну, стоявшему рядом с Сут.
В молчании, с опущенными, словно в молитве, головами монахи прошли через весь собор, встали у алтаря и запели. Сначала зазвучало только негромкое глухое бормотание, затем внезапно раздались высокие голоса мальчиков. Было видно, что монахи, одетые в коричневые, а не белые плащи, — маленькие мальчики, чьи голоса, словно светлые птицы, поднимались к сводам церкви, и, когда они заполнили все пространство, к ним присоединились глухие голоса взрослых монахов. Раньше Сигрид слышала пение на два и на три голоса, но здесь звучало по меньшей мере восемь голосов. Это было настоящее чудо.
Обессиленная Сигрид, широко раскрыв глаза, смотрела туда, откуда неслось это божественное пение. Она слушала всем своим существом, так, что даже дрожала от напряжения. Перед глазами у нее потемнело, и она уже не смотрела, а лишь слушала, как будто для того, чтобы слушать, нужна была и сила ее глаз. Она словно растворилась в звуках священной музыки, красивее которой в земной жизни ничего не было.
Чуть позже она очнулась от того, что кто-то взял ее за руку. Подняв глаза, Сигрид увидела, что это сам король Сверкер.
Он дружески похлопал ее по руке и с иронией поблагодарил за то, что она, женщина на сносях, подала пример ему, старику, и первая села. Если можно ей, то можно и королю.
Сигрид решительно подавила в себе желание поведать о том, что с ней только что говорил Святой Дух. Ей показалось, что подобный рассказ будет выглядеть как притворство и что у королей в жизни бывало предостаточно подобных событий, пока кто-нибудь не отрубал им голову. Вместо этого она быстро зашептала о своем только что принятом решении.
Как король, разумеется, уже знал, вокруг ее наследства в Варнхеме разгорелась распря. Ее родственница Кристина, которая недавно вышла замуж за этого честолюбца Эрика, сына Эдварда, претендовала на половину собственности. Монахам с Люре нужна местность с менее суровыми зимами — все знали, что многое из того, что они выращивали на Люре, пропадало. Однако это не умаляет щедрости конунга Сверкера, подарившего им остров. Но если теперь она, Сигрид, подарит цистерцианцам Варнхем, то король может благословить дар и объявить его законным. И никто при этом не останется внакладе.
Она говорила быстро, тихо и слегка задыхаясь, а сердце ее по-прежнему трепетало от того, что она увидела, внимая небесной музыке, когда во тьме для нее вспыхнул божественный свет.
Конунг, казалось, сначала слегка растерялся, он не привык к тому, чтобы мужчины из его окружения говорили так прямо, без прикрас и околичностей. А тем более женщины. — Ты, Сигрид, женщина благословенная во многих отношениях, — медленно произнес он наконец и снова взял ее за руку. — Завтра, когда мы выспимся на королевском дворе после сегодняшнего пира, я призову отца Генриха, и мы решим это. Завтра, но не сегодня. Нам, пожалуй, не следует сидеть здесь и шептаться слишком долго.
Только что одним движением руки она принесла в дар свое наследство, Варнхем. Ни один мужчина и ни одна женщина не может нарушить слово, данное самому королю, так же как никогда не может нарушить свое слово король. То, что она сделала, уже нельзя изменить.
Но когда Сигрид немного пришла в себя, она подумала, что решение ее даже выгодно. Значит, Святой Дух вполне мог принести выгоду, и пути Господни не всегда неисповедимы.
Варнхем и Арнес находились в двух днях пути друг от друга: Варнхем — под Скарой, недалеко от усадьбы епископа, рядом с горой Биллинген, Арнес — на восточном берегу озера Венерн, там, где кончалась область Суннаскуг и начиналась Тиведен, у горы Чиннекулле. Усадьба Варнхем была поновее и получше, и Сигрид хотелось в самое холодное время года жить там еще и потому, что приближались эти кошмарные роды. Магнус, ее муж, хотел, чтобы они жили в Арнесе, владениях его отца, она же предпочитала Варнхем, и им никак не удавалось договориться. Иногда они просто не могли обсуждать это с вежливостью и терпением, которые пристали мужу и жене.
Арнес необходимо было перестраивать и переделывать. Усадьба располагалась на ничейных, пограничных землях вдоль леса, там было много общей и королевской земли, которую можно взять в обработку или выкупить. Многое можно было бы улучшить, особенно если перевезти туда всех рабов и скот из Варнхема.
Однако Святой Дух имел в виду не совсем это, когда Он явился Сигрид. Ее глазам предстало тогда неясное видение — табун удивительно красивых коней, шерсть которых переливалась, словно перламутр. Кони неслись к ней по цветущему лугу, их гривы были белы и чисты, хвосты гордо подняты, а двигались они грациозно, как кошки. Они не были дикими, потому что принадлежали ей. А где-то за играющими, резвыми, неоседланными лошадьми появился всадник в серебристых одеждах, тоже на коне с белой гривой и высоко поднятым хвостом, юноша был знаком ей, и в то же время Сигрид не узнавала его. У него был щит, но не было шлема. Герб на щите был не похож на герб ее родственников или мужниной родни, щит был белый, с большим кровавым крестом.
Юноша остановил коня рядом с Сигрид и заговорил с ней, она слушала его, понимая и в то же время не понимая. Но она знала твердо: слова, что он сказал, означают, что она должна пожертвовать Богу то, что сейчас больше всего нужно стране, где правил конунг Сверкер, — хорошее место для монахов с Люре.
Позже она пристально вглядывалась в монахов, когда они выходили из церкви. Казалось, их не волновало чудо, которое они только что совершили, словно они просто-напросто закончили дробить камень в одной из каменоломен Западного Геталанда, словно они думали больше о вечерней трапезе, чем о чем-либо другом. Они тихонько переговаривались, почесывая сыпь на грубо выбритых макушках. У многих на лицах обвисла кожа. С первого взгляда было ясно, что на Люре им жилось не сладко и что зимы там суровые. Так что постичь Божию волю было легко: те, кто мог пением сотворить чудо, должны получить лучшее место для монастыря. И Варнхем прекрасно подходил для этого.
Когда Сигрид вышла на паперть, ее голова прояснилась от холодного свежего воздуха, и внезапно, будто Святой Дух еще не покинул ее, она поняла, как нужно объяснить все мужу, который пробирался к ней сквозь толпу, перекинув через руку их плащи. Она взглянула на него спокойно, с осторожной «улыбкой. Он был добрым мужем и заботливым отцом, и она любила его за это, однако как мужчина он не вызывал ни почтения, ни восхищения. С трудом верилось, что его дед — Фольке Толстый, который был полной противоположностью своему внуку. Магнус был щуплым, и, если бы не заморские одежды на нем, его можно было бы принять за простолюдина.
Подойдя к Сигрид, Магнус поклонился и отдал жене ее плащ. Она ждала, пока он заворачивался в свой, синий, подбитый мехом куницы, и застегивал его под горлом норвежской серебряной пряжкой. Потом он помог одеться Сигрид, осторожно погладил по лбу мягкими руками, которые не были руками воина, и спросил, как она выдержала столь долгое богослужение в своем нынешнем благословенном состоянии. Сигрид ответила, что ей было вовсе не трудно, поскольку, во-первых, она могла опираться на Сут, а во-вторых, ей явился Святой Дух; она сказала это будничным тоном, и он улыбнулся в ответ, решив, что это одна из ее обычных шуток, и оглянулся в поисках человека из своей свиты, который должен был принести его меч из притвора.
Когда он засунул меч под плащ и стал привязывать перевязь, его локти под плащом оттопырились, сделав его мощным и мужественным.
Магнус подал жене руку и спросил, не хочет ли она сперва пройтись по площади и полюбоваться зрелищами, прежде чем отправиться отдыхать.
Она поспешила ответить, что с удовольствием пройдется, если при этом не нужно будет преклонять колени, и он робко улыбнулся ее дерзкой шутке. К тому же, сказала она, будет забавно посмотреть на музыкантов, которых пригласил конунг. В центре площади выступали франкские акробаты и человек, извергавший огонь, звучали дудки и губные гармошки, а возле одного из пивных шатров глухо рокотали барабаны.
Они стали осторожно пробираться через толпу, в которой именитые посетители церкви смешались теперь с простолюдинами и рабами. Через несколько мгновений Сигрид, глубоко вздохнув, выложила все без обиняков. — Магнус, любимый муж мой, я надеюсь, ты сможешь вести себя спокойно и достойно, как подобает мужчине, когда услышишь, что я только что сделала, — начала она, снова глубоко вздохнула и продолжила прежде, чем он успел что-либо сказать: — Я дала конунгу Сверкеру слово подарить Варнхем монахам — цистерцианцам с Люре. Мое слово, данное королю, не может быть взято назад. Мы пойдем завтра к Сверкеру на королевский двор, чтобы подписать дар и скрепить его печатью. Как она и ожидала, Магнус резко остановился и сперва изучающе посмотрел ей в лицо, чтобы найти улыбку, которой она обычно сопровождала свои особенные насмешки. Но тут он понял, что Сигрид говорила совершенно серьезно, и тогда им овладел такой гнев, что он, пожалуй, сейчас впервые ударил бы ее, если бы они не находились в толпе родичей и простого народа. — Ты сошла с ума, женщина! Если бы тебе не достался в наследство Варнхем, ты так и сохла бы сейчас в монастыре. Мы ведь из-за Варнхема и поженились.
В последний момент он овладел собой и проговорил это тихо, сквозь зубы. — Да, это совершенная правда, любимый супруг мой, — ответила она, добродетельно потупив взор. — Если бы я не унаследовала Варнхем, твои родители нашли бы тебе другую невесту. Правда, что я была — бы монахиней, но правда и то, что без Варнхема не было бы ни Эскиля, ни новой жизни, которую я ношу сейчас под сердцем.
Он не ответил. Казалось, он напряженно размышляет, подбирая слова. В этот момент к ним подошли Сут с Эскилем, и мальчик тут же бросился к матери, схватил ее за руку и стал торопливо и громко рассказывать обо всем, что видел в соборе. Он так долго молчал и стоял тихо, что теперь его слова лились безостановочно, словно вода через плотину, открытую весной.
Магнус взял сына на руки и нежно погладил его по волосам, смотря при этом на свою законную жену не с любовью, а с каким-то иным чувством. Но внезапно он опустил мальчика на землю и почти со злостью сказал Сут, чтобы она с Эскилем шла посмотреть на музыкантов и что они скоро встретятся. Удивленная Сут взяла мальчика за руку и увела прочь, несмотря на его хныканье и протесты.
— Но как ты также знаешь, любимый супруг мой, — вновь начала Сигрид, не позволяя Магнусу отдаться во власть гнева, — я пожелала получить Варнхем в качестве утреннего дара, несмотря на то, что я его унаследовала, и я получила его, с записью и печатью, а кроме него, лишь этот плащ, который сейчас на мне надет, и несколько золотых украшений.
— Да, правда и это, — хмуро ответил Магнус. — Но Варнхем является также третьей частью нашей общей собственности, третьей частью, которую ты теперь отняла у Эскиля. Я не могу понять, почему ты так сделала, хотя у тебя и было право на это.
— Пойдем потихоньку к музыкантам, чтобы не показывать людям, что мы злимся друг на друга, и я все тебе объясню, — сказала она и предложила ему руку.
Магнус озабоченно посмотрел вокруг и, через силу улыбнувшись, взял ее под руку.
— Да, — продолжала она после паузы. — Начнем с земного, с того, что сейчас заботит тебя больше всего. Разумеется, я возьму с собой в Арнес весь скот и рабов. В Варнхеме лучше постройки, но ведь мы можем перестроить Арнес заново, особенно сейчас, когда там появится так много рабочих рук. Таким образом, у нас будет надежное жилище, особенно зимой. Больше скота означает больше солонины и шкур, которые мы можем отправлять на лодках в Ледесе. Ты ведь хочешь торговать с Ледесе, а это, живя в Арнесе, легко делать и зимой, и летом.
Магнус молча шел рядом с ней, наклонившись вперед, но она видела, что он успокоился и стал слушать ее с интересом. Сигрид поняла, что словесная перепалка окончена. А она так ясно все представляла себе, как будто думала над этим целую вечность, хотя мысль о передаче Варнхема монахам зародилась у нее меньше часа назад.
Больше кож и бочек с солониной, отправленных в Ледесе, означали больше серебра, а больше серебра — значит, больше посевов. Увеличение посевов вело к тому, что больше рабов смогут обрести свободу, осваивая новые земли, беря в долг зерно и уплачивая за это вдвойне рожью, которую можно будет потом отправить в Ледесе и обменять на большее количество серебра. И тогда можно строить укрепления, о которых всегда думал Магнус, потому что защищать Арнес было сложно, особенно зимой, когда вода покрывалась льдом. Собирая все силы в Арнесе вместо того, чтобы распылять их на два места, они смогут стать богаче, овладеть большим количеством земли, построить более теплое и безопасное жилище и оставить Эскилю большее наследство.
Когда они пробрались наконец через толпу, действуя уверенно и не особенно соблюдая приличия, Магнус долго стоял молча, глубоко задумавшись. Подошла запыхавшаяся Сут, неся на руках маленького Эскиля, которого она поднимала перед собой, чтобы люди видели по его одежде, что и у нее есть право протискиваться через толпу. Мальчик спрыгнул на землю и встал рядом с матерью, которая ласково положила руки ему на плечи, погладила по щеке и поправила его шапочку с перьями.
Жонглеры были одеты в забавные одежды ярких цветов, а на щиколотках и запястьях у них были привязаны маленькие бубенчики, так что все их движения сопровождались звоном. Сейчас они строили высокую пирамиду, состоящую из людей, на вершине которой стоял маленький мальчик, может быть всего на пару лет старше Эскиля. В толпе раздавались крики ужаса и восхищения, а Эскиль показал на пирамиду и сказал, что хочет быть жонглером, что заставило его отца засмеяться неожиданно по-доброму. Сигрид осторожно взглянула на него и поняла, что опасность миновала.
Он заметил, что она украдкой смотрит на него, и, по-прежнему улыбаясь, наклонился и поцеловал ее в щеку.
— Ты воистину замечательная женщина, Сигрид, — прошептал он уже без гнева в голосе. — Я подумал над тем, что ты сказала, и понял, что ты во всем права, — если мы соберем все силы в Арнесе, то очень скоро станем богаче. Разве можно купцу пожелать себе лучшую и более преданную жену, чем ты?
Потупившись, она быстро и тихо сказала, что ни одна жена не может желать себе лучшего и более понимающего супруга, чем у нее. Но потом, подняв глаза, серьезно посмотрела на него и добавила, что в церкви ей было видение и что все ее мысли от Святого Духа, в том числе и те, которые касались практических дел.
Магнус выглядел слегка недовольным, как будто он не до конца верил ей, как будто она шутила с тем, что свято; они оба знали, что он человек гораздо более верующий, чем она. Годы, проведенные в монастыре, вовсе не смягчили ее.
Когда жонглеры закончили свое выступление и отправились к пивному шатру, чтобы получить бесплатное пиво и мясо, которые они заслужили, Магнус взял сына на руки и в сопровождении Сигрид и Сут, шедшей на десять шагов позади, направился к городским воротам; по другую сторону ограды их ждали повозка и дружинники. По пути Сигрид рассказала о видении. Она рассказывала осмысленно и многословно, поскольку одновременно она еще и объясняла, как нужно понимать содержание послания свыше. Первые роды чуть не убили ее, и Божья Матерь спасла ее и Эскиля на самом пороге смерти. Известно ведь, что если первые роды прошли тяжело, то и последующие будут тяжелыми, и скоро этот час должен был наступить. Но, отдавая в дар Варнхем, она обеспечивала себе много молитв, к тому же молитв таких людей, которые знали в них толк. Она и ее новый ребенок должны выжить.
Но важнее всего было то, что их объединившиеся роды должны были особенно усилиться теперь, когда будет строиться богатый и могущественный Арнес. Но кем мог быть тот юноша на серебристом коне с густой белой гривой и длинным, белым, гордо поднятым хвостом? Уж во всяком случае, не Святым Духом: он бы не появился верхом на резвом жеребце и со щитом.
Магнуса очень заинтересовало ее видение, он начал спрашивать о статях лошадей и о том, как они двигались. Потом он возразил, что таких лошадей не бывает, и стал спрашивать, что она имеет в виду, утверждая, что на щите был кровавый крест. Ведь в таком случае это был красный крест, но откуда она могла знать, что это именно кровь, а не просто красная краска?
Она ответила, что просто знает это. Крест был красный и начертан именно кровью. Щит был полностью белым. Она не очень хорошо разглядела, во что юноша был одет, поскольку щит закрывал его грудь, но, во всяком случае, на нем были белые одежды. Белые, совсем как у цистерцианцев, однако он не был монахом, поскольку держал щит воина. И возможно, под одеждой у него была кольчуга.
Магнус в задумчивости спросил о форме и величине щита, но когда он услышал, что щит имел форму сердца и только прикрывал грудь, то недоверчиво покачал головой и объяснил, что никогда не видел подобного щита. Щиты были либо большими и круглыми, как те, с которыми раньше ходили в ледунг, либо удлиненными и треугольной формы, чтобы воины могли свободнее двигаться в строю. Такой маленький щит, как у юноши из ее видения, в бою скорее был бы обузой, чем защитой.
Но простой смертный не может полностью постичь смысл Божественного. И вечером они вместе должны принести благодарственную молитву за то, что Богоматерь показывает им свою доброту и мудрость.
Сигрид вздохнула, почувствовав облегчение и умиротворение. Теперь худшее было позади, и оставалось только уговорить старого конунга, чтобы он не отобрал у нее дар и не принес его только от своего имени. Состарившись, он стал все больше и больше беспокоиться о числе молитв, ежедневно возносимых за него, и ради этого основал уже два монастыря. Это знали все — и его друзья, и враги.
* * *
Конунг Сверкер страдал от похмелья и к тому же пребывал в ярости, когда Сигрид и Магнус вошли в большой зал королевской усадьбы, где король теперь за один день должен был принять решение по всем вопросам: начиная с того, как наказать воров, пойманных вчера на ярмарке, — просто повесить или сначала высечь, и кончая спорами о земле и наследстве, которые нельзя было решить на обычном тинге.
Но гораздо больше, чем похмелье, его раздражало известие о том, что его самый младший и непутевый сын позорно его обманул. Сын Юхан отправился в грабительский поход в датский Халланд, что само по себе было не слишком опасно. Молодые люди вполне могут себе это позволить, если хотят поставить на карту жизнь вместо того, чтобы просто играть в кости. Но Юхан солгал о тех двух женщинах, которых увел домой в рабство. Он представил дело так, будто были похищены обыкновенные чужестранки. Однако сейчас пришло послание от датского конунга, и там было написано нечто совершенно противоположное, в чем теперь уже никто не сомневался. Одна из женщин оказалась женой ярла датского конунга в Халланде, а другая — ее сестрой. Это было позорное преступление, не искупаемое штрафом, и любой человек, не будь он сыном конунга, немедленно поплатился бы за него жизнью. Разумеется, Юхан изнасиловал обеих. Так что возвратить их невинными, такими, какими они были до похищения, совершенно невозможно. Как ни крути, а придется выложить кучу серебра, а в худшем случае можно еще и нажить войну себе на шею.
Конунг Сверкер и его приближенные так громко препирались, что все присутствовавшие в зале скоро уяснили себе суть дела. Единственное, в чем ни у кого не было сомнений, это то, что женщин нужно вернуть назад. Но этим согласие ограничивалось. Некоторые считали, что выплатить серебро означает проявить слабость, и в этом случае датский конунг Свейн Грате все равно отправится в завоевательный поход против них.
Другие считали, что даже много серебра — дешевле, чем датские грабежи, независимо от того, кто выиграет эту войну.
После долгого и многословного спора король неожиданно с усталым вздохом обратился к отцу Генриху из Клерво, который находился в начале зала, ожидая, когда речь зайдет о Люре. Он сидел, опустив голову, словно в молитве, надвинув островерхий белый капюшон, так что нельзя было разглядеть, действительно ли он молится или просто спит. Оказалось, что он все-таки спал. Как бы то ни было, смысл горячего спора не дошел до отца Генриха, и, когда он ответил на вопрос конунга, его ответ походил более на латынь, чем на обычный язык, так что никто его не понял. Поблизости больше не было ни одного священнослужителя, потому как здесь решались в основном вопросы мирские и низменные. Конунг гневно оглядел зал и проревел, чтобы немедленно явился кто-нибудь, кто разбирает эту заумную латынь.
Сигрид тотчас же ухватилась за предоставившуюся возможность, поднялась, прошла с опущенной головой через зал и смиренно поклонилась сначала королю, а затем отцу Генриху.
— Мой конунг, я охотно послужу тебе, — сказала она.
— Если здесь нет ни одного мужчины, то пусть будет так, я имею в виду, если здесь нет ни одного мужчины, который говорит на этом языке, — устало вздохнул Сверкер.
— Где ты научилась латыни, милая Сигрид? — с удивлением спросил конунг, при этом голос его звучал гораздо мягче.
— К сожалению, единственное, чему я по-настоящему научилась во время пребывания в монастыре, так это латыни, — тихо ответила Сигрид с серьезным и благонравным видом, и только Магнус в зале заметил ее насмешливую улыбку, когда она произнесла эти слова. Она часто говорила так, произнося одно и имея в виду совершенно другое.
Конунг, однако, не понял насмешки и немедленно попросил Сигрид сесть рядом с отцом Генрихом, объяснить ему суть спора и попросить высказать свое мнение. Она тотчас же повиновалась, и, пока они с отцом Генрихом вели приглушенный диалог на языке, который, очевидно, из присутствующих знали только эти двое, в зале воцарилась неловкость; мужчины изучающе смотрели друг на друга, кто-то пожимал плечами, кто-то преувеличенно жестикулировал и закатывал глаза. Женщина на королевском совете, среди многих славных мужей — но это было именно так. И то, что уже совершилось, не изменить.
Через некоторое время Сигрид поднялась и громким голосом, заставившим стихнуть шум в зале, объявила, что отец Генрих обдумал это дело и считает, что самым разумным будет заставить негодяя жениться на сестре жены ярла. А жену ярла нужно отправить домой с дарами, богатыми одеждами, со знаменами и музыкантами. Однако конунг Сверкер и тот негодник, который называется его сыном, должны отказаться от приданого, и, таким образом, вопрос о серебре будет решен. Что считает по этому поводу сам негодяй, принимать во внимание нельзя, ибо если между ним и сестрой жены ярла будет заключен брак, то кровные узы помогут избежать войны. Обманщик должен заплатить за свою шалость. Война в любом случае обойдется дороже.
Когда Сигрид, умолкнув, села, наступила тишина. Собравшиеся обдумывали содержание того, что предложил монах. Но постепенно по залу распространился гул одобрения, кто-то вытащил меч из ножен и сильно ударил плашмя по столу, стоявшему вдоль длинных стен. Другие последовали его примеру, так что вскоре весь зал сотрясался от грохота, и на том дело было решено.
Поскольку Сигрид все равно уже сидела впереди всех и казалось, что немалая заслуга в предложении отца Генриха принадлежит ей, то конунг Сверкер воспользовался моментом чтобы решить вопрос о Варнхеме: он подозвал к себе писца, и тот зачитал грамоту, где содержалась суть дела. Однако, согласно прочитанному тексту, оказывалось, что дар исходит лично от конунга.
Сигрид попросила дать ей в руки текст, чтобы она могла перевести его отцу Генриху, и предложила, чтобы господин Магнус также принял участие в предстоящем разговоре. Конечно, конечно, с готовностью махнул рукой Сверкер и сделал знак Магнусу, чтобы тот вышел вперед и сел рядом со своей женой.
Сигрид перевела грамоту отцу Генриху, который, откинув свой капюшон, пытался следить за текстом. Закончив, она быстро добавила, так что казалось, будто она все еще переводит, что дар делает она, а не король, но что ей нужно одобрение короля перед законом. Отец Генрих взглянул на нее с улыбкой и задумчиво кивнул.
— Ну, — нетерпеливо сказал конунг, словно он хотел побыстрее избавиться от этого дела, — может ли достопочтенный отец Генрих что-нибудь сказать или предложить по этому поводу?
Сигрид перевела вопрос, пристально глядя в глаза монаху, и ему нетрудно было понять ее мысли.
— Да, — осторожно начал он, — это богоугодное дело — пожертвовать сад для Его служителей. Но перед Богом и перед законом дар может быть принят только тогда, когда точно известно, кто дарит, а кто принимает дар. Хочет ли Ваше Величество столь щедро пожертвовать частью своей собственности?
Он коротко взмахнул рукой, показывая Сигрид, чтобы та перевела его слова. Та быстро и монотонно пробормотала перевод.
Конунг явно смутился и с опаской взглянул на отца Генриха, хотя тот смотрел на него лишь с дружелюбным интересом, словно считая, что все так и должно быть. Сигрид ничего не говорила, она ждала.
— Да, может быть, может быть, — пробормотал конунг Сверкер. — Может быть, надо сказать ради соблюдения закона, что дар должен исходить от конунга, ведь это так. Я имею в виду, чтобы не возникало споров по этому поводу. Но этот дар исходит также от госпожи Сигрид, которая стоит здесь, среди нас.
Когда конунг замешкался, не зная, что еще сказать, Сигрид воспользовалась моментом, чтобы перевести его слова все тем же безразличным тоном, что и раньше. Тогда отец Генрих просиял, словно дружески удивляясь, услышав то, что он уже знал, потом с мягкой улыбкой слегка покачал головой и объяснил в простых выражениях, но с изысканной вежливостью, как и подобает, когда даешь наставление конунгу, что перед Богом лучше придерживаться всей правды, даже в формальных документах. Так что если теперь переписать эту грамоту с именем настоящего дарителя и одобрением и скреплением дара Его Величеством, то это будет богоугодное дело и конунгу будет причитаться столько же молитв, сколько и самому дарителю.
Дело было решено, причем именно так, как хотела Сигрид. Другой путь для конунга Сверкера был невозможен; он быстро принял решение, добавив, что грамота должна быть написана как на обычном языке, так и на латыни и что он хочет скрепить ее своей печатью уже сегодня; теперь можно было немного взбодриться и перейти к следующему вопросу.
Случилось так, что встреча отца Генриха и госпожи Сигрид стала встречей двух родственных душ. Или двух человек со схожими мыслями и суждениями.
* * *
На Филиппа и Иакова, в день, когда зазеленела трава, на пастбище выпустили скот и нужно было чинить изгороди, Сигрид ощутила прилив страха, словно холодная рука сдавила ее сердце. Она почувствовала, что скоро это начнется. Но боль исчезла так быстро, что показалась ненастоящей.
Гуляя, она шла с маленьким Эскилем по направлению к ручью, где монахи и послушники с помощью блоков, веревок и множества тягловых животных поднимали огромное мельничное колесо. Они выложили ручей камнем, сделали его уже и глубже и усилили течение как раз в том месте, где теперь устанавливалось колесо. Оно было хитроумно сделано из тысячи или более дубовых пластин и сообщало силу, достаточную для того, чтобы приводить в движение как мельницу, так и молот в кузнице, которая сейчас достраивалась.
Чуть ниже у ручья стояло подобное сооружение, но меньшего размера. Однако здесь водяное колесо было другим: оно было сделано в виде длинного ряда ведер, которые поднимали воду и выливали ее в желоб из выдолбленных дубовых стволов, по которому она лилась в ту сторону, где находились церковь и другие монастырские постройки. Поток воды должен был проходить через несколько построек, а потом снова сливаться в ручей. Все нужно было обустроить так, чтобы вода не замерзала зимой и всегда была бы в доме, где стряпали, и там, куда сбрасывали нечистоты.
Сигрид много времени проводила на строительстве, и отец Генрих терпеливо рассказывал ей, что делается и с какой целью. И с ней были два ее лучших раба: Сварте, живший с Сут, и Гур, чья жена с детьми осталась в Арнесе; она переводила на их язык и объясняла все, что описывал отец Генрих.
Магнус журил ее за то, что она не нашла в Варнхеме должного применения их лучшим рабам, по крайней мере мужчинам. Вместо этого они могли бы проявить себя на строительных работах в Арнесе. Но Сигрид настояла на своем и объяснила, что у бургундских послушников и английских каменотесов, которых нанял отец Генрих, можно многому поучиться. И она, как обычно, добилась своего, несмотря на то что вестгету часто очень сложно объяснить, что чужеземцы строят гораздо лучше, чем его народ.
Всего за несколько месяцев Варнхем превратился в огромную строительную площадку, где звучали удары молота, звенели пилы, скрипели и грохотали огромные колеса, сделанные из песчаника. Повсюду — движение, которое на первый взгляд выглядело хаотичным и разрозненным, как в муравейнике, если посмотреть на него весной: кажется, что муравьи просто бесцельно бегают туда-сюда. Но для всего, что делалось, существовал четкий план. Руководил работами огромного роста монах по имени Гильберт де Бон; он был единственным из монахов, кто принимал участие в строительстве, в основном всю тяжелую работу делали послушники. Можно также сказать, что исключением из этого правила был и брат Люсьен из Клерво. Будучи монастырским садовником, он не хотел отдавать капризные растения в чужие руки, поскольку по времени года было уже поздно что-либо выращивать и многое могло пропасть без его умения и зоркого взгляда.
Другие монахи, которые пока поселились в длинном доме, в основном проводили время в молитве или занимались переписыванием рукописей.
Через некоторое время Сигрид предложила послушникам помощь Сварте и Гура, и, по ее мысли, они должны были скорее стать учениками, чем полезными помощниками. Вначале некоторые послушники приходили к отцу Генриху и жаловались на грубых и невежественных рабов, которые больше ломали, чем строили. Но отец Генрих отмахивался от их жалоб, поскольку хорошо понимал, какую цель преследует Сигрид, отдавая рабов в учение. Напротив, он втайне переговорил с братом Гильбертом, и, к досаде многих послушников, это привело к тому, что как только Сварте и Гур начинали более или менее сносно справляться с работой на одном месте, их тут же посылали на другие работы, где снова начинались жалобы на их неумение. Так, два способных раба понемногу научились тесать и точить камень, придавать форму раскаленному железу, сколачивать водяное колесо из дубовых пластин, выкладывать камнем колодец или канал, очищать землю сада от того, что не должно там расти, тесать дубовые и буковые бревна для разных целей. Сигрид постоянно спрашивала об успехах Сварте и Гура и думала о том, как использовать их в будущем. Она рассчитывала, что они смогут обрести свободу; только тот, кто умел делать нечто действительно стоящее, становился вольноотпущенником. Их вера в спасение интересовала ее гораздо меньше, Сигрид не принуждала к крещению других своих рабов, кроме Сут, которую крестили, чтобы Сигрид было на кого опираться во время освящения собора.
Это было спокойное время. У Сигрид стало меньше забот, она больше не хлопотала по хозяйству в Варнхеме и не занималась делами Арнеса. Она пыталась не думать о неизбежном, о том, что приходит ко всем одинаково, как смерть, — и к рабам, и к свободным. Поскольку длинный дом еще не был освящен под монастырь, она когда угодно могла принять участие в любой из пяти ежедневных молитв. И чем ближе были роды, тем усерднее она молилась. Она всегда просила об одном и том же: за свою жизнь и за жизнь ребенка, чтобы Пресвятая Дева дала ей силы и мужество и чтобы она была избавлена от той боли, от которой страдала в прошлый раз.
Теперь ее лоб покрылся холодным потом, она шла медленно и очень осторожно, как будто слишком резкие движения могли причинить боль, — шла от шума строительства обратно к усадьбе. Она позвала Сут, и ей не пришлось объяснять, что происходит. Рабыня кивнула, пробормотав что-то на своем наречии, метнулась к кухне и занялась необходимыми приготовлениями вместе с другими служанками. Они быстро убрали утварь, вымели и вычистили пол, а затем внесли соломенные тюфяки и шкуры из маленького дома, где Сигрид хранила свои собственные запасы. Когда ложе было готово и Сигрид должна была лечь на него, у нее начались вторые схватки, настолько сильнее первых, что она побелела, сжалась от боли, и к приготовленному ложу ее пришлось вести. Рабыни сильнее раздули огонь и принялись быстро отчищать котлы на треножниках, которые затем наполнили водой и поставили на огонь.
Когда боль отпустила, Сигрид попросила Сут сходить за отцом Генрихом, а потом присмотреть за тем, чтобы Эскиля вместе с другими детьми держали подальше. Сын должен думать об играх и забавах и не слышать криков своей матери. Но кому-то нужно было присматривать за детьми, чтобы они не подходили слишком близко к большому и опасному мельничному колесу, которое возбуждало их любопытство больше всего. Детей нельзя оставлять без присмотра!
Некоторое время Сигрид лежала в одиночестве, глядя наружу через дымовое отверстие и большое открытое окно в одной из длинных стен. Там, на дворе, пели зяблики — они всегда поют днем, до того, как начинают петь дрозды, и тогда остальные птицы умолкают, словно в смущении.
Ее лоб покрылся испариной, и начался озноб.
Одна из рабынь робко приблизилась к ней и, отведя взгляд, отерла лоб смоченным льняным полотенцем.
Магнус предупреждал жену, чтобы она заблаговременно послала за повитухами в Скару и не рожала среди рабынь. Но Сигрид все время словно хотела отодвинуть от себя невозможное, как будто втайне надеясь, что ей удастся избежать родов. Это было глупо, бесполезно. Теперь она наконец должна родить и выжить, или родить и умереть, или умереть с ребенком, среди рабынь. Она очень хорошо представляла себе, что подумает об этом Магнус. Но он был мужчиной и не понимал, что рабыни, которые обычно рожают гораздо чаше, чем свободные, были лучшими повитухами. Пусть у них была не белая кожа и они не могли красиво говорить и достойно вести себя, как те женщины, которых предпочел бы видеть в своем доме Магнус, все равно они были достаточно опытными. Если сейчас вообще хватит их помощи. Только Пресвятая Дева Мария сейчас может помочь ей, и совсем не важно, какие люди присутствуют в доме.
У рабынь такая же душа, как и у свободных людей, в этом ее убедил отец Генрих. И в Царстве Небесном нет ни свободных, ни рабов, ни богатых, ни бедных, есть только души людей, творивших добрые дела. Сигрид думала, что это вполне похоже на правду.
Когда отец Генрих вошел в кухню, она увидела, что у него с собой четки. Он понял; какой помощи она сейчас искала. Но сначала он сделал вид, что ничего не происходит, и даже не позаботился о том, чтобы выгнать рабынь, которые в спешке подметали, приносили новые котлы с водой, тряпки и пеленки.
— Приветствую тебя, уважаемая госпожа, я понимаю, что теперь нас ожидает радость в Варнхеме, — произнес отец Генрих, посмотрев на нее дружелюбно и спокойно.
— Или печаль, святой отец. Этого мы не узнаем до тех пор, пока все не кончится, — простонала Сигрид, и взгляд ее был полон страха, поскольку она поняла, что приближаются новые схватки. Но ей это только почудилось, так как боли не последовало.
Отец Генрих подвинул маленькую треногую скамеечку к ее ложу, взял руку Сигрид и погладил ее.
— Ты умная женщина, — сказал он, — единственная среди мирян, которых я встречал, кто понимает латынь, но ты понимаешь и многое другое, например, то, что нужно научить своих рабов тому, что умеем мы сами. Тогда скажи мне, почему ты со страхом ожидаешь родов, хотя тысячи и тысячи других женщин проходят через это. Подумай, именно в этот миг ты не одинока на земле. Может быть, сейчас, когда мы сидим здесь, ты страдаешь вместе с десятью тысячами других женщин по всему миру. Тогда скажи мне, почему тебе нужно чего-то бояться больше, чем другим?
Отец Генрих произносил слова складно, как проповедь, и Сигрид подумалось, что он выбирал их несколько дней, прежде чем настала эта минута. Глядя на священника, она не смогла избавиться от улыбки, и он понял, что она его раскусила.
— Хорошо говоришь, отец Генрих, — сказала она слабым голосом, боясь, что ее вновь настигнет боль. — Но из тех десяти тысяч женщин, о которых ты говорил, завтра, может быть, половина умрет, и я могу стать одной из них.
— Тогда мне будет сложно понять нашего Спасителя, — сказал отец Генрих спокойно и с улыбкой, взглядом все время ища ее взгляд.
— Но ведь есть то, что делает наш Спаситель и чего ты не понимаешь, святой отец? — прошептала она, напрягаясь в ожидании боли.
— Истинная правда, — кивнул отец Генрих. — Есть даже то, чего не понимает основатель нашего ордена, святой Бернард Клервосский. Например, тяжелые поражения, которые мы сейчас терпим в Святой Земле. Он больше, чем кто-либо другой, хочет, чтобы мы послали туда еще людей, он пламенно желает нашей победы над язычниками. Но, несмотря на силу нашей веры, нашу правоту и на то, что мы боремся со злом, нас разбили. Следовательно, истинно, что мы, люди, не всегда можем понять нашего Спасителя.
— Я хочу успеть исповедоваться, — прошептала Сигрид.
Отец Генрих отослал рабынь, взял свои четки, благословил Сигрид и сказал, что готов выслушать ее исповедь.
— Прости меня, святой отец, ибо я согрешила, — с трудом выговорила она, и в ее глазах засветился страх. Затем, прежде чем продолжать, ей потребовалось несколько раз глубоко вздохнуть и собраться. — Мысли мои были безбожными и низменными, я подарила тебе и твоим людям Варнхем не только потому, что Святой Дух наставил меня на это правильное и благое дело, но я надеялась также, что этим даром смогу умилостивить Богоматерь, ибо я в своем безумии и себялюбии просила ее избавить меня от родов, несмотря на то что я знаю: наполнять землю — наша обязанность.
Сигрид говорила тихо и быстро, ожидая следующих схваток, и они начались в тот момент, когда она закончила говорить. Ее лицо исказилось от боли, и она крепко закусила губы, чтобы не закричать.
Отец Генрих сперва не понял, что ему делать, но затем встал, взял полотенце и смочил его холодной водой из ведра, стоявшего у двери. Потом он подошел к Сигрид, приподнял ей голову, отер полотенцем лоб и лицо, промокнул мокроту и кровь, сочившуюся из ее губ.
— Воистину, дочь моя, — прошептал он, наклоняясь к щеке Сигрид и чувствуя ее безумный страх, — милость Божью нельзя купить за деньги, грешно продавать и покупать то, что может дать лишь Бог. Истинна также то, что ты в своей человеческой слабости боялась и просила Матерь Божью о помощи и утешении. Но последнее вовсе не является грехом. А что касается дара Варнхема, то это произошло потому, что на тебя снизошел Святой Дух и дал тебе откровение, которое ты готова была принять. Ничто в твоей воле не может быть сильнее, чем Его воля, и ты ее выполнила. Я прощаю тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Теперь на тебе нет греха, и я оставляю тебя так, чтобы самому уйти и молиться.
Он осторожно опустил ее голову на подушку и увидел, что Сигрид находится где-то глубоко в своей боли, но вместе с тем к ней как будто пришло облегчение. Затем он поспешил выйти и приказал ожидавшим за дверью женщинам войти к хозяйке; они влетели в кухню, словно стайка черных птиц.
Но Сут, задержавшись, осторожно дотронулась до его одежды и произнесла что-то, чего он сначала не понял, потому что ни он, ни она не владели в должной степени обычным языком. Но вот она сделала новую попытку, произнося слова очень медленно и дополняя их жестами; тогда он сообразил, что она говорит о тайном настое, сделанном на травах, который мог облегчить страдания и который рабы обычно давали тем, кого должны были сечь, калечить или кастрировать.
Раздумывая, он взглянул в лицо чернокожей рабыни. Он прекрасно знал, что она крещеная, и поэтому он должен говорить с ней так, словно она — одна из его прихожанок. Он знал также, что слова ее могли быть похожи на правду — у Люсьена из Клерво, разводившего растения в саду, было много рецептов снадобий, которые уменьшали боль. Но здесь таилась опасность: напиток, о котором говорила рабыня, был приготовлен с помощью колдовства и злых сил.
— Слушай, женщина, — сказал он медленно и как можно яснее. — Я пойду спрошу знающего человека. Если вернусь, тогда пои. Не вернусь — не пои. Клянись перед Богом повиноваться мне!
Сут смиренно поклялась перед своим новым Богом, и отец Генрих поспешил прочь, чтобы сперва поговорить с братом Люсьеном, а потом собрать всех братьев на молитву за свою благодетельницу.
Чуть позже он нашел брата Люсьена, который в ужасе замахал обеими руками. Напитки, смягчающие боль, действуют очень сильно, их можно давать раненым, умирающим или тогда, когда кому-то нужно ампутировать руку или ногу. Но их под страхом смерти нельзя давать роженицам, потому что в таком случае напиток получает и младенец, который может родиться ненормальным или уродом. Разумеется, снадобье можно дать, когда ребенок уже родился. Хотя тогда оно, как правило, уже не нужно. Таким образом, речь идет не только о воле Божьей — все мы рождаемся в муках. Уменьшая страдания роженицы, можно навредить младенцу. А впрочем, было бы интересно узнать, из чего составлен этот напиток, может, это навело бы на новые мысли.
Отец Генрих пристыженно кивнул, ведь ему следовало знать это, хоть он и занимался в основном рукописями, теологией и музыкой, а не искусством врачевания и выращивания растений. Он быстро собрал братьев для молитвы.
Сут решила пока послушаться монаха, хотя она и считала греховным и постыдным не пытаться облегчить боли своей госпожи. Но теперь она взялась руководить другими женщинами, и они подняли Сигрид с ложа и распустили ей волосы, которые были длинными, блестящими и почти такими же черными, как у самой Сут. Они обмыли и вытерли ее, пока она дрожала от холода, а затем надели на нее новую льняную рубашку и заставили ходить, утверждая, что это ускорит дело.
Сквозь туман страха, в ожидании новой волны боли, Сигрид круг за кругом ходила между двумя своими рабынями. Ей было стыдно, она чувствовала себя как корова, которую рабы водят по ярмарке, перед тем как продать новому хозяину. Она слышала колокольный звон из длинного дома, но ей казалось, что это игра воображения.
Потом на Сигрид нашла новая волна боли, в этот раз она шла из самой глубины ее тела, и Сигрид поняла, что теперь боль будет продолжаться дольше. Тогда Сигрид громко закричала, больше от страха, чем от боли, и повалилась на ложе. Одна из рабынь подхватила ее под руки и слегка приподняла, в то время как все остальные одновременно начали кричать ей, чтобы она тужилась. Но она не могла тужиться и, кажется, потеряла сознание.
Когда сумерки перешли в ночь и умолкли дрозды, на Сигрид словно нашло оцепенение. Схватки, которые до этого были очень часты, теперь, похоже, прекратились. Как Сут, так и все остальные знали, что это было очень плохим признаком. Нужно было что-то делать.
Сут взяла с собой еще одну женщину, и они выскользнули в темноту, осторожно прокрались вдоль длинного дома, где сквозь толстые стены слабо слышалось пение монахов, и приблизились к скотному двору. Они вывели молодого барашка, накинув ему веревку на шею, и потащили его к запретной роще. Там они обвязали веревку вокруг задней ноги барана, а другой конец перекинули через ветку одного из огромных дубов. Сут натянула веревку так, что баран повис в воздухе, привязанный за заднюю ногу, а другая рабыня бросилась к нему и, навалившись, прижала барашка своей тяжестью к земле. Выхватив нож, она перерезала ему горло. Потом они вдвоем подняли бьющегося и блеющего в смертельном страхе барана, кровь из которого хлестала во все стороны. Привязав веревку к корню дуба, они быстро сбросили с себя черные рубашки и обнаженными встали под кровавый поток, втирая кровь в волосы, в грудь, в промежность и молясь при этом Фрее.
Когда занялось утро, Сигрид очнулась от забытья, потому что адские огни загорелись в ней вновь, и она отчаянно стала молить свою заступницу Деву Марию избавить ее от боли и, если так должно продолжаться еще долго, лучше умереть сейчас.
Рабыни, которые задремали вокруг нее, быстро проснулись, стали ощупывать ее и быстро говорить друг с другом на своем непонятном наречии. Потом они начали смеяться и оживленно кивать на нее, и Сут, волосы которой были еще мокрыми и висели космами, наклонилась над Сигрид и сказала, что скоро все закончится и вот-вот должен появиться сын, но теперь Сигрид должна в последний раз действительно помочь себе сама. Они взяли ее под руки и приподняли до сидячего положения, а Сигрид кричала и молилась до тех пор, пока не поняла, что может разбудить и испугать своего маленького Эскиля, и тогда она снова так закусила свои израненные губы, что почувствовала вкус крови на языке. Но постепенно в Сигрид появилась надежда, словно Богоматерь действительно стояла на ее стороне и мягко убеждала сделать так, как говорят умные и верные рабы. И она тужилась и кричала, но снова прикусывала губы, чтобы не кричать, и тогда далеко в предрассветной мгле стало слышно пение монахов, словно хвала Господу или песнопение, предназначенное заглушить кошмары.
И вдруг все кончилось. Сквозь пот и слезы она разглядела там, внизу, кровавый комок, который выглядел так, будто он появился в роду рабов. Женщины в комнате забегали, обгоняя друг друга, с водой и льняными полотенцами, и в изнеможении Сигрид откинулась назад, словно она отдала все, что имела.
Она чувствовала, как они моют кого-то и болтают при этом, она услышала несколько шлепков и потом крик, писк, дрожащий светлый звук, который мог означать только одно.
— Это хорошо сложенный мальчик, — сказала Сут, светясь от радости. — Госпожа родила хорошего мальчика, у которого есть все, что должно быть. И он родился в рубашке!
Они приложили его, помытого и запеленатого, к ее болящей и распухшей груди, она взглянула в маленькое морщинистое личико и удивилась тому, что ребенок такой крошечный. Она чуть-чуть пошевелила малыша, одна из его ручек освободилась, и он стал размахивать ею в воздухе до тех пор, пока она не протянула ему палец, который он сразу же схватил.
— Как будут звать мальчика? — спросила красная и распаренная Сут.
— Его будут звать Арн, в честь Арнеса, — устало прошептала Сигрид. Арнес, а не Варнхем станет его домом, но здесь он должен быть окрещен отцом Генрихом, когда придет время.
Глава II
Сын конунга Сверкера Юхан умер, как он того заслуживал. Конунг Сверкер последовал советам, полученным от отца Генриха, и позаботился о том, чтобы жену датского ярла доставили обратно в Халланд. Но и конунг Свейн Грате, и его ярл с презрением отклонили вторую часть плана отца Генриха, касающуюся женитьбы беспутного королевского сына на другой оскорбленной датчанке, чтобы кровные узы могли предотвратить войну.
И возможно, дело здесь было не столько в ошибочности плана отца Генриха, сколько в том, что конунг Свейн Грате хотел войны. Чем больше посреднических предложений поступало от конунга Сверкера, тем больше хотел войны конунг Свейн Грате. Он, возможно, совершенно верно понял, что конунг гетов проявил слабость, когда предлагал то одно, то другое, чтобы сохранить мир.
Свейн Грате был так уверен в победе, что уже начал раздавать земли Геталанда своим приближенным, и, поскольку люди утверждали, что там живет очень красивая женщина по имени Сигрид, он пообещал ее в жены тому, кто проявит наибольшую храбрость в предстоящих сражениях.
В качестве последнего усилия конунг Сверкер уговорил папского кардинала Николауса Брейкспира по дороге в Рим посетить Свейна Грате, чтобы попытаться образумить его и предложить мир.
Кардиналу это не удалось, как недавно не удалось ему и создать архиепископство в объединенных Свеаланде и Геталанде.
Папское повеление назначить архиепископа не было исполнено потому, что свей и геты не смогли договориться о том, где должен находиться архиепископский собор и, следовательно, архиепископский престол — в Восточном Аросе, как требовали свей, или в Линчепинге, как хотел король Сверкер.
Мирское поручение кардинала — добиться мира, в котором церковь была заинтересована больше, чем в войне, теперь, когда приближалось создание еще одного объединенного государства во славу Господа, не было выполнено по той простой причине, что датский конунг был уверен в своей предстоящей победе. Тогда его новые, завоеванные, земли будут находиться под управлением архиепископа Эскиля в Лунде, и война может оказаться очень полезной и для церкви.
Конунг Сверкер совсем не готовился к обороне страны, потому что, во-первых, скорбел по королеве Ульвхильде, а во-вторых, был занят предстоящей свадьбой на дважды овдовевшей Рикиссе. Возможно, он надеялся, что молитвы, которыми он обезопасил себя в монастыре, спасут и его, и страну.
Дерзкий сын конунга Юхан вовсе не верил в спасительную силу молитв. И если датчане выйдут победителями, то ему не останется никакой надежды. Поэтому он, а не его отец-конунг созвал тинг в королевской усадьбе Врета, чтобы решить, как организовать оборону против датчан.
Он не представлял, насколько опасно его положение изгоя. Если бы его отец не был так стар и слаб, он сам бы покарал сына смертью за злодеяние и обман, это понимал каждый, кроме, возможно, самого Юхана. Ни один честный человек не хотел отправляться в поход и рисковать жизнью за изгоя, презренного насильника женщин.
Однако на тинг во Врету пришло много людей.
Но пришли они, чтобы убить Юхана. И они это сделали. Его собственная свита и пальцем не пошевелила, чтобы защитить своего господина. Никто не покушался и на них. Труп Юхана был расчленен на части и выброшен свиньям на задворки Скары. Обошлось без королевских похорон.
В год 1154 от Рождества Христова зима пришла рано, и, когда легли льды, конунг Свейн Грате повел свой отряд из Сконе в Финнведен в Смоланде. Датчане жгли и разоряли все на своем пути, но в том году выпало много снега, и они продвигались медленно, лошадям и быкам было трудно идти вперед.
Кроме того, бонды в Веренде стали сопротивляться. В прошлом поколении их поселения были разграблены норвежцем Сигурдом Крестоносцем, который собрался совершить крестовый поход в Веренд во имя христианской веры. Согласно рассказам, он нашел пять-шесть сбежавших рабов, которым дано было выбрать между мечом и крещением, но лучше всего люди помнили, как он украл около полутора тысяч быков и увел их с собой домой.
Верендские бонды, слабо разбиравшиеся в том, что может послужить для королей причиной грабить и жечь, на своем тинге решили, что уж если нужно умереть, то лучше умереть как подобает мужчинам, согласно древней вере предков. Умереть наемником или рабом, без боя, — значит умереть в бесчестии. Кроме того, на войне никогда нельзя быть ни в чем уверенным, кроме одного: тот, кто не сражается или сражается против врага в одиночку, умрет точно. Все остальное — в руках богов.
И конунгу Свейну Грате действительно пришлось туго. Жители Веренда защищали свою землю пядь за пядью за заграждениями из срубленных деревьев, которые они возводили на лесных дорогах. Требовалось много времени и сил, чтобы преодолеть эти заграждения, и никак не удавалось одержать настоящую победу. Если положение казалось успешнее вечером, когда нужно было делать перерыв на вечернюю трапезу, молитву и ночной отдых, то утром защитники заграждения уходили. Однако потом они собирались в каком-нибудь селении, расположенном дальше, к ним присоединялись новые люди, которые тоже хотели защищать свои дома, и все начиналось заново.
Воины датского отряда стали исчезать по ночам большими группами, они возвращались домой. Те, чьим занятием была война, хорошо знали, что зима скоро кончится, и даже если удастся наконец прорваться через преграды этих проклятых бондов, то весной отряд окажется на вестгетских равнинах и увязнет в глине. К тому же у бондов Веренда был свой способ защиты. Они убивали и калечили весь скот, до которого могли добраться. По ночам они пробирались к датчанам маленькими группами, снимали часовых, вспарывали животы лошадям и быкам, а затем исчезали в темном лесу.
Лошадь со вспоротым брюхом умирает довольно быстро. Быки более живучи, но и они умирают, если им в брюхо вонзить вилы или острие копья. Надо полагать, что у датского отряда было много бычьего мяса для жарки, но это служило им небольшим утешением, поскольку, съедая это мясо, они съедали и свою возможную победу.
Когда Свейн Грате в конце концов вынужден был признать, что в этом году войну в любом случае не удастся выиграть, он решил, что для отступления датский отряд должен разделиться. Сам он собирался идти домой, на датские острова, через Сконе. Ярл Грате должен был взять оставшуюся часть отряда и вести людей в датский Халланд, в его собственные владения. Свейн Грате отправил посланцев с известием, что война прекращена, поскольку его воины, он сам и его ярл возвращаются домой.
Но Веренд продолжал мстить. И долго еще здесь рассказывали о женщине по имени Бленда. Она послала гонцов за многими другими женщинами, и они вместе встретили ярла и его воинов рядом с Ниссой с хлебом и солониной. Соленого мяса были просто горы. Датчане устроили настоящий пир с огромным количеством пива к солонине.
Когда же ярл и его люди наконец побрели к сеновалу, чтобы заночевать там, а простые воины, не менее пьяные, чем знать, стали устраиваться на ночлег прямо на снегу, завернувшись в бычьи и овечьи шкуры, Бленда и ее подруги просмолили большие факелы, а затем позвали своих мужчин, прятавшихся в лесу.
Когда в лагере наступила тишина и слышался только храп, они крепко заперли сеновал и подожгли его со всех четырех углов одновременно, а потом порубили спавших воинов.
На следующее утро они, веселясь, утопили последних пленников подо льдом на реке Нисса, где прорубили две проруби, так что несчастные уходили под лед, как рыба, сорвавшись с крючка.
Конунг Сверкер выиграл войну против датчан, не послав ни одного человека, не пошевелив и пальцем.
Сам он считал, что это ему удалось благодаря его молитвам и воле Божьей. Но все-таки Сверкер призвал к себе Бленду и ее подруг. Он решил, что женщины Веренда, проявившие столько мужества при защите страны, в будущем будут наследовать столько же, сколько мужчины. И как вечный воинский знак они должны носить красный пояс с вышитым золотым крестом — отличие, полагающееся только им, и никому другому. А когда женщины Веренда будут выходить замуж, только у них, и больше ни у кого другого, впереди свадебной процессии будут идти барабанщики.
Если бы конунгу Сверкеру было суждено жить дольше, его приказ получил бы законную силу. Но дни конунга Сверкера были сочтены. Скоро его должны были убить.
* * *
Нельзя построить неприступную крепость. Если есть достаточно веские причины, то можно разорить и сжечь жилище любого человека. Но тогда встает вопрос о том, стоила ли игра свеч, сколько нападавших были пронзены стрелами, сколько — забросаны камнями, сколько воинов лишились здоровья и потеряли охоту к войне во время осады.
Магнус хорошо знал это. Но было нечто, чего не мог знать ни он, ни кто-либо другой в то время, — что случится после смерти старого конунга Сверкера, которая, как ни крути, была уже не за горами.
Возможно все. К власти может прийти старший сын Сверкера Карл, и тогда особенных перемен не произойдет. Ведь Сигрид позаботилась о том, чтобы улучшить отношения с конунгом Сверкером, подарив Варнхем почти что от его имени.
Но о том, что происходило в Свеаланде, известно было немного. Возникали вопросы. Кто из свеев готовился теперь к битве за королевский престол? Или, может, кто-нибудь из вестгетов? Может, кто-то из его собственного или из близкого рода, а может, человек из враждебного рода. В ожидании остается только строить свой дом.
Арнес располагался на оконечности мыса на озере Венерн и, следовательно, был естественным образом защищен водой с трех сторон. Рядом со старым длинным домом теперь возвышалась каменная башня в семь человеческих ростов. Стены вокруг башни еще не были достроены до конца, так что территория защищалась в основном палисадами из тесно пригнанных друг к другу заостренных дубовых кольев. Здесь еще много нужно было сделать.
Магнус долго стоял на вершине своей башни, стреляя из большого лука в стог сена по ту сторону двух рвов. Удивительно, как далеко может улететь стрела, если стрелять сверху вниз. И после довольно короткой пристрелки можно рассчитать угол так, что попадание получается почти точным или по крайней мере на расстоянии вытянутой руки от того места, куда хочешь попасть. Уже теперь Арнес нелегко будет взять приступом, во всяком случае, отряду воинов, которому нужно добыть пропитание по дороге домой. И Арнес может стать еще неприступнее, хотя для всего требуется время, а Сигрид всегда хочет не того, что Магнус.
Он прекрасно знал, что она очень часто добивалась своего, если их мнения расходились. Теперь он знал даже, как она ведет себя, чтобы все выглядело так, словно она не управляет им, а смиренно подчиняется воле своего мужа и господина.
Так случилось со старинным сиденьем норвежских предков. В старом длинном доме почетное место и стены вдоль короткой части зала были украшены резьбой по дубу: там можно было увидеть качающиеся на волнах драккары, а все изображение обвивал огромный змей, имя которого он забыл. Рунический текст был очень старым и трудно читался.
Сигрид сначала предложила сжечь это старое богохульство, поскольку теперь все строится заново. Вместо этого стены следует украсить новыми тканями с рисунками, на которых христианские воины защищают священный город Иерусалим, возводятся церкви и крестятся язычники.
Магнусу трудно было решиться сжечь искусную резьбу предков. Таких мастеров теперь не было, по крайней мере ничего подобного в Западном Геталанде найти нельзя. Но Магнус не мог не обратить внимания на ее слова о безбожии и языческом искусстве. Ведь именно в этом она была права.
Однако предки, вырезавшие кольца дракона и руны, не знали других узоров. Теперь после них остались только их прекрасные произведения, которые обращались к разуму зрителя как голос из прошлого, не пробуждая при этом нечистых мыслей. Кажется, что смотришь на восход солнца, и в те далекие века это значило нечто иное, чем во времена Спасителя. Но Магнусу тяжело было все это связно объяснить Сигрид, когда она столько твердила о нечистоте и о том, что нужно уничтожить ее огнем. Вышло так, словно она была права, а он ошибался.
Их споры вызывала не только старинная резьба. Трудно было решить вопрос о тех, кто мог класть стены, прежде всего о Сварте, Гуре и их учениках. Нужно ли сначала делать все укрепления или сперва выкладывать фронтон нового длинного дома?
В старом длинном доме очаг располагался в середине пола вдоль всего здания, так что тепло распределялось довольно равномерно. В дальней части дома жили рабы и скотина, а в той части, где находилось почетное место, обитали хозяин, его люди и их гости. Таким образом, в холодные зимы тепло прекрасно сохранялось.
Но теперь у Сигрид появились новые идеи, которые она, конечно, позаимствовала у монахов из Варнхема. Он еще помнил свои удивление и сомнение, когда она нарисовала для него план на песке. Все было новым и совсем не таким, как раньше.
Ее длинный дом разделялся на две половины, с большим входом посередине, который вел в сени, а оттуда можно было пройти либо на хозяйскую половину, либо в ту часть дома, где жили рабы и скот. Их половина к тому же имела два этажа: верхний служил сеновалом, а нижний — как конюшня и хлев. Здесь очага не было, наоборот, огонь тут нужно было запретить под угрозой сурового наказания.
Во второй половине длинного дома, которая будет их собственным жилищем, с почетным местом, как и раньше, дальний очаг должен быть полностью сложен из камня, а под очагом будут находиться большие плоские камни, соединенные между собой в противень, почти такой же широкий, как и сам дом, а над ним — большая дымовая труба и вделанные в стену каменные дымоходы.
У него было множество вопросов, а у нее — столько же ответов.
— Если нет огня в очаге вдоль всего пола, то ведь во время суровых зим будет слишком холодно?
— Нет, дорогой господин и супруг мой. Каменная стена будет греть, поскольку в течение дня всегда есть тепло, которое камень будет удерживать ночью. А без всех этих дымоходов в потолке, через которые в дом, словно демоны, вползает стужа, мы лучше сохраним тепло от очага.
— Но без дымоходов в потолке мы постоянно будем ходить с красными глазами и кашлять от дыма?
— Нет, дорогой господин и супруг мой. Дым будет выходить по трубам над очагом.
— Но рабы и скот, они далеко от огня, как же они переживут зиму, мы ведь не можем потерять их из-за морозов, не замерзнут ли они и не пустят ли нас тем самым к весне по миру?
— Нет, дорогой господин и супруг мой. Так как мы поделим их жилище на два этажа, все тепло от животных будет оставаться в доме, а с таким количеством сена, как на втором этаже, и раб и свободный человек могут чувствовать себя спокойно.
— Да, но ведь если мы будем строить, как ты говоришь, кладя длинные бревна друг на друга, то по дому будет гулять ветер, а нас запорошит снегом, так что все равно придется строить старым способом, ставя бревна вертикально?
— Нет, дорогой господин и супруг мой. Плотники должны сначала так хорошо обтесать бревна, как только способны их топоры, чтобы бревна примыкали друг к другу как можно плотнее. Потом мы законопатим щели просмоленной паклей и замажем стены и снаружи и внутри тягучей черной смолой, как это делают в Норвегии в деревянных церквях.
Так она говорила, и, сказав о норвежских деревянных церквях, в которых, естественно, были узоры с драконами, она словно намекнула, что может сдаться в вопросе, касающемся почетного места их предков и небольшого количества христианских украшений на нем. И тогда он тотчас же, с большим оживлением и облегчением, согласился с тем, что сначала каменную кладку нужно вести в новом длинном доме. Поскольку теперь все равно стало так, как он хотел.
Конечно же, он видел ее насквозь, конечно же, он понимал, что она делала все, чтобы осуществить свою волю почти в каждом деле. Иногда он чувствовал, как по телу разливается волна гнева при мысли о том, что его жена ведет себя так, словно это она, а не он хозяин в Арнесе.
Но то, что он видел теперь, натягивая большой лук и крича одному из рабов, стоявшему во рву, чтобы тот собрал стрелы и поставил их на место в оружейной, было не просто красиво. Это было очень убедительно.
Под ним, на самой территории укреплений, сверкая просмоленными стенами, располагался новый длинный дом, с зеленой дерновой крышей. Они отказались от камыша и сделали крышу из дерна, несмотря на то что поблизости росло очень много тростника. Это было сделано не только ради тепла, но и потому, что одна-единственная зажженная стрела превратила бы камышовые крыши в огромные факелы.
В другом конце усадьбы, под защитой той высокой части стены, которая была построена прежде всего, находился большой хлев. Под Магнусом, в башне, лежало зерно и оружие. Уже сейчас он смог бы организовать оборону Арнеса за полдня.
Если посмотреть наружу, то там, на другой стороне внешнего рва, выросло целое селение. За другими постройками, рядом с водой стояла распространяющая неприятный запах дубильня, где выделывали бычьи шкуры и шкурки куниц и горностаев, которые приносили так много серебра в Ледесе. Ближе к крепости располагались в два ряда хлева и жилища рабов, мастерские каменотесов и кузницы, кладовые, поварни, бочарни и прядильни. Теперь у него было в два раза больше рабов и скота, чем всего лишь несколько лет назад.
Это казалось настоящим чудом. Сам он узнал от своего отца, который научился от своих предков, и так с незапамятных времен, сколько именно рабов и скота может прокормить одна марка земли, чтобы хозяйство не съело своего хозяина.
Теперь там внизу была целая толпа людей, в два раза больше, чем содержал бы он сам, и все-таки с каждым месяцем Арнес становился все богаче и больше. Лес, который начинался прямо за северным рвом, был вырублен на расстоянии десяти выстрелов из большого лука, так что его с трудом было видно. Он превратился в древесину, которая пошла на строительство, а там, где стоял лес, ныне простирались новые поля и пастбища.
И как бы много серебра он ни выкладывал за то, что нельзя было сделать в Арнесе или можно было только купить, к примеру кузнеца из Бьельбу, который выковал все ворота, или соль, — денег все равно прибавлялось, словно монеты в дубовых сундуках, стоявших в тайниках башни, могли размножаться, будто скот или рабы.
Когда конунг Сверкер две зимы назад начал чеканить монету в Ледесе, он был единственным королем с незапамятных времен, начиная еще с язычества, который верил в деньги как в средство оплаты. Большинство купцов относились к монетам с подозрением и предпочитали старый способ, когда стоимость соли и железа, кож, масла и шкур измерялась в количестве шепп зерна.
Но Сигрид живо убедила Магнуса в том, что он с самого начала должен следовать новому порядку и стать первым, кто за все берет серебро. Она представила это так, что тем самым он помогает конунгу Сверкеру ввести его новшество, в которое никто не верит, и одновременно сохраняет доброе расположение короля по отношению к Арнесу.
Поэтому вначале он получал за товары в десять раз больше серебра, чем он мог получить сейчас, когда все стали следовать его примеру, и благодаря тому, что он был первым, Магнус в два раза увеличил свое богатство всего за несколько лет. Сигрид уверяла его, что серебряные монеты будут все больше и больше входить в употребление, что они станут признаком нового времени и что тот поступает разумно, кто вовремя заботится о своем доме.
Она была, как обычно, права. И когда он наконец понял это, осознал, какая сила кроется на дне его сундуков в башне, тогда он вдруг почему-то почувствовал, что хочет наказать ее, выпороть, показать ей ее место.
Но гнев вскоре улегся. Теперь, когда он видел кипучую деятельность в Арнесе, он обращался к Богу с благодарственной молитвой за то, что Господь даровал ему мудрейшую жену во всем Геталанде; свейские земли он рассматривал как давно пришедшие в упадок, так что с ними не стоит и сравнивать. Сигрид — Божий дар, это очевидно и истинно. И наедине с собой, под небесными сводами, где только Бог мог слышать его мысли, Магнус честно признавал это. Об этом ведь знали только он сам и Бог, ну и Сигрид, разумеется. Больше никто. Люди считали, что цветущая земля вокруг Арнеса и два селения, ближе к Форсхему, были делом только его рук. Все они думали, что он — настоящий мужчина, с которым нужно считаться, мужчина, который может нажить богатство.
Возможно, Сигрид также верила в то, что он пребывает в этом тщеславном заблуждении. Для себя же Магнус решил, что никогда не покажет ей, что он понимает: за всем стоит она. Так, пожалуй, будет лучше.
Кроме того, утешал он себя, Сигрид есть он, а он есть она, потому что то, что соединил Бог, не могут разорвать люди. Все, что росло и процветало вокруг Арнеса, было их общей работой, точно так же как Эскиль и Арн были наполовину он сам, а наполовину Сигрид.
Если смотреть на вещи так, что вполне соответствует христианским воззрениям, то он действительно был настоящим мужчиной по воле Божьей. А каким же образом, как не по воле Божьей, это могло быть?
* * *
Зимой в Западном Геталанде пировали. Но именно этой зимой, когда дни конунга Сверкера были сочтены, пиров было необычайно много. Люди ездили в санях по всей стране, и не только ради жареного мяса и пива. Для некоторых это было холодное время неопределенности, а для других — горячая пора заговоров и интриг.
Эрик сын Эдварда сообщил, что собирается посетить Арнес прямо в канун празднования середины зимы. Нужно поближе познакомиться друг с другом, поскольку Сигрид и Кристина состоят в родстве, а кроме того, о многом следует поговорить. К тому же может решиться вопрос о Варнхеме.
Только одна фраза беспокоила Магнуса в этом сообщении — то, что о многом нужно поговорить. Содержание этого выражения было неясным, но все равно угрожающим, так как все знали, что Эрик сын Эдварда — человек честолюбивый. В худшем случае он стремился к королевской власти. И это, в свою очередь, означало, что теперь он желает выяснить, кто ему в этой борьбе враг, а кто друг.
В глубине души Магнус долго взвешивал все за и против. Его желание — построить сильный и богатый Арнес, оставить богатое наследство Эскилю и, может быть, что-нибудь для Арна. Тот, кто позволит вовлечь себя в борьбу за корону, может многое выиграть, но так же легко и все потерять. Поэтому для Магнуса выбор не был сложным, поскольку его путь в жизни размечен вплоть до самой смерти, желательно в достаточно почтенном возрасте. Он намеревался продолжать строить, торговать и обрабатывать новые земли. Таков его вполне безопасный путь к богатству и хорошей жизни.
Но с другой стороны, сильно затрудняло дело то, что тот, кто не поддерживал победителя в его борьбе за королевский престол, не мог ждать для себя ничего хорошего, когда победитель приедет к нему на пир и спросит, почему он не получил от хозяина столь нужную ему раньше поддержку. То немногое, что Магнус знал об Эрике сыне Эдварда, говорило ему, что этот человек обязательно ввяжется в борьбу и никогда не простит своих врагов. Какую позицию Магнус ни займет, он все равно рискует проиграть.
Магнус втайне не считал себя воином. Конечно же, он умел обращаться с мечом и щитом, копьем и луком, а чему же еще ему было учиться в молодости, как не этому? Его дружина насчитывала дюжину человек, дальних родственников, в основном молодых людей, которые не могли надеяться получить наследство и не знали другой работы, кроме той, которую выполняют с оружием в руках. По мнению Магнуса, его дружинники были большими лентяями. Магнусу было очень сложно заставить их посвящать хотя бы половину своего времени труду в качестве плотников и корабелов — единственной работе, которую они сразу же не называли рабской. Остальное время, как они утверждали, они отдавали оружейным забавам, чтобы хорошо послужить, когда это понадобится. Однако в глазах Магнуса больше всего времени они проводили, утоляя жажду пивом.
Но в любом случае Магнус мог выставить дюжину дружинников и с грехом пополам вооружить восемь дюжин своих бондов из двух селений, расположенных по направлению к Форсхему. Его дружина вряд ли смогла бы заставить колебаться чашу весов в борьбе за королевский престол. Но важнее было другое: как повести себя в этой борьбе, за кого выступить. И если одна половина рода, из Западного Геталанда, выступит за или против Эрика сына Эдварда, то решающим все равно окажется то, какую позицию займет вторая половина рода, из Бьельбу в Восточном Геталанде.
Магнус отправил гонца за своим младшим братом Биргером, который, хотя и не был старшим или первым по положению, все равно выступал от имени рода Бьельбу во многих сложных вопросах. В том, что касается переговоров, Биргера считали и хитрым, и справедливым. Несмотря на то что его щеки еще покрывал юношеский пушок, многие предсказывали ему высокое положение в королевстве. Причем не важно, кто будет управлять королевством, ибо род Бьельбу располагал огромным количеством как земли, так и дружинников.
Биргер, постоянно улыбающийся, примчался, словно снежный вихрь, вечером, до появления других гостей. Под громкие крики он подкатил на своих санях прямо к длинному дому, так круто повернув, что снег взметнулся из-под полозьев. Он быстро соскочил с саней, предоставив распоряжаться ими подбежавшим рабам из конюшни, и сбросил на землю убитого волка, чтобы его сразу же могли отнести в дубильню и ободрать; многие из рабов считали, что мертвый волк, находящийся поблизости от человеческого жилья, может принести несчастье.
Затем он забросил на спину тюк с праздничной одеждой и направился в длинный дом. Магнус поспешил выйти, чтобы встретить его. Войдя в дом и увидев Сигрид, Биргер поприветствовал ее с уважением и некоторой осторожностью и сразу же начал хвалить постройку. Под предводительством Сигрид и с Магнусом, поспевавшим сзади, Биргер обошел зал, наслаждаясь теплом, идущим от выложенной камнем короткой стены с очагом, в котором пылали чурки. Потирая руки от восхищения, он тут же выбрал себе постель, кинул на нее приготовленную для переодевания одежду и стянул покрывало. Подойдя к скамье рядом с огнем, он принялся рассказывать о своем путешествии по льдам Веттерна, о том, как он заметил стаю волков, как лошадь легко обогнала их на тонком снежку, покрывавшем лед, и как он застрелил волка, который, к несчастью, застрял в полозьях саней, так что остальные успели убежать.
Потом он привычно протянул руку, и ему сразу же была подана кружка пива, причем Биргеру потребовалось для этого лишь бросить взгляд в сторону раба, разливавшего пиво. Он выпил за здоровье своих хозяев и громко, довольно выдохнул.
Магнус чувствовал, как младший брат, полный жизненных сил, для которого, казалось, нет ничего сложного или невозможного, почти подавляет его. Взять, к примеру, хотя бы то, что Биргер один отправился на санях через непрочный лед в плохую погоду и проехал за день путь из Бьельбу в Арнес без малейшего затруднения. Все это заставляло Магнуса думать о том, какими непохожими могут быть братья, если у них общий отец, но разные матери.
Прошло некоторое время, прежде чем они обсудили дела родственников в обеих усадьбах и Магнус застенчиво смог начать непростой разговор: о том, поддержать или не поддержать Эрика в его борьбе за престол.
Вопрос не показался Биргеру сложным. Он тут же принял решение. — Бесспорно и истинно, — сказал он, протягивая руку за новой кружкой пива, — что этот Эрик сын Эдварда — человек, который либо закончит свои дни королем, либо станет на голову короче, или и то и другое. Это ведь знают все. Но при теперешнем положении нам нельзя ввязываться ни в какую борьбу. Он не может восстановить Восточный Геталанд против Западного Геталанда или наоборот. Возможно, он расположит к себе свеев, с кровавым языческим жертвоприношением или без него. Если это ему удастся, тогда мы и посмотрим, чью сторону принять. Ну и хватит об этой безделице. Когда мы уже наконец сядем за стол?
Приезд Эрика сына Эдварда в Арнес на следующий день был пышно обставлен. Он прибыл на четырех санях в сопровождении двенадцати дружинников, словно уже был конунгом или, по крайней мере, ярлом. Кроме того, он пожаловал на четыре часа раньше, чем его ожидали. Оказалось, Эрик ехал из своей усадьбы Ладос у Лидана не один день, он остановился на ночь у человека конунга Сверкера в королевской усадьбе Хусабю, проехав едва ли полдороги. Правда, о том, что произошло там в течение столь короткого гостевания, он говорил с большой неохотой.
Мясо было пока еще полусырым, репу только несли в поварню, а Сигрид едва успела подмести зал и повесить тканые полотна, так что после короткого приветствия, когда можно было глотнуть пива и отведать белого хлеба, который был гордостью Арнеса, общество по возможности разделилось, чтобы провести время без отвращения друг к другу. Магнус попросил старшего дружинника позаботиться о его братьях по оружию из Ладоса, разместить их и утолить их жажду, Сигрид взяла с собой Кристину, чтобы осмотреть дом и обойти все новые постройки в усадьбе, а сам Магнус повел Эрика сына Эдварда к укреплениям.
Наверху ничто не произвело на Эрика большого впечатления. Он полагал, что стены слишком низкие и непрочные, что двойной ров — странная выдумка и что глубокие рвы все равно не помогут защитникам зимой, когда лежит лед. Он продолжал в том же духе, все время сводя разговор на собственное строительство, с которым он сравнивал хозяйство Магнуса, прежде всего строительство церкви у Эриксберга, которое было уже почти завершено. Разумеется, он использовал труд английских каменщиков, которых взял из рода своего отца. Эрик сказал, что он охотно одолжит их Магнусу к весне, прежде чем отправить домой.
Магнус спокойно выслушал его. Если стены в Арнесе были слишком низкими и непрочными, то они были слишком низкими и непрочными и для конунга. Если бы в крепости находился конунг, то осаждающих было бы больше и они запаслись бы большим терпением, чем если бы там был простой купец. Несложно было заметить, что Эрик сын Эдварда уже воображает себя конунгом.
Магнус чувствовал себя неуютно в его обществе. Тот был выше и тяжелее, что заставляло его говорить и вести себя так, будто он здесь хозяин, а не гость.
Тем более приятный сюрприз ждал Магнуса, когда они покинули укрепления и начали осматривать конюшни и дом. Строительство из длинных сосновых бревен, лежащих друг на друге, было новшеством, и большой, полностью выложенный камнем очаг в длинном доме с тремя большими дымоходами у потолочных балок также стал новостью для Эрика сына Эдварда: у него дома по-прежнему строили, ставя бревна вертикально и скрепляя их соломой и глиной.
Магнус тотчас же пришел в хорошее расположение духа, рассказывая о строительстве, хотя в глубине души знал, что это Сигрид убедила его во всем новом. Но он все равно был уверен, что она не рассердится на него за то, что сейчас он описывал Эрику всю эту большую работу как свою собственную.
Когда Эрика сына Эдварда пригласили в зал и он почувствовал тепло, исходящее от каменной печи у почетного места, он тут же начал расточать громкие похвалы, подошел и провел рукой по бревнам, чтобы убедиться в том, что они совершенно не пропускают холод. Пока опасному гостю подносили пиво, Магнус застенчиво рассказал, что здесь на севере, где лес Суннанскуг встречается с лесом Нурданскуг, так много древесины, длинных сосновых бревен, что можно строить иначе, чем, например, в Лидане, где доступен в основном лиственный лес.
Пиво дарило тепло, и Магнус воспрянул духом.
У Сигрид были другие затруднения, когда она показывала хозяйство своей родственнице Кристине. Отношения между ними могли быть лишь холодно-вежливыми, поскольку Кристина начала ссориться и с монахами, и с конунгом, утверждая, что по крайней мере часть Арнеса должна принадлежать ей и что она никогда в жизни не отдала бы свою долю наследства каким-то монахам.
Но этот вопрос лучше было не затрагивать сейчас, в отсутствие их мужей. Если об этом зайдет речь, то лучше, чтобы все, кто имеет право говорить об этом, были собраны в одной комнате.
Кристине оставалось лишь удивляться всем тем разнообразным мастерским, которые выросли вокруг усадьбы. Они не стали спускаться к дубильне из-за неприятного запаха, но сходили в поварню, к каменотесам, кузнецам, бочарам и прядильщикам, прежде чем зайти в амбары и одно из жилищ рабов. Там они застали совокупляющуюся пару, что не произвело на них ни малейшего, впечатления; они лишь сказали несколько ободряющих слов смущенным рабам, проходя мимо. Кристина пошутила, заявив, что дома она приказывает кастрировать по крайней мере каждого второго раба, иначе эти животные будут размножаться без меры и плодить новые рты, которые нужно кормить.
Сигрид объяснила, что она отказалась от этого обычая. Не ради рабов, хотя это нововведение и обрадовало их, а потому, что рабов не может быть слишком много.
Этот резон Кристина понять не могла. Больше рабов значит больше ртов, которых нужно кормить, больше животных, которых нужно закалывать, и больше зерна, которое нужно молотить, это ведь ясно как Божий день.
Сигрид попыталась объяснить смысл переселения, обработки новых земель и выкупа рабов на волю по мере увеличения их количества и какую прибыль это, в свою очередь, давало каждый год в виде дополнительных бочек зерна с новых земель, а также то, как мало пищи нужно рабам, если они должны платить за нее сами, ибо свобода стоила дорого.
Кристина только усмехалась этим нелепым затеям, ведь это все равно что выпустить коров на зеленый луг, доить их и потом зарезать, а поджарить самого себя. Сигрид быстро отказалась от всех попыток объяснить что-либо и в конце концов повела Кристину в баню, где перед вечером мылась толпа рабов.
Когда они открыли дверь в баню, на них вылетело большое облако пара, и зимний студеный ветер смешался с влажным теплом. Закрыв за собой дверь и присмотревшись, Кристина в первый раз удивилась так, что не смогла этого скрыть. Помещение было заполнено обнаженными рабами, которые бегали туда-сюда с ведрами, выливая горячую воду в большие дубовые корыта, или же сидели в клубах пара. Сигрид подошла к ним и поймала одну из рабынь, дав Кристине пощупать ее тело. Посмотри, какие они здоровые и упитанные!
Да, они хорошо выглядят. Но какой смысл в том, чтобы позволять им переводить дрова, как свободным людям, это она не могла понять.
Сигрид пояснила, что это домашние рабы, прислуга, которые должны будут всю ночь поворачивать вертела, приносить и разливать пиво и выносить помои. И разве не лучше иметь рабов, от которых не воняет? К тому же после бани всех их оденут в чистые льняные одежды, потому что сейчас в Арнесе производится намного больше льняной ткани, чем можно продать.
Кристина покачала головой, она не могла не показать, насколько сумасбродным ей кажется этот способ обращения с рабами. Ведь от этого у них могут возникнуть разные мысли. У них уже есть мысли, ответила Сигрид с улыбкой, которую Кристине сложно было понять.
Но когда вечером начался пир, вошедшая в зал процессия чисто вымытых слуг в белых льняных одеждах выглядела очень красиво. Они несли первую перемену мяса, репы, белый хлеб и суп из лука, бобов и еще чего-то, о чем не знали гости и что Сигрид называла красным корнем.
На норвежском почетном месте с драконами восседали Магнус и Эрик сын Эдварда. Слева от Магнуса расположились его брат Биргер, сыновья Эскиль и маленький Арн, а вместе с ними — Кнут сын Эрика, их ровесник. Справа от почетного места — Кристина и Сигрид. Вдоль стен пылали смоляные факелы, на длинном столе, за которым по старшинству сидели двадцать четыре дружинника, горели дорогие восковые свечи, словно в церкви, а от каменной стены за почетным местом исходило тепло, которое, однако, уменьшалось по мере удаления. Младшие дружинники в конце стола вскоре завернулись в свои плащи.
Рабы, поворачивавшие вертела, стали разносить самые мягкие куски и то, что можно было быстрее всего приготовить в коптильне, находящейся между двумя частями длинного дома, — молочных поросят. Потом должны были последовать более грубые закуски — телятина, баранина и мясо молодых кабанов, а также грубый черный хлеб, какой делали раньше, для тех, кому не нравился новомодный белый хлеб. Пиво разносили в огромных количествах. Мужчинам — крепкое, неприправленное, женщинам и детям — сдобренное медом и можжевеловыми ягодами.
Поначалу все шло хорошо, гости довольно рассуждали о малозначительных вещах, а вечно улыбающийся Биргер еще раз поведал о своем вчерашнем «подвиге», когда он застрелил волка.
Эрик сын Эдварда и его дружина выпили за здоровье хозяев. Магнус и его дружина выпили за здоровье гостей. За столом царило веселье, не было ни злых мыслей, ни злых слов.
Эрик сын Эдварда даже еще раз успел похвалить красоту зала, новый способ строить из горизонтально лежащих бревен и плотно заделывать щели между ними, красиво вырезанных драконов вокруг почетного места и прежде всего постели, которые располагались в ряд друг над другом вдоль одной из длинных стен, с большим количеством покрывал и шкур, так что в одной постели могло уместиться несколько человек, и при этом им не было бы слишком тесно или жарко. Об этом тоже нужно подумать при строительстве нового жилья. Магнус застенчиво объяснил, что так обычно ставят постели в Норвегии, каждый норвежец знает, что холод ослабевает, если приподнять постели над полом.
Эрик сын Эдварда вливал в себя все больше и больше пива, и его язык постепенно развязывался, хотя поначалу это едва можно было заметить. Он шутил о конунге Сверкере, единственном на Севере, который смог выиграть войну потому, что труслив, затем — о монахах, о том, сколько хлопот они доставляют. Потом он вернулся к трусливому конунгу Сверкеру и посмеялся над тем, что старик еще раз женился на старой карге, этой Рикиссе, которая даже была наложницей русского, Володара или как там его зовут, на другой стороне Восточного моря. — Но, любезный гость, ведь тем самым он вновь спас страну от войны и пожара, об этом ты не подумал? — вступила в разговор Сигрид с очень довольным видом, так, словно и ей пиво ударило в голову и поэтому она могла позволить себе безответственно болтать. Магнус бросил на нее строгий взгляд, но она притворилась, что не заметила этого.
— Как же! Какие это подвиги во имя страны старый хрыч может совершить в постели с дважды вдовой? — громко ответил Эрик сын Эдварда, обращаясь больше к своей дружине, сидевшей за столом, чем к Сигрид.
Дружинники тут же захохотали.
— Потому что у Рикиссы есть сын Кнут от первого брака и потому что Кнут сын Магнуса теперь стал новым конунгом Дании и едва ли пойдет войной на ту страну, королева которой — его мать, — резко ответила Сигрид, как только стих смех дружинников.
Однако она сказала это с очень веселым видом. И когда Эрик сын Эдварда помрачнел, в наступившей тишине она еще более весело добавила, что таким образом старик, который уже не мог исполнить своих супружеских обязанностей, использовал именно постель для того, чтобы избежать войны. Так старческая немощь сослужила хорошую службу, а ведь это случается не каждый день.
Последняя шутка о мужском бессилии конунга вызвала взрыв еще более громкого смеха дружинников, чем после шутки Эрика сына Эдварда.
Сигрид потупила взор, словно стесняясь, и кажется, покраснела от своей собственной дерзости. Но Магнус почуял неладное. Никто лучше него не знал, насколько остра на язык была его жена. Никто лучше него не знал, что если на этом пиру речи скрестятся, словно мечи, то Сигрид победит всех, кроме, может быть, Биргера. А так быть не должно, это только повлечет за собой неприятности.
Поэтому он попытался выйти из положения, пустившись в долгие и путаные объяснения того, насколько велико значение знаний, которые принесли с собой в страну монахи. Достаточно лишь посмотреть на Арнес. Ведь это монахи показали, как строить по-новому, как можно подвесить значительно большее, чем раньше, мельничное колесо, как можно сеять пшеницу осенью, оставив ее на зиму, чтобы потом она колосилась вплоть до сбора урожая. И возможность обменивать товар на серебро вместо того, чтобы менять товар на товар, несомненно, получит широкое распространение в будущем. Он говорил еще о многом, чему в основном его научила Сигрид, но только Сигрид и он знали об этом.
Разумеется, гостю было сложно прервать хозяина, но, когда Магнус начал повторяться и в третий раз заговорил о значении серебра в торговле, Эрик сын Эдварда демонстративно поднялся, чтобы пойти облегчиться. Тут Магнус затих и бросил беспокойный взгляд на своего брата Биргера. Биргер, как обычно, улыбался и вовсе не выглядел обеспокоенным, когда он наклонился к Магнусу и прошептал, что сейчас, пожалуй, действительно нужно пойти и справить нужду, потому что скоро начнется то, ради чего сюда прибыл гость.
В остальном пир проходил прекрасно. Половина дружины последовала примеру именитого гостя, и скоро почти все мужчины стояли у изгороди и довольно переговаривались, пуская струи на уложенные еловые ветки; зимой двор усадьбы выглядел бы слишком грязно после славного пира, если не застелить землю хвоей, которую постоянно меняли бегавшие рабы.
Эрик сын Эдварда снова занял место рядом с Магнусом на почетном сиденье и, взяв новую кружку пива, поднял руку в знак того, что он хочет говорить и чтобы его не перебивали. Чуть улыбнувшись, Биргер взглянул на Магнуса и утвердительно кивнул.
— Пока гостеприимство хозяев не слишком сильно ударило нам в голову и мы не начали хвастаться тем, какие мы сами герои, — улыбаясь, начал он, дождавшись уважительного смеха, который в основном исходил от его собственных дружинников, — настало время поговорить о серьезных вещах. Дни конунга Сверкера сочтены. Я не слишком преувеличу, если скажу, что скоро его уже не будет с нами на земле. Карл сын Сверкера сидит в Линчепинге и думает, что корона сама свалится ему на голову. Многие в Западном Геталанде не желают допустить подобного несчастья, и я — один из них. Поэтому с Божьей помощью я добьюсь короны. И теперь я спрашиваю вас, родичи и друзья, поддержите ли вы меня или я должен покинуть этот прекрасный дом как ваш враг?
В зале стало совершенно тихо. Даже три маленьких мальчика рядом с Биргером изумленно уставились большими глазами на Эрика сына Эдварда, который объявил о том, что хочет стать конунгом, одновременно угрожая своей враждой.
Магнус бросил на Биргера отчаянный взгляд, но Биргер только чуть улыбнулся и кивнул, давая понять, что он берет на себя ответственность за дальнейшее.
— Господин Эрик, ты говоришь с такой силой и решимостью, что я ни минуты не сомневаюсь в том, что ты можешь стать нашим королем, — начал Биргер громким голосом для того, чтобы все заметили, что говорит он, младший брат, а не Магнус, сидящий на почетном месте. Затем он понизил голос. — Позволь сперва мне ответить тебе. Я говорю за весь род Бьельбу, у меня есть на это право. А мой брат Магнус может ответить после меня, но ты должен знать, что два наших рода связаны многими кровными узами и едва ли будут противоречить друг другу. Ты можешь надеяться на это. Мы тебе не враги, но и не друзья именно в этом деле и именно в этот момент. Если ты хочешь стать нашим конунгом, то ты должен начать действовать совершенно в другом месте, а не в наших краях. Заставь свеев выбрать себя конунгом у скалы тинга в Муре. Если тебе это удастся, то полдела уже сделано. Если же ты, напротив, попытаешься стать конунгом в Западном Геталанде против воли восточных гетов, то только накличешь войну, и никому не известно, кто выйдет из нее победителем. Если ты сделаешь наоборот, то случится то же самое. Следовательно, сперва ты должен расположить к себе свеев. И когда ты это сделаешь, можешь рассчитывать на нашу поддержку. Разве я не прав, брат Магнус?
Магнус обнаружил, что все на него смотрят и что наступила тишина, как в тот момент, когда лук уже туго натянут и стрела скоро будет выпущена в цель. Он смог лишь медленно и задумчиво кивнуть, словно старый мудрец. Среди дружины Эрика сына Эдварда в дальнем конце зала прошел ропот недовольства.
— Ты, Биргер, всего лишь молокосос, — покраснев, прокричал Эрик сын Эдварда, — я бы мог убить тебя здесь и сейчас за твои дерзкие слова. Кто ты такой, чтобы учить взрослого воина, как ему поступать!
Эрик сын Эдварда сделал движение, будто хотел выхватить меч, словно забыв, что обычая пировать с мечом на боку уже не существовало; все оружие хранилось в среднем доме у рабов, вращающих вертела.
Биргер не испугался притворного движения к пустым ножнам, и, когда он отвечал, его улыбка не меркла ни на секунду.
— Ты можешь считать меня молокососом, Эрик сын Эдварда, — начал он спокойно, но потом заговорил громче, чтобы никто в зале не пропустил его слова, — что меня не радует. Но для нашего большого дела это не имеет значения, ибо если ты поднимешь меч против меня, то в тот же самый момент ты навлечешь на себя несчастье, чем бы все ни кончилось.
— Ты что же, молокосос, думаешь, что смог бы выстоять против меня с мечом?! — закричал Эрик сын Эдварда, еще больше покраснев и разгневавшись, так что все в зале стали опасаться худшего, а одна из рабынь быстро подбежала и увела трех мальчиков, сидевших рядом с Биргером.
Биргер медленно поднялся, но улыбка не исчезла с его лица, когда он ответил.
— Теперь я действительно прошу тебя как нашего гостя — опомнись, Эрик сын Эдварда, — сказал он. — Если мы скрестим сейчас мечи, это плохо для тебя кончится. Если ты умрешь, то никогда уже не станешь конунгом. Если же ты убьешь меня, то остаток твоей жизни превратится в долгий путь, на котором весь род Бьельбу будет охотиться на тебя от тинга к тингу и в конце концов убьет тебя. Опомнись и подумай! Королевство сейчас от тебя на расстоянии вытянутой руки, в этом я не сомневаюсь. Так не позволяй же ему отдаляться от себя лишь потому, что ты считаешь, что представитель рода Бьельбу слишком молод и дерзок! Завоюй сначала свеев, а потом нас. Вот тебе мой совет.
Биргер спокойно сел и потянулся к одной из испуганных рабынь за новой кружкой пива, словно ничего особенного не произошло.
Прежде чем ответить, Эрик сын Эдварда долго сидел темнее тучи. Он понял, что речи молодого Биргера из Бьельбу были верны и чисты, как вода. Теперь ему самому пришлось признать, что остроумный юнец поставил его на место. Нельзя было отрицать то, что слышали все.
— Ладно, — сказал он наконец. — Я уже думал о том, чтобы отправиться на тинг в Муре и заставить свеев пойти за собой, так что в этом мы заодно. Но когда я вернусь, став твоим конунгом, за твои слова я ощипаю тебя как гуся.
— В этом я совершенно не сомневаюсь, мой будущий господин и конунг, — сказал Биргер с широкой, почти натянутой улыбкой и, прежде чем продолжить, выдержал насмешливую паузу. — Но поскольку ты, кажется, все же считаешь мои советы хорошими, то лучше не ощипывай меня, а сделай своим ярлом!
Его дерзкая и веселая манера высказывать все прямо в лицо разъяренному гостю вызвала удивительную реакцию. Эрик сын Эдварда уставился на него черными глазами, а Биргер лишь улыбался в ответ, до тех пор, пока на лице Эрика вдруг не появилась широкая ухмылка. И тут он начал хохотать. В следующую секунду захохотали его дружинники, потом дружинники Магнуса, потом женщины, потом рабы и, наконец, три мальчика, которым теперь было позволено вернуться на свои места. Буря прошла, зал сотрясался от хохота.
Эрик сын Эдварда, почувствовавший, что дальнейшие разговоры о его пути к короне лучше отложить до следующего раза, решил произвести хорошее впечатление и, хлопнув в ладоши, позвал норвежского скальда, который следовал за ним в последних санях, и попросил его рассказать о том времени, когда у мужчин на Севере были силы и мужество, которые так редко можно встретить теперь.
Пока скальд поднимался со своего плохонького места рядом с самыми младшими дружинниками и шел по залу, чтобы встать рядом с огнем, где он будет петь и рассказывать, домашние рабы быстро убрали объедки, налили свежее пиво и начали подтирать испражнения у двери. В зале воцарилась тишина. Скальд с опущенной головой выжидал, когда напряжение достигнет предела.
Тихо, но красиво, почти напевно начал он рассказ о восьми крупных победах Сигурда Крестоносца по пути в Иерусалим, о том, как знаменитый воин разбойничал в Галиции, как впервые у берегов Серкланда встретился он в морском бою с язычниками-сарацинами, направлявшимися к нему с большим галерным флотом, и как он, не колеблясь ни секунды, перешел в наступление и победил язычников, которые, очевидно, никогда не встречались с северными мореплавателями и ничего не понимали в битве. Сражение могло закончиться только так, как скальд описал в песне:
Бедные язычники Напали на конунга. Могучий князь Поразил их всех. Войско разбило восемь кораблей В страшном бою. Славный князь Перевез добычу на борт. Ворон летел на свежие раны.Здесь скальд прервался и попросил пива, чтобы затем продолжить свой рассказ, и все дружинники застучали кулаками по столу в знак того, что они хотят слушать дальше.
Двое самых маленьких, Арн и Кнут, слушали скальда открыв рот и вытаращив глаза, но Эскиль, который был чуть постарше, начал капризничать и зевать, и Сигрид махнула слугам, чтобы те отнесли мальчиков в постели; она позаботилась о том, чтобы их удобно устроили в одной из поварен, потому что считала, что детям не следует проводить всю ночь в компании взрослых пьющих без меры мужчин.
Эскиль послушно последовал за рабами, снова позевывая; казалось, что он сам предпочитает теплую постель обычным старым историям на малопонятном языке. Но Арн и Кнут лягались и брыкались, они хотели слушать дальше, обещая сидеть тихо, но своего не добились.
Скоро все трое лежали под толстыми покрывалами в поварне, где стояли три самых больших железных котла, наполненные раскаленным древесным углем. Эскиль скоро повернулся и засопел, а Арн и Кнут лежали с открытыми глазами и злились на то, что самый старший из них испортил все удовольствие. Пошептавшись, они тихо оделись и выскользнули в темноту, прокрались, словно маленькие привидения, мимо двух дружинников, которых рвало перед воротами, быстро прошмыгнули в зал и уселись в темноте около самой двери. Там никто не мог их увидеть, потому что Арн нашел большое покрывало, которым они накрылись, так что только две их белые макушки и вытаращенные глазенки торчали над ним. Они сидели тихо, словно мыши, и, затаив дыхание, ожидали рассказ о новых подвигах Сигурда Крестоносца.
— К северу от Серкланда, на острове, который называется Форментера, — рассказывал дальше скальд, выдержав паузу, — Сигурд Крестоносец и его воины наткнулись на сарацинских пиратов, язычников и нечистых разбойников, бездельников и уродов, порожденных от совокупления с ослицами. У них была богатая добыча, состоявшая из добра, отнятого у честных христианских пилигримов, не сумевших защититься, совершая богоугодный путь.
Однако язычники вместе со своей добычей хорошо укрепились наверху в пещере на отвесной скале, а перед входом в пещеру сложили каменную стену. Они издевались над викингами, дразня их шелком и другими драгоценностями. Поскольку язычники могли стрелять сверху вниз, кидать камни и нечистоты на викингов, если бы те попытались карабкаться по отвесной скале, казалось, что взять пещеру штурмом невозможно.
Но Сигурд Крестоносец нашел выход. Он велел притащить с берега несколько кораблей, которые назывались барками, и поднять их на гору. На самой вершине горы, над входом в пещеру, викинги привязали толстые веревки к мачтам кораблей, наполнили их отважными воинами, камнями и оружием и стали медленно спускать корабли, так что язычникам пришлось испытать на себе действие своей же хитрости и защищаться от врага, нападающего сверху.
Бой скоро закончился. Люди конунга смогли обагрить свои стрелы в крови. Ворон летел на свежие раны. Более богатой добычи не было взято за весь поход.
Рассказ скальда снова вызвал громкое одобрение, его просили продолжать; он сказался усталым, но, получив от Магнуса серебро и свежее пиво, присел, ожидая, пока вернутся все те, кто вышел по нужде.
Несмотря на то что мимо Арна и Кнута прошла дюжина мужчин и кое-кто даже споткнулся о них на входе или выходе, никто так и не заметил мальчиков, прижавшихся друг к другу, словно птенцы глухаря ночью в лесу.
Летом Сигурд Крестоносец поплыл в Святую Землю и был радушно встречен в Иерусалиме королем Баддуином. Для Балдуина было большой честью принять у себя такого отважного северного воина, и вскоре он отправился с Сигурдом к реке Иордан и хорошо укрепленному портовому городу Акка, где бросил якоря северный флот.
Король Балдуин понимал, какую пользу могут принести ему могучие северные воины, и отправился вместе с ними в Сирию, где освободил от язычников Сидон, так что еще один город в Святой Земле был спасен для верующих.
Но за эту помощь Сигурд не потребовал ни золота, ни шелков. Вместо этого по совету патриарха и короля Балдуина он получил частицы креста Господня. Сигурд поклялся священной клятвой отвезти эти реликвии на могилу Олава Святого в Нидаросе и построить там большой собор.
Скальд снова заслужил бурное одобрение, и его настойчиво просили повторить наиболее красивые стихи:
Сигурд победил у Сидона, все помнят это. Оружие скрестилось в этом бою. Воин покорил неприступную крепость. Прекрасный меч обагрился кровью там, где победил князь.Шум в зале не прекращался, а потом начались бесконечные разговоры, когда все, перебивая друг друга, рассказывали о былых подвигах и о нынешних королях, которые походили на Сверкера Слабого Члена, а не на Сигурда Крестоносца.
Магнус попытался весело пошутить о том, что у норвежцев все по-другому, потому что сам он происходил из норвежского рода. Но никто не счел его шутку забавной, и меньше всех Эрик сын Эдварда, который встал и поднял старый рог, поставленный перед ним, — норвежский рог, хотя Эрик этого и не знал, — и выпил за мужество до дна. Потом он сказал, что сейчас ему было видение о новом гербе, который будет принадлежать ему и всему государству. На нем — три золотые короны на голубом поле, одна символизирует Свеаланд, другая — Восточный Геталанд и третья — Западный Геталанд. Он поклялся, что время, когда этот герб станет гербом его и всего государства, уже не за горами.
Зал задрожал от одобрительного гула. Эрик сын Эдварда хотел сказать что-то еще, но одновременно с этим ему нужно было выйти. Поскольку он очень хотел сделать и то, и другое, то, идя к двери, он громко и пьяно продолжал рассуждать о том, что тот, кто последует за ним, пожнет лавры в крестовом походе. Может быть, сначала это будут финны на другой стороне Восточного моря, но затем, после того как они будут окрещены, нашим может понадобиться помощь в Святой Земле.
Когда он оказался около двери, то уже не смог перешагнуть через порог, а просто оперся о дверной косяк и облегчился там, где стоял.
Он даже не заметил, что мочится на Арна и своего собственного сына Кнута. А им, в свою очередь, ничего не оставалось делать, как сжаться в комок и тихо терпеть. Оба мальчика на всю жизнь запомнили эту минуту — ведь Эрик сын Эдварда стал не только королем, но и святым.
Глава III
Зима держала Арнес в железных объятиях. С Рождества все пути на юг были отрезаны, и, хотя можно было проехать по льду Венерна на санях с широкими полозьями, все равно не стоило так себя утруждать. То, что Магнус хотел продать в тех краях, в Ледесе, должно было принести вдвое больше прибыли в конце зимы, когда у многих кладовые опустеют.
В Арнесе, как обычно, кипела работа в бочарнях, коптильнях и по засолке мяса, а также в женских мастерских, где пряли шерсть и лен и ткали как грубое полотно, так и гобелены на радость Богу и людям.
Одну из мастериц звали Суом, и она отличалась от других рабынь: волосы у нее были прямые и светлые, а не черные и курчавые, и она была рослой и красивой. Суом еще не рожала, и казалось, что она блюдет себя и у нее в жизни есть мечта, несмотря на то что она всего лишь рабыня. Она словно не слышала грубых слов и смеха, которые неслись ей вслед, когда с гордо поднятой головой она проходила мимо кузниц и бочарен. Суом была одной из любимых рабынь Сигрид, и они вдвоем часто сидели в прядильнях, придумывая все новые узоры. Суом застенчиво и испуганно сказала нет, когда Сигрид однажды спросила ее, не хочет ли она окреститься и взять христианское имя Белый Ангел. Больше Сигрид не спрашивала об этом, но все время удивлялась тому, как язычница может ткать такие красивые узоры с изображением соборов, адского огня, сияющего Храма Божьего и воинов Христовых, побеждающих темные силы.
Магнус некоторое время пребывал в раздражении от тех хлопот, которые принесла с собой суровая зима. Он ведь не мог работать в мастерских, а глубокий снег делал господскую охоту невозможной. Вдруг Магнус начал проявлять интерес к гобеленам, и Сигрид стала порой замечать его следы на снегу перед прядильней. Она также обратила внимание на то, что Суом часто вздрагивала, словно от страха, когда она входила.
В конце концов Сигрид прямо и строго спросила об их отношениях. Сначала Суом упорно и чересчур настойчиво все отрицала, но потом закрыла руками лицо и зарыдала.
Сигрид утешила ее и осторожно погладила по спине, оценивая ситуацию. Если бы Суом была свободной женщиной, то Магнус оказался бы повинен в супружеской измене. Но об этом не могло быть и речи. Если господин хотел залезть на свою рабыню, он мог свободно это сделать. И нетрудно было понять, что Суом представляла искушение не только для всех рабов, но и для свободных мужчин. Кроме того, частично Сигрид должна была винить в этом и себя, и она прекрасно это понимала. Она часто отказывалась, когда Магнус хотел исполнить свои супружеские обязанности, причину своего отказа знала только она и никогда не смогла бы ему ее объяснить. Она больше не хотела детей, не хотела ставить на карту жизнь между болью и смертью.
И теперь ей пришлось за это заплатить. Если бы развлечения Магнуса зашли слишком далеко, если бы начались смешки и сплетни, то пришлось бы предложить ему немного ограничить себя. Но пока нужно только проявлять дружелюбие к Суом, чтобы та поняла, что госпожа не станет ее ревнивой соперницей, от чего в прежние времена страдали многие рабыни. Сигрид с дрожью вспоминала рассказ о том, как какая-то женщина из рода ее матери, она давно забыла кто, приказала целиком зажарить свою соперницу-рабыню на вертеле и подала ее супругу на ужин, после чего желание изменять исчезло у мужа навсегда.
Однако скоро по Арнесу пошел слух, что на эту спесивую Суом уже залезли и что нечего ей ходить так надменно и неприступно, как будто она девственница. Это развязывало рабам языки, и под конец посыпались непристойные предложения, что Суом нужно попробовать настоящего мужика, быка, который обойдется без церемоний и околичностей и перейдет прямо к делу. Вокруг несчастной Суом словно возник ореол похоти. Несчастье неотвратимо приближалось.
Но для мальчиков, Эскиля и Арна, суровая зима была прекрасным временем. Их учитель, послушник Эрленд из Варнхема, вернулся в монастырь незадолго до Рождества, и теперь, несмотря на то что уже близилась Страстная неделя, не мог пробиться через снега обратно в Арнес. Поскольку время, которое мальчики должны были проводить, сидя уткнувшись носом в латинские тексты о философии и о святом Бернарде, теперь стало свободным, они посвящали все дни зимним играм и мальчишеским забавам. Самым веселым считалось наловить живых мышей в амбаре, а потом пустить их в поварню к рабыням и, визжа от хохота, убегать оттуда, в то время как крики, сильные удары и звуки падения свидетельствовали о том, что там происходило.
Однажды они пробрались в оружейную, взяли два старых круглых щита и с ними направились к настилу на второй этаж длинного дома, по которому в конце лета завозили сено. Мальчики сели на щиты и покатились вниз, как две маленькие выдры. Их громкий счастливый смех привлек к себе внимание, и, когда их отец пришел и увидел, что они делают с оружием взрослых, он так их отшлепал, что они побежали жаловаться к матери в ткацкую.
Но это маленькое огорчение скоро забылось. Раб Сварте, заметив находчивость мальчиков, направился в столярню и, найдя несколько подходящих досок, сколотил их так, что получились сани. Потом он распарил одну из коротких сторон саней, осторожно выгнул ее вперед, как на передней части железных полозьев, и пропустил кожаный ремень, вроде вожжей на повозке, так что скоро забавы на горке снова продолжались под крики и смех ребят.
Когда дети Сварте увидели, что он сделал для сыновей хозяина, они потребовали сделать и для них то же самое. Сварте возразил, что между детьми рабов и господами есть разница, и тогда на него напустилась Сут, после чего он оставался в плотницкой целый день. Правда, санки для своих ребятишек он сделал не такими красивыми.
Сначала Магнус огорчился, увидев, как его сыновья играют и кувыркаются в снегу с детьми рабов. Он считал, что так не должно быть. Эскиль и Арн должны воспитываться как владельцы рабов, а не как их товарищи по играм.
Сигрид же считала, что дети есть дети и что различия во взрослой жизни скажутся на них, когда они станут немного постарше. Кроме того, у них ведь сейчас не было латыни.
Разумеется, произнося последнее, она улыбнулась своей двусмысленной улыбкой. То, что мальчики обязаны выучить латынь, было так же очевидно для нее, как непонятно для Магнуса. Она считала, что этому языку принадлежит будущее. Он же полагал, что эти знания нужны только монахам и священникам и что в Ледесе можно успешно торговать, используя обычный язык, даже если иногда приходится изворачиваться и повторять по нескольку раз. Ну да ладно, когда послушник наконец притащится из Варнхема, чтобы возобновить уроки с мальчиками, обществу рабов будет положен конец.
Но зима не хотела выпускать Арнес из своих объятий. Более веселой поры у Эскиля и Арна не было, потому что теперь оказалось, что они могут проводить с детьми рабов все больше и больше времени. Они построили снежную крепость, и Эскиль и Арн по очереди защищали ее, в то время как другой должен был брать крепость штурмом, при этом у каждого было одинаковое количество рабов. В руках у Арна и Эскиля были маленькие деревянные мечи, а остальным приходилось довольствоваться снежками, поскольку они были рабами и не могли носить оружие. Несколько раз проливались слезы, и появилось несколько синяков.
Они помогали Колю, сыну Сварте, ловить живых мышей, которых Сварте потом использовал в ловушках для горностаев. Горностаевые шкурки ценились очень дорого, за четыре шкурки можно было купить раба.
Когда в окрестностях Арнеса появились волки, Сварте вынес отходы из коптильни и положил их возле одного из дальних сеновалов, чтобы в лунную безветренную ночь устроить охоту на волка.
Эскиль, солгав, заверил Сварте — а Арн усиленно кивал в подтверждение, — что их отец сказал, будто они могут присутствовать ночью при охоте, сидя тихо, как мыши. У Сварте на этот счет были сомнения, но он не решался пойти и спросить господина Магнуса о том, лгут ли его дети.
Когда устанавливалась подходящая погода, Эскиль и Арн удирали ночью из дома с толстыми овечьими шкурами под мышкой, чтобы сидеть со Сварте, у которого наготове были два лука, и ждать волков. Поскольку Сварте проговорился об этом дома, то скоро к ним присоединился и Коль, так что теперь уже трое мальчишек замирали с горящими глазами и стучащими от нетерпения сердцами и ждали, пытаясь не шуршать сеном и таращась на снежное поле и кучу мясных отбросов, к которой каждую ночь приходили лисы.
Наконец в одну из ночей, когда луна уже наполовину уменьшилась, но было ясно и очень холодно, пришли волки. Ребята слышали их осторожные шаги по насту задолго до того, как смогли их увидеть. Сварте яростными жестами показал, что мальчики должны сидеть совершенно тихо, не шуршать и не делать ни одного движения. В запале он даже провел рукой по горлу, чтобы подчеркнуть, какое суровое наказание ждет того, кто ослушается, и в тот же момент заметил удивленно вытаращенные глаза Эскиля и Арна. Им еще никогда в жизни не угрожал раб, даже в шутку. Но теперь они оживленно закивали в ответ и подняли сложенные вместе указательные и средние пальцы в знак того, что они клянутся сидеть неподвижно.
Сварте двигался невыносимо медленно, натягивая оба лука без малейшего звука. Потом он отложил один из приготовленных луков и осторожно поднял второй, готовясь выстрелить.
Но волки были осторожны. Теперь они мелькали в отдалении на снегу, как черные тени. Прошло какое-то время, прежде чем они приблизились, и Сварте был вынужден отложить лук, чтобы не устали руки. Наконец один из волков схватил кусок мяса и быстро отбежал, так что выстрел не достал бы его, но его примеру тут же последовали другие волки. Мальчики ничего не могли видеть, но слышали рычание волков, дравшихся из-за пищи.
Потом волки успокоились и стали подходить один за другим, так что скоро они уже все стояли там, пожирая мясо, рыча и утробно ворча. Напряжение мальчиков достигло предела, они не могли понять, почему Сварте мешкает.
Он снова показал им, что они должны сидеть совершенно неподвижно, но в этот раз более уважительными жестами, потом поднял один из луков и аккуратно прицелился. Спустив тетиву, он тут же поднял второй лук, быстро прицелился и снова выстрелил. Послышался жалобный вой.
Когда Сварте шумно пошевелился, мальчики наконец осмелились громко закричать и начали толкаться, чтобы лучше видеть через люк. Там внизу, на снегу бился волк. Сварте молча смотрел наружу поверх их голов. Потом он сказал, что теперь ему не до мальчишек, потому что один из волков ушел раненым. Они должны либо идти домой, либо оставаться наверху в безопасности, пока он не узнает, что произошло. Они тут же пообещали оставаться на месте и никуда не ходить.
Когда Сварте спустился вниз с копьем в руке, он наклонился и стал вглядываться в снег. На лежащего волка, который уже перестал дергаться, он не обращал внимания. Обнаружив кровавый след, он пошел по нему, увязая в снегу.
Мальчики долго сидели, вслушиваясь в тишину, и под конец совсем замерзли. Но вот где-то далеко, в темноте, послышался леденящий душу вой, а потом глухое ворчание, как будто волки были совсем близко. Побледневшие и притихшие, Эскиль, Арн и Коль сидели в страхе и ждали. Но потом они навострили уши и услышали сначала слабые, а затем все более отчетливые тяжелые шаги Сварте и его пыхтение.
— Отец несет второго волка на спине, поэтому он ступает так тяжело, — сказал Коль с фальшивой уверенностью. Эскиль и Арн благоговейно закивали. В тот момент они не подумали, как забавно звучит то, что Коль называет раба Сварте отцом. У свободных людей всегда есть отцы, но у рабов?
* * *
Беда Суом неумолимо приближалась. У старой рабыни Урд, которая, несмотря на свой пол, была искусной дубилыцицей, был слабоумный сын по имени Скуле. Он был силен, как бык, и мог выполнять тяжелую работу, для которой не требуется большого ума, — убирать урожай, косить сено, перетягивать бочки. Поэтому хозяева снисходительно относились к тому, что он был не совсем нормальным.
Он уже давно пялился на Суом, почувствовав возбуждение других рабов не разумом, а телом; он слышал их пошлости, отчасти понимая, что они означают.
За неделю до Страстной пятницы, ближе к вечеру он вбежал в прядильню, задрав рубаху и оголившись, как будто не мог больше терпеть. Многие это заметили и быстро стали звать на помощь.
Однако он успел избить Суом и, вероятно, изнасиловать. Когда пришла Сигрид, Скуле уже повалили, связали кожаными ремнями и бросили на снег. Сигрид перешагнула через него и поспешила к Суом, которая была без сознания, хотя и дышала. Сигрид приказала, чтобы Суом быстро перенесли в ближайшую поварню, а потом твердо сказала старой Сут, чтобы та заботилась о рабыне, используя какие угодно средства, о которых сама Сигрид не хотела ни слышать, ни знать, лишь бы Суом поправилась. Скуле она приказала бросить в один из сараев с хорошим замком.
После вечерней молитвы в длинном доме было необычно тихо. Прислуга двигалась медленно и робко, не решаясь громко говорить, а только перешептываясь. Ее порой почти необузданное веселье словно ветром сдуло.
За столом, где ужинали Магнус, Сигрид и двое их сыновей, настроение также было мрачным и царило молчание. Магнус произнес лишь несколько слов о том, что сейчас всех угнетало. Он пробормотал, что никогда не одобрял казнь рабов.
Сигрид не очень об этом беспокоилась: разумеется, этот Скуле должен быть казнен, кому бы ни пришлось это выполнить. Для нее было важнее не дать Магнусу почувствовать, что решение исходит от нее, а не от него. Его развлечения с Суом не имели к этому отношения, и он не должен знать о том, что его жене все известно, а уж тем более, что ее мучит ревность. Поэтому Сигрид решила ничего не говорить, а предоставить ему все решать самому.
Магнус же, в свою очередь, надеялся, что умная жена освободит его ото всех мучений, быстро примет решение и предложит ему, что нужно сделать. Именно сейчас Магнусу это бы понравилось.
Таким образом, супруги почти не разговаривали друг с другом. Эскиль и Арн почувствовали царящее напряжение и не решались позволить себе ни одной шалости за столом, они ели в молчании и думали о катании с горки и о волках.
В конце концов Магнус все равно был вынужден обратиться к мучившей всех проблеме. Он откашлялся и отодвинул от себя жаркое в знак того, что наелся и хочет еще пива, которое ему тут же подал один из безмолвных домашних рабов.
— Да, здесь в Арнесе мы давно не убивали рабов, мы ведь даже их не кастрируем, — начал он с решительностью, которая, впрочем, тут же исчезла, потому что его жена в ответ промолчала.
— Ты сам будешь казнить его, отец? — живо спросил Арн.
— Да, сын мой, это тяжелая обязанность хозяина, — ответил Магнус и покосился на Сигрид, но она не смотрела на него. И он продолжал отвечать сыну, обращаясь на самом деле к жене: — Понимаешь, сын мой, и ты, Эскиль, здесь у нас в Арнесе царит порядок. Наши рабы послушны и здоровы. Они знают, что могут почитать своих языческих богов, потому что они живут здесь, а не в других местах. Но я их хозяин и закон для них. Все законы должны быть нерушимы, все законы должны соблюдаться, в том числе и закон хозяина. Насильник должен умереть. Обезглавить раба неприятно, но это нужно сделать для того, чтобы у нас в Арнесе сохранился порядок.
Он замолчал, почувствовав, что говорит со своими маленькими сыновьями неподобающим тоном. Но он уже пробудил в мальчиках любопытство и страх.
— Ты сам отрубишь ему голову, отец? — снова спросил Арн.
— Да, сам, — вздохнул Магнус. — Во многих других усадьбах есть собственные палачи, но я никогда не считал такой порядок хорошим. Что палачу делать, когда он не отрубает головы и не порет себе подобных? И говорят, что их часто убивают сами рабы, так что никогда не хотел бы иметь собственного палача. Это моя обязанность, хоть она и тяжела. Но нельзя избегать ответственности, даже когда речь идет о смерти, и ты должен знать об этом, Эскиль, потому что в будущем тебе часто придется размышлять над этим.
Разговор прекратился так же быстро, как возник. Говорить больше было не о чем. Другая тема вряд ли могла бы возникнуть.
На следующее утро Магнус приказал своим двенадцати дружинникам и доброй сотне рабов и работников, если считать и их детей, собраться на самом высоком месте усадьбы, чтобы все могли смотреть вниз, туда, где стоял он с широким мечом в руке.
Он плохо спал ночью, ни словом не обменялся с Сигрид, приняв все решения сам. Он не прикажет выпороть раба, колесовать его или отрезать ту часть его тела, которой он больше всего согрешил, не прикажет повесить его на забаву остальным, а возьмет его жизнь. Он сделает это сам, своим мечом. Таким образом, он проявит себя снисходительным хозяином, ведь смерть от меча — милость, которой недостойны дурные рабы.
Когда Скуле вывели из сарая, он дрожал от холода, его губы посинели. Ночь, проведенная без теплых шкур или накидки, причинила ему боль. Но все равно казалось, что он не понимает, что именно ожидает его впереди. Когда он увидел, что его господин стоит на снегу с большим мечом, а вокруг его ног уложены еловые ветви, он начал вырываться и сопротивляться, так что снег взвихрился под его ногами. Ему удалось сбросить один башмак, и теперь, когда Скуле волокли вперед, его обмороженная и грязная нога оставляла длинные полосы на снегу.
Эскиль и Арн стояли вместе с матерью впереди дружинников, которые, в свою очередь, стояли перед рабами и вольноотпущенными работниками. Лицо Сигрид не выражало ничего, кроме величия хозяйки. Но Эскиль и Арн перешептывались, показывая пальцами и находясь в возбуждении, так что матери пришлось незаметно от всех осторожно прихватить их за маленькие затылки, и сильно сдавить их, чтобы сыновья затихли. Магнус настаивал на том, что мальчики должны присутствовать при казни, они должны усвоить, что для господина существуют не только развлечения, но и тяжелые обязанности, которые нужно выполнять.
Заставить Скуле держать голову неподвижно было очень трудно, поскольку он постоянно дергался и стонал. Двое рабов, которые должны были держать его, несколько раз чуть не попали под поднятый меч. Но наконец Магнус нанес удар.
Голова Скуле упала на еловые ветви лицом вверх, так что все собравшиеся увидели его гримасы: губы будто силились что-то сказать, а глаза за вздрагивающими ресницами — что-то увидеть. Тело Скуле забилось в судорогах, кровь хлынула из горла, постепенно ее поток становился все слабее.
Арн пристально смотрел на голую грязную ногу в снегу, которая сначала яростно дергалась, но потом вдруг сразу затихла. Тогда он начал молиться про себя, с опущенной головой и крепко зажмуренными глазами, чтобы ему никогда больше не пришлось увидеть ничего подобного.
Но Бог не внял ему, ибо так было предписано, что ни один человек в землях свеев и гетов не увидит того, что придется увидеть маленькому Арну.
Мальчикам было пока запрещено общаться с детьми рабов. Братьев держали в длинном доме, где Сигрид сама начала заниматься с ними латынью в ожидании послушника Эрленда, который все еще не мог приехать из-за снежных заносов.
* * *
На праздник святого Павла, когда половина зимы осталась позади, медведь перевернулся в своей берлоге и должно было выпасть столько же снега, сколько уже выпало, Магнус приказал расчистить дорогу к церкви в Форсхеме, чтобы впервые за долгое время он и его семья смогли посетить храм.
Было ясно, дул слабый ветерок, и будь чуть теплее, началась бы капель, так что поездка на санях по проложенному следу оказалась приятной. Магнус слышал, как мальчики, сидевшие сзади, завернутые в огромную дедову волчью шубу, шумели и смеялись, когда сани наклонялись, и он погонял двух гнедых коней, чтобы они бежали быстрее, потому что ему нравилось слышать довольный мальчишечий визг. Он позволял себе это удовольствие еще и потому, что его мучили дурные предчувствия, хотя он не мог понять, чем они вызваны. Однако он оставил половину дружины дома в Арнесе, хотя воины и роптали на это, поскольку после долгих зимних месяцев одиночества в Арнесе им очень хотелось покрасоваться перед кем-нибудь на церковном дворе. Они скорее стремились туда, а не в саму церковь, чтобы слушать слово Божье, как подобает истинным христианам.
Когда санный поезд из Арнеса въехал на холм, на котором стояла церковь, дурные предчувствия Магнуса усилились от того, что он увидел. Люди стояли маленькими группками и негромко переговаривались, не смешиваясь, как обычно; каждый стоял возле представителей своего рода, а у многих мужчин под плащами были надеты кольчуги — одежда, которую используют только в неспокойные времена. Церковь будет полна народа, поскольку приехали все соседи с юга, запада и из Хусабю. Но с востока не было никого, кроме его собственных вольноотпущенников, они стояли сами по себе чуть поодаль, пригнувшись, словно еще не научились вести себя как свободные люди. В обычном случае Магнус подошел бы к ним и громким голосом завел разговор о погоде и ветре, чтобы показать, что значит свобода, но теперь было неподходящее время для таких церемоний. Когда Сигрид и мальчики вышли из саней, он предоставил слугам позаботиться о лошадях, а сам с семьей подошел к соседям, которых знал лучше всего, — к роду Поля из Хусабю, чтобы узнать, что произошло.
Оказалось, конунг Сверкер был убит по дороге на рождественскую службу у церкви Толльстада, и его уже похоронили рядом с женой Ульвхильд в Альвастре. Злодей был известен, это был собственный управляющий и конюший конунга Сверкера из Хусабю, и он уже сбежал, предположительно в Данию.
Но вопрос заключался не в том, кто держал меч, а в том, кто меч направлял. Некоторые считали, что таким человеком был Эрик сын Эдварда, который теперь находился в Восточном Аросе у свеев и, согласно людской молве, уже был избран конунгом на тинге в Муре. Другие считали, что заговорщика нужно искать в Дании, что это Магнус сын Хенрика, претендующий теперь на корону, поскольку он приходится правнуком королю Инге Старому.
В Линчепинге Карл сын Сверкера уже сам провозгласил себя конунгом и созвал местный тинг, чтобы это подтвердить. Так что теперь было важно, кого выберут королем в Западном Геталанде, Карла сына Сверкера или Эрика сына Эдварда. Но в любом случае это не могло решиться тихо и мирно.
Когда зазвонили к службе, все разговоры были прерваны и народ хлынул в храм Божий, чтобы заглушить тревогу, утешиться Евангелием, охладить свое возбуждение божественной песней или, как Магнус, стоять погруженным в совершенно иные мысли, даже не помышляя о том, чтобы очиститься от всего земного, как следовало. Вероятно, что большинство находящихся здесь мужчин, имеющих герб, думали о том же, что и Магнус. Может быть, сейчас они в последний раз встречались как друзья под одними церковными сводами. Одному Богу известно, что может случиться в будущем и какие роды станут врагами. Когда Магнус был еще маленьким мальчиком, королевскую власть захватил конунг Сверкер, и геты были вынуждены воевать друг против друга. Теперь эта опасность снова приближалась.
Служба закончилась, но Магнус был настолько глубоко погружен в свои мысли, что не заметил этого, пока Сигрид легонько не толкнула его в бок. Однако он успел хорошо продумать, что ему теперь говорить.
И в долгих разговорах, которые начались между мужчинами, в то время как их женщины и дети с нетерпением ожидали в санях, постепенно замерзая, Магнус тщательно подбирал слова. Он признал то, что Эрик сын Эдварда гостил в Арнесе непосредственно перед убийством, но указал и на то, что жена Эрика Кристина причинила много неприятностей своими притязаниями на Варнхем. Таким образом, его род был и за, и против Эрика сына Эдварда.
Он признал то, что Сигрид была очень дружна с конунгом Сверкером, но его собственный норвежский род конунг Сверкер ни в грош не ставил. Так что его род был и за, и против рода Сверкера.
Другие высказывались более ясно, казалось, что большинство выступает за род Сверкера. Магнус не хотел видеть в ком-либо из присутствующих будущего врага. Что бы ни случилось, это было бы неразумно. Тех врагов, которых человеку посылает Бог, придется рано или поздно встретить с мечом в руке, невзирая на все церковные проповеди.
По дороге домой он был мрачен и, когда они приближались к Арнесу, начал беспокойно оглядываться, словно уже ожидая завоевателя, хотя снег все еще защищал Арнес от всех вторжений с севера и востока.
По возвращении он тут же приказал подбросить дров в кузнечные горны и поставил к мехам и наковальням всех рабов-кузнецов, чтобы они успели выковать как можно больше наконечников для стрел и копий. То грубое железо, которого в Арнесе было в избытке, не годилось для ковки мечей.
Уже на следующий день Магнус снарядил в Ледесе две пары больших саней для закупки всего, что могло понадобиться в предстоящей войне.
* * *
Зима лишь постепенно выпускала Арнес из своих ледяных объятий, и сюда не доходили известия о дружинах, которые снаряжались в Восточном Геталанде или Свеаланде, поэтому настроение Магнуса улучшилось, и в кузницах и плотницких перешли к ежедневным, обычным занятиям. Кроме того, Сигрид успокоила его, сказав, что война едва ли придет к ним в Арнес. Если Эрика сына Эдварда выбрали конунгом свеев, а Карла сына Сверкера — королем Восточного Геталанда, то сначала придется бороться между собой этим двум областям. Здесь, в Западном Геталанде, им останется лишь последовать за победителем.
Магнус согласился с ней лишь наполовину. Он считал вполне возможным, что один из двоих претендентов сначала обратится к Западному Геталанду, чтобы получить еще одну из трех корон, которыми так Хотел завладеть Эрик сын Эдварда. И тогда придется на что-то решиться. Если с этим сперва придет Эрик сын Эдварда? А если первым пожалует Карл сын Сверкера? Оба варианта были вполне возможны.
Сигрид считала, что в любом случае ничего не изменишь, сидя в Арнесе, попивая пиво по вечерам и рассуждая. Раньше или позже все станет ясно, и тогда, но только тогда, придет время определиться. Магнус пока удовлетворился этой мыслью.
Но когда с крыш капало уже неделю и льды начали таять, в Арнес пришла беда, значительно большая, чем если бы приехал один из двух королей и стал требовать клятвы верности.
Жизнь мальчиков текла теперь спокойно, с соблюдением строгой дисциплины, поскольку послушник Эрленд вернулся в Арнес. С рассвета и до вечерней молитвы их в основном держали в углу зала в длинном доме, где Эрленд вбивал науку в их упрямые маленькие головы. Оба мальчика считали свой труд рабским, поскольку текстов, которые послушник привез с собой из Варнхема, было немного и они касались в основном вещей, которые совершенно не интересовали в Западном Геталанде ни маленьких мальчиков, ни даже взрослых мужчин. Большинство книг представляли собой скучные философские труды. Но цель заключалась не в том, чтобы научить детей философии, для этого они были еще слишком малы, а в том, чтобы они затвердили грамматику. Без грамматики нет учения, без грамматики мир закрыт для понимания, повторял Эрленд, и мальчики, вздохнув, снова склоняли свои маленькие головки над чтением.
Эрленд не роптал на свою судьбу. Однако и ему казалось, что Бог призвал его для более серьезного дела, чем пытаться вбивать знания в непослушные мальчишеские головы. Но он никогда не осмелился бы ослушаться досточтимого отца Генриха. Иногда он с грустью думал, что это задание — лишь тяжкое испытание, которое он должен вынести, или наказание за грехи, совершенные им в мирской жизни, до того, как на него снизошло откровение.
Но день отдыха был священен и для мальчиков. В воскресенье они выскакивали на улицу после утренней молитвы и исчезали из виду, как юркие белки. Магнус и Сигрид предоставляли их самим себе, не желая замечать, что братья проводят этот день не в покое и размышлениях, как предписано Богом.
У Коля, сына раба Сварте, была ручная галка, которая сидела на его плече, куда бы он ни пошел, и он обещал Эскилю и Арну, что они вместе будут ловить маленьких галчат, как только птенцы, выведшиеся в этом году, достаточно подрастут и их можно будет вынуть из гнезда на башне.
Они только что залезли наверх, чтобы посмотреть, сколько там гнезд и сколько уже лежит яиц в гнездах. Оказалось, что яиц еще нет, но они видели, что галки начали обустраивать гнезда, и это выглядело многообещающе.
Эскиль захотел посадить галку себе на плечо и потребовал, чтобы Коль одолжил ему птицу, а тому, естественно, нечего было на это возразить, хотя он и сказал, что галка может испугаться чужака.
Как и опасался Коль, галка внезапно покинула плечо Эскиля, взлетела вверх и уселась на самом краю башни, словно обозревая открывшиеся перед ней просторы и размышляя о том, не покинуть ли ей свою неволю. Эскиль ничего не мог сделать, потому что боялся высоты. Коль не двигался, чтобы не спугнуть галку. Тогда Арн осторожно подполз к краю башни, пытаясь достать веревку, которой была обвязана лапка галки. Однако он не дотягивался до нее, и ему пришлось залезть на обледеневший проем в башне, встать на цыпочки и тянуться все дальше и дальше. Когда он достал веревку и слегка дернул за нее, галка с криком взлетела и словно потянула его за собой вниз, в пропасть. Испуганным мальчикам показалось, что прошла вечность, прежде чем они услышали глухой звук внизу, куда упал Арн.
Скоро весь Арнес наполнился криками и стонами. Безжизненное тело Арна осторожно принесли на носилках в поварню, которую только что покинула после лечения Суом. Когда его положили, стало ясно, что надежды нет. Арн был бледен, лежал без движения и не дышал.
Прибежав из длинного дома, Сигрид была совершенно вне себя, как и любая другая мать, которой бы сказали, что ее сын упал и разбился. Но, увидев Арна, Сигрид внезапно остановилась, замолчала, и лицо ее выразило сомнение. Это не могло быть правдой. Арн не мог умереть таким молодым, в этом она была убеждена с того самого момента, когда увидела, что он родился в рубашке.
Но сейчас он лежал бледный, безжизненный, бездыханный.
Когда чуть позже Магнус опустился на колени возле нее, он уже знал, что никакой надежды нет. В отчаянии он махнул рукой, чтобы вышли все, кроме послушника Эрленда, поскольку не хотел показывать свои слезы рабам и дружинникам.
Теперь просить за жизнь Арна казалось бессмысленным, скорее нужно было молить о прощении грехов, которые навлекли на них кару Божью, считал Магнус. Эрленд ничего не решался сказать по этому поводу.
Заливаясь слезами, Сигрид просила их обоих не терять надежды и молить о чуде. И они тихо покорились, поскольку чудо могло произойти, хотя в этом нельзя быть до конца уверенным до тех пор, пока не попытаешься попросить Бога об этом.
Магнус предложил, чтобы они обратились с молитвой к Деве Марии, ибо она всегда была милостива к их мальчикам.
Однако Сигрид чувствовала в душе, что Дева Мария, Матерь Божья, отвернулась от нее, и погрузилась в лихорадочные размышления, пока ей вдруг не пришло в голову, что святым, который был наиболее близок к Арну, является святой Бернард. Он тогда был совершенно новым святым, и поэтому о его силе на Севере еще ничего не знали.
Послушник Эрленд тут же согласился с этим предложением и стал одну за другой зачитывать молитвы перед коленопреклоненными родителями; совершенно очевидно, что святой Бернард был наиболее близок самому Эрленду.
Когда стемнело, Арн все еще не подавал признаков жизни. Но они не отчаивались, несмотря на то что Магнус как-то пробормотал, что надежды уже нет и что, скорее всего, придется принять Божью кару с печалью, достоинством и раскаянием.
И тогда Сигрид поклялась перед святым Бернардом и Богом, что, если Арн выживет, он будет пожертвован на священный труд Божий среди людей на земле. Она еще раз повторила свое обещание и заставила Магнуса в третий раз повторить его вместе с ней.
Именно в тот момент, когда Сигрид почувствовала, что последняя искра надежды гаснет и в ее сердце, случилось чудо.
Арн приподнялся и изумленно огляделся вокруг, будто он только что очнулся от ночного сна, а не вернулся из царства мертвых. Он захныкал, что у него болит рука и он не может на нее опереться. Но трое взрослых больше не слушали его, так как глубоко погрузились в благодарственные молитвы, и это были наиболее чистые и искренние из всех молитв, с которыми они когда-либо обращались к Богу.
Опираясь на мать левой рукой, Арн двинулся в длинный дом, где ему постелили рядом с очагом у фронтонной стены. Но поскольку его правая рука все еще болела, то к нему позвали Сут, приказав ей не осквернять чудо Господне колдовством или нечистым врачеванием. Сут слегка сдавила руку Арна, чтобы выяснить, где болит. Это оказалось не так уж легко — Арн хотел показать свою храбрость и не признавался, что ему больно, когда на него смотрело так много людей, среди которых был и его отец.
Но обмануть Сут ему не удалось. Она взяла сушеную крапиву, сварила из нее кашицу и положила ее на руку, обвязав сверху льняной тряпицей. Потом она переговорила со Сварте, и тот отправился в плотницкую, затем вернулся с двумя слегка выгнутыми сосновыми досочками, примерил их и снова исчез в мастерской, чтобы переделать их так, как велела Сут.
Когда Сварте закончил свою работу, Сут привязала два лубка к руке Арна и сказала ему и Сигрид, что руке нужен покой, потому что она сильно повреждена. Потом она дала ему выпить отвар из сушеных маленьких листочков и корней лабазника, чтобы ночью его не мучил жар.
И скоро Арн спокойно засопел, как будто с ним не приключалось никакой беды и никакого чуда. Сигрид и Магнус долго сидели и смотрели на спящего сына, переполняясь сознанием того, что одно из чудес Господних произошло в их усадьбе.
Их младший сын Арн вернулся из царства мертвых. Сомнений в этом быть не могло. Но вопрос заключался в том, произошло ли это из-за того, что Господь проявил милость к ним, молившимся со слезами, как сделали бы все отцы и матери в самый трудный момент, или же действительно случилось так, как желала Сигрид в глубине души, — Арн воскрес, потому что Господь уготовал ему особый путь в жизни.
Узнать об этом им было не дано, ибо пути Господни недоступны человеческому разуму. Они могли лишь принять происшедшее в Арнесе чудо и снова погрузиться в благодарственные молитвы.
* * *
Послушника Эрленда долгое время переполняло сознание своей божественной миссии. Он должен был подробно, не упуская ни малейшей детали, записать рассказ о происшедшем в Арнесе чуде. Поскольку святой Бернард умер не так давно, то, вероятно, воскрешение Арна было в Западном Геталанде первым чудом, которое можно было связать с именем святого. Это имело огромное значение. И не исключено, что усердие Эрленда и точность в выполнении миссии сократят его время ожидания перед посвящением в монахи цистерцианского ордена. Во всяком случае, повредить ему появление с такими важными новостями не могло.
В Арнесе не было пергамента, но здесь выделывали тонкие телячьи шкуры, выскобленные с одной стороны, которые господин Магнус продавал для шитья одежды. Эрленд использовал обрезки этих шкур для письменных упражнений с мальчиками.
Теперь в углу зала, где проходили уроки, они стали больше заниматься письмом, а не чтением. Мальчики не имели ничего против таких изменений, потому что они оба прекрасно владели пером. В основном они занимались тем, что переписывали на обрезках кожи текст, который послушник Эрленд писал на латыни, а потом пытались переводить его и записывать рунами строкой ниже; господин Магнус строго сказал, что если они будут учиться писать на церковном языке, то одновременно нужно овладевать и письменным языком предков. Для будущих купцов это искусство было вовсе не бесполезным.
Уже на первых занятиях Эрленд заметил, что маленький Арн, правая рука которого по-прежнему не двигалась, легко писал и рисовал левой рукой. То, что кто-то предпочитает использовать нечистую руку, было нехорошим признаком, но пока другая рука мальчика была повреждена, Эрленд не волновался по этому поводу. Однако когда правую руку Арна вылечили, оказалось, что он использует ее так же охотно, как и левую. Похоже, для него все равно, какой рукой писать, а в основном это зависит от его настроения или от того, какой рукой он прежде схватил гусиное перо.
Когда Эрленд после бесчисленных переписываний, трудов и молитв наконец счел рассказ оконченным, он должен был как можно скорее придумать себе причину, чтобы отправиться в Варнхем, и тогда он напомнил о том, что в монастыре в некоторые праздники требовалось присутствие всех послушников, и если его там не будет, то ему грозит наказание. Горящий рвением, он смог поехать в Варнхем на Благовещение, в день, когда журавли возвращаются в Западный Геталанд.
Мальчики не сожалели о его отъезде. Когда пришла весна и двор усадьбы и другие большие пространства между постройками в Арнесе освободились от снега, для всех детей настало время игр. Особо интересной в Арнесе считалось стянуть обод от бочки из бочарни, а потом бежать с катящимся впереди обручем, направляя его и придавая ему скорость палочкой. Для игры было придумано продолжение: нужно попытаться отнять обручи друг у друга, но только с помощью палочки, и провести обруч перед собой между стенами крепости. Тот, кому удавалось загнать его в стену, считался победителем. Но сделать это было не так-то легко, потому что другие силой старались этому помешать.
Очень скоро выяснилось, что в этой игре Арн — лучший, хотя он и был самым маленьким среди ребят. Он был юрок, как ласка, но еще и умел то, чего не умели другие, — быстро поменять левую руку на правую и тем самым внезапно придать катящемуся обручу другое направление, так что вдруг получалось, что другие мальчики бегут не в ту сторону. Арна можно было остановить, лишь подставив ему подножку, потянув за рубашку или крепко обхватив. Желание старших мальчиков использовать такие приемы становилось все сильнее, но тогда и Арн делался все проворнее. Наконец Эскиль, единственный, кто на это осмеливался, стал при каждом удобном случае бить его по лицу.
Однажды Арну это надоело, и он, надувшись, ушел.
Тогда Магнус нашел способ его утешить. Он приказал сделать лук и стрелы соответствующего размера, взял Арна с собой и стал учить его стрелять. Вскоре приплелся Эскиль и тоже захотел поучиться. Но к его досаде, Арн каждый раз стрелял лучше, чем он сам, и скоро между братьями вспыхнула новая ссора. Магнус, естественно, вмешался и сказал, что если они не прекратят ссориться, то он разрешит им стрелять только в его присутствии. Тем самым игра неожиданно превратилась в обучение, это было примерно то же самое, что сидеть и выписывать или читать непонятный текст о философских понятиях и категориях. Все удовольствие было испорчено, по крайней мере для Эскиля, которого всегда побеждали и отец, и младший брат.
Однако то, что заметил Магнус в своих сыновьях, заставило его глубоко задуматься. Эскиль двигался и стрелял из лука, как все другие мальчики, примерно так же, как он сам, когда был ребенком. Но в Арне было что-то, чего не было в других детях, некий дар Божий. Несколько дружинников, у которых Магнус спросил совета, внимательно пригляделись к тому, как стреляет Арн, и согласились с мнением Магнуса. Нельзя было с уверенностью сказать, что именно из этого получится, но способности мальчика несомненно были велики.
В течение нескольких весенних вечеров, после того как мальчики засыпали, Магнус говорил об этом с Сигрид. То, что Арнес унаследует Эскиль, было очевидно и предписано волей Божьей, поскольку Эскиль появился на свет первым. Таким образом, Эскиль будет заниматься хозяйством и торговлей. Но что было предназначено Богом Арну?
Сигрид согласилась с тем, что Бог, возможно, предначертал Арну быть воином, но она не была полностью уверена в том, что ей нравится такое объяснение, каким бы ясным оно ни казалось. Ее мучили угрызения совести из-за того, что она обещала Богу, — правда, в минуту, когда лицо ее было залито слезами, а разум помутнен отчаянием, — что Арн будет посвящен работе во славу Господа среди людей на земле.
С Магнусом она об этом не говорила, казалось, тот старается стереть это обещание из своей памяти, хотя он должен был помнить его так же хорошо, как и Сигрид, ведь он гордился тем, что всегда держит свое слово, как настоящий мужчина. Но именно теперь Магнус видел будущее своего второго сына в качестве могучего воина, стоящего в первых рядах рода, и такое будущее сына радовало его больше, чем если бы Арн стал епископом в Скаре или приором в каком-нибудь монастыре. Мужчины думали именно так. Для Сигрид это не было новостью.
Но скоро Бог строго напомнил о своей воле. Сначала на одной руке Сигрид появилась маленькая свербящая ранка. Насколько она помнила, она оцарапалась щепкой в хлеву, когда упрямая телка толкнула ее и ей пришлось сильно прижаться к стене, чтобы не упасть в навоз. Ранка никак не заживала и становилась все болезненнее.
И однажды утром Магнус обнаружил что-то странное на ее лице. Когда Сигрид подошла к бочке с водой и всмотрелась в свое отражение, то увидела новую рану, напоминающую ту, что была у нее на руке, а потрогав ранку, заметила, что та полна гноя и слизи.
Дальше ее болезнь усилилась. Ран на лице появлялось все больше, и скоро она уже не могла видеть тем глазом, где появилась первая язва, которая больше всего зудела и чесалась. Сигрид стала прятать лицо и упорно молилась каждый день на рассвете, в обед и вечером. Но и это не помогало. Муж и мальчики стали смотреть на нее со страхом.
Когда послушник Эрленд прискакал обратно из Варнхема, он принес с собой много хороших и плохих новостей. Хорошие новости, о которых он сперва поведал, заключались в том, что рассказ о чуде в Варнхеме был принят с таким восторгом, что теперь его переписывали в памятную книгу монастыря на настоящем пергаменте, со множеством узоров.
Плохие новости касались жены Эрика сына Эдварда, Кристины. Она появилась в усадьбе своих родственников где-то поблизости, с большой дружиной мужа, конунга свеев. Да, это действительно правда: Эрик сын Эдварда теперь конунг в Свеаланде.
Кристина чинила козни, настраивала своих бондов против братьев и даже переманила на свою сторону нескольких священников. Она утверждала, что монастырь находится на нечестно занятой земле, что большая часть этой земли по праву должна принадлежать ей и что конунг Эрик, когда он приедет в Западный Геталанд, не пощадит того, кто не захочет повиноваться ей сейчас по доброй воле.
Улучив момент, несколько женщин, одетых только в рубахи, проникли в монастырь во время службы и стали танцевать в этой бесстыдной одежде и петь непристойные песни. Потом они уселись посреди монастырского двора и осквернили его. Братьям пришлось много работать, чтобы очистить монастырь и заново освятить его.
Теперь Сигрид поняла строгое Божье напоминание. Она отвела мужа и Эрленда в сторонку в зале, приказала выгнать всех домашних рабов и открыла свое изуродованное лицо. Эрленд побледнел, испугавшись вида страшных язв. А потом Сигрид сказала то, что должно было быть сказано:
— Магнус, любимый господин и супруг мой. Ты так же хорошо, как и я, помнишь, что мы обещали святому Бернарду и Господу Богу в последний миг перед тем, как Бог возвратил жизнь Арну. Мы обещали посвятить его работе во славу Господа на земле, если он выживет. Но потом мы больше не говорили об этом. Вместо этого Бог теперь говорит нам о нашем предательстве. Мы должны раскаяться и искупить вину, ты ведь понимаешь это?
Магнус, сжав руки, признался, что на самом деле он прекрасно помнил об этом обещании, но ведь это было всего лишь обещание, которое они дали в самый тяжелый момент их жизни, ведь должен же Бог это понять?
Тогда Сигрид обратилась к Эрленду, который смыслил в божественных делах гораздо больше, чем она сама и Магнус. Эрленд мог только подтвердить сказанное. Он должен прямо сказать, что болезнь Сигрид похожа на проказу. Этой болезни не было ни в Арнесе, ни где-либо еще в Западном Геталанде, так что не иначе как сам Господь Бог послал ее. И то, что наиболее богоугодное дело Сигрид, пожертвование земель Варнхемскому монастырю, теперь находилось в опасности, наверняка тоже нужно было трактовать как явное предупреждение.
Бог требовал выполнить данное ему обещание. И он наказал Сигрид за ее колебания. Только так можно было понять случившееся.
На следующий день Арнес переполнился скорбью. В усадьбе и крепости не слышалось смеха и ссор играющих детей. Слуги сновали по залу словно безмолвные лесные духи, и некоторые не могли скрыть слез.
Магнус никак не решался сообщить тяжелое известие младшему сыну. Но пока Сигрид занималась приготовлениями к отъезду, он взял Арна с собой в башню, где никто не смог бы им помешать. Арн, который еще не понял, что должно с ним случиться, выглядел скорее заинтересованным, чем испуганным.
Магнус поднял его на одну из бойниц, чтобы сын мог смотреть ему в лицо, и ему тут же пришло в голову, что место выбрано не совсем удачно и Арн может испугаться высоты, с которой он летел в царство смерти.
Но мальчик не выказал никакого страха, наоборот, поскольку ему казалось, что отец полностью погружен в свои мысли, он высунулся наружу, чтобы рассмотреть то место, куда он упал.
Магнус осторожно потянул Арна назад, обнял его и начал свое тяжелое объяснение. Он показал на просторы внизу, где повсюду, насколько было видно глазу, шли весенние работы. Потом Магнус сказал, что в день, когда он умрет, все это станет владениями Эскиля, но у Арна будет еще большее богатство — Царство Божие на земле.
Казалось, что Арн не понимает его слов, возможно, для него это звучало как обычная церковная проповедь, когда люди становились высокопарными и говорили вещи, не имеющие значения, прежде чем сказать что-то значимое. Магнусу пришлось начать все сначала.
Он рассказал о тяжелых часах, когда Арна не было среди живых, и о том, как он и Сигрид в отчаянии обещали Богу пожертвовать своего сына работе во славу Господа на земле, если только он вернется к жизни. После этого они не спешили исполнить свое обещание, но теперь Бог сурово покарал их за это непослушание, и поэтому обещание нужно немедленно выполнить.
Арн стал осознавать, что надвигается беда. И отец тут же подтвердил его опасения, сказав, что должно произойти. Арн поедет в Варнхем со своей матерью и Эрлендом. Там он останется в качестве облата — так называли детей, которые поступали на службу к Богу. Бог будет наблюдать за ним, как и его покровитель святой Бернард, поскольку очевидно, что Арну было многое предназначено Господом.
Теперь Арн начал понимать. Его родители должны пожертвовать его Богу. Не как раньше, не как в сагах из языческих времен, но они все равно должны были отдать его Богу, и он, будучи еще ребенком, ничего не мог с этим поделать, поскольку дети всегда должны повиноваться отцу и матери. Он не мог сдержать слез и заплакал, как ни стыдно ему было перед своим отцом.
Магнус обнял его, неловко попытавшись утешить словами о Божьей воле и защите, о святом Бернарде, который будет покровительствовать ему, он говорил все, что в эти грустные минуты приходило ему в голову. Но маленькое тело мальчика сотрясалось от плача в его объятиях, и Магнус чувствовал, что и он сам, несмотря на то что это запрещено Богом, может проявить свою скорбь.
Когда вывезли сани, а дружинники, сидя верхом, в ожидании сдерживали своих лошадей перед входом в длинный дом, сначала вышла Сигрид с закрытым лицом и сразу села в первую повозку. Потом появился Эрленд, робко огляделся вокруг и проскользнул во вторую повозку.
Последним вышел Магнус с сыновьями. Они плача вцепились друг в друга, словно силой своих детских рук хотели предотвратить то, что должно было произойти. Магнус мягко, но в то же время настойчиво оторвал их друг от друга, поднял Арна, отнес его к повозке Сигрид и усадил рядом с матерью. Потом он, глубоко вздохнув, хлестнул лошадей, так что те резво взяли с места, а сам повернулся и пошел обратно к воротам. Он безуспешно пытался поймать Эскиля, но тот сбежал от него.
Магнус закрыл за собой ворота, ни разу не обернувшись. А Эскиль, плача, все бежал за повозками, потом упал, ударился и беспомощно смотрел, как брат исчезает в пыли, стелящейся по дороге.
Арн стоял на коленях и горько плакал, глядя назад, на Арнес, который становился все меньше и меньше. Он понял, что больше никогда не увидит свой дом, и Сигрид ничем не могла его утешить.
* * *
Для отца Генриха приезд Сигрид пришелся некстати. Его старый друг и брат из Клерво, отец Стефан, нынешний приор в Альвастре, прибыл к нему с визитом, чтобы обсудить сложную ситуацию, сложившуюся из-за королевы, которая искала ссоры и настраивала народ против братьев из Варнхема. Именно Стефан был тем человеком, с кем отцу Генриху хотелось бы поговорить об этом. Они с молодости были вместе и входили в ту первую группу, которая получила строгие наставления от самого Бернарда. Святой повелевал им направиться в холодную варварскую Скандинавию и основать там монастырь. Путешествие на Север получилось долгим, холодным и мрачным.
Отец Стефан уже успел прочитать рассказ о чуде, случившемся в Арнесе, и таким образом был посвящен в дела Сигрид. В Альвастре и Варнхеме, как и в материнском монастыре в Бургундии, прекратили принимать облатов, и причина этого была логична и вполне понятна. Человек волен выбирать путь Божий или путь погибели, а если детей принимали в монастырь и воспитывали там, то их судьба была предрешена с малолетства. Такие дети уже к двенадцати годам становились готовыми монахами и не знали другой жизни, кроме монашеской. Подобное воспитание лишало их свободной воли, и потому решение не принимать больше облатов было вполне разумным.
С другой стороны, нельзя было смотреть на чудо в Арнесе сквозь пальцы, как на какое-то незначительное событие. Если родители пообещали ребенка Богу в момент отчаяния, а сомнений в этом быть не могло, и Господь действительно сотворил чудо, то обещание родителей нужно трактовать как священное и нерушимое.
Но если сами служители Бога сделают исполнение обещания невозможным, если они просто-напросто откажутся принять мальчика, поскольку обычай принимать облатов упразднен?
Тогда, возможно, родители будут освобождены от данного ими обещания. Но одновременно с этим получалось, что монахи сознательно и с расчетом пойдут против ясно выраженной воли Божьей. Это было недопустимо. Следовательно, нужно принять мальчика.
А что делать с госпожой Сигрид? Очевидно, Бог сурово покарал ее за сомнения, и теперь она находилась здесь, желая искупить свой грех.
И что будет, если отец Генрих и отец Стефан просто-напросто оставят Варнхем, вернутся в Клерво и оттуда проследят, чтобы Кристина и даже ее муж были отлучены от церкви? Ведь это была процедура, которая вместе со временем в пути должна занять несколько лет.
Двое мужчин сидели в тени, в галерее, соединяющей церковь с кельями монахов. Перед ними на солнце сияли садовые растения брата Люсьена. Отец Генрих отправил Люсьена в маленький домик старой усадьбы, где теперь находилась Сигрид с сыном. Вскоре брат Люсьен вернулся. Он был весьма озабочен.
— Да, — сказал он со вздохом и опустился на каменную скамью рядом с ними.
— Не знаю, что думать. Но все-таки мне кажется, что это не проказа: слишком уж много язв и они все водянистые. Скорее всего, это какая-то разновидность свиной чумы, и, возможно, передалась она через навоз. Признаться, смотреть на Сигрид страшно.
— Однако если это лишь разновидность свиной чумы, то что ты можешь сделать, дорогой брат Люсьен? — заинтересованно спросил отец Генрих.
— Ну… ты действительно считаешь, отец, что я что-то должен с этим делать? — с сомнением спросил брат Люсьен.
— Как это?! — воскликнули двое других в один голос, оба с одинаковым удивлением.
— Я имею в виду… если сам Господь наслал на нее эту болезнь, то кто я, чтобы нарушать волю Божью?
— Ну вот что, брат Люсьен, не смеши меня, — раздраженно фыркнул отец Генрих. — Ты — орудие в руках Божьих, ты должен сделать все, что в твоих силах, и, если Господь сочтет твой труд праведным, он поможет тебе. А иначе не поможет ничто, и ничто не будет иметь значения. Так что ты думаешь делать?
Знаток трав объяснил, что, насколько он понимает, нужно очистить и подсушить раны. Кипяченая святая вода для того, чтобы промыть язвы, а потом чистый воздух и солнце, и гнойники могут высохнуть всего за неделю. По крайней мере те гнойники, которые были на лице госпожи Сигрид. С рукой все было не так просто, и в худшем случае речь шла о чем-то пострашнее, чем безобидная свиная чума.
Отец Генрих кивнул в знак согласия. Как обычно, ставя свой медицинский диагноз, брат Люсьен говорил убедительно. Что более всего поражало отца Генриха, так это его способность сохранять холодный рассудок при столкновении с трудностями, не бросаться очертя голову пичкать больного всеми травами сразу в надежде на то, что поможет если не одно, так другое. По мнению брата Люсьена, такое необдуманное поведение могло только навредить.
Когда брат Люсьен ушел, чтобы заняться неотложной работой, отец Стефан возобновил прерванный разговор, сказав, что, видно, этому мальчику предначертано Богом нечто особое. Но если Господь пожелал получить еще одного монаха, то и происшедшее чудо, и проказа были уже лишними. Право же, люди становились монахами и по менее важным причинам.
Отец Генрих засмеялся этой жесткой, но в то же время забавной логике. В любом случае возражений не находилось. Следовательно, нужно было принять мальчика, но обращаться с ним осторожно, как с каким-нибудь из капризных растений брата Люсьена, и следить за тем, чтобы не нарушалась его свободная воля. Возможно, в будущем Божьи намерения относительно этого ребенка станут более ясны.
Таким образом, мальчик смог стать облатом. И если монахам придется уехать из Варнхема, то он должен будет последовать за ними.
Неясным оставался вопрос о госпоже Сигрид. Наиболее простым было бы, конечно, позволить ей исповедоваться, чтобы услышать ее собственное мнение обо всем. Отец Стефан отправился в скрипторий, чтобы еще раз, может, с большим вниманием, чем раньше, перечитать рассказ о чуде в Арнесе, а отец Генрих с озабоченным видом пошел к маленькому домику за стенами монастыря исповедовать Сигрид.
Он обнаружил мать и сына в весьма жалком состоянии. В комнате была только одна лавка, на которой лежала Сигрид, с закрытыми глазами, в жару, а возле нее сидел маленький заплаканный мальчуган, судорожно вцепившись в ее здоровую руку. В помещении было неприбрано, полно разного хлама, тянуло холодом. Этот дом многие годы не использовался, его деревянные стены были старыми и трухлявыми.
Накинув на плечи плащ, он подошел к Арну и осторожно погладил его по голове. Но Арн, казалось, не заметил этого или притворился, что не заметил.
Тогда отец Генрих мягко попросил мальчика выйти ненадолго, пока его мать исповедуется, но тот только покачал головой, не поднимая глаз, и крепче сжал руку матери.
Однако в этот момент Сигрид очнулась, и Арн неохотно покинул комнату, хлопнув за собой рассохшейся дверью. По виду Сигрид было заметно, что она рассердилась на сына, но отец Генрих с улыбкой приложил указательный палец к губам в знак того, что ей не стоит гневаться на мальчика. Затем он спросил, готова ли она исповедаться.
— Да, — ответила Сигрид, в горле у нее пересохло. — Прости меня, святой отец, ибо я согрешила. С помощью святого Бернарда мне и моему мужу и господину, вместе с послушником Эрлендом, удалось молитвами и по милости Божьей вернуть к жизни Арна. Но прежде чем случилось это чудо, я свято и нерушимо пообещала Господу пожертвовать Арна на священную работу среди людей на земле, если Он пожелает спасти моего сына.
— Я знаю все, и это точь-в-точь записано послушником Эрлендом. Твоя латынь, кстати, звучит так складно, ты упражнялась в последнее время? Ну да ладно, вернемся к исповеди, дитя мое.
— Да, я читала с мальчиками, — устало пробормотала она, глубоко вздохнула и задумалась, прежде чем продолжить. — Я нарушила священный обет, данный мною Господу Богу, я притворилась, что не давала его, и потому теперь Он покарал меня, наслав проказу, как ты видишь. Я хочу понести наказание, если вообще возможно искупить столь тяжелый грех, и думаю, что пока я не умерла, я должна жить в этом доме, не быть ничьей женой и питаться объедками со стола монахов.
— Дорогая Сигрид, Господь сурово поступил с тобой, хотя ты так много сделала для нас здесь в Варнхеме, — медленно произнес отец Генрих. — Но нельзя забывать о том, что нарушение священного обета, данного Господу Богу, есть тяжкий грех, даже если этот обет был дан в трудную минуту. Ибо разве не в самое тяжелое время даем мы Господу обещания? Мы будем хорошо заботиться о твоем сыне, как Господь и как ты сама, хотя и иначе. Мальчика ведь зовут Арн? Мне нужно было бы помнить это, ведь я крестил его. Ну, а потом мы позаботимся о твоих ранах, и ты останешься здесь и будешь есть… хм, как ты говоришь, объедки с нашего стола. Но я не могу дать тебе отпущение грехов прямо сейчас, и я прошу тебя не пугаться этого. Честно говоря, я не знаю, что Господь хочет сказать нам. Может, Он просто хочет дать тебе маленькое напоминание? А теперь прочитай двадцать раз Патер Ностер и Аве Мария и поспи. Ты находишься в надежных, заботливых руках. Я пошлю к тебе брата Люсьена, чтобы он обработал твои раны со всем тщанием, и если обнаружится, что Господь хочет снова вернуть тебе здоровье, то скоро твой грех будет снят с тебя. А теперь отдохни, я возьму мальчика с собой в монастырь.
Отец Генрих осторожно поднялся и всмотрелся в изуродованное лицо Сигрид, на котором один глаз настолько заплыл гноем, что его было совсем не видно, а второй был открыт лишь наполовину. Он наклонился и осторожно понюхал язвы, потом задумчиво кивнул и вышел, на ходу засовывая четки в карман.
Снаружи, на камне сидел мальчик. Он уткнулся в землю и даже не обернулся, когда вышел священник.
Отец Генрих остановился в ожидании, пока Арн не начал на него коситься. Тогда он дружески улыбнулся, но в ответ раздалось лишь злобное фырканье, и мальчик снова отвернулся в сторону.
— Ну, mon fils, пойдем со мной, — сказал отец Генрих как можно мягче и, привыкший к тому, что ему всегда повинуются, потянул Арна за руку.
— Ты что, говорить не умеешь, старый хрыч! — зашипел Арн, брыкаясь и вырываясь, когда отец Генрих, который был довольно высоким и крепким, потащил его за собой в монастырь с той же легкостью, с какой он нес бы маленькую корзинку с травами из сада брата Люсьена.
Когда они вошли в крытую галерею у монастырского сада, отец Генрих обнаружил своего собрата из Альвастры на том же месте, где они сидели и размышляли раньше.
Увидев маленького Арна, упрямого и недружелюбного, отец Стефан тут же просиял.
— Ага! — воскликнул он. — Здесь есть… ох, наш jeune oblat. Enfin… теперь не преисполненный благодарности de Dieu, не так ли?
Отец Генрих с улыбкой кивнул и усадил Арна к нему на колени. Стефан без труда увернулся от удара маленького кулачка.
— Держи его как можно дольше, дорогой брат. Мне нужно поговорить с братом Люсьеном относительно лечения, — сказал отец Генрих и вышел в сад, чтобы найти своего монастырского лекаря.
— Ну-ну, не дрегайся, — прошептал отец Стефан Арну, забавляясь.
— Это называется дергаться! А не дрегаться! — зашипел Арн и попробовал освободиться, но, обнаружив, что сильные руки крепко держат его, оставил свои попытки.
— Ну, если ты считаешь, что мой северный язык слишком плох для тебя, то, может, нам лучше говорить на языке, который я знаю лучше, — пробормотал отец Стефан по-латыни, не ожидая ответа.
— Это будет лучше для нас обоих, потому что ты все равно не можешь говорить по-нашему, старый монах, — ответил Арн на том же языке, на котором к нему обратились.
Отец Стефан, приятно удивленный, просиял.
— Думаю, что мы сойдемся, ты, я и отец Генрих, ближе и гораздо скорее, чем ты думаешь, молодой человек, — прошептал отец Стефан на ухо Арну, будто сообщая какую-то важную тайну.
— Я не хочу сидеть целыми днями как раб над скучными старыми книгами, — проворчал Арн, однако уже с меньшей злобой, чем раньше.
— А что бы ты хотел делать? — спросил отец Стефан.
— Я хочу домой, я не хочу быть пленником и рабом, — сказал Арн и, не в силах больше дерзить, снова зарыдал, прислонившись к отцу Стефану, а тот осторожно гладил его по узенькой спине.
* * *
Первый диагноз брата Люсьена, как это часто бывало, оказался правильным. Язвы на лице Сигрид не имели ничего общего с проказой, и лечение быстро возымело положительное действие.
Прежде всего, он отправил нескольких послушников в маленький домик, чтобы они вычистили его, побелили и утеплили стены, несмотря на то что Сигрид была против этого, считая, что в своей низости не заслуживает опрятности и чистоты. Брат Люсьен попытался объяснить ей, что речь идет не об эстетике, а о медицине, но оказалось, что в этом споре они не совсем понимают друг друга.
Лицо Сигрид удалось вылечить, и именно теми средствами, на которые брат Люсьен указал с самого начала, — чистой святой водой, солнцем и свежим воздухом. Напротив, лечение язвы, которая распространялась по руке, не имело успеха, рука все больше распухала и синела. Брат Люсьен пробовал очень сильные, иногда даже опасные средства, но все было бесполезно. В конце концов он понял, что началось заражение крови, явным признаком которого был жар, охвативший бедную женщину.
Брат Люсьен не стал говорить с Сигрид, а объяснил отцу Генриху, что необходимо сделать. Нужно отрезать все больное, отнять руку, иначе зараза скоро доберется до сердца. Если бы речь шла о ком-то из братьев, то надо было бы лишь позвать брата Гильберта с большим топором, но ведь так нельзя поступить с благодетельницей братии госпожой Сигрид?
Отец Генрих согласился с этим. Он должен попытаться как можно более доходчиво объяснить суть дела госпоже Сигрид, но сделает это позже — именно сейчас у него были и другие дела. Тогда брат Люсьен упрекнул его, осторожно и, пожалуй, впервые, ведь времени было мало и речь шла о жизни и смерти.
И все равно отец Генрих медлил, ибо к монастырю направлялась госпожа Кристина с вооруженным отрядом.
Кристина подъехала к Варнхему верхом, во главе своих дружинников, словно она была хевдингом, мужчиной. На ней были богатые одежды, а на голове — королевская корона.
Отец Генрих и пять ближайших к нему братьев встретили ее перед воротами монастыря, которые они демонстративно приказали закрыть за собой.
Кристина не стала спешиваться, так как она предпочитала говорить с монахами сверху вниз. Речь ее звучала угрожающе, когда она сообщила, что по крайней мере одна из построек должна быть снесена, а именно скрипторий отца Генриха — этот дом каким-то образом оказался лишним на той земле, которая по праву принадлежала ей.
Кристина очень хорошо знала, куда направить удар. Ее целью было прежде всего заставить отца Генриха потерять терпение и контроль над собой, и теперь ей удалось по крайней мере первое. Большую часть своего времени отец Генрих проводил среди книг в скрипторий. Это были самые светлые минуты его жизни в северной темноте и варварстве, а сам скрипторий стал почти его собственным.
Он сухо объяснил, что не намерен сносить дом.
Кристина ответила на это, что если скрипторий не будет разрушен через неделю, то она вернется, но не только с дружинниками, а еще и с рабами, которые под кнутами дружинников быстро сделают эту работу и, возможно, будут при этом не так осторожны, как братья, если они захотят исполнить ее приказание сами. Монахам остается лишь выбирать.
Отец Генрих, рассердившись и едва сдерживаясь, ответил ей, что тогда он уедет из Варнхема и обратится к Святому Отцу в Риме с просьбой о том, чтобы тот отлучил от церкви женщину и ее мужа, если он с ней заодно, которые осмелились поднять руку на слуг Божьих на земле и Его Священную Римскую церковь. Разве она не понимает, что рискует навлечь вечное проклятие на себя и на Эрика сына Эдварда?
То, чем сейчас угрожал отец Генрих, было правдой. Но казалось, Кристина не понимает, что она ставит под угрозу честолюбивые планы собственного мужа; королю, отлученному от церкви, не на что надеяться в христианском мире.
Она лишь насмешливо вскинула голову, резко развернула лошадь, так что монахам пришлось отбежать в сторону, чтобы не попасть под копыта, и, уезжая, бросила через плечо, что через неделю придут ее рабы, кстати, рабы-язычники, чтобы исполнить приговор.
И тогда стало ясно, что монастырские работы в Варнхеме должны быть приостановлены до тех пор, пока церковь не проявит свою власть и не восстановит порядок. Святая Римская церковь не может снести подобного оскорбления, она не позволит себе проиграть предстоящую битву. Отца Генриха удивляло, что эта самоуверенная королева не разбирается в таких вещах.
С Арном обращались очень внимательно и не принуждали его к другим занятиям, кроме четырех часов грамматики в день. Сначала нужно было добиться того, чтобы он не делал ошибок в латыни, а потом уже переходить к другому. Сначала инструмент для знания, а потом само знание.
Но для улучшения настроения мальчика отец Генрих также позаботился и том, чтобы Арн проводил почти столько же времени с силачом — братом Гильбертом из Бона, который мог научить его совсем другим искусствам, нежели латынь и песнопения.
Основным занятием брата Гильберта в Варнхеме было кузнечное дело, и прежде всего ковка оружия, которая была поставлена лучше всего. Оружие ковалось только на продажу. Мечи, сделанные братом Гильбертом, само собой разумеется, превосходили все то, что могло быть сделано в этой варварской части мира. Слух о монашеских мечах быстро распространился, и производство оружия скоро стало приносить монастырю большой доход.
Арну понравилось смотреть, а иногда и помогать брату Гильберту, который обращался с мальчиком с такой серьезностью, словно из него нужно было сделать настоящего кузнеца, научить всему — с азов до самых сложных вещей.
Когда Арн через какое-то время перестал дуться и стал более открытым, он осмелился задавать вопросы и о том, что не касалось непосредственно работы. Например, он спросил, стрелял ли когда-нибудь брат Гильберт из лука, и если да, то решится ли он посостязаться с Арном.
К досаде мальчика, брат Гильберт нашел этот вопрос смешным и захохотал так, что ему пришлось прекратить работу, бросить раскаленный кусок железа в бочку с водой и сесть, чтобы отсмеяться и подождать, пока не перестанут течь слезы.
Придя наконец в себя и вытерев глаза, он сказал, что ему, в общем, как-то пришлось держать в руках лук и что они, пожалуй, могут найти время для подобных забав. Потом добавил, что ему, разумеется, страшно встретиться с таким отважным воином, как Арн Готский, и снова захохотал.
Пройдет довольно много времени, прежде чем Арн поймет, что во всем этом было смешного. В тот момент он чувствовал лишь злость. Он фыркнул, сказав, что брат Гильберт, скорее всего, струсил. Чем вызвал новый взрыв смеха у монаха из Бона.
* * *
Когда Сигрид пришлось выбирать между тем, лишиться ли ей руки и, возможно, остаться в живых, но калекой, и тем, чтобы умереть, Сигрид выбрала смерть. Она считала, что иначе ей так и не откроется воля Божья. Тогда отец Генрих со скорбью в сердце дал ей последний раз исповедаться, отпустил все грехи, причастил ее и соборовал.
В день святого Пера, когда лето было в разгаре и пришло время сенокоса, Сигрид тихо скончалась.
Одновременно настало время отъезда для отца Генриха и тех семи братьев, которые должны были сопровождать его в путешествии на юг. Сигрид похоронили в монастырской церкви под полом у алтаря, обозначив место лишь небольшими тайными знаками, потому что отец Генрих теперь очень плохо думал о госпоже Кристине и ее муже. Два брата были отправлены в Арнес с известием о смерти и предложением когда будет угодно посетить могилу Сигрид.
В течение четырех долгих часов поминальной службы Арн стоял прямо и неподвижно, единственный мальчик среди монахов. Лишь божественные песнопения иногда заставляли что-то внутри него переворачиваться, так что он не мог сдержать слезы. Но он не стыдился этого, потому что оказалось, что не только он оплакивал Сигрид.
На следующий день началось долгое путешествие на юг, которое сначала должно было привести их в Данию. Арн теперь точно знал, что его жизнь принадлежит Богу и что ни один человек, хороший или плохой, сильный или слабый, ничего не может с этим поделать.
Отправляясь в дорогу, он ни разу не обернулся.
Глава IV
Часто все получается не так, как предполагают люди. То, что неверующие называют просто случайностями, а верующие — волей Божьей, может иногда так изменить происходящее, как не мог бы себе представить ни один человек. Это касается и сильных мира сего, таких, как Эрик сын Эдварда, которые убеждены в том, что они сами кузнецы своего счастья. Но это касается и людей, которые ближе других стоят к Богу и потому лучше должны понимать Его намерения, — таких, как Генрих из Клерво. И для всех этих людей в ближайшие несколько лет пути Господни оказались неисповедимыми.
Когда отец Генрих, семь его спутников и мальчик, совершая путь на юг, пришли в Роскилле, он был полон решимости продолжить путь до самой резиденции цистерцианцев в Сито, чтобы поставить вопрос об отлучении от церкви Эрика сына Эдварда и его жены Кристины. Это было делом принципа, ибо цистерцианцев впервые принуждали оставить монастырь из-за прихоти какого-либо короля или королевы. Этот вопрос имел также решающее значение для всего христианского мира: кто повелевает церковью, сама церковь или королевская власть? Борьба по этому поводу продолжалась уже долго, но какая-нибудь варварская королева вроде Кристины могла об этом и не знать.
Варнхем должен быть возвращен любой ценой. Компромиссов здесь быть не могло.
Если бы отец Генрих и его сопровождающие пришли в Роскилле на несколько лет раньше или позже, то все шло бы так, как было задумано. Сомнений в этом нет.
Но они оказались здесь именно в тот момент, когда окончилась тяжелая, продолжавшаяся десять лет междоусобная война и к власти пришел новый могущественный род. Нынешнего короля звали Вальдемар; через какое-то время его станут называть Вольдемаром Великим.
Теперь ему наконец удалось убить обоих своих соперников, Кнута и Свенда, и перед решающей битвой он пообещал, что заложит цистерцианский монастырь, если Господь дарует ему победу. Его архиепископ, Эскиль из Лунда, хорошо знал об этом обете, потому что его вынудили благословить войну перед решающим сражением. А архиепископ Эскиль был давним другом не кого-нибудь, а самого святого Бернарда. И именно у святого Бернарда в Клерво он подружился с отцом Генрихом.
Когда они теперь встретились в Роскилле, датская церковь созвала синод, и они обрадовались не только нежданной встрече. Их также поразило то, как Бог может направлять человека, даже в малейших деталях.
Все части головоломки прекрасно складывались в одно целое. Цистерцианский приор приехал сюда именно в тот момент, когда новый конунг должен был либо выполнить, либо забыть данное Богу обещание об основании нового монастыря. Вместо того чтобы начинать многолетний обмен посланиями с Сито, они могли принять решение немедленно — на синоде присутствовали и архиепископ, и приор.
Сам конунг Вольдемар также почувствовал силу воли Божьей, когда его архиепископ сообщил, что священный обет может быть тут же исполнен, ибо Бог сам все устроил.
Вальдемар пожертвовал монастырю часть своего отцовского наследства — мыс, который вдавался в Лимфиорден на Юлланде и назывался Витскель. Синод, который практически уже собрался в Роскилле, благословил этот дар, и отец Генрих почти сразу же смог продолжить свое путешествие, словно он останавливался в Роскилле только для короткого отдыха. Теперь путешествие приобрело другую цель, нежели два родных монастыря Клерво и Сито.
Что касается вопроса о Варнхеме и отлучения от церкви Кристины и Эрика сына Эдварда, то случившееся не имело принципиального значения для его решения. Оставалось лишь предпринять практические шаги, так как теперь дело должно было решаться путем переписки и занять несколько больше времени. Следовательно, прежде чем продолжить путь до Витскеля, отцу Генриху нужно было написать несколько важных писем, и он быстро это сделал. Он написал в Варнхем, наказав двадцати двум из своих монахов взять достаточное количество скота и все книги и прибыть на строительство нового монастыря в Витскеле. Пять человек должны были остаться в Варнхеме, получив задание попытаться спасти постройки от разорения и одновременно рассказывать всем и каждому о предстоящем отлучении от церкви госпожи Кристины и Эрика сына Эдварда, чтобы это произвело на людей нужное впечатление.
Потом отец Генрих написал еще два письма, одно — в генеральный капитул цистерцианцев, а второе — Папе Адриану IV, в которых он описывал нечестивца и пьяницу Эрика сына Эдварда, хотевшего называться конунгом несмотря на то, что он позволил своей жене осквернить монастырь. После этого отец Генрих был готов к отъезду в Витскель, куда Господь, без сомнения, направлял теперь его шаги.
И куда Господь вел отца Генриха, туда же Он вел и Арна.
* * *
Вскоре Эрику сыну Эдварда пришлось ощутить на себе силу церкви. Завоевав одну из трех корон, к которым он стремился, конунг направил посланцев к лагманам Западного и Восточного Геталанда. Но ответ, который он получил, был уничтожающим. Слухи из Варнхема ползли, словно дым из котла: Эрика сына Эдварда и его жену Кристину скоро отлучат от церкви. Никому не нужен конунг, преданный анафеме.
К счастью, свей не знали о том, что происходило в Геталанде, или не понимали, что означает отлучение от церкви, вот почему положение Эрика как конунга свеев пока было прочным.
Следовательно, нужно было сделать два дела — одно легкое и одно сложное. Легким делом было послать гонцов к этому французскому монаху, который теперь обретался где-то в Дании, письменно покаяться, умолить монахов вернуться обратно в Варнхем, пообещать им поддержку со стороны короны, попросить о том, чтобы церковь Варнхема стала местом захоронения людей из его рода, заверить, что монастырю будут пожертвованы земли и все в этом духе. Его епископ Хенрик, который был священнослужителем практического склада, заверил Эрика в том, что другой вариант будет много хуже, чем все это, вместе взятое. А именно: конунгу придется пешком отправиться в Рим, пройдя последний отрезок пути в рубище и посыпав голову пеплом, идти босым и потом броситься к ногам Папы. Это было не только затруднительно и требовало много времени; нет никаких гарантий, что подобные уловки смогут обмануть Папу. А сделать все это напрасно будет, пожалуй, слишком обидно.
Гораздо проще умилостивить монахов, что можно сделать с помощью нескольких писем, нескольких красивых фраз и нескольких участков земли, которые все равно составляли лишь малую часть владений конунга. Это совсем не трудно.
Гораздо сложнее навсегда прекратить все разговоры о конунге-богохульнике. Эрик утвердился в давнишней мысли о крестовом походе в Финляндию, и епископ Хенрик нашел эту идею очень хорошей. Конунга, который сражается за святую веру, будут почитать все. Таким образом, дорога к оставшимся двум коронам лежала через Финляндию.
Свеям давно уже не требовалось доказывать свою воинственность ни себе, ни другим. Они с радостью присоединились к планам нового конунга о грабительском походе в Финляндию. Кроме всего прочего, они должны отдать должок — финны и эсты разбойничали вдоль побережья Свеаланда, и еще свежи были воспоминания о том, как они разграбили и сожгли Сиггуну.
Два года война проходила успешно. Свей взяли богатую добычу. Ворон летел на свежие раны.
Очевидно, что большинство из встреченных финнов уже были христианами, но им предоставляли выбирать: погибнуть от меча или быть окрещенными заново свейским епископом. На второй год войны в глубине страны были обнаружены и отдельные язычники.
Однажды воины Эрика, отклонившись от пути следования основного отряда, чтобы раздобыть еду, наткнулись на старуху колдунью. Странно было, что эта женщина говорила почти так, как говорят в Свеаланде, и что она совершенно не испугалась, когда ее взяли в плен. Напротив, она дерзко потребовала, чтобы ее отвели к королю, потому что у нее есть к нему предложение, от которого он вряд ли сможет отказаться. А если воины ее не послушают, то она навлечет на них вечное проклятие.
Воины сделали, как она сказала, хотя больше из любопытства, чем из боязни колдовства.
Когда Эрику сыну Эдварда рассказали о старухе, он решил, что встреча с ней может развлечь его, и, пока воины разбивали лагерь на ночь, приказал привести к себе колдунью.
Также он приказал, чтобы к королевской палатке пришел палач с топором и колодой. Ближайшие к нему воины собрались в ожидании предстоящего развлечения, колдунью вывели вперед и бросили ее на колени перед королем.
— Ну, колдунья! У тебя есть предложение, от которого я, конунг, не смогу отказаться, давай же его послушаем! — громко крикнул Эрик, обращаясь к грязной связанной женщине, стоявшей на коленях, и широко улыбнулся.
— Да, — хрипло произнесла женщина, поскольку один из воинов держал ее за горло, — у меня есть предложение, от которого умный конунг не откажется.
— Мы все хотим его услышать, но подумай о том, что палач стоит здесь не просто так, и вдруг я откажусь? — сказал Эрик, по-прежнему забавляясь.
— Тогда позволь мне встать и освободи меня, чтобы я могла говорить. Если ты ответишь на мое предложение отказом, я сразу же отправлюсь к палачу, — быстро и решительно проговорила колдунья.
Эрик махнул рукой воинам, чтобы они отпустили ее, и с прежней веселостью заявил о своей готовности слушать. Мужчин, которые стояли вокруг, происходящее очень забавляло.
Женщина с достоинством поправила волосы и откашлялась, прежде чем начать говорить.
— Мое предложение таково, конунг Эрик. Позволь мне погадать тебе по руке и сказать, кто ты есть и какое будущее тебя ожидает. Если ты сочтешь, что я сказала тебе неправду, или тебе не понравится мое предсказание, ты тут же можешь отправить меня к палачу. А если ты поверишь сказанному мной, то я потребую, чтобы мне дали лошадь и повозку — добраться до дома, откуда меня похитили.
Эрик задумался, а смех мужчин перешел в невнятное бормотание. Все считали, что женщина, которая столь уверена в своем гадании, что готова рисковать собственной головой, возможно, видит в будущем что-то хорошее. Но не все хотят знать свое будущее, ибо несчастье может случиться уже на следующий день: стрела из леса, в котором никто не видел стрелка, копье, случайно брошенное в конце битвы, когда исход уже решен. А если семью поразит чума, действительно ли стоит знать об этом? Чтобы смотреть в будущее, нужно обладать мужеством.
Эрик рассудил так, что просто отправить колдунью к палачу — значит, проявить трусость. Напротив, будет лучше, если он сначала выслушает ее, а потом прикажет обезглавить.
— Итак, — сказал Эрик сын Эдварда. — Я выслушаю твои слова. Если я сочту их хорошими, то вот тебе мое королевское слово, что ты вернешься домой с лошадью и повозкой. Если я сочту их ложью, то тут же прикажу палачу позаботиться о тебе.
— Да, — протянула колдунья. — Но мы должны войти в твою палатку, чтобы мои слова услышал ты, и только ты.
Среди воинов прошел недовольный ропот. Отправиться куда-нибудь одному с колдуньей — не к добру. Эрик заметил страх своих людей, и это разозлило его так же, как и дерзость женщины.
— А если я откажусь и велю гадать прямо здесь и сейчас?! — прокричал он грубо, тоном, каким обычно отдавал приказы.
— Тогда ты не узнаешь, кто ты и куда ведут твои пути, потому что твое будущее принадлежит только тебе и вряд ли ты сочтешь нужным посвящать в него всех остальных. Ведь потом ты и сам сможешь рассказать то, что услышал, — ответила женщина очень уверенно, и казалось, она уже знает, что Эрик согласится на ее предложение.
И он согласился. Нескромные руки воинов обыскали женщину, чтобы убедиться в том, что у нее с собой нет ничего острого. Эрик повернулся и вошел в палатку, а следом за ним туда втолкнули колдунью.
Оказавшись в палатке, она тут же упала на колени перед королем и попросила позволения читать по его ладони. Взяв протянутую руку, она принялась в молчании изучать ее. — Я вижу Англию… — начала она неуверенно.
— Кто-то из твоего рода… твой отец из Англии. Я вижу Рим и человека, которого называют Папой… нет, здесь линия прерывается. Ты собирался отправиться в Рим… босым… как это могло случиться? Ну да ладно, это путешествие не состоялось… да уж, твое будущее действительно интересно.
У Эрика сына Эдварда все похолодело внутри, когда он услышал истинные слова о своем английском происхождении и о том, как его почти заставили пойти к Папе. Он уже полностью поверил ей.
— Ну же, женщина! Я знаю, кто я есть, а теперь расскажи мне без утайки о моем будущем! — приказал он, и голос его почти не дрогнул. — Я вижу… я вижу три королевские короны. Новое королевство, на гербе которого будут три короны, и они будут существовать через тысячу лет повсюду в твоем королевстве. Поколение за поколением, король за королем будут носить твой знак. Три короны означают три области, которые соединились в могущественное государство, и через тысячу лет эти короны будут по-прежнему его символом, везде, на всех печатях, на всех документах.
— А что будет с Папой? — спросил Эрик сын Эдварда дрожа, почти шепотом. — Везде я вижу твое изображение… — тихо пробормотала женщина. — Везде твое изображение, твоя голова… голова святого, из золота на голубом небе. Ты начал с того, что погрешил против своего Бога… этот прерванный путь в Рим… потом ты сделал добро, и имя твое будет жить вечно.
— Что ты можешь сказать о моей смерти? — теперь уже благоговейно спросил Эрик сын Эдварда.
— Твоя смерть… твоя смерть. Ты действительно хочешь знать это? Немногие захотели бы.
— Да, скажи хоть что-нибудь!
— Я вижу не очень хорошо… — пробормотала женщина, и было заметно, что она внезапно испугалась говорить о том, что видела совершенно ясно. Но потом, взяв себя в руки, она снова продолжила уверенным голосом: — Твое имя будет жить вечно, и ни один мужчина, рожденный от женщины, и ни одна женщина в Свеаланде или двух гетских областях не смогут ни убить, ни ранить тебя, — быстро сказала она и поднялась с колен.
Эрик сын Эдварда, преисполнившись уверенности в том, что все его мечты осуществятся и ни один из его предполагаемых врагов не сможет убить его, вышел из палатки и громко приказал, чтобы этой женщине дали лошадь и повозку и чтобы никто не смел ее трогать или говорить с ней неподобающим образом.
Затем Эрик отправился домой, в Восточный Арос, думая о своем блестящем будущем, в котором он был теперь твердо уверен. И ему не нужно было бояться рожденных в Свеаланде, в Западном и в Восточном Геталанде.
Однако Магнус сын Хенрика не был рожден в этих областях. Он был датчанином.
Он был одним из многих датских стурманов, которых рассеяло по миру ветром войны после того, как Вольдемар наконец одержал победу в долгой борьбе за датскую корону. Бежав из Дании, Магнус поплыл по Балтийскому морю, на время остановился в Линчепинге для переговоров с королем Карлом сыном Сверкера, о которых никому ничего не было известно, а потом продолжил свое путешествие вверх вдоль побережья, вошел в озеро Меларен, затем в реку Фюрисон.
Магнус сын Хенрика застал короля Эрика сына Эдварда врасплох и своей рукой отрубил ему голову, которая, согласно колдунье из Финляндии, должна была стать вечным символом нового королевства.
Он провозгласил себя новым конунгом, поскольку убил старого, что в то время было обычным способом завоевания власти в Скандинавии, и поскольку его род по материнской линии восходил к королю Инге Старому.
Магнус сын Хенрика прожил после этого еще год. Эрик сын Эдварда остался жить вечно.
* * *
Чтение — основа всех знаний. Отец Генрих был твердо убежден в том, что даже такие люди, как он сам, главным занятием которых были запись или переписывание текстов, должны использовать два часа в сутки для чтения, которое является удобрением для души, своего рода дозволенным удовольствием.
Поэтому правила Витскеля о чтении были строгими. Даже братья, занимавшиеся ручным трудом — провансальские повара, каменщики, брат Гильберт и его подмастерья, брат Люсьен и те, кто помогал ему в саду, — каждый день должны были читать тексты, которые не касались впрямую их работы.
Для маленького Арна эта обязанность носила несколько иной характер; первые четыре-пять лет были направлены лишь на то, чтобы отточить его языковые способности. По этой же причине он всегда должен был говорить по-латыни с отцом Генрихом, по-французски с братом Гильбертом и на северном языке — со скандинавскими послушниками. Первые годы он трудился в основном над текстами псалмов, поскольку ему все равно нужно было их выучить. Дело в том, что у него было прекрасное сопрано, которое, если он пел первым голосом, придавало необычайную красоту утренним и вечерним службам.
Через пять лет монастырская церковь в Витскеле наконец была готова; ждали, что ее освятит архиепископ Эскиль, который для этой цели выехал из Лунда. После освящения церкви монастырь должен был получить собственное имя, потому что у всех цистерцианских монастырей были имена. Отец Генрих уже давно решил, что Витскель будет называться Vitae Scholae, Школа Жизни.
Безусловно, это имело отношение к Арну. В обычных случаях облатов уже не принимали в монастырь, и поэтому Арн был единственным ребенком в их кругу. Хотя все еще было неясно, почему Бог решил поместить этого ребенка среди цистерцианских братьев, легко было заметить, что «Школа Жизни» — название, которое буквально подходит к Арну. Все, чему он научится в жизни, он, возможно, получит здесь.
Теперь, когда мальчик в достаточной степени освоил язык, отец Генрих открыл для него большую литературу. Арну, как и всем другим, пришлось трудиться каждый день над обязательным чтением.
Отец Генрих был уверен в том, что для молодого человека мирская литература столь же важна, как и церковная. Однако здесь требовался контроль, потому что сперва Арн ходил в скрипторий без присмотра и иногда находил книги, не подходящие для мальчиков.
Например, польза Овидия заключалась, разумеется, в том, чтобы читать его «Метаморфозы» — около двухсот стихов о волшебных превращениях, которые открывали читателю мир легенд и культуры Римской империи. Напротив, не слишком хорошо было то, что в руках у мальчика оказалась Ars amatoria, «Искусство любви». Отец Генрих обнаружил Арна в углу поварни именно с этой книгой, при этом оказалось, что Арн реагировал на чтение способом, в котором вполне проявилась его мужская природа.
Отец Генрих, разумеется, назначил тогда подходящее наказание — холодные обливания, определенное количество молитв и что-то еще, но отнесся к этому совсем не строго. Напротив, он забавы ради рассказал обо всем брату Гильберту, который от души посмеялся над непреднамеренным грехом мальчика.
Однако запретные тексты Овидия были унесены в собственную келью отца Генриха, и с тех пор отбор книг для чтения Арна производился более осторожно и тщательно.
Например, мальчику прекрасно подошло бы чтение «Германии» Тацита, поскольку он сам был варварского происхождения. Согласно отцу Генриху, у Тацита, возможно, были некоторые внутриполитические причины для того, чтобы изображать германцев как идеальный пример для развращенных римлян. Но, как считал отец Генрих, все знания о прошлом человечества, даже относящиеся к языческим временам и обычаям, могли способствовать просвещению. «Послания» Горация и прежде всего его «Поэтика» были прекрасным примером того, чему действительно можно поучиться у классических писателей. В этих книгах, может быть, иногда слишком много теории, но тогда можно переключиться на «Энеиду» Вергилия, над которой как раз сейчас и трудился мальчик; с горящими щеками Арн прибежал рассказывать о Дидоне, царице Карфагена, и о том, как Вергилий спустился под землю и увидел будущее Рима.
Чтение было основой всех знаний, всех чистых и мудрых мыслей. С этим могли согласиться все, это было очевидно. Но отец Генрих, возможно, отличался от многих других тем, что считал, что маленьким мальчикам нужно давать эти тексты вовремя, прежде чем они успеют закоснеть в теологической науке и потеряют способность читать, не думая о том, как нужно толковать этот текст — буквально, аллегорически, с моральной точки зрения или с точки зрения аналогии, — четыре способа, с помощью которых обычно толковали библейские тексты.
С другой стороны, нельзя было пренебрегать и теологическим образованием Арна. Пока существовало только два экземпляра наиболее читаемой в Школе Жизни книги — Glossa Ordinaria, глоссария к Библии, — которой постоянно пользовались все братья. Но отец Генрих следил за тем, чтобы Арн получил доступ к этой книге.
И чтобы избежать новых неприятностей, подобных неподходящим текстам Овидия, Арн теперь получал все книги прямо из рук отца Генриха. Кроме того, каждый день по меньшей мере час посвящался тому, чтобы научить мальчика пониманию Священного Писания.
Втайне отец Генрих радовался тому рвению, с которым Арн прибегал за новыми книгами или чтобы ответить заданный ему накануне библейский текст. Смысл заключался в том, чтобы научить мальчика работать и руками, и головой. Поскольку Божьи намерения в его отношении еще не были ясны, этот путь, во всяком случае, не мог быть ошибочным.
Между тем время, проведенное с братом Гильбертом, было для Арна более приятным, чем занятия в скриптории или работа с послушниками, где требовалась его помощь в кладке камня в местах, куда не мог добраться взрослый человек. С Гильбертом было и куда интереснее, чем на кухне, в гавани, с рыбаками во фиорде или в соборе, упражняясь в пении перед очередным большим праздником.
Отец Генрих думал, что он, будучи мальчиком, справлялся бы с этими заданиями по-разному. Но у маленького Арна он ничего подобного не замечал, похоже, тот с одинаковым желанием брался за все, что выражалось в названии монастыря: «Школа Жизни».
Таким образом, этот ребенок мог стать кем угодно. С точки зрения отца Генриха, у него была возможность закончить свои дни приором в монастыре. Но из него могло получиться и нечто совершенно противоположное, о чем втайне поведал брат Гильберт и о чем отец Генрих предпочитал не говорить вслух. Суть заключалась в том, что по-прежнему никто не знал Божьи намерения относительно судьбы Арна. Следовательно, нужно было продолжать жить, как и раньше, не забывая ни про душу, ни про тело.
Отец Генрих, взяв с собой книги, необходимые ему на сегодняшний день, в галерею рядом с садом, сидел, глубоко погрузившись в одну из классических теологических проблем: почему, если дьявол, в образе змея в раю, вовлек людей во грех, Бог должен был исправить это, родившись в человеческом облике, претерпев муки на кресте и умерев ради людей? Почему он не мог просто использовать свое всевластие?
Очевидно, что дьявол, как вор, привлек к себе человека красивыми обещаниями. А у вора нет никаких прав.
Но даже если исключить из уравнения дьявола, то остается долг человека Богу. Но почему же Бог не послал тогда на землю одного из своих ангелов?
Во-первых, потому, что никто из ангелов Божьих не смог бы поставить себя на место человека и, следовательно, уплатить этот долг. Но даже если бы случилось так, то, во-вторых, человек оказался бы в вечном долгу перед кем-нибудь из ангелов Божьих, а не перед самим Богом. Только воплотившись в человека, что было под силу лишь Богу, Он мог взять на себя бремя грехов человеческих и спасти людей.
До сих пор все было логично и понятно. До сих пор отец Генрих полагал это объяснение вполне приемлемым, поскольку оно устраняло все старые споры о правах дьявола.
Но этого объяснения было недостаточно, в нем была одна слабинка. Ведь Бог, будучи милосердным, мог просто-напросто простить людей. Кажется, что гораздо проще простить людям то, что они попробовали запретный плод в раю, чем то, что они заставили сына Божьего умереть в муках на кресте вместо Вараввы.
И если Бог хотел просто сойти к людям в человеческом облике, то Он мог справиться со всем за неделю. Но вместо этого Он родился в образе младенца и прожил затем долгую жизнь, прежде чем была принесена решающая жертва. Таким образом, жизнь Иисуса на земле должна была иметь значение, и огромное.
Надо ли понимать это так, что жизнь Сына Божьего на земле стала образцом для людей? Именно так и должно быть! Люди могли видеть, как они сами должны жить, они могли слушать Его и учиться. Кроме того, насколько обеднело бы Священное Писание без Его собственных слов!
Теперь, когда он осторожно и не торопясь добрался до истины, отец Генрих почувствовал, как по телу разливается волна внутреннего тепла и удовлетворения. Такие моменты были самыми приятными.
Когда прибежал Арн, его ноги все еще были мокрыми: он только что мылся в лаватории. Переходить от ручной работы к умственной, не очистившись в лаватории, считалось нарушением правил. Последние два часа Арн работал, укладывая камень на верхушке монастырской церкви, и теперь, когда дата освящения храма была наконец определена, выяснилось, что осталось больше незавершенных дел, чем предполагалось раньше. Строительные леса должны быть убраны, когда архиепископ Эскиль приедет освящать церковь.
Но когда начали ломать леса, брат Гильберт и брат Ричард, стоявшие внизу, обнаружили, что еще есть щели, которые не слишком плотно заделаны. Пришлось Арну, словно маленькой кунице, забраться наверх, чтобы выполнить их указания по окончательной отделке; поскольку Арн был намного меньше всех остальных, он единственный мог без опаски и больших трудностей ползать наверху без деревянных опор. Высота не внушала ему страха, он был твердо убежден в том, что Бог не допустит, чтобы что-то случилось с ребенком, который к тому же работал над творением в Его честь. По крайней мере, такое объяснение дал Арн, когда кто-то из братьев украдкой спросил его, не боится ли он высоты.
Возможно, что этот ответ не был до конца откровенным. Он не лгал; в Школе Жизни не лгал ни один человек, это было бы слишком тяжким преступлением против монастырских правил. Но у Арна имелось убеждение еще с раннего детства, что у Бога были особые намерения в отношении его жизни, которые вряд ли заключались в том, что он в течение нескольких лет должен класть камень, чтобы в один прекрасный момент потерять опору под ногами и сорваться вниз, покалечившись или разбившись насмерть, как это уже случилось с двумя братьями во время строительства. Нет, он не чувствовал страха.
Но ответить подобным образом, если бы кто-нибудь спросил его, значило проявить тщеславие, заявить о своем превосходстве. А это также было тяжким грехом, даже, может быть, более тяжким, чем ложь.
Много лет назад Арн упал с высокой башни и остался жив. Сам он не очень хорошо помнил об этом случае, но читал запись в памятной книге Варнхема. Отец Генрих говорил о том, как следует понимать, что с ним тогда случилось. Бог хотел сохранить его жизнь для предстоящего дела, большого дела, и это было ясно всем.
Уже примерно год занятия по чтению стали все больше направляться на то, как трактовать текст, прежде всего Священное Писание, и именно на такое занятие с небольшим опозданием прибежал теперь Арн, задыхаясь, с босыми, но чисто вымытыми ногами, скользя на отшлифованных известняковых плитах в галерее, где сидел священник.
Отец Генрих не стал его бранить, казалось, что он пребывает в хорошем настроении; монах сидел, витая мыслями где-то далеко, на его губах играла довольная улыбка, и он осторожно погладил мальчика по маленькой бритой макушке.
Арн, опустившись на каменную скамью рядом с отцом Генрихом, увидел, что перед ним открыта Glossa Ordinaria, и, хотя мальчик сидел слишком далеко, чтобы разобрать буквы, он мог только примерно догадываться, на каком месте раскрыта книга.
— Ну, — сказал отец Генрих через некоторое время, когда он почти против воли оставил мир своих мыслей. — Что, если мы начнем именно со стихов, которые ты будешь петь соло в конце службы? Кстати, спой мне первые строки!
— Господь — пастырь мой; Я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях И водит меня к водам тихим, Подкрепляет душу мою, Направляет меня на стези правды Ради имени Своего —послушно пропел Арн чистым сопрано, так что братья, работавшие в саду, выпрямились в полный рост, опершись на свои орудия, и слушали с мягкими улыбками. Всем им нравилось пение мальчика.
— Прекрасно, прекрасно, мы можем остановиться здесь, — сказал отец Генрих. — А теперь попытаемся понять этот текст. Будем ли мы толковать его с моральной точки зрения или буквально? Нет, разумеется, не буквально, тогда как же?
— Очевидно, что это аллегория, — сказал Арн, переводя дыхание, ему нужно было больше воздуха, потому что он немного задыхался, когда начал петь.
— Ты имеешь в виду, что мы не овцы, сын мой? Да, это очевидно, но почему тогда такое иносказание?
— Оно явно, его легко понять, — задумался Арн, чуть наморщив лоб. — Все мы видели овец и пастухов, и, как овцам нужен пастух для защиты и заботы о них, так и нам нужен Бог, и, хотя все мы люди, а не овцы, Бог как бы наш пастырь.
— Гм, — сказал отец Генрих. — До сих пор все было несложно. Но что означает тогда «Он подкрепляет душу мою, Направляет меня на стези правды»? У овец есть душа?
— Нет, — задумчиво сказал Арн. Он почувствовал одну из многочисленных логических ловушек отца Генриха, но он уже начал утверждать, что стихи следует толковать аллегорически. — Аллегория очевидна сначала — там, где говорится об овцах, которые представляют нас, но в дальнейшем текст следует толковать буквально. Господь действительно подкрепляет наши души.
— Да, пожалуй, так, — пробормотал отец Генрих и улыбнулся чуть хитровато, как он обычно делал, когда расставлял логическую ловушку. — Но что тогда можно сказать о продолжении: «Направляет меня на стези правды»? О каких стезях идет речь? Буквальное или аллегорическое содержание?
— Я не знаю, — сказал Арн. — Может быть, и то и другое?
— Вот как? Текст, который следует читать и буквально, и аллегорически? Попытайся теперь объясниться, сын мой.
— В предыдущей строке говорится, что Бог подкрепляет наши души, следовательно, речь идет о нас буквально, а не о каких-то овцах, — начал Арн, чтобы выиграть время, одновременно напряженно думая. — Но Бог, разумеется, не может вести нас путями истинными буквально, путями по земле, зримыми путями, такими, по которым ходят лошади, быки, впряженные в повозки, и люди. Но если Он захочет, то Он ведь может привести нас правильным путем, например, в Рим?
— Гм, — сказал отец Генрих, напустив на себя некоторую строгость. — Тебе ведь небезызвестно, что путь туда и обратно является одной из наиболее обычных метафор Священного Писания? Если пути Господни неисповедимы, то под этим вряд ли подразумевается блуждание скотины в тумане, не так ли?
— Нет, это очевидно, пути истинные означают путь, уводящий от греха, путь к спасению и так далее. Следовательно, аллегорическое толкование.
— Хорошо. На чем мы остановились? Как звучит следующая строфа? Нет, не надо ее петь, братья в саду только начинают лениться от этого. Ну так?
— Если я и пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, — быстро отбарабанил Арн. — Мне кажется, что содержание здесь должно быть общим. Если для меня наступил тяжелый момент, если я близок к смерти, как, например, на вершине башни, когда я кладу камень, то я все равно ничего не боюсь, потому что Бог со мной. Слова «смертная тень» должны быть аллегорическими, смерть не отбрасывает тень в буквальном смысле слова, и не существует долины, где я мог бы оказаться в этой тени. И даже если бы она существовала чисто теоретически, то все равно не существует места, где я был бы лишен надежды. Даже в самой темной долине, то есть в тяжелые минуты, в печали или опасности, я не должен отчаиваться. Примерно так?
* * *
В тот день, когда Арн стал большим для своего старого лука, с этим маленьким удовольствием было на время покончено. Его тренировочная площадка располагалась прямо перед кузницей, так что он мог выбегать туда во время естественных пауз, которые возникали в работе, например, когда остывало железо или зажигались новые горны. Однако в один прекрасный день брат Гильберт вышел и увидел, как мальчик без колебаний, но и без особого интереса к тому, что делает, всадил двенадцать стрел подряд в движущуюся мишень — кучу смятых тряпок, обвязанных ремнями, которая двигалась взад и вперед по тонкой веревке.
Пора было начинать все сначала. Для брата Гильберта одинаково важным было то, чтобы орудия, которые он давал в руки Арну, подходили к его росту и чтобы он всегда упражнялся в полную силу. Если упражнение слишком легкое, оно будет просто тупо выполняться и возымеет негативное действие; брату Гильберту было сложно объяснить это даже взрослым людям. Арну он объяснял не слишком много, да это и не требовалось, потому что послушание было одним из самых важных правил в монастыре.
В качестве материала для нового лука они выбрали тис, а для стрел — ясень. Все части целого должны соответствовать друг другу, как должны находиться в равновесии движения рук и сила мысли.
Для того чтобы изготовить новый лук и стрелы к нему, потребовалось много времени — с холодной весны, когда снег только начал таять, до лета, когда тюльпаны образовали красную кайму вдоль галерей. Арн должен был присутствовать при изготовлении оружия, постигая все премудрости. Он узнал, как сушится дерево в темноте и прохладе, как срезаются тонкие слои с разных частей дерева, шлифуются вместе в ровную форму, склеиваются рыбьим клеем и потом снова шлифуются. Со стрелами, разумеется, было легче. Изготовление наконечников стрел было простейшей кузнечной работой, с которой Арн мог справиться совершенно самостоятельно.
Когда наконец пришло время опробовать новый лук, брат Гильберт ко всему прочему еще и изменил расстояние до мишени, с восемнадцати длинных мужских шагов до двадцати пяти. Первые дни Арну казалось, что он учится стрелять заново. Для того чтобы натянуть тетиву, требовалось много усилий, а натяжение влияло на направление полета стрел, так что иногда он стрелял совершенно в другую сторону. Когда же Арн выказал неверие в свои силы, брат Гильберт накинулся на него, ругая за то, что тот проявил лень и уныние, два одинаково тяжких греха. И Арну пришлось прочитать несколько раз Патер Ностер, стоя на коленях перед луком и стрелами, прежде чем ему было позволено снова вернуться к упражнению.
В такие моменты у брата Гильберта появлялось искушение объяснить мальчику, насколько хорошо он стреляет, без сомнения, лучше, чем большинство взрослых и хорошо тренированных стрелков. Однако сам Арн не мог сравнить себя ни с кем другим, кроме брата Гильберта, словно в мире существовало только два стрелка из лука. Брат Гильберт всегда умалчивал о своем прошлом и о том, что заставило его доживать дни в цистерцианском монастыре. Отец Генрих запретил ему рассказывать об этом Арну.
Примерно год назад брат Гильберт и Арн перенесли свое маленькое стрельбище за стены монастыря. Дело в том, что часть братии сочла непристойным то, что подобные занятия проходили у них на глазах.
Но однажды на том месте, где упражнялся Арн, остановился отряд воинов, возвращавшихся домой из Фюна; они были в хорошем настроении, потому что, окончив войну, должны были вскоре вновь увидеть своих любимых. Сначала воины сочли просто нелепым то, что маленький послушник с бритой макушкой, в коричневой рясе и с развевающимися локонами держит в руках лук. Это зрелище казалось нереальным. Чем-то, чего не может быть вообще.
Они отпустили несколько грубых шуток, но потом остановились, чтобы ради забавы поглазеть на малолетку. Брат Гильберт, стоявший рядом с Арном и дававший указания, притворился, что не понимает северного языка или, по крайней мере, не слышит некоторые комментарии.
Но воины быстро затихли. Ибо то, что они увидели собственными глазами, не могло быть правдой с точки зрения рассудка. Мальчик-подросток стоял на расстоянии восемнадцати шагов от мишени и всаживал одну стрелу за другой в поверхность размером не больше половины ладони, а когда он промахивался примерно на толщину пальца, то расстраивался, просил прощения у своего учителя и еще более тщательно целился перед следующим выстрелом. Воины продолжили путь в молчании. Отъехав немного, они принялись громко о чем-то спорить.
Брат Гильберт хорошо понял замешательство возвращавшихся домой воинов — никто из них, как, впрочем, и сам брат Гильберт, не встречал раньше ребенка, обладавшего таким даром. Но ни тогда, ни позже Арн так ничего и не понял, ибо для него существовали только он сам и брат Гильберт, по сравнению с которым Арн был самым плохим в мире стрелком.
Отец Генрих отказывался обсуждать с братом Гильбертом успехи Арна в стрельбе. Он полагал, что Арн прилично читает и выказывает такое понимание священных текстов, которое можно ожидать от мальчика, еще не пережившего ломку голоса (будет жаль, когда этот день настанет), не больше и не меньше. Отец Генрих не считал, что сам он был очень способным в детстве; теперь ему казалось, что Арн такой же, как он Однако поразительным было то рвение, с которым учились как он, так и Арн. Он даже с улыбкой вспомнил о том, как сам, будучи еще совсем молодым, набросился на книги, вовсе не предназначенные для маленьких мальчиков, и как его застали на месте преступления и наказали, примерно так же, как он сейчас сам порой наказывал Арна. Самое важное — тяга к чтению, желание учиться и выносливость. Господь наделил всех разумом примерно поровну, и каждый обязан использовать все, что ему дано.
Однако против такой логики у брата Гильберта было простое возражение — ведь тогда Бог наделил всех и одинаковой способностью обращаться с луком и мечом, кроме тех, кто получил значительно меньше, и тех, кто получил значительно больше этого дара. Маленький Арн получил таких талантов больше, чем любой другой молодой или старый человек из когда-либо встреченных братом Гильбертом, утверждал он.
Это утверждение погрузило отца Генриха в размышления. Ибо едва ли кто-то из живущих ныне встречал столько людей с оружием в руке, сколько брат Гильберт. И к тому же он не мог лгать своему приору.
Однако отцу Генриху не нравилась эта тема, и он запретил брату Гильберту занимать мальчика всякими пустяками. Вот почему получилось так, что Арн не сознавал своего дара, а только понимал свои ошибки, когда ему на это резко указывали.
Арну еще не приходилось держать в руках настоящий меч. Но этого и не требовалось, потому что брат Гильберт уже видел, что случится потом, когда руки мальчика станут более сильными и он сможет перейти от деревянных палок к стали.
В обращении с мечом быстрота глаза и мысли, устойчивость в ногах и сноровка в руках были гораздо важнее силы. Брат Гильберт недолго наблюдал за тем, как скандинавы орудуют мечом, но этого хватило, чтобы понять, что техника варваров почти полностью основана на силе. Их мечи были короткими, потому что они никогда не сражались верхом: странно, скандинавы считали, что лошади не годятся для войны. И поскольку они стояли на одной линии близко друг к другу, примерно так же, как древние римляне и греки тысячу лет назад — хотя скандинавы и называли свое построение не фалангой, а фюлькингом, — то техника боя строилась только на том, чтобы рубить косо сверху, справа или слева. Так как любой человек, у которого есть хоть что-то, напоминающее меч, и обладающий хотя бы малым опытом обороны, может парировать такой удар не размышляя и не двигаясь, бой продолжался до тех пор, пока одна из сторон не устанет, а другой не удастся более или менее случайно попасть в голову противника. При таких обстоятельствах побеждал тот, у кого были сильнее руки.
Первые упражнения Арна в течение трех-четырех лет проходили с обмотанными тряпками деревянными мечами, и брат Гильберт методично вбивал в мальчика ритм в три такта, чтобы тот запомнил его навсегда. Высокий удар слева, низкий удар справа, а потом прямой выпад или снова удар сбоку. Тысячи и тысячи раз.
Прежде всего Арн освоил ритм и перемещение. Затем ему пришлось научиться, как сдерживать свой гнев, ибо брат Гильберт всегда поражал его на счет «три», так было в течение первых двух лет. Лишь на третьем году Арн в достаточной степени овладел движениями и ритмом, как в песне, и иногда ему даже удавалось предотвратить третий болезненный удар своего наставника.
На четвертый год брат Гильберт изготовил достаточно тяжелые деревянные мечи и, тщательно взвесив, вделал в них металлические пластины. Было важно, чтобы деревянный меч казался маленькому Арну таким же тяжелым, как настоящий меч — взрослому воину, так что брату Гильберту пришлось долго экспериментировать, прежде чем ему показалось, что он подобрал правильный вес.
Именно во время упражнений с мечом брат Гильберт заметил, что здесь, как и в кузнице, мальчик с одинаковой легкостью использует и правую, и левую руку. В монастыре, как это уже случилось в скриптории, учителя попытались было отучить его использовать нечистую руку. Но брат Гильберт отнесся к этому по-другому. Он посоветовался со своей совестью и с Богом. Вмешивать в этот вопрос отца Генриха он не хотел.
Вскоре он понял, что Арн — не обычный левша, ему в прошлом несколько раз приходилось встречаться с такими людьми с мечом в руке. И он помнил, как непросто было с ними сражаться. Как будто все, чему тебя научили, получается наоборот.
Поэтому он сначала учил Арна работать обеими руками, меняя их каждый день или каждую неделю. Но он никогда не замечал особенной разницы в технике, казалось лишь, что левая рука мальчика немного сильнее, чем правая. Это означало лишь то, что с самого начала нужно выстраивать для Арна тайную технику: он мог внезапно перебросить меч из одной руки в другую, а потом начать кружиться вокруг своего противника по солнцу, а не против солнца. И если противник будет в тяжелых доспехах, а положение его — неустойчивым, то внезапная перемена тактики может иметь решающее значение.
В глубине души брат Гильберт сознавал, что такие мысли греховны. Он исповедовался в них отцу Генриху, но объяснил при этом, что его задача заключалась в обучении мальчика и он должен как можно лучше ее исполнять. Поскольку Бог еще не выразил своей воли относительно предназначения Арна, для него пока не было никакой разницы между тем, чтобы втайне читать Овидия или держать меч в левой руке.
Молясь Богу, отец Генрих понял, что, пока мальчик проявляет такое же рвение к чтению, как и к воинским забавам с братом Гильбертом, все идет как должно идти. Было бы хуже, если бы он предпочитал стрелы и мечи Glossa Ordinaria.
И в то время как отец Генрих проповедовал прилежание и дисциплину, чистоту и молитву, брат Гильберт ратовал за подвижность и подвижность, подвижность и прилежание. Было важно, словно в ритме музыки, научиться чувствовать, когда стрела должна быть нацелена на движущуюся мишень. И так же важно было все время двигаться, никогда не стоять спокойно, ожидая удара противника, быть где-нибудь в другом месте, когда этот удар обрушится, чтобы в следующий момент ударить самому.
Прилежание и дисциплина. Чистота и молитва. Подвижность, подвижность, подвижность и прилежание. Все эти правила Арн соблюдал с такой же легкостью, с какой он соблюдал наставления о том, чтобы повиноваться и любить всех братьев, — два наиболее важных монастырских правила; третье — всегда говорить правду, за ним следовали остальные, менее важные и иногда едва понятные, как, например, правила поведения за столом и при отходе ко сну.
Однако ему вовсе не составляло труда подчиняться этому заведенному Богом порядку. Наоборот, это было для Арна радостью. Иногда он думал о том, как живут другие дети там, в низменном мире; у него сохранились слабые воспоминания о зимнем катании на льду, обруче на палочке и других детских играх. Возможно, он скучал по всему этому. Каждый вечер он вспоминал Сигрид и молил о спасении ее души, ему не хватало ее запаха, голоса и рук; он молился и за своего брата Эскиля, помня, как их, плачущих, разлучили друг с другом. Но он понимал, или, во всяком случае, считал, что понимает, что самым большим счастьем для мальчика является возможность делить свое время между тем прекрасным, что содержится в книгах, и тем трудным, с потом и иногда со слезами от боли, что мог предложить ему брат Гильберт.
* * *
Магнус сын Фольке поклялся перед Богом пять лет носить траур по Сигрид, прежде чем он женится снова. В его роде это решение вызвало удивление, поскольку не было принято, чтобы мужчина в расцвете сил, у которого к тому же был только один законный сын-наследник, так долго воздерживался от того, чтобы завести новых сыновей и укрепить род новыми связями.
Некоторое утешение Магнус находил с Суом, и у него даже был незаконный ребенок от нее. Но Арнес превратился в мрачную крепость, где ничего не происходило и ничто не менялось. После смерти Сигрид Магнус почувствовал, что его голова словно пуста, что у него нет новых идей в отношении торговли и сделок. Все шло по уже накатанной колее.
Он что-то делал, завершил постройку стен и проложил два перегона дороги до Тиведена. Строительство дорог было богоугодным делом, а он пообещал это, когда первый раз приехал на могилу Сигрид, молился за нее в Варнхеме и покупал молитвы за нее.
У него в общем-то была мысль, что никому не повредит, если он соединит то, что угодно Богу, и то, что будет полезным для будущих торговых дел. В тот день, когда будет проложена дорога через весь Тиведен, он сможет начать торговать на севере со свеями, этими простаками, у которых есть железо и кожи, и, если будут хорошие дороги, новые сделки смогут принести много серебра.
Мрачности Арнесу прибавило и то, что мать Магнуса, Тура дочь Гутурма, приехала к нему из своих норвежских владений, чтобы заботиться о нем, пока он не женат. Она была сурова с рабами и хотела управлять всем по старым норвежским обычаям, а Магнусу, как и многим другим мужчинам, было сложно поставить мать на место. Ему следовало бы проявить себя хозяином в собственном доме, а для этого надо было как можно скорее найти новую жену. По мнению самого Магнуса, было бы разумно соединиться с родом Поля из Хусабю, потому что его собственные земли граничили с землями этого рода. В таком случае какая-нибудь из дочерей Поля могла бы получить в приданое дубовые леса, растущие возле горы Чиннекулле. Незамужние дочери Поля были еще очень молоды, но молодость — такое состояние, которое очень быстро проходит.
Эскиль приносил ему и радость, и тайную печаль. Сын походил на него самого и во многом на свою мать Сигрид, унаследовав ее ум. Больше всего Эскиль мечтал о том, чтобы ездить по миру и торговать, встречаться с чужеземными купцами, узнавать их товары и цены, а также учиться тому, как пересчитать две бочки солонины на зерно или кожи или необработанное железо на серебро. В этом Эскиль был сыном своего отца.
Но, будучи уже почти взрослым, он был не способен метать копье или обращаться с мечом так, как подобает в его возрасте мужчине из рода, имеющего герб. Однако правдой было то, что и в этом Эскиль несколько походил на своего отца.
Только однажды Магнус, как хозяин Арнеса, был вынужден пойти воевать. Это случилось, когда датчанин Магнус сын Хенрика объявил себя королем свеев, отрубив голову Эрику сыну Эдварда в Восточном Аросе. Некоторые говорили, что это случилось сразу после праздничной мессы в церкви Святой Троицы, что Эрик сын Эдварда храбро принял смерть от превосходящих сил и что в том месте, где упала его голова, забил из земли источник.
Правда, враги Эрика и конунг Карл сын Сверкера утверждали, что Эрик сын Эдварда умер потому, что выпил слишком много пива и не мог защищаться, как подобает мужчине.
Однако не важно, как именно убили конунга Эрика. Война должна была начаться в любом случае. Свей, раздосадованные тем, что пришел какой-то датчанин и убил их конунга, быстро разослали гонцов вплоть до Хельсингланда и самых дремучих свейских лесов, и вскоре большой отряд уже двигался по направлению к Восточному Аросу. Но тогда возник вопрос, как вести себя Западному и Восточному Геталанду — предоставить ли свеям самим разбираться с убийцей короля или же принять участие в войне.
Для Карла сына Сверкера и его людей в Линчепинге принять решение было не сложно. Ему пришлось выбирать между тем, чтобы бросить все силы на войну с датчанином — убийцей конунга и тогда самому завоевать свейскую корону или позволить им победить и самим избрать нового конунга, которым мог стать кто угодно из свейских вождей и лагманов.
Когда Фолькунги собрались на родовой тинг в Бьельбу, в Восточном Геталанде, скоро обнаружилось, что выбирать особенно не из чего. Собственный брат Магнуса Биргер Бруса вскоре убедил родовой тинг. Одна война неизбежна для всех в Восточном Геталанде, объяснил Биргер Бруса, — война против датчанина — убийцы короля. Но в других войнах, которые могли затем последовать, нет никакой необходимости. Единственно правильным решением для восточных гетов будет поддержать конунга Карла в этом вопросе. Но возможно, после победы он станет конунгом и в Свеаланде. Нужно было победить, и войско свеев было достаточно большим, чтобы добиться победы. Дни датчанина Магнуса сына Хенрика на земле сочтены. Теперь нужно думать о том, что произойдет после его смерти.
Для Фолькунгов важно не рассеиваться и не оказаться по разные стороны в войне. И если конунг Карл добьется королевской короны в Свеаланде, то вскоре он потребует признания и в Западном Геталанде. Если понадобится, то с мечом в руке он добьется этого признания, и тогда Фолькунги окажутся противниками друг другу — восточные против западных.
В таком случае лучше решить все проблемы в одной войне, и, следовательно, восточным и западным гетам нужно объединиться вокруг конунга Карла. Очевидно, это приведет к тому, что три области сольются. Но это должно случиться, может, немного позже, тогда уже ценой большой крови, или, что еще хуже, братья выступят против братьев.
Никто на тинге рода не мог возразить Биргеру Брусе. И с тех пор повелось так, что он, как правило, добивался всего, чего хотел.
С точки зрения Магнуса, он и его дружина участвовали в войне с выгодой для себя и не ввязывались в бой до тех пор, пока он не был выигран. Им пришлось в основном добивать последних датчан и брать в плен тех, кто мог предложить за себя выкуп, так что Магнус смог вернуться в Арнес победителем, не потеряв в бою ни одного человека и став на пятьдесят марок богаче, за что его сильно полюбили женщины, но не стали больше уважать мужчины.
Отправляясь в поход, он оставил Эскиля дома, несмотря на просьбы и хныканье мальчика. Эскиль еще не был мужчиной, когда пришло время мстить за Эрика сына Эдварда и спасать мир в Западном Геталанде. Кроме того, Эскиль был старшим сыном и наследником, так что его нельзя было заменить дружинником.
Магнус пытался забыть своего второго сына, которого Бог отнял у него при жизни. Но поскольку он знал, что Сигрид всегда больше любила Арна, то не мог забыть о нем полностью, как следовало бы для спокойствия души. Как не мог забыть и о Сигрид в течение пяти долгих печальных лет, которыми он наказал себя после того, как Бог отнял ее у него. Втайне он говорил себе, что Сигрид была тем человеком, которого он уважал больше всех на свете, больше всех мужчин, и даже больше своего брата Биргера Брусы.
Но подобные мысли он мог высказывать только самому себе. Если бы он произнес это вслух, то его сочли бы ничего не стоящим мужчиной или просто глупцом. Даже Эскилю Магнус не мог сказать, что он думал о его матери.
Пока еще льды оставались прочными, в Бьельбу был созван новый тинг рода, и Магнус отправился туда с небольшой дружиной и Эскилем, который в первый раз должен был принять участие в совете мужчин и потому получил тысячу наставлений о том, что нельзя вмешиваться, нельзя слишком много пить, нельзя ничего говорить, а нужно только слушать и учиться.
В высокой башне усадьбы было несколько залов, которые могли вместить собравшийся совет. Бьельбу, пожалуй, — место, где подобные советы собирались чаще всего в Восточном Геталанде. Это становилось заметно уже по тому, как домашние рабы встречали приезжающих, размещали их, говоря, как и где будет проходить встреча. Здесь это было обычной работой. В Бьельбу столько же рассуждали о власти, сколько в Арнесе толковали о серебре.
Биргер Бруса тепло встретил своих брата и племянника и с самого начала стал уделять им больше внимания, чем другим родственникам. Магнус не мог понять, что это: проявление братской любви или тайные планы Биргера Брусы, по поводу которых произойдет ссора или с которыми, что лучше, все согласятся. Но ему нравилось, что к нему относятся уважительно, несмотря на то что в их кругу сейчас присутствовало много доблестных воинов со шрамами на лице, полученными на полях сражений. Обычно такие боевые раны почитают больше, чем серебро, ведь какой-нибудь жирный епископ может владеть огромным количеством серебра, но не быть при этом уважаемым человеком.
Первые дни были посвящены только пиршеству и разного рода сплетням — о родственниках, не сумевших приехать, например о норвежских родичах, которые сейчас воевали, впрочем, как обычно. Так, за неторопливой беседой, можно было дождаться и тех, кто припозднился из-за того, что трудно было проехать по зимней дороге или ненадежному льду. Нельзя, чтобы кто-то опоздал на совет, и нельзя принимать решения, когда опоздавший, пыхтя и чертыхаясь, пытается справиться со сломанными или перевернутыми санями.
И вот наконец все в сборе. Совет начался в самом большом зале башни. Многих, в том числе Магнуса и Эскиля, удивило то, что они собрались сразу же после дневной молитвы в нижнем зале башни и при этом не подавалось никаких кушаний. Жаркое еще только начали переворачивать, и оно поспеет через несколько часов.
Биргер Бруса, который ввел этот новый порядок, считал, что у обычая отцов есть, пить и держать совет одновременно были свои преимущества. Иногда полезно, когда пиво развязывает язык и никто не чувствует робости. Но иногда пиво развязывало языки настолько, что или не принималось никакого разумного решения, или никто на следующий день не помнил, какое решение было принято, или родственники расставались врагами.
Совет начался в холодном зале, где нужно было сидеть, завернувшись в плащ, и куда внесли всего несколько жаровен.
Самым важным вопросом была верность рода Карлу сыну Сверкера. Никто не считал его могущественным конунгом, никто не думал, что он сможет хорошо защитить королевство, если в него вторгнутся датчане или разбойники с другой стороны Балтийского моря; сделать это ему будет еще труднее, если нападут норвежцы, но они, как обычно, были заняты тем, что убивали друг друга. Но действительно ли пришло время вступить самому роду в борьбу за короны?
Биргер Бруса сказал, что он убежден в том, что это время настанет, но позже. В Восточном Геталанде род был сильнее, чем в Западном, но в Восточном Геталанде также были наиболее сильны позиции конунга Карла, и к тому же там было много его родственников, особенно в Линчепинге и прилегающей к нему местности. Для победы требовалось, чтобы в борьбу за короны вступили западные геты, чего большинство из них не совсем желало.
Поэтому пока лучше всего оказать поддержку конунгу Карлу и не показывать виду, что он может внезапно ее лишиться, если ситуация изменится.
Вместо этого нужно продолжать терпеливо укреплять род обычным способом, то есть через выгодные браки. И теперь представляется хороший случай, поскольку сам Биргер Бруса не может уклониться от этой обязанности, как бы ни было приятно жить холостяком и не иметь ответственности, которую рано или поздно Бог накладывает на каждого мужчину.
— Через брата Магнуса, — продолжал Биргер Бруса, — и теперь все слушали его внимательно, не было ни шума, ни храпа, ни громкого икания от пива, которые могли бы помешать ходу мысли, — род связан с норвежским конунгом Магнусом сыном Сигурда. Однако конунга Магнуса победил Харальд Гилли, и, судя по теперешней ситуации, королевскую власть должны были унаследовать сыновья Харальда, это понятно каждому, кто хоть немного знаком с делами норвежцев. Хотя с ними никогда нельзя быть до конца уверенным ни в чем: у норвежцев все может измениться от одного удара мечом, способного превратить родственника конунга в родственника изгоя.
Биргер Бруса заявил, что он готов отправиться в Норвегию, чтобы посвататься к какой-нибудь из дочерей Харальда Гилли — Сольвейг или Бригильде. Это укрепит родственные связи с Норвегией, даже если норвежцы будут продолжать убивать друг друга, потому что тогда род будет связан брачными узами с родом Харальда Гилли и, через брата Магнуса, с родом Магнуса сына Сигурда.
На обсуждение этой проблемы ушло некоторое время. Другой возможностью, разумеется, была женитьба на ком-нибудь из рода Карла сына Сверкера. Но это могло закончиться как выигрышем, так и полной неудачей, потому что, если случится так, что корона будет возложена на сына Карла (если у него будет сын), род будет поставлен против рода. Нет, укрепление связей с Норвегией было более осторожным, но в то же время более выгодным в будущем шагом. На том вопрос был решен, и говорить об этой женитьбе больше не было необходимости.
Потом стали думать, к кому посвататься Магнусу. Его траур по Сигрид кончился, и он, обладая крупными земельными угодьями и большим богатством, был завидным женихом, что всегда облегчает дело. Суть, однако, в том, как поступить наиболее разумно.
Сначала дали высказаться Магнусу. Не будучи уверен в своем голосе и в том, правильные ли он подбирает слова, Магнус начал говорить. Если он породнится с родом Поля из Хусабю, то еще один сильный род из Западного Геталанда будет связан с Бьельбу. Кроме того, его собственные земли и земли рода Поля граничили, так что в случае такой женитьбы большая часть берега озера Венерн попадет в одни руки. Это означает, что у него будет контроль над торговлей всего Западного Геталанда, поскольку Венерн в течение большей части года является главным водным путем как в Ледесе, так и в Данию, и в Норвегию. В Хусабю есть две дочери, обе красивые, но еще маленькие.
Когда Магнус сел, по ропоту и шепоту родственников он понял, что говорил хорошо, но не совсем убедительно. Он почувствовал, что кое у кого существуют совсем другие планы на его счет, и нетрудно догадаться, кто сейчас окажется прекрасным оратором.
И действительно, слово взял Биргер Бруса. Сначала он одобрительно говорил о своем старшем брате, о его заслугах и расчетливости в торговых делах, о его желании заключить выгодный брак, чтобы укрепить положение рода.
Но очень скоро он сменил тон, коротко и сухо сказав, что существуют связи, более важные для всех родственников. Род Эрика, и об этом было прекрасно известно, вовсе не отказался от борьбы за власть. В Норвегии жила жаждущая мести вдова Эрика сына Эдварда, воспитывая сыновей как претендентов на корону. Род Эрика был силен к югу от Скары, у него были ответвления и в свейских землях. Такой род было бы благоразумнее иметь на своей стороне, а не в стане врага.
Хозяином одной из усадеб под Эриксбергом был брат Эрика Юар, старшая дочь которого не отличалась красотой, но Юар с удовольствием отдал бы ее и за менее богатого человека, чем Магнус.
Когда младший брат объяснил суть дела, Магнус вздохнул. Он уже видел, как все произойдет. Его кровь будет использована для того, чтобы связать род с опасным в будущем врагом или полезным для будущего союзником. Однако он ничего не мог на это возразить и признал, что все так и должно быть.
Эскиль, которому сложно было усмотреть логику в выборе родственников среди тех, кто убивает, вместо тех, кто обладает богатством, печально посмотрел на отца. Эскиль понял, что скоро у него появится новая мать, и он не знал о ней ничего, кроме того, что она не очень красива.
* * *
Арн никогда не видел брата Гильберта таким счастливым, как в тот день, когда пригнали новых лошадей. Это были жеребец, две кобылы и один жеребенок. Их сразу же отвели в отдельный загон, чтобы они не смешались с северными лошадьми. Лошади находились в хорошем состоянии, время года для путешествия было выбрано удачно, и оно прошло легко, потому что по дороге они много паслись и получали достаточно воды. Лошади прибыли с отцом Генрихом из одной из его постоянных поездок на капитул в Сито. Животные совсем не устали в дороге, поскольку отец Генрих и его спутники, как обычно, шли пешком, а две тяжелые повозки с поклажей везли ослы.
Возвращение отца Генриха с генерального капитула всегда было большим событием в монастыре не только потому, что все братья подчинялись или в большинстве своем честно следовали правилу о любви к ближнему, но и по многим другим причинам: они ждали новостей, писем, новых книг, известий о том, что происходит в светском и церковном мире, ждали зерен, семян и черенков, на которые с детским восторгом набрасывался брат Люсьен, тут же начиная их исследовать и рассказывать о них своим ученикам; наконец, ждали они сыры и бочки с вином, без которых, по крайней мере бургундским братьям, было очень сложно прожить, так же как провансальским поварам было сложно представить себе жизнь монастыря без новых поступлений некоторых специй, которые брат Люсьен еще не сумел научиться выращивать в суровом датском климате.
Многим братьям трудно было соблюдать дисциплину и благочинность, которых требовало возвращение отца Генриха. Прежде всего было необходимо отслужить благодарственный молебен. Подобная молитва всегда оказывалась очень длинной, потому что перед ожидаемым возвращением хор разучивал новые песнопения или же перелагал старые на новый лад. Перед такими службами особенно напряженно приходилось работать Арну, у которого все еще сохранялось красивое сопрано.
То, что произошло потом, показалось Арну чудом. Брат Гильберт погладил коня по морде и шее и заговорил на чужом языке, который лошади, казалось, понимают лучше, чем французский и латынь. Через несколько секунд он просто поднял Арна одной рукой, как перчатку, так что тот очутился верхом на коне. Мальчик тут же вцепился в гриву, чтобы удержаться. Ему приходилось объезжать лошадей, но не таких диких.
В следующее мгновение брат Гильберт одним гибким движением бросил свое тело на спину жеребца, словно он взлетел туда, и жеребец тут же понесся по загону бешеным галопом. Брат Гильберт сидел без седла, лишь слегка держась одной рукой за гриву, низко нагибаясь на самых крутых поворотах и на чужом языке выкрикивая коню одно приказание за другим.
Молодой жеребец Арна тоже начал скакать по кругу, хотя движения его были неуклюжими и детскими. Но скоро они оба неслись все быстрее, и Арн в восторге попытался подражать чужому языку брата Гильберта; скорость и ветер, свистящий над его бритой макушкой, словно опьянили его.
Стыдясь, Арн признался самому себе, что теперь он переживал минуты истинного счастья и что он не сможет не признаться в этом на следующей исповеди у отца Генриха; жизнь и силы коня словно влились в него, хотя это был всего лишь жеребенок, которому предстояло еще расти и расти.
Позже, когда уже запели соловьи и приближалось время вечерни, Арн и брат Гильберт уселись прямо на траву и, наслаждаясь, рассматривали новых лошадей. И тогда брат Гильберт сказал: — Видишь ли, мой юный рыцарь, воистину, конь — лучший друг человека. Но эти, как ты уже заметил, — не такие, как все, это самые благородные, умные, быстрые и выносливые кони на свете. Благодари Бога за Его дар, ибо животные эти — из Святой Земли.
Лицо брата Гильберта покраснело от возбуждения, он прерывисто дышал после скачки.
Арн уже начал понимать, что отличало этих лошадей от других: не только их внешний вид и движения, но и их назначение. Но он все равно спросил об этом и получил ответ, которого ожидал. Да, этих лошадей ждали битвы и сражения, и то, что относилось к мечу, относилось и к коню — подвижность, подвижность и еще раз подвижность.
Потом брат Гильберт объяснил, что, поскольку здесь, на варварском Севере, люди еще не переняли обычай сражаться верхом, скандинавам нужны были сильные медлительные лошади, которые могли бы донести тяжелую ношу до поля брани. Там скандинавы спешивались, привязывали своих лошадей и шли сражаться пешком. Однако если бы христиане попытались таким образом победить проклятых сарацин, они никогда не смогли бы освободить Иерусалим.
В других странах люди сражались верхом, только на варварском Севере еще не научились этому. Задумка брата Гильберта относительно новых коней, чью кровь он мог теперь распространить в Дании, заключалась в том, чтобы ввести в жизнь северян новую технику боя и таким образом заработать много серебра для монастыря. То есть сделать примерно то, что уже было сделано, когда они начали ковать для скандинавов мечи лучшего качества. Одно предприятие было столь же логически обоснованным и доходным, как и другое.
По-прежнему чувствуя ветер, развевающий его волосы, и скорость несущейся лошади, Арн с увлечением, но без должного благочестия молился о том, чтобы научиться сражаться верхом, как это делали христиане во всем мире.
Брат Гильберт тихо рассмеялся, шутя, легонько хлопнул мальчика по тонзуре и объяснил ему, что именно это он и делал — учил его сражаться верхом. Все время. Все, что Арн узнал о лошадях с того дня, как он начал заниматься с братом Гильбертом, было направлено именно на это.
Прежде всего дело касалось равновесия. Упражняясь с деревянными мечами, иногда держа по мечу в каждой руке, когда он сидел на шесте, а над ним взад и вперед скользили кожаные мешки с песком, угрожая сбить его на землю, он одновременно упражнялся ездить верхом, причем всегда без седла. Все это делалось для достижения равновесия, для того, чтобы он мог усидеть на лошади, какие бы движения она ни совершала.
Теперь ему сперва нужно объездить молодого коня, сначала без седла, научиться понимать его, говорить с ним, гладить его и всегда о нем заботиться. И его имя должно сохраняться в тайне — не от Бога, конечно, но из людей его должны были знать только они двое. Жеребенок будет зваться Шамсин — так называют ветер в пустыне, который может дуть в течение пятидесяти дней без перерыва. Двух кобыл будут звать Айша и Хадия, а жеребца — Назир. Значения этих имен брат Гильберт не объяснил, сказав только, что они из тайного языка лошадей и никому в монастыре, кроме них — двоих всадников, не следует их знать.
Седло появится, когда Шамсин достаточно подрастет, но прежде должны быть освоены азы, достигнуто доверие, любовь и равновесие.
Зазвонили к вечерне, и им нужно было поспешить в лаваторий. Арн спросил, не может ли он также научиться тайному языку лошадей. Уж если он говорит на трех языках, то, пожалуй, сможет говорить и на четырех? Брат Гильберт улыбнулся про себя и невнятно ответил, что этот день когда-нибудь настанет. Но больше он ничего не сказал.
Арн всегда был послушным. Он любил братьев так же, как любил книги. Он любил тяжелую работу так же, как и легкую, с такой же охотой клал камень на башне монастырской церкви, с какой ловил рыбу в фиорде. Он любил работу с мечом и луком так же, как и работу, заключающуюся в том, чтобы стих за стихом с помощью Glossa Ordinaria идти путями истины Священного Писания. Может быть, он немного меньше любил Аристотеля и немного больше — Овидия, ибо втайне он иногда повторял те греховные стихи, которые успел прочесть, прежде чем от него заперли эту книгу. Естественно, что потом он исповедовался и принял наказание за свой грех, который все равно того стоил. Что такое несколько дополнительных Патер Ностер по сравнению с тем чувством, которое охватывало его при мысли об Овидии, когда все тело пронизывали горячие токи?
Отцу Генриху было несложно смириться с тем, что Арну не хватало интереса к философии, зато преобладало любопытство к не подходящим для маленьких мальчиков рукописям. Что касается Овидия, то многие набожные мужи не только в юности, но и в зрелом возрасте обращали на изучение подобных текстов больше внимания, чем следовало бы. Здесь не было повода для нареканий, он и сам принадлежал к этой категории, по крайней мере в то время, когда был послушником. Это были лишь проявления человеческой природы и ничего более, а Бог в своей мудрости создал жизнь так, что в ней есть все. Следовательно, если мальчик не считал философию столь уж интересной наукой и у него даже иногда возникали небольшие, но дерзкие возражения, особенно против логических построений, то этот грех, если можно назвать это грехом, Арн делил, например, с братом Люсьеном: Люсьен, преданный своему искусству населять мир тем, что может использоваться в пищу, исцелять болезни или просто радовать глаз, также проявлял мало интереса к философии. Но отец Генрих не мог и подумать о том, чтобы по этой причине говорить о брате Люсьене как о менее достойном брате, о том, кто менее достоин любви, чем другие братья.
Таким же образом можно было, переиначив логику, как сделал бы философ, сказать, что мальчик является одним из прилежных учеников брата Люсьена. За желанием монастыря продемонстрировать, какую красоту может создать Бог на земле с помощью преданных братьев, крылась тонкая и кропотливая, но очень важная работа; весной раньше всех появлялись белые подснежники, они словно пробивались через крепкий зимний наст; потом, с приходом тепла, зацветали нарциссы и тюльпаны, все это было новым для варварского Севера и поражало посетителей; люди изумленно любовались белыми цветами фруктовых деревьев — неизвестных варварам яблонь, груш и черешен. В последние годы торговля оживилась, и, кстати, именно Арн помогал брату Люсьену забирать товары и вести переговоры со скандинавами, так как знал их язык.
Все, чему учился Арн, хорошо усваивалось в его голове, по этому поводу не стоило беспокоиться. Если не считать, как некоторые консервативные братья, что меч и копье не имеют отношения к трудам во славу Господа на земле. Но те, кто так считал, недостаточно изучали работы своего отца, святого Бернарда, который все-таки был основателем ордена рыцарей-храмовников в гораздо большей степени, чем Папа или кто-либо другой из деятелей церкви.
Однако теперь с мальчиком творилось неладное. С тех пор как в монастыре появились новые лошади, Арн будто лишился разума. В его занятиях возник перевес, интерес к коням затмил все остальное. И тогда, если мыслить шире, возникал вопрос: действительно ли Бог хотел этого или же Он хотел, чтобы его избранник сразу был наказан? Если это так, то тогда какое именно наказание священник, как хороший отец, должен выбрать?
Отец Генрих неоднократно призывал к себе брата Гильберта для того, чтобы обсудить эту проблему. Но казалось, будто благочестивый Гильберт хочет обернуть все в шутку. Мальчишки есть мальчишки, говорил Гильберт, в таком возрасте он сам поступил бы именно так, нужно понять новое увлечение мальчика, и, кроме всего прочего, это входит в науку, которой он его обучает.
Возможно, в словах Гильберта была правда. Но восторг мальчика был так велик, что можно опасаться, что Арн, по крайней мере на какое-то время, забросит книги. Как духовник Арна, отец Генрих знал об этом много больше, чем брат Гильберт. Ибо Арн, как и все остальные, не мог лгать, исповедуясь своему приору.
Арн осознал это именно потому, что обязан был исповедаться, признать свое греховное поведение и потом искупать свой грех. Но он не осознавал, что это действительно беспокоило отца Генриха, иначе Арн бы сильно огорчился. Сейчас он получал лишь обычные небольшие наказания в виде нескольких дополнительных молитв и, возможно, одного дня на хлебе и воде, как и тогда, когда он читал светские стихи Овидия и, более того, писал собственные стихи в подражание Овидию.
Шамсин вырос и стал настоящим конем, и любовь между ним и Арном стала еще сильнее. Лето было в разгаре, соловьиные ночи в Юлланде были светлыми и теплыми; Арн вставал, поспав всего какой-нибудь час после полуночной службы, прокрадывался в конюшню, брал седло и уздечку, шептал несколько слов в ночной полумрак, и к нему тут же прибегал Шамсин, наклоняясь и подставляя свою мягкую морду под горячие поцелуи мальчика.
Потом Арн садился верхом, и они неслышно направлялись к изгороди, через которую Шамсин перепрыгивал мягко, по-кошачьи; затем Арн и Шамсин еще какое-то время двигались осторожно, прежде чем их скорость достигала такой степени, что они по праву могли считаться самыми быстрыми на датской земле, ведь Шамсин был из породы лошадей, которые могли покрывать большие расстояния, не то что медлительные северные кони.
Они неслись, словно всадники Апокалипсиса, по небольшим холмам, редким буковым лесам и иногда даже добирались до моря с риском, что им придется возвращаться домой в таком же темпе, чтобы успеть к заутрене.
Скоро по округе распространились слухи о всаднике-привидении и дурном предзнаменовании, о духе, который мчался так, как не мог бы скакать верхом ни один человек, о карлике с острыми клыками и сверкающим огненным мечом.
Меч, однако, был деревянным, с вделанным в середине железным шариком для увеличения веса. Но в своем воображении Арн скакал с мечом, который вполне мог быть огненным, он размахивал им, держа его в левой руке, на полном скаку меняя поводья на меч, и тот оказывался в его правой руке. Хотя оружие было не самым главным. Арн словно пытался успокоить свою совесть, говоря себе, что он исполняет некую работу вместо того, чтобы спать сном праведника.
Его восторг вызывала именно скорость. Несмотря на то что Шамсин был еще очень молод, в нем присутствовала такая сила, какой не было ни в одном из коней, на которых Арну доводилось ездить раньше. Арн воображал, что Шамсина несет вперед сверхъестественная сила, и потому верхом на коне он словно был ближе к Богу.
Разумеется, думать так грешно. Арн понимал это, молился и исполнял все, чтобы получить прощение.
Однако мысли о Шамсине и бешеной скачке не оставляли его даже во время покаянных молитв.
Глава V
На Рождество 1144 года христиане в Иерусалиме потерпели самое жестокое поражение с тех пор, как была завоевана Святая Земля. Многие в христианской Европе понимали, что падение Эдессы — настоящая катастрофа. Но никто не мог представить себе, что случившееся станет началом конца христианского завоевания, ибо сама мысль об этом была греховной.
В этот период, спустя полвека после завоевания Святой Земли, которое обошлось христианам более чем в сто тысяч человеческих жизней, королевство Иерусалим включало в себя прибрежную полосу, тянущуюся от Газы в Южной Палестине через Иерусалим и Хайфу до ливанского берега и далее до Антиохии. Но над Антиохией, там, где Малая Азия нависает над Сирией, существовал большой христианский анклав вокруг города Эдесса, который вместе с Антиохией господствовал на побережье над всеми путями между Багдадом, Иерусалимом, Дамаском и христианской восточной частью Римской империи со столицей в Константинополе. После Иерусалима Эдесса была главным оплотом христиан.
Но теперь город был завоеван, разграблен и предан забвению вождем, имя которого раньше в Европе никто не слышал. Его звали Унадеддин Зенги. Завоевание Эдессы закончилось повальным истреблением населения города, погибли пять тысяч франков, шесть тысяч армян и других христиан. Вместо них Зенги приказал заселить Эдессу евреями, которым, возможно, удастся вернуть город к жизни. Евреи ведь были ближе к мусульманам, чем христиане, поскольку у христиан существовал своеобразный обычай массового истребления евреев, если предоставлялась такая возможность.
Зенги был сильным, честолюбивым и очень жестоким повелителем. Его великая победа вызвала ликование в мусульманском мире, но сам Зенги внушал окружающим опасение: все хотели, чтобы он побеждал где-нибудь подальше от них.
Возможно, именно жестокость была его слабостью. И вероятно, огромное христианское войско, которое собиралось теперь для того, чтобы отправиться во второй крестовый поход, отомстить за Эдессу и спасти Святую Землю, смогло бы победить Зенги, несмотря на его огромный опыт войны против франкских рыцарей.
Зенги не скрывал, что собирается захватить Дамаск — второй по значимости город после Иерусалима, чтобы оттуда сомкнуть плотное кольцо вокруг христиан.
Однако мусульманское население Дамаска не чувствовало энтузиазма при мысли о том, что непредсказуемый и жестокий воин окажется под стенами их города. Когда Зенги направлялся к Дамаску, он был вынужден по пути остановиться, чтобы покорить город Баальбек. Когда Баальбек наконец капитулировал и гарнизон получил обычные заверения в том, что всем сохранят жизнь, Зенги, разгневавшись, что на завоевание города ушло много времени, приказал отрубить головы всем защитникам, кроме начальника, с которого он повелел заживо содрать кожу.
Может, сам он думал, что подобное поведение навеет страх на жителей Дамаска и ослабит их сопротивление. Но эффект получился прямо противоположным. Дамаск заключил союз с христианским королем в Иерусалиме, потому что обоим городам, невзирая на религиозные различия, следовало в одинаковой степени опасаться такого завоевателя, как Зенги. Не будь Зенги так жесток, союз между Дамаском и Иерусалимом был бы невозможен и христиане смогли бы победить во втором большом крестовом походе. Следовательно, жестокость Зенги сослужила большую службу Аллаху, чем Господу.
Когда воины Зенги поняли, что война на данный момент окончена, что им никогда не удастся завоевать и разграбить Дамаск, они, нагруженные богатой добычей, повернули. Его армия таяла. Это явление было обычным в любой части мира и представляло такую же проблему для христианских войск, как и для мусульманских. Во имя Бога или Аллаха, будь то христианин или мусульманин, но каждый, захвативший богатые трофеи и к тому же оставшийся в живых, начинает скучать по дому.
Однажды, вне себя от гнева, Зенги увидел своего евнуха-христианина, который тайком пил вино из личного кубка вождя. Зенги изрыгнул угрозы о том, какое наказание последует слуге за это бесстыдство, и пошел спать. Евнух, который живо представил себе, какие наказания, одно другого хуже, способен придумать его хозяин после пробуждения, предпочел воткнуть в него кинжал.
Смерть Зенги могла бы благоприятствовать христианам, потому что теперь отцовские владения должны были быть поделены между его сыновьями, это отняло бы время и, возможно, привело бы к началу внутренних войн, а лучшего положения для второго крестового похода мстителей нельзя себе и представить.
Но Аллах хотел другого. Ибо тем из сыновей Зенги, кто снял с руки мертвого отца кольцо, символ власти, был Махмуд, которого вскоре назовут Hyp эд-Дин, Светоч Веры.
Hyp эд-Дин унаследовал воинские качества своего отца, он всегда должен был побеждать христиан. Но у него был иной характер, и в отличие от большинства других, кто сражался против христианского мира, он относился к вере совершенно серьезно. Hyp эд-Дин приказал созвать к себе всех ученых людей, всех рассказчиков из кофеен, всех, кто имел право говорить в мечети, всех сочинителей и всех писцов и убедил их или заплатил им за то, чтобы они распространяли легенду о Hyp эд-Дине, который никогда не сражается ради собственной выгоды, соблюдает все заветы Корана, запрещает пить вино даже своей страже, никогда не казнит побежденных, если они сдались, никогда не ставит собственные интересы превыше интересов ислама. Вскоре ему удалось создать движение в защиту веры. Но пока не пришло время, он не пытался взять Дамаск и вместо этого сделал своей столицей Алеппо.
С правлением Hyp эд-Дина, но еще больше с правлением его преемника, Салах эд-Дина, присутствие христиан в Святой Земле было обречено на гибель. Падение Иерусалима стало лишь делом времени. Но об этом может поведать только тот, кто уже знает, как все произошло.
* * *
Когда известие о падении Эдессы распространилось по Европе, оно вызвало как скорбь, так и беспокойство. Христианский мир не мог представить себе ничего подобного, поскольку завоевание крестоносцами Гроба Господня было делом священным, а священное дело не могло потерпеть поражения.
Если христиане не нанесут быстрый и сильный ответный удар, то неверные могут обратить свои мечи против самого Иерусалима. Это было очевидно для всех.
Папа Евгений III тут же развернул пропаганду второго крестового похода, чтобы обезопасить доступ христиан к Гробу Господню и другим местам паломничеств. Прежде всего он обратился к французскому королю Людовику VII, у которого в браке было столько сложностей, что он стремился уйти на войну под любым предлогом. К тому же кроме обычной добычи, которую приносит война, в крестовом походе можно было получить прощение некоторых грехов и тем самым обеспечить себе после смерти жизнь в раю.
Но королю Людовику никак не удавалось убедить своих вассалов отправиться в столь длительный поход. У графов и баронов не было семейных неурядиц, которые мучили его, и их вполне удовлетворяла спокойная жизнь в родной стране.
Расстроенный Людовик рассказал о своих затруднениях Папе, который нашел единственно правильный выход из этой ситуации. Он призвал под священные знамена Бернарда из Клерво.
Бернард Клервосский был в то время самым влиятельным лицом в церковном мире и, вероятно, лучшим оратором в мире светском. Когда стало известно, что Бернард будет говорить в Везельском соборе в марте 1146 года, туда пришло столько людей, что стало ясно: все в собор не поместятся. Вместо этого за пределами города была сооружена деревянная трибуна. Бернарду не пришлось говорить долго, ибо вскоре огромная толпа из десятков тысяч человек начала кричать, требуя крестов.
В запасе имелось большое количество крестов из материи, которые и начал раздавать Бернард, сперва королю и его вассалам, ибо даже критически настроенные графы и бароны не смогли устоять перед волной воодушевления, а потом всем остальным. В конце концов Бернарду пришлось рвать на клочки собственную одежду, чтобы новые добровольцы могли прикрепить к своим одеяниям крест из материи в знак того, что они теперь посвящают свою жизнь Священной войне и, кстати, готовы уже через некоторое время получить отпущение своих грехов.
Бернард мог не без гордости написать Папе:
«Ты отдал приказ. Я повиновался. И Сила, отдавшая приказ, сделала так, что мое послушание принесло плоды. Я отверз уста. Я заговорил, и число воинов Христовых сразу же увеличилось до бесконечного множества. Селения и города теперь покинуты. На семь женщин едва приходится один мужчина, везде можно увидеть вдов при живых мужьях».
И христианское движение стало распространяться по Европе с той же силой, с какой движение Hyp эд-Дина распространялось вокруг Алеппо, хотя христиане, конечно, не могли понимать, как они похожи в этом на мусульман. Бернард из Клерво отправился в долгое путешествие и день за днем повторял свои слова — сперва в Бургундии, затем в Лотарингии и Фландрии.
Когда движение достигло пределов Германии, возникли те же проблемы, что и во время первого крестового похода. Архиепископ Кельнский вынужден был срочно призвать Бернарда, поскольку один цистерцианский монах по имени Петр Достопочтенный путешествовал по Германии, повторяя слова Бернарда о Святой Земле, но при этом говоря нечто странное о евреях, живших в Европе.
Как следствие его проповедей, в Кельне, Майнце, Вормсе и Страсбурге начались погромы. Евреев убивали, иногда уничтожая целые семейства.
По приезде Бернард немедленно наложил наказание на Петра Достопочтенного: молчать в течение года, каяться, вернуться в свой монастырь в Клюни и не вмешиваться в то, чего не понимает.
Далее Бернарду пришлось совершить поездку по Германии, где он, несмотря на вынужденную необходимость говорить с людьми с помощью переводчика, тоже сумел вызвать желание участвовать в Священной войне. Но теперь он должен был делать все, чтобы покончить с преследованием евреев, и потому он раз за разом повторял, что «поднять руку на еврея с целью убить его — все равно что поднять руку на Иисуса Христа».
Таким образом, помыслы возбужденных христиан снова были направлены в нужное русло, и второй крестовый поход стал делом решенным. Германский король Конрад заключил союз с королем Людовиком VII, и вскоре неисчислимая армия начала свой священный поход. Однако в Венгрию и на Балканы они пришли скорее как насланная Богом чума египетская. Словно саранча и жабы, грабя мирных жителей, двигались вперед бесчисленные Христовы воины.
Придя в христианский Константинополь, французское и германское войска стали враждовать друг с другом в основном по поводу того, кому грабить первым. Они решили отправиться из Константинополя в Иерусалим разными путями. Конрад должен был идти через внутренние районы Малой Азии, а Людовик — вдоль побережья, а встретиться договорились в Антиохии.
Армия английских крестоносцев также отправилась в поход, чтобы присоединиться к огромной экспедиции. Но англичане застряли в Португалии, где они осадили Лиссабон. Это был тоже мусульманский город, хотя и несравнимый по значению с Иерусалимом.
Через четыре месяца осады англичане пообещали защитникам сохранить их жизнь, если те прекратят сопротивление. Гарнизон сдался, и христиане начали распинать, сдирать кожу и колесовать, обезглавливать и жечь, насиловать и грабить во имя Господа и во спасение своих душ, после чего, насытившись Священной войной, повернули домой. Кроме тех, кто остался, чтобы основать небольшие колонии.
Королю германскому Конраду, выбравшему сухопутный, но более опасный путь через Малую Азию в надежде на то, что там можно награбить побольше, пришлось испытать на себе всю тяжесть положения, когда на тяжело вооруженную европейскую армию нападают превосходящие силы легкой восточной кавалерии. Турецкие отряды встретили его у Дорили, и он потерял девять десятых своей армии.
Когда два европейских войска пришли в Антиохию (французское выглядело лучше, чем германское), их с почетом принял местный властитель граф Раймонд. Также к ним присоединился король Иерусалима Балдуин, и настало время для пира, а потом — и для тщательной разработки планов дальнейших действий.
Вновь прибывшие крестоносцы даже не знали, кто такой Зенги, не было им известно и о том, что он умер и теперь перед ними стоит гораздо более опасный враг в лице его сына Hyp эд-Дина.
Разумеется, местные франки-христиане гораздо больше понимали, что следует предпринять. Наверное, нужно идти прямо на Эдессу и вернуть город, поскольку, во-первых, именно падение Эдессы вызвало новый крестовый поход, а во-вторых, такая победа имела бы большое психологическое значение для обеих сторон.
Или же нужно идти на Алеппо, на столицу главного врага, Hyp эд-Дина, и принять бой, который все равно должен произойти рано или поздно, и лучше, если он произойдет сейчас, когда позиции христиан сильны.
Но короли Людовик и Конрад, не понимая особенностей отношений, сложившихся в той части мира, где они оказались, решили направить свой удар на Дамаск. Если удастся завоевать второй по значимости город после Иерусалима, утверждали они в один голос, то крестовый поход начнется с великой победы, о которой услышит весь мир. Кроме того, хотя они предпочли об этом помалкивать, Дамаск был действительно богатейшей добычей для грабителей. Таким образом, можно было быстро окупить все расходы.
Местные франки напрасно пытались объяснить, в чем заключается ошибочность нападения на Дамаск, их голоса не были услышаны двумя королями, потому что те были заодно и командовали двумя самыми крупными армиями.
Итак, все христианское войско направилось к Дамаску. Что по многим причинам было непростительной глупостью.
Дамаск был не только самым важным из мусульманских городов, но и единственный из них состоял в союзе с Иерусалимом. Нарушение такого союза показало бы, что на слово христианина полагаться нельзя, и это особенно тревожило рыцарей-храмовников, которые составляли костяк всей западноевропейской конницы.
Хуже всего было то, что теперь козыри оказывались в руках Hyp эд-Дина, человека, который в этой части мира проповедовал объединение перед лицом неверных и чистоту духа как средство от всех поражений. Ничего более действенного для объединения мусульман, чем нападение на Дамаск, придумать было нельзя.
Когда христианская армия начала двигаться по направлению к Дамаску, жители города сперва не поверили глазам, потому что это было полнейшим безумием. Но скоро во все стороны были разосланы почтовые голуби, и с юга, севера и востока к городу стали приближаться братья Hyp эд-Дина и другие союзники с большим войском.
После всего лишь четырех дней осады Дамаска христиане оказались в окружении армии, которая была намного больше их собственной. Их лагерь, кроме всего прочего, был разбит в самом невыгодном месте — в южной части города, где не было никакой защиты и где жители Дамаска заранее осушили все колодцы. Предводитель рыцарей-храмовников считал, что их тактическое положение настолько нелепо, что найти разумное объяснение этому невозможно, если только слухи о том, что королю Людовику или королю Конраду заплатили за поражение не соответствуют правде.
Христиане оказались в опасном положении. Речь уже не шла о сооружении осадных машин, нужно было просто бежать, спасая свою жизнь.
Когда христианская армия сняла осаду и начала отступать на юг, на нее напала легкая арабская конница, которая, находясь вне пределов досягаемости, осыпала отступающих стрелами. Потери были огромными, и на Святой Земле еще несколько месяцев спустя можно было видеть горы трупов.
Так закончился второй крестовый поход. Четыре дня сражений и колоссальные потери, которые во многом были вызваны глупостью христианских военачальников.
Король Германии Конрад, поссорившись, как обычно, с королем Людовиком, отправился домой по суше, в целях безопасности выбрав путь вдоль средиземноморского побережья Малой Азии.
Король Людовик, войско которого уже не было столь большим, избрал поэтому морской путь из Антиохии по направлению к Сицилии. Примечательно, что по дороге домой его флоту пришлось пережить нападение византийской флотилии. Как король Людовик, так и король Конрад после всех этих событий навсегда потеряли интерес к крестовым походам.
По возвращении домой король Людовик выслушал справедливые упреки своей жены. Второй крестовый поход обернулся тяжелым поражением. Вскоре Hyp эд-Дин смог занять Дамаск, ни разу не обнажив меч и не выпустив ни одной стрелы.
С точки зрения логики христианское королевство в Иерусалиме было теперь обречено на гибель. Нельзя было больше надеяться на помощь из Европы. Ни одна из крупных европейских стран не смогла бы сейчас послать туда новую армию, как бы много и красиво ни говорили Бернард из Клерво и другие проповедники о спасении и прощении всех грехов тому, кто примет участие в Священной войне. Однако пройдет еще много лет, прежде чем правоверные освободят Иерусалим. И не Hyp эд-Дин удостоится чести очистить священный город от невежественных и кровожадных европейцев.
Все зависело от одного монашеского ордена.
Рыцари-храмовники, или тамплиеры, имели то же религиозное происхождение, что и цистерцианский орден. Монастырский устав для храмовников написал Бернард из Клерво. Шайкам арабских грабителей было легко и выгодно нападать на христиан, жаждущих омыться в Иордане. Сначала орден тамплиеров задумывался как своего рода религиозная служба охраны, которая могла бы защитить паломников прежде всего на пути от Иерусалима к реке Иордан. Мысль о монахах-воинах, которая сперва казалась парадоксом, скоро получила распространение далеко за пределами Святой Земли, и многие из лучших рыцарей Европы почувствовали в себе призвание стать тамплиерами. Однако выбраны были немногие. Только самые лучшие и наиболее серьезно относящиеся к вере имели право вступить в орден. С созданием ордена тамплиеров появились лучшие рыцари, которые когда-либо проезжали с копьем и мечом по Святой Земле. Или по какой-либо стране вообще.
Арабы не питали большого уважения к западноевропейским воинам. Те часто были тяжело вооружены, слишком плохо сидели в седле, с трудом переносили жару и не стремились вести трезвый образ жизни. Но были среди них такие рыцари, перед которыми арабы отступали, если не имели численного перевеса в десять против одного. Или же отступали и в этом случае, потому что тогда победа досталась бы слишком дорогой ценой. Рыцари-храмовники не сдавались никогда. И, в отличие от других рыцарей, обладавших меньшей верой, они не боялись смерти. Они были твердо убеждены в том, что их война священна и в тот миг, когда они умирают в бою, они сразу же входят в райские врата. Их аскетическое мировоззрение и суровый монастырский устав не только запрещали грабеж и все безудержные грехи, в которые впадают победители — то, что постоянно и быстро понижает боеспособность армии, — но и предписывали, что время, не занятое войной или молитвой, должно посвящаться упражнениям в воинском искусстве. Эти правила были обязательными как для новичков, так и для опытных воинов.
Рыцари в белых плащах с красным крестом и белыми щитами, на которых был изображен такой же крест, оставались теперь единственной надеждой Иерусалимского королевства.
* * *
В тот день, когда у Арна пропал голос и он не смог больше петь, он подумал, что Бог сурово покарал его, хотя и непонятно по какой причине. Очевидно, он совершил тяжкий грех и тем самым заслужил это суровое наказание. Но как можно совершить грех, не понимая, в чем он заключается? Он проявлял послушание, любил всех братьев, не лгал, он действительно старался говорить только правду на исповеди у отца Генриха, даже в том, что касалось низменных мыслей и страстей. Он безропотно переносил те наказания, которые, все более гневаясь, накладывал на него отец Генрих за онанизм. Но каждый раз он получал отпущение грехов. Как мог в таком случае Бог столь сурово его покарать?
Он молил у Бога прощения за то, что вообще осмелился задавать этот вопрос, который мог рассматриваться как намек на то, что кара Божья несправедлива, но добавлял при этом, что ему, чтобы легче исправиться, очень нужно узнать, в чем состоит его грех. Однако Бог не отвечал ему.
Учитель музыки в Школе Жизни, брат Людвиг де Беткур, с удивительной легкостью воспринял то, что произошло, и утешил Арна, сказав, что случившееся входит в установленный Богом порядок и что рано или поздно все мальчики теряют сопрано и потом некоторое время не поют, а каркают, словно вороны. Это не более странно, чем то, что мальчики вырастают в мужчин, что Арн становится выше и сильнее. Но поскольку брат Людвиг не мог обещать, что после ломки голоса мальчик снова обретет способность петь, хотя и в более низком регистре, ему так и не удалось до конца утешить Арна.
Пение было его наиболее важной работой в Школе Жизни: во время служб он чувствовал, что приносит пользу и действительно что-то значит. Понятно, что он приносил пользу и при строительстве церкви — здесь, как и в пении, он делал то, чего не могли сделать другие. Во всем остальном он был всего лишь маленьким мальчиком, которому следует учиться у других. Или же выполнял работу, которая была чистым наслаждением для души или тела, — с книгами, с лошадьми или во время упражнений с братом Гильбертом, но ему казалось, что так он приносит больше пользы себе, чем братьям. И поскольку он любил братьев, как предписывал устав, он хотел делать что-нибудь, чтобы заслужить их ответную любовь. Пение было наиболее верным средством для этого, по крайней мере, так думал Арн.
Перестать петь, несмотря на то что музыка звучала у него в душе, было все равно что внезапно потерять чувство равновесия, разучиться ходить, бегать или ездить верхом. Брат Людвиг сказал, что он больше не нужен на службах, и Арн воспринял это как самое суровое наказание за свои грехи.
Отец Генрих чувствовал нетерпение оттого, что мальчику так сложно было объяснить очевидное. Оказалось недостаточным просто сказать, как он собирался сначала, что голос ломается у всех. Арн не обращал внимания на то простое обстоятельство, что голоса мужчин звучат по-иному, чем голоса мальчиков. Возможно, отца Генриха беспокоило еще и то, что страдания Арна на самом деле говорили о его глубоком одиночестве. Если бы он рос вместе со своими сверстниками, в стенах монастыря или за его пределами, ему, может быть, было бы легче.
Причина того, что в цистерцианский орден перестали принимать облатов, лежала скорее в области теологии, чем в практической или экономической сфере и заключалась в том, что у мальчиков, находящихся в стенах монастыря, отнимается их личная и интеллектуальная свобода. Став взрослыми, они могут быть только монахами. И никем другим, потому что они просто больше ни на что не годились.
Отец Генрих очень хорошо помнил, как он спорил по этому вопросу с отцом Стефаном как раз в тот день, когда мать Арна приехала в Варнхем, чтобы, по ее собственному выражению, «посвятить своего сына Богу» во исполнение Его пожелания и, возможно, во искупление собственных грехов. Они уже тогда предвидели сложности и говорили о них. И решили, что Арна нужно воспитывать очень осторожно, чтобы в будущем он свободно и по собственной воле исполнил свое божественное предназначение.
То, что случилось сейчас, когда Арн не мог смириться с мыслью о том, что где-то между рождением и смертью у человека ломается голос, не мог принять очевидность этого, было предупреждением. С одной стороны, мальчик более образован, чем любой взрослый человек, живущий за пределами монастыря, по крайней мере здесь, в варварской Скандинавии. Кроме того, он, возможно, лучше, чем кто-либо другой, умеет обращаться с оружием.
С другой стороны, он совершенно наивен в том, что касается светской жизни. Он не смог бы сидеть за столом со своими соотечественниками — его бы стошнило, не смог бы прожить и дня, не заметив, что люди лгут, что большинство людей ежедневно совершают многие смертные грехи, которые Арн, вероятно, воспринимал лишь как теоретические примеры, приводимые в целях морального устрашения.
Вероятно, Арн не понимал, что такое гордыня, встречаясь с ней разве что в примерах из Священного Писания. Вероятно, он не мог даже представить себе, что такое обжорство; что такое жадность, он не понимал вовсе, гнев был известен ему только как гнев Божий. Насколько знал отец Генрих, зависть была чувством, совершенно незнакомым Арну, он лишь проявлял интерес к братьям, которые умели что-то делать лучше, чем он, и безграничную благодарность к ним за то, что ему позволяли учиться. А безразличие? Насколько чуждым должно было быть это понятие для мальчика, который целыми днями полон рвения поскорее отправиться на новое место работы или заняться чтением?
Оставалось, возможно, распутство, хотя представления Арна о греховности маленьких мальчиков были также преувеличенны. Отец Генрих внезапно с некоторой иронией вспомнил, как Арн однажды в отчаянии связал ломку голоса, «Божью кару», со своими «страшными» грехами. И как он молил о сохранении своего голоса в обмен на любое наказание и одновременно просил избавить его от зуда, из-за которого было так сложно устоять перед соблазном.
Отец Генрих, затаив, как обычно, улыбку под маской строгости, говорил тогда немного быстрее, чем думал, и вдруг, к своему собственному удивлению, пошутил, что имеется средство сохранить прекрасный голос и избавиться от зуда, но что он не стал бы рекомендовать это средство.
Арн не понял, что он имел в виду, и отцу Генриху, пребывавшему в затруднении от собственного легкомыслия, пришлось объяснять, что по многим причинам мальчиков в монастыре не кастрировали, даже если они обладали красивым сопрано. Так что в конце концов ломка голоса не является грехом, а входит в установленный Богом порядок вещей.
Однако отец Генрих по-прежнему был уверен в том, что у Господа имеются особые планы в отношении юного Арна. И до тех пор пока Господь не явит свою волю, задачей отца Генриха остается подготовка Арна к его предстоящему призванию. Он мог без преувеличения сказать, что делает для этого все возможное, но теперь оказалось, что и этого недостаточно. Рано или поздно Арн должен приобрести знания о греховном мире, находящемся extra muros — за монастырской стеной. Иначе он, уже будучи мужчиной, останется наивным, как ребенок, а такой мужчина часто бывает неразумным. Желание Господа таким быть не могло.
* * *
Когда на западный берег Юлланда обрушились осенние бури, пришло время собирать урожай. Жители рыбацких селений издревле считали своим законным правом искать на песчаном берегу обломки разбившихся кораблей, но теперь конунг Вольдемар запретил собирать вещи с кораблей всем, кроме монахов из Витскеля. Конунг посчитал, что этим решением он убьет сразу нескольких зайцев. Сбор добра, прибитого к берегу после кораблекрушения, вовсе не был безопасным занятием, поскольку тот, кто обнаруживал нечто ценное, вдруг замечал, что кто-то другой тоже ждет своей доли. Бонды и рыбаки убивали друг друга, и богатство, посылаемое морскими богами, пропадало зря.
Но теперь, когда поиск обломков затонувших кораблей по приказу конунга стал привилегией монахов, в этом деле должно быть больше порядка, а те, чьим ремеслом была ловля рыбы, обязаны для общей пользы целиком и полностью посвятить себя только этому занятию. Монахи лучше, чем все остальные, могли разобраться в своих находках и понять, что может пригодиться. Таким образом, дары моря использовались теперь с большей выгодой. Было гораздо разумнее, чтобы монахи, обнаружив ценные предметы, приводили их в надлежащий вид и потом продавали людям, чем если бы невежды попортили множество хороших вещей. Это решение королевской власти было мудрым.
Но не все жители побережья сочли его законным и справедливым. Многим совсем не нравилось, что они должны отказаться от традиции, существовавших с незапамятных времен.
Некоторые говорили, что монахи, словно саранча, налетают на любую выброшенную морем вещь и после них на берегу ничего не остается. В этих утверждениях была и правда, и чувство зависти. Монахи из Витскеля, как правило, выполняли свою работу неторопливо, если только их не подгоняла плохая погода. Они могли спокойно и методично работать при свете дня, употребляя в свою пользу все, что они находили, а не только те вещи, которые выглядели наиболее ценными или которые было легко перевозить. Монахи несли в свой дом, в Школу Жизни, все, что им попадалось: расщепленное дерево — на дрова, уцелевшие куски обшивки и мачты для сооружения собственных кораблей, шерсть для прядилен, семена для пашни или рожь и пшеницу на продажу, шкуры и кожи для кожевенных мастерских, прутковое железо для кузниц, украшения и драгоценности для отправки в Рим; всему они могли найти применение. Но они также делали то, чем никогда не стали бы заниматься местные жители. Они хоронили погибших по христианскому обычаю.
Подобная экспедиция могла продолжаться до десяти дней. Большинство находок перевозилось на тяжелых повозках, запряженных быками, и обратный путь в Витскель занимал в два раза больше времени, чем дорога налегке к морю.
Брат Гильберт всегда отправлялся в эти поездки, и не только потому, что в них могла пригодиться его огромная сила, но и из-за того, что он вместе с Арном за короткое время покрывал огромные расстояния вдоль морского побережья. Когда обоз из Школы Жизни добирался до песчаного берега, монахи разбивали там лагерь, а потом брат Гильберт и Арн отправлялись каждый в свою сторону, чтобы выяснить, куда лучше двигаться дальше. Брат Ги Бретонец, разумеется, тоже был с ними, потому что никто в Школе Жизни не знал больше него о море, его опасностях и его дарах. Остальные монахи ездили на берег по очереди, согласно расписанию, составленному отцом Генрихом. Почти все братья с удовольствием отправлялись в путешествие, поскольку работа на побережье была совершенно новой для них, вид моря — прекрасен и было так интересно наблюдать, как Господь, одной рукой отнимая добро у мореплавателей, другой дарит его своим служителям.
Арн был вдвойне благодарен за то, что ему всегда позволялось участвовать в этих поездках. Он мог скакать на Шамсине вдоль бесконечного песчаного берега так быстро, как он хотел, особенно там, где разбивался прибой и песок был мокрым и плотно утрамбованным, так что у Шамсина была хорошая опора и широкий обзор, и жеребец мог свободно и легко лететь вперед. Галоп коня был настолько широким, что движения седла вверх и вниз почти не ощущались. Для маленького всадника эта скачка казалась не обычной ездой, а мечтой, ставшей явью. У Арна была возможность делать то, что он хотел больше всего. Но при этом он выполнял важную работу на благо своих братьев, как и тогда, когда мог петь в церковном хоре.
Но однажды, на втором году работы, произошло нечто неслыханное. В редком сосновом лесу, на расстоянии четверти перехода от моря, на обоз из Школы Жизни, возвращавшийся домой, напали буйные разбойники. Скорее всего, это были отчаявшиеся собиратели обломков кораблей из какого-нибудь близлежащего селения, которые выпили слишком много пива и решили наказать жирных монахов за то, что те воруют добро, по праву принадлежащее людям моря. Грабители были вооружены несколькими копьями и мечами, а один из них, сидевший на низенькой крепкой северной лошадке, угрожающе размахивал старинным боевым топором.
Тяжелые дубовые повозки с окованными железом колесами со скрипом остановились. Монахи даже не пытались бежать и стояли, склонив головы в молитве. Человек с секирой неуклюже направил свою лошадь на ехавшего первым брата Гильберта, позади которого, чуть сбоку, ехал Арн. Мальчик тотчас последовал примеру брата Гильберта, набросил на голову капюшон и обратился к Богу, хотя не знал точно, о чем Его надо сейчас просить. Но тут человек с секирой крикнул, чтобы все отошли от повозок, потому что здесь те, кому должны принадлежать дары моря. Брат Гильберт молчал, по-прежнему погруженный в молитву, что вызвало неуверенность и злость разбойника, и он грубо заорал, что молитвы тут не помогут и все немедленно должно быть выгружено из повозок.
Тогда брат Гильберт ответил, что он, естественно, молится не о сохранении корабельных обломков, а о спасении душ заблудших людей, которые рискуют навлечь на себя несчастье на весь остаток их земной жизни. Грабитель сперва был ошарашен, но потом еще больше рассвирепел и пришпорил коня, пытаясь ударить брата Гильберта.
Арн, находившийся в нескольких метрах от своего наставника, инстинктивно почувствовал, что будет делать брат Гильберт, и по крайней мере в первый момент оказался прав. Разбойник, подняв секиру и держа ее обеими руками, направил косо сверху вниз — удар, который неминуемо был бы смертельным, если бы попал в цель. Но брат Гильберт два раза почти незаметно тронул шенкелем Назира, который мгновенно попятился. В результате секира рубанула воздух, сила собственного удара выбила разбойника из седла, и он, кувырнувшись, тяжело ударился спиной о землю.
Если бы это было на занятиях Арна с братом Гильбертом, на земле валялся бы сейчас Арн, и в следующее мгновение он почувствовал бы ногу учителя на своей руке, держащей меч, затем у него отняли бы оружие, а потом отчитали.
Но сейчас брат Гильберт остался в седле, спокойно сложив руки и придерживая повод Назира.
Униженный разбойник с бранью поднялся на ноги, снова схватил свою секиру и напал теперь уже пешим, впрочем, с тем же результатом. Он бросился на брата Гильберта, замахнулся, но в следующее мгновение обнаружил, что снова рубит воздух и вновь падает на землю. Сообщники грабителя не могли удержаться от смеха, что привело его в еще большую ярость.
Когда он взялся за оружие в третий раз, брат Гильберт успокаивающе поднял руку и пояснил, что никто не будет противиться воровству, если только оно является целью нападения. Но он хотел бы в последний раз предостеречь грабителей. — У вас есть выбор, — спокойно сказал он, одновременно заставляя Назира крутиться на месте, словно стремясь продемонстрировать, что новые атаки будут бессмысленны. — Если вы решите взять то, что собирались украсть, мы не будем препятствовать насилию. Но подумайте о том, что в этом случае вы отдаете себя дьяволу и становитесь преступниками, которым остается только ждать сурового королевского наказания. Если же вы раскаиваетесь, идите домой, и тогда мы простим вас и будем молиться за вас.
Но разбойник не хотел слышать ни о чем подобном. Он повторял, как заведенный, что добро с затонувших кораблей с незапамятных времен принадлежит приморским жителям, а люди, стоявшие рядом с ним, стали возбужденно потрясать своими копьями, мечами и вилами, и вдруг один из них бросил копье прямо в брата Гильберта.
Это было тяжелое, неповоротливое копье со старинным широким наконечником, и поэтому Арн успел предугадать то, что произойдет. Сидя в седле, брат Гильберт слегка отклонился в сторону, схватил копье на лету и направил его на шайку, словно он решил бросить копье в разбойников. Арн успел заметить, что у разбойников заблестели глаза, как обычно бывает от страха. Но брат Гильберт быстро опустил копье к своему колену, сломал его, как ломают маленькую лучинку, и бросил обломки на землю. — Мы слуги Божьи, мы не можем драться с вами, и вы это знаете! — выкрикнул он. — Но если вы все же хотите навлечь на себя проклятие на весь остаток вашей никчемной земной жизни, то берите то, что вы хотите у нас отнять. Мы не можем запретить вам это безумие.
У разбойников начался короткий совет. Человек с секирой побрел назад к своим сообщникам, и у них возник жаркий спор, а брат Гильберт подозвал к себе братьев и сказал, что если дело дойдет до драки, то каждый должен сам спасать свою жизнь и бежать прочь. Ничего другого им не оставалось. Арн получил строгое указание держаться на безопасном расстоянии от разбойников и, если начнется потасовка, скакать домой и рассказать о том, что случилось.
Разбойники не знали, как быть: они вполне могли забрать из тяжелого груза то, что хотели. Но они не могли убить всех свидетелей, как раньше убивали несчастных моряков, переживших кораблекрушение и оказавшихся на берегу, но в последний миг своей жизни обнаруживавших, что они — в руках разбойников, которые промышляют добром с затонувших кораблей. В данном случае нельзя было добраться до двух монахов, сидевших верхом. Поэтому они решили взять часть груза и надеялись, что, поскольку никто не будет убит, королевская месть не настигнет их только за то, что они чуть облегчат вес тяжелых повозок жирных монахов.
Сказано — сделано. Разбойники захватили все, что могли унести и что казалось им ценным, в то время как монахи, стоя в отдалении, молились за души грешников. Когда груз разграбили, а громко кричащие бандиты удалились, монахи заново погрузили на повозки то, что осталось, и продолжили путь в Школу Жизни.
После их возвращения отец Генрих написал жалобу конунгу Вальдемару, поведав о нарушении указа. Вскоре были посланы воины, чтобы взять виновных. Это оказалось легким делом. Большая часть ворованного добра была возвращена в Школу Жизни, а всех разбойников повесили.
Это событие произвело огромное впечатление на Арна и дало ему пищу для размышлений. Ему было жаль грабителей, пораженных смертным грехом — жадностью, которые сами навлекли на себя погибель и теперь испытывали вечные муки. Он понимал, что они чувствовали себя униженными, что добро с затонувших кораблей издревле по праву принадлежало им, прибрежным жителям, и потому им было тяжело сознавать, что чужеземные монахи отнимают у них этот источник дохода. Кроме того, они были пьяны. Хотя сам Арн не знал, что такое быть пьяным, некоторые братья иногда пили слишком много вина, как бы демонстрируя своим примером, что люди теряют от этого разум. За пьянство монахов наказывали, обрекая на месяц жизни на хлебе и воде, но Арну все равно казалось, что пьяный не может нести полной ответственности за свои поступки.
Однако Арн не мог понять, почему брат Гильберт так повел себя. Нападавшие были всего лишь рыбаками, которые ничего не знали об оружии, находившемся в их руках, по крайней мере, так считал Арн. Брат Гильберт мог бы без труда обезоружить их и обратить в бегство. Тогда они не смогли бы разграбить повозки, воинам короля не пришлось бы искать их и вешать. Разве не должна истинная любовь к ближнему заключаться в том, чтобы пытаться отвратить ближнего своего от неразумных поступков, если есть такая возможность?
Арн хотел обсудить это с самим братом Гильбертом, который должен был быть убежден в том, что поступил правильно, не удержав грешников от безумства.
Но Арн обратился к отцу Генриху.
Отец Генрих ничего не имел против того, чтобы Арн молился за души грешников: значит, мальчик осознает жизнь Иисуса Христа как пример для всех, живущих на земле. Это было хорошо.
Больше его беспокоило то, что Арн, очевидно, не понимал, почему брат Гильберт не мог применить силу. Член ордена, убивший другого человека, был потерян навсегда. Заповедь «Не убий» свята и нерушима.
Арн возразил, что Священное Писание изобилует невыполнимыми заповедями. Например, брату Ги Бретонцу до сих пор не удалось заставить датчан попробовать мидии. Как только Ги Бретонец приехал в Школу Жизни, в фиорде сразу же началось разведение мидий. Но до сих пор только братья и поедали их, готовя блюда тем или иным замысловатым способом, потому что даны, живущие вокруг Лимфиорда, утверждали: «А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто это для вас» — согласно Пятой книге Моисеевой 14:8 или что-то вроде этого.
— Пятая книга Моисеева 14:10, — поправил отец Генрих. — В строке 14:8 содержится запрет на свинину, который в общем-то подтверждает ту же проблему или по крайней мере ее обратную сторону, поскольку даны уж точно не имели ничего против того, чтобы есть свинину. В любом случае, и Арну следовало бы это знать, существует разница между маленькими запретами подобного свойства и серьезными заповедями. Если искать в Священном Писании незначительные запреты, то подчас можно обнаружить много смешного — например, что нельзя коротко стричь волосы, когда скорбишь по умершему, — а также много нехристианской жестокости: например, там говорилось, что того, кто перечит отцу или матери, следует предать смерти, забросав камнями.
Самое главное — научиться понимать Священное Писание, и путеводной звездой к этому является сам Иисус Христос, который сам, своим примером показал, как мы должны это делать. Короче говоря, убийство принадлежит к числу строжайших запретов.
Но Арн не сдавался. Он стал настаивать, при этом логически аргументируя свою точку зрения, как на протяжении почти всей его жизни учил его отец Генрих. Письмо может убить так же, говорил Арн, как и меч. Написав конунгу Вольдемару, отец Генрих позволил тем самым убить злосчастных и неудачливых разбойников, поскольку их судьба была предрешена в тот момент, когда король получил письмо из Школы Жизни.
Таким же образом можно было наказать несчастных, не убивая их. Если бы брат Гильберт побил лишь двух-трех разбойников, он ведь совершил бы сравнительно небольшой грех?
Арн удивился тому, что отец Генрих не прерывал и не ругал его, а делал жест рукой, показывая, что Арн может продолжать свою аргументацию.
Следовательно, если бы брат Гильберт совершил небольшой грех, который он без труда смог бы искупить в течение месяца, и поколотил нескольких разбойников, испугав тем самым других и обратив их в бегство, результат мог бы быть положительным. Тогда разбойники были бы не разбойниками, а всего лишь пьяными болванами, которые не ведают, что творят. Они удержались бы от грабежа, не были бы повешены, их дети не остались бы сиротами, а жены — вдовами. Если взвесить в этом деле все за и против, то все равно окажется, что брат Гильберт преследовал бы благие цели, используя насилие без гнева. И тогда он не мог бы причинить зло? Ведь эта тема часто повторяется у самого святого Бернарда.
Арн увидел, что отец Генрих сидит, погруженный в свои мысли, наморщив лоб, как он делал всегда, когда не хотел, чтобы его беспокоили во время решения сложной задачи. Удивленный, Арн умолк.
Он долго и терпеливо ждал, поскольку отец Генрих не отослал его. Наконец священник взглянул на Арна, поощрительно улыбнулся, мягко похлопал его по руке и кивнул, подготовившись к объяснению и как обычно прокашлявшись. Арн напряженно ждал.
— Молодой человек, ты изумляешь меня проницательными замечаниями в области, в которой ты не слишком силен, — начал отец Генрих. — Ты затронул две проблемы, хотя они тесно связаны между собой. Твое указание на то, что мелкий грех, совершенный братом Гильбертом, мог бы исключить нечто более серьезное, формально верно. Но оно одновременно и ложно. Если бы в тот момент, когда брату Гильберту нужно было выбирать между тем, чтобы применить насилие, то есть совершить самый страшный грех, и тем, чтобы поступить, как он поступил, он знал, каковы будут последствия, то тогда, но лишь тогда, твои соображения верны. Я не сержусь, но все же должен указать тебе на то, что формальная сторона твоего изложения, хотя сам Аристотель и одобрил бы его, все же подразумевает, что брат Гильберт — не тот, кто он есть, смертный грешник, а Бог, который может знать истину и предвидеть будущее. Это поучительный пример, показывающий, насколько неразумными можем быть мы, люди, пытаясь поступить правильно, по совести. В общем, весьма поучительно.
— Но тем несчастным, которых долго вводили в искушение, потом повесили и отправили на вечные муки в аду, от этого не легче, — недовольно пробормотал Арн и тут же получил повеление прочесть десять Патер Ностер за свою дерзость.
Пока Арн послушно молился, отец Генрих с благодарностью, хотя и не без угрызений совести, использовал передышку, чтобы как следует все обдумать, и, к своему ужасу, вдруг обнаружил, что больше не уверен в своих контраргументах.
Разве не было преувеличением сказать — брат Гильберт должен быть Богом, дабы предвидеть, что умеренное насилие, без гнева, в данном случае принесет больше добра, чем заповедованное Иисусом Христом миролюбие?
А может, брат Гильберт, который с помощью Божьей был способен снести голову каждому, кто напал бы на него, когда он защищал церковное добро, наложил на себя столь суровую епитимью за грехи, совершенные им в Священной войне, и в любом случае должен удерживаться от насилия? И скорее всего, брату Гильберту было запрещено или он сам себе запретил думать в подобной ситуации, от него требуется лишь слепо исполнять наложенное на него наказание?
В таком случае на брате Гильберте не было греха за то, что он так поступил. Но тогда маленький Арн фактически в первый раз продемонстрировал теологическую проницательность и, что еще лучше, явил свою веру.
Однако о большой проблеме, затронутой Арном, легче всего было поговорить именно сейчас. К другой можно будет вернуться через неделю-две, когда отец Генрих сможет как следует обдумать ее и почитать необходимые тексты.
— Теперь обсудим твою вторую проблему, — с подчеркнутым дружелюбием сказал отец Генрих Арну, когда тот в десятый раз прочитал Патер Ностер. — Святой Бернард весьма справедливо указывает, что все, что делается с благими намерениями — ты знаешь, что я имею в виду, не будем разбирать определения, — не может вызвать зло. В какой связи это знание имеет наибольшее практическое значение?
— Разумеется, когда речь идет о крестовых походах, — послушно ответил Арн.
— Правильно! Однако во время крестовых походов гибнет огромное количество сарацин, не так ли? Следовательно, здесь не действует запрет на убийство? И в таком случае почему?
— Он не действует потому, что это происходит, и происходит всегда, с благословения Папы Римского, — ответил Арн с осторожностью.
— Да, но это формальное доказательство, сын мой. Я спросил почему?
— Потому что мы должны представить себе, что это благое дело, и в том, чтобы сохранить для верующих Гроб Господень, больше добра, чем зла в убийстве сарацин, — с сомнением попытался объяснить Арн.
— Да, ты на верном пути, — подтвердил отец Генрих, задумчиво кивнув.
— Но когда Иисус изгонял торговцев из храма, разве не был он близок к тому, чтобы убить их?
— Да, но это может зависеть от того, что Он, преисполнившись гнева Отца своего, чей гнев отличается от нашего, людского гнева, использовал ровно столько насилия, сколько требовалось. Он действительно изгнал торговцев из храма. Ему не нужно было их убивать, это как брат Гильберт…
— Ну вот! Мы возвращаемся к тому же, — резко прервал его отец Генрих, но за своей маской строгости внутренне улыбнулся тому, что Арну внезапно и в общем-то чисто случайно удалось найти наиболее исчерпывающий аргумент в пользу своего первоначального утверждения, что брату Гильберту нужно было применить ограниченное насилие, проще говоря, повести себя, подобно Иисусу в храме.
— Разве Иисус бранился на солдат? Проклял ли он их за то, что они были солдатами? — спросил отец Генрих приглушенным голосом.
— Насколько я знаю, нет… — задумался Арн. — Это как с монетой, дай кесарю кесарево, а Богу… что-то в этом роде. И, мне кажется, в Евангелии от Луки, 3:14 написано примерно то же самое: «Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». Если только воины ведут себя, как честные люди, когда они уже не воины, — тогда ведь нет ничего плохого в том, чтобы быть воином?
— Верно! А что делают воины?
— Они убивают людей. Как те рыцари, которые прибыли сюда после твоего письма, святой отец. Но рыцари и короли живут в мире грешников, что у них общего с нами?
— Твой вопрос очень интересен, сын мой. Ибо ты спрашиваешь буквально следующее: есть ли ситуация, в которой подобные тебе или мне могли бы убить? Я вижу, ты сомневаешься, и, прежде чем ты скажешь какую-нибудь глупость, в которой потом раскаешься, я отвечу тебе. Есть одно исключение. Господь наш по своей милости считает, что мы не должны убивать других детей Божьих, ни римских, ни датских воинов. Но есть народ, на который запрет Господа не распространяется, и я думаю, ты можешь догадаться, что это за народ?
— Сарацины! — быстро ответил Арн.
— Снова верно! Ибо сарацины — это наиболее гнусный род, приведенный на землю дьяволом. Они не люди, они — дьяволы в человеческом облике, они не колеблясь насаживают христианских младенцев на острия своих копий, жарят их над огнем, а потом едят, они известны своим распутством и безудержным пьянством, они постоянно одержимы грехом содомским и совокупляются с животными. Они — мразь, и каждый убитый сарацин угоден Богу, а тот, кто убивает сарацин, совершает священный акт и потому ему открыта дорога в рай!
Отец Генрих все больше загорался гневом по мере того, как описывал мерзость сарацин, а Арн во время его рассказа все больше вытаращивал глаза. То, что он слышал, не укладывалось в его сознании, он не мог себе представить, как эти мерзкие твари едят зажаренных христианских младенцев, насадив их на острия копий, не мог понять, как вообще эти дьяволы могут иметь человеческий облик.
Но ему легко было понять, что убийство этих исчадий ада является богоугодным делом, даже для монастырской братии. Он также сделал вывод, что существует огромная разница между датскими разбойниками, занявшимися грабежом на свою погибель, и сарацинами. В одном случае заповедь «Не убий» действовала без исключений. В другом — все было наоборот.
Правда, здесь в Скандинавии в этом простом и ясном выводе было мало практического смысла.
* * *
За годы, когда Арн не мог заниматься пением, он изменился, как изменилась и его работа. То время, которое он раньше проводил бы с братом Людвигом и хором — несколько часов ежедневно, — теперь он отдавал брату Ги на берегу моря. То т быстро научил его вязать сети, ловить рыбу и управлять маленькими суденышками, как это делали в его родных краях; на всякий случай брат Ги позаботился и о том, чтобы Арн научился плавать и нырять.
У брата Гильберта он стал теперь не только учеником, но и работником. В кузнице ему поручали все более тяжелую работу, и его руки крепли почти столь же быстро, как увеличивался его рост. Он мог выполнять обычные кузнечные работы и был способен выковать хорошие вещи на продажу; только в том, что касалось ковки мечей, он еще сильно отставал от брата Гильберта.
Две кобылы, Хадия и Айша, принесли по три жеребенка каждая, а Шамсин превратился в столь же сильного жеребца, как и Назир. Ухаживать за конями из Святой Земли также входило в обязанности Арна, он должен был объезжать новых жеребят и смотреть за тем, чтобы Назир и Шамсин стояли каждый в своем загоне и не скрещивались с северными кобылами.
Однако надежды брата Гильберта на то, что кони из Святой Земли принесут много серебра, пока оправдывались слабо. Датские стурманы, приезжавшие в монастырь для того, чтобы купить себе новые мечи и травы для своих женщин, рассматривали чужеземных лошадей с подозрением. Они считали, что эти животные слишком тощие и слабые. Сперва брату Гильберту трудно было воспринимать подобные заявления всерьез — он думал, что с ним просто шутят. Когда же он понял, что варвары говорят серьезно — те даже иногда с гордостью подводили к нему своих собственных коней, чтобы показать, как должны выглядеть настоящие лошади, — он очень огорчился.
Наконец по случайному стечению обстоятельств брат Гильберт придумал один трюк, который прекрасно срабатывал, но заставлял его мучиться угрызениями совести. Когда один из этих данов привел свою толстую и упрямую северную лошадь и среди прочих ее достоинств по сравнению с «тощими» назвал резвость, брата Гильберта тут же осенила гениальная идея. Он предложил доблестному датскому рыцарю скакать наперегонки к морю и обратно, сказав, что на одном из новых коней поедет всего лишь маленький мальчик из монастыря. И если рыцарь придет первым, ему не нужно будет платить за только что купленный меч; разумеется, для светского человека было бы большим искушением поставить какое-нибудь условие: например, в случае проигрыша датский рыцарь обязуется что-либо купить, скажем лошадь. Но игра на деньги является тяжким грехом. Только что заключенное пари не было азартной игрой, поскольку его результат был предрешен.
Притворяться, что это не так, разумеется, тоже грешно, однако в меньшей степени, чем играть на деньги, и брат Гильберт сам наложил на себя наказание на предстоящей неделе.
Арн, вытаращив глаза от удивления, узнал, что ему нужно будет на самом Шамсине скакать наперегонки с жирным стариком на кляче, которая выглядела под стать своему хозяину. Арн с трудом верил своим ушам, но повиновался. Когда два участника состязания уже были у монастырской ограды, Арн, волнуясь, спросил у брата Гильберта по-латыни, хотя они всегда разговаривали между собой по-французски, должен ли он скакать в полную силу, или же ему следует ехать тихо, чтобы похожая на колбасу лошадь могла за ним поспевать. Странно, но брат Гильберт строго приказал ему скакать в полную силу.
Арн вернулся к монастырю тогда, когда датский рыцарь как раз успел проехать половину назначенного пути и разворачивался на берегу.
После этого некоторые стурманы из Рингстеда, которые забавлялись тем, что скакали наперегонки и заключали пари на деньги, обнаружили, что у худых кляч из Витскеля есть по крайней мере одно полезное качество. Слухи об этом распространились до Роскилле, и вскоре лошади из Школы Жизни начали приносить много денег.
Упражнения, которые брат Гильберт отрабатывал теперь с Арном, касались уже не равновесия и скорости, а гораздо более мелких деталей. Они занимались примерно по часу в день в одном из загонов для жеребцов, заставляя коней скакать вокруг особым образом, пятиться назад, вставать на дыбы и поворачиваться в воздухе, двигаться из стороны в сторону и вперед или назад одновременно; они учили лошадей, какие сигналы означают удар передними копытами и одновременный прыжок вперед или удар задними ногами и последующий скачок в сторону. Эти занятия нравились Арну, когда все шло как задумано, но иногда ему было скучно. По крайней мере, во время обязательных упражнений. Свободные упражнения, когда можно было тренироваться с деревянными мечами или копьями, были гораздо более увлекательными.
Пешие упражнения стали значительно сложнее и касались в основном ударов и парирования мечом; Арн уже давно использовал настоящий стальной меч. Поскольку брат Гильберт очень редко хвалил Арна и чаще ругал его и, кроме того, Арн никогда не видел другого человека с мечом в руке, кроме брата Гильберта, юноша был свято убежден в том, что он никуда не годный воин. Но Арн не сдавался и продолжал трудиться на благо Господа и в этой области. Ведь отчаяние — тяжкий грех.
Совершенно иначе обстояло дело на берегу моря, у брата Ги. Ему пришлось оставить свою мечту — приучить данов вокруг Лимфиорда есть мидии. Разведение мидий сильно сократилось по сравнению с первоначальными масштабами и было направлено только на то, чтобы удовлетворить потребности провансальских поваров в Школе Жизни.
Задачей брата Ги было не увеличение доходов Школы Жизни, а распространение благ цивилизации, и он должен был делать это, подавая хороший пример. Цель его работы была примерно той же, что и у братьев, занимавшихся сельским хозяйством, — не продавать, а в первую очередь учить. Но с мидиями он потерпел крупное поражение, пытаясь распространить знание об их пользе.
Однако в том, что касалось рыболовных снастей и строительства лодок, дело шло значительно лучше. Когда брат Ги увидел, как выглядят остроги жителей Лимфиорда, какие у них прямые наконечники, он отправился к брату Гильберту и заказал ему несколько острог с крючками на концах, которые потом раздарил. Обнаружив, что местные жители ловят рыбу в фиорде только неподвижными снастями, он начал делать переносные сети и донки. Различие между его сетями и сетями жителей Лимфиорда заключалось прежде всего в подвижности, достигаемой за счет большего размера петель и более тонкого материала.
Всего лишь за год Арн овладел искусством вязать сети, и, по словам брата Ги, их можно было принять за сети, сделанные настоящим бретонцем. Для Арна эта работа была нетрудной, но однообразной.
Вскоре все шло примерно так, как наметил брат Ги. Жители Лимфиорда стали приходить из близлежащих селений, чтобы с любопытством, а сначала и с некоторой долей недоверия посмотреть, как можно использовать подвижные снасти, а брат Ги, разумеется, в духе христианского учения был готов поделиться своими познаниями, используя Арна в качестве переводчика.
Брат Ги то и дело оставлял Арна одного у лодочного сарая, когда сам отправлялся с датскими рыбаками в море, чтобы, например, показать им, как расставлять снасти с движущейся лодки. Учиться вязать новые сети приходили только женщины, как молодые, так и старые, поскольку это занятие считалось в окрестностях Лимфиорда женским уделом.
И получилось так, что Арн, чей опыт общения с женщинами ограничивался видениями во время вечерних молитв, когда он молился за упокой души матери, теперь каждый день оказывался в женском окружении. Сперва все они, и молодые и старые, смеялись над длинным юношей с сильными руками, который, краснея и заикаясь, все время смотрел в землю, показывая им свою бритую макушку, а не голубые глаза.
В теории Арн знал, как должен вести себя учитель, поскольку у него самого было много учителей. Но то, что, как ему казалось, он знает о науке преподавания, совсем не соответствовало тому, что ему приходилось испытывать теперь, когда его ученицы не проявляли должного послушания и почтения. Они шутили и смеялись, а пожилые женщины даже могли иногда нескромно погладить его по голове.
Но он только стискивал зубы, напоминая себе, что у него — задание, которое следует исполнять со всей ответственностью. Через некоторое время он решился иногда поднимать глаза, и взгляд его неизбежно останавливался на их грудях под легкими летними сорочками, на их шаловливых улыбках и любопытных глазах.
Ее звали Биргитга, и у нее были густые медно-рыжие волосы, заплетенные в косу. Ей было столько же лет, сколько и Арну, и она часто просила, чтобы он заново показал ей то, что, как он знал, она уже умеет. Когда он садился рядом с ней, то чувствовал тепло, идущее от ее бедер, и, когда она притворялась неловкой, он брал ее руки в свои, чтобы показать, как нужно вязать и плести.
Арн не понимал, что стал теперь грешником, и потому то, что происходило, лишь через некоторое время стало известно отцу Генриху. Но тогда было уже слишком поздно.
Биргитга была самым красивым существом, виденным Арном в жизни, за исключением, может быть, Шамсина. Она снилась ему по ночам, и он просыпался, запятнанный семенем. Он стал мечтать о ней днем, во время работы. Когда брат Гильберт однажды дал ему пощечину за то, что он не успел правильно выполнить упражнение, он даже не понял, что произошло.
Как-то Биргитга попросила его принести из монастыря какую-нибудь траву, пахнущую, как мечта, и он предположил, что речь идет либо о лимонной мяте, либо о лаванде. Короткий вопрос, украдкой заданный брату Люсьену, быстро определил выбор: сам не понимая, какой огонь он разжигает, брат Люсьен рассеянно пробормотал, что все женщины словно помешаны на лаванде.
Сперва Арн лишь иногда, тайком, брал с собой несколько веточек. Однажды, когда никого не оказалось поблизости, она быстро поцеловала его в лоб, и он полностью потерял разум. На следующий день Арн прихватил уже целую охапку лаванды, с которой Биргитга тут же убежала домой, счастливо щебеча. Он смотрел вслед ее быстрым босым ногам, из-под которых летел песок.
Вот в таком виде, тоскующим, с отсутствующим взглядом и открытым ртом, и увидел своего юного ученика брат Ги. Мечтам был положен конец.
Ибо одновременно с этим брат Люсьен, к своему глубокому замешательству, обнаружил необъяснимые потери в запасах лаванды.
Арна наказали, посадив на две недели на хлеб и воду, причем первую неделю он должен был провести в одиночестве, чтобы осознать свой грех и молиться. Поскольку у него не было собственной кельи и он спал вместе с другими послушниками, его поместили в свободную келью в той закрытой части монастыря, где жили братья. С собой ему разрешили взять только Священное Писание, самый старый и зачитанный экземпляр, и ничего более.
Один из своих больших грехов он мог понять, а второй — нет. Сколько бы ни пытался, сколько бы ни молил Святую Деву о прощении.
Он украл лаванду, это было конкретно и понятно. Лаванда была весьма популярным товаром за пределами монастыря, и брат Люсьен с выгодой ее продавал. Арн просто ошибся в отношении того, что было gratia, то есть бесплатно — как обучение искусству вязать сети, — и того, что приносило доходы — как мечи брата Гильберта или растения брата Люсьена, хотя некоторые растения тоже были бесплатными, например ромашка.
Отец Генрих принял это во внимание. Хотя кража оставалась кражей, то есть неслыханным нарушением устава монастыря, она произошла по юношескому недомыслию. Отец Генрих также тщательно изучил мнение брата Ги о том, что случилось. Все закончилось выговором в адрес брата Ги, поскольку он очень несерьезно отнесся к заблуждениям Арна и стал путано объяснять, что если бы отец Генрих сам видел девушку, то все случившееся не показалось бы ему столь невероятным. Этого брату Ги не следовало говорить, в чем он вскоре и убедился.
Второй и более тяжкий грех Арна заключался в том, что он почувствовал искушение. Если бы он был братом, принятым в орден, то в качестве наказания ему пришлось бы провести полгода на хлебе и воде и работать, убирая кухонные отбросы и нечистоты.
Насколько легко было Арну в одиночестве осознать свой грех, заключавшийся в краже лаванды, — грех, в котором он без труда мог бы искренне раскаяться, — столь же тяжело ему было понять, почему мечтать и тосковать о Биргитте — грех более серьезный, чем кража. От этого невозможно удержаться. Не помогали ни власяница, ни ночной холод в келье, ни жесткое деревянное ложе без овечьей шкуры или покрывала. Лежа без сна, он видел ее перед собой. Если ему удавалось уснуть, ему грезилось ее веснушчатое лицо с карими глазами или ее босые ноги, бегущие быстро, словно маленькая козочка по песку; кроме всего прочего, когда он засыпал, его тело вело себя самым постыдным образом. Утром, когда кто-либо из братьев, не говоря ни слова, ставил в его келью ведро с ледяной водой, он был вынужден прежде всего окунать туда свой стыд.
И когда ему нужно было посвятить себя чтению Священного Писания, словно сам дьявол открывал перед ним места, которые ему не следовало читать. Он настолько хорошо ориентировался в Библии, что пытался открывать страницы наугад, с закрытыми глазами. И все равно натыкался на нечто подобное:
Ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она — пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. [1]Как ни пытался Арн использовать свои познания в чтении и толковании слова Божия, он не мог отождествить любовь с грехом. Как может быть грехом эта сила, о которой сам Бог Отец говорит как о благословении, которая настолько сильна, что ее нельзя утопить в океане, и которую ни один человек, сколь бы он ни был богат, не в состоянии купить за деньги, сила, которую невозможно преодолеть, как саму смерть?
Когда началась вторая неделя наказания на хлебе и воде и Арну было позволено говорить, к нему пришел отец Генрих, чтобы попытаться объяснить распаленному юноше, что же такое любовь. Разве не описал это кристально ясно сам святой Бернард?
Человек начинает с того, что любит самого себя. Следующий шаг заключается в том, что человек учится любить Бога, однако по-прежнему ради себя, а не ради Бога. Затем человек учится истинной любви к Богу, но уже не ради себя, а во имя Бога. Наконец, человек учится любить человека, но только во славу Господа.
В этом процессе развития cupiditas, или влечение, лежащее в основе человеческих желаний, обуздывается и переходит в caritas, все низменные желания исчезают, и любовь становится чистой. Все это просто, не правда ли?
Арн неохотно согласился — он, как и почти все остальные в Школе Жизни, был хорошо знаком с текстами Бернарда из Клерво. Но насколько понимал Арн, должны существовать два вида любви. Он ведь вправду любил отца Генриха, брата Гильберта, брата Люсьена, брата Ги, брата Людвига и других. Он мог без колебаний взглянуть своими голубыми глазами в карие глаза отца Генриха, и он знал, что отец Генрих может заглянуть ему в душу.
Но это не может быть всей правдой. И внезапно, не в силах остановиться, он процитировал большой отрывок из Книги Песни Песней.
Так что же здесь имел в виду Бог? И о чем говорил Овидий в текстах, которые Арн нечаянно прочитал еще будучи маленьким? Разве в некоторых отношениях не напоминали слова Овидия слово Божье?
После своей вспышки Арн устыдился и опустил голову. Никогда раньше он не вступал в столь непримиримый спор с отцом Генрихом и потому ожидал, что сейчас справедливо последует еще одно двухнедельное наказание на хлебе и воде. Он ведь показал себя пропащим грешником.
Но реакция отца Генриха была совершенно иной, казалось, он скорее обрадовался тому, что услышал, хотя, разумеется, не мог разделить точку зрения Арна.
— Твоя воля сильна, твой разум по-прежнему свободен и иногда необуздан, как некоторые из тех лошадей, которых ты объезжаешь, уж поверь мне, — задумчиво сказал отец Генрих. — Это хорошо, потому что больше всего на свете я боялся, что нарушу твою свободную волю и ты не поймешь волю Господа в тот день, когда Он призовет тебя. Это во-первых. А во-вторых, обратимся к тому, в чем ты ошибаешься.
Объяснение отца Генриха было очень спокойным. Истинно то, что Бог вселил в человека libido, которое не является постыдным и о котором говорит, например, Песнь Песней. Божественный замысел заключается, вероятно, в том, что люди должны заполнять землю, и не случайно действия, связанные с этой обязанностью, приятны. И в границах благословленного Богом супружеского союза, заключенного с целью зачать детей, это влечение является богоугодным, а вовсе не грехом.
Арн тут же сделал нелепый вывод, что мужчина или женщина должны ждать до тех пор, пока не найдут того, кого они полюбят, а после этого их либидо должно благословиться супружеством. Отца Генриха очень развеселила эта причудливая мысль.
Но Арн все равно не сдавался, поощряемый неожиданно хорошим расположением духа отца Генриха. Ибо, аргументировал Арн дальше, если любовь сама по себе, то есть такая любовь, о которой говорится в Песни Песней, является не злом, а, наоборот, при определенных условиях богоугодным делом, почему она запрещена служителям Господа? Короче говоря, как может любовь быть тяжким грехом, заслуживающим воды, хлеба и власяницы, если ее зарождение в человеке одновременно является благословением?
— Н-да, — сказал отец Генрих, очевидно пораженный постановкой вопроса. — Прежде всего, разумеется, необходимо различать высший и низший миры. Следуя Платону, мы принадлежим к миру высшему, это теоретическая предпосылка, но мне кажется, что тебе нужно больше подробностей. Представь себе все зеленые луга вокруг Школы Жизни, подумай обо всех травах и плодах брата Люсьена и о знании, которое он доносит до ближних наших, подумай об искусстве брата Гильберта ковать мечи и разводить коней или о рыбном хозяйстве брата Ги. Обрати внимание, что я не использую метафоры. Ты представил себе все это? Тогда что это означает?
— Мы делаем добро ближнему своему. Как Господь всегда является нашим пастырем, так и мы, по крайней мере иногда, можем быть пастырями для людей. Мы даруем им лучшую жизнь через наши знания и наш труд. Ты это имеешь в виду, святой отец?
— Да, сын мой, именно это я и имею в виду. Мы — словно светоч Божий среди тьмы, кстати, кто это сказал?
— Святой Бернард, разумеется.
— Да, разумеется. Мы испытываем неизвестность, мы укрощаем природу, мы новым способом закаляем сталь и находим панацею от болезней, мы делаем так, что хлеба хватает для многих. Это то, что мы делаем чисто практически, а кроме этого, так же, как мы сеем пшеницу, мы еще распространяем знание о слове Божьем и о том, как его следует понимать. Ты пока со мной согласен?
— Да, конечно, но как можно, — начал Арн, переполняемый чувством противоречия. — Святой отец, но что, если я снова задам тебе совершенно конкретный вопрос? Прости меня за мою дерзость, я понимаю все, что ты сказал о наших трудах праведных. Но почему тогда братья ордена никогда не могут наслаждаться радостями любви? Если любовь — благое дело, то почему именно мы должны от нее воздерживаться?
— Это можно объяснить на двух уровнях, — сказал отец Генрих, которого, казалось, по-прежнему забавляют размышления ученика. — Наше высокое призвание, наш труд в качестве наиболее усердных служителей Бога на земле имеет свою цену. И цена эта такова, что мы должны посвящать служению Господу всю нашу душу и тело. Иначе мы никогда не смогли бы создать ничего надежного. Только представь себе, что в каждом углу будут жены и дети братьев! На что это будет похоже? Половина нашего времени будет уходить не на то, для чего мы предназначены. Мы начали бы заботиться о своем имуществе, наши дети получали бы после нас наследство, подумай только! Таким образом, наше обещание жить в бедности выполняет ту же функцию, что и обет безбрачия. Мы ничем не владеем, а то, что мы сделали, после нас унаследует церковь.
Арн молчал, погруженный в раздумья. Он видел логику в объяснении отца Генриха, и он был благодарен ему за то, что тот объяснял все на практических примерах, не углубляясь в теории Платона и святого Бернарда о человеческих душах. Но юноша все равно не был удовлетворен, у него сохранялось чувство, что недостает какого-то логического звена, например, можно задаться вопросом, почему столь ужасно пролитие семени. Может, это своего рода духовное обжорство? Или то, что отвлекает мысли от Бога? Краснея, он признал, что, занимаясь этим, невозможно одновременно думать о Боге.
Когда отцу Генриху показалось, что Арн понял и по крайней мере частично принял простое объяснение, которое было ему дано, он, заметно оживившись, решил, что до конца недели юноша должен искупать свой грех на кухне, у провансальских поваров, при этом оставаться по-прежнему на хлебе и воде, что будет для него суровым испытанием, но послужит укреплению его духовных сил.
* * *
На кухне работа кипела дни напролет. Братья, работавшие в поле, на скотных дворах, в кузницах, столярных мастерских, прядильнях, те, кто подковывал лошадей и обжигал кирпич, разводил овец или пчел, те, кто трудился в саду или огороде, — все приходили домой на вечернюю молитву, отдыхали от работы ночью и, кроме того, располагали временем для чтения. Однако на кухне работа затихала только на два часа в сутки — после всенощной, когда гасли огни, вокруг царила чистота и наступала тишина. Но задолго до рассвета все начиналось снова, прежде всего с выпечки хлеба. После этого кухня наполнялась братьями и послушниками. Самыми напряженными были часы перед дневной трапезой, когда одновременно и в спешке работали десять монахов и послушников. Каждый день нужно было накормить от пятидесяти до шестидесяти ртов, в зависимости от того, сколько братьев в данный момент находилось в отлучке и сколько было в монастыре гостей. В кухне безраздельно господствовал брат Ругьеро из Нима, которому помогали два его собственных брата Каталан и Луис; они еще не стали членами ордена, — возможно, потому, что у них никогда не оставалось достаточно времени для занятий.
В тот день, когда на кухню пришел помогать Арн, готовили обед из баранины. Арну пришлось прежде всего отправиться к пастухам, забрать двух ягнят и привести их на скотобойню, которая находилась рядом с кухней. Это вовсе не означало, что еду будут готовить именно из этих животных. Два ягненка, заколотые десять дней назад, уже достаточно провисели и были готовы к употреблению, и на их место в холодном хранилище рядом с большой кухней нужно было повесить двух только что заколотых ягнят, которых, в свою очередь, можно подавать на стол через десять дней. Только варвары едят мясо, которое не отвиселось.
Арну не нравилось вести двух беспомощных ягнят на бойню. Он накинул им на шеи кожаный ремень и тихонько тянул за собой, отпуская, когда они останавливались, чтобы сорвать травинку, которая казалась им особенно вкусной. Ему пришли на ум соответствия из Священного Писания, изображающего именно такие отношения между добрым пастырем и его стадом; правда, сейчас его трудно было назвать добрым пастухом.
Когда он привел животных на скотобойню, хмурый послушник тотчас же подвесил их за задние ноги на большие крюки и перерезал им глотки. Пока из животных уходила жизнь, а белки их глаз в страхе закатывались, послушник взял камышовую метлу и открыл деревянный люк, чтобы смыть кровь с кирпичного пола в подземную трубу. Когда это было сделано, к нему присоединился еще один послушник, и, орудуя ножами, они быстро разделали туши ягнят.
Арн тут же понес две еще теплые шкуры в дубильню, а внутренности — на очистку, а потом отправился в погреб со льдом, чтобы взять новые куски для хранилища, в котором пронумерованные тушки уже висели самыми последними в длинном ряду телят, поросят, коров, уток и гусей. Куски льда нужно было положить у желоба в середине хранилища, чтобы вода от таяния могла стекать по специальному сливу. Внутри было темно и холодно, Арн дрожал, обрызгивая пористые кирпичные стены водой. Помещение было высоким, а на самом верху находились маленькие отверстия, пропускавшие свет: через них улетучивались и все нечистые испарения от мяса.
Когда он вошел в большую кухню, отвисевшиеся бараньи туши были уже разрезаны и помещены в чан с оливковым маслом, чесноком, мятой и разными пряностями из Прованса, а огонь в больших печах начинал разгораться. Мясо будет готово, когда оно поджарится и достаточно пропитается маслом и пряностями. Лопатки и остатки тушек разрезали на кусочки и положили в большие железные котлы. На ужин будет бараний суп с корнеплодами и капустой, а на десерт — немного черешни с медом и жареными орехами. К бараньему жаркому подадут белый хлеб, оливковое масло и свежий козий сыр.
В Школе Жизни не пили вино каждый день, но это было связано не с уставом, а со сложностями в доставке вина из Бургундии в Скандинавию. Только брат Ругьеро обладал правом решать, когда к трапезе будет подаваться вино, а когда вода. Теперь он счел, что к запеченной баранине лучше всего подойдет вино, и Арн был отправлен в винные погреба за бочонком. Ему строго наказали брать из дальнего конца погреба, где стояло самое старое вино — его всегда пили именно в таком порядке, — и напомнили, как именно помечен нужный бочонок. Однако Арн все равно вернулся не с тем бочонком, и ему была прочитана лекция о том, что принесенное им вино может сгодиться для причастия, но не для христианской трапезы — грубая шутка, которая смутила юношу. Арну пришлось снова отправиться в погреб.
Когда ужин был подан и все отправились есть, Арн вернулся в кухню и зачерпнул ковшик воды из чистого питьевого источника, который проходил прямо через кухню, не смешиваясь с потоком грязной воды из лаватория. Он попил холодной воды, наслаждаясь ею, словно даром Божьим. Затем прежде чем съесть кусок белого хлеба, прочитал особенно длинную, предшествующую еде, молитву.
Он не чувствовал ни голода, ни зависти к братьям. Это всего лишь обычная трапеза, похожая на другие в Школе Жизни. Закончив есть, он стал убираться, присматривая за большими котлами, в которых готовилась пища для следующей трапезы.
После всенощной нужно было тщательно вымыть всю кухню и убрать отбросы — либо слить их в канаву для смыва нечистот, по которой они попадали в ручей, а потом в фиорд, либо выбросить их на большую кучу компоста в крапиве за кухней. Брат Люсьен очень тщательно следил за тем, как собирается компост, потому что в его работе было важно постоянно удобрять землю.
Когда Арн заканчивал эту работу, у него оставалось на отдых всего два часа до начала хлебопечения. Но он так долго работал в жару кухни, что никак не мог заснуть.
Стояло прохладное лето, в воздухе уже ощущались первые запахи осени. Ночь была тихой и звездной, на небе сиял полумесяц.
Арн сидел на каменной лестнице, ведущей в большую кухню, и смотрел на звезды. Его мысли бродили между тяжелой дневной работой, сильными запахами в кухне и утренним разговором с отцом Генрихом. Он чувствовал — что-то важное о любви по-прежнему остается для него непонятным.
Потом он пошел к загону и позвал Шамсина. Жеребец громко фыркнул, услышав условный сигнал, и тут же подбежал к Арну мягкой рысью, высоко поднимая ноги. Шамсин все еще оставался молодым жеребцом, но он заметно подрос, и его масть изменилась с детски-молочной на переливчатую серо-белую. В свете луны он казался отлитым из серебра.
Сам не понимая почему, Арн обвил руками сильную шею жеребца, стал обнимать и гладить его и, наконец, заплакал. Грудь его переполняли чувства, непонятные ему самому. — Я люблю тебя, Шамсин, я так люблю тебя, — прошептал он, и слезы его струились ручьем. Он понял, что думает о чем-то греховном и запретном, чего сам не мог объяснить.
Впервые за всю жизнь он решил, что есть нечто, в чем он никогда не сможет исповедаться.
Глава VI
Monasterio Beatae Mariae de Varnhemio — так теперь звучало по-латыни полное название монастыря в Варнхеме. Отец Генрих, снова сидевший в своем старом скриптории, почувствовал дрожь радости, когда он красиво вывел эти слова. Монастырь должен быть по справедливости посвящен Святой Деве, ибо благодаря Ей, ниспославшей видение госпоже Сигрид во время освящения собора в Скаре, и появился этот монастырь. И теперь здесь наконец-то воцарится порядок.
У отца Генриха действительно было много причин для радости, которые он и пытался отразить в своем длинном послании. Цистерцианцы победили в опасной и сложной игре против самого императора германского, Фридриха Барбароссы. В этом принял посильное участие и он, отец Генрих, и два его добрых друга — архиепископ Лундский Эскиль и отец Стефан из Альвастры. Никто не мог и мечтать об этом двадцать лет назад, когда он сам и Стефан проделали длинный, мрачный и холодный путь до Скандинавии.
Император Фридрих Барбаросса сместил Папу Александра III, посадив на его место своего кандидата, более сговорчивого. После этого христианскому миру пришлось выбирать между истинным Папой, Александром, и узурпатором в Риме. За исход этой борьбы нельзя было ручаться.
Многие короли боялись германского императора и хотели сохранить хорошие отношения с ним, среди них были, к сожалению, и конунг Вальдемар Датский, и некоторые из его самых трусливых епископов. Но архиепископ Эскиль из Лунда, друг цистерцианцев, выступил против своего короля и поддержал Папу Александра III. Вскоре Эскиль был вынужден покинуть страну.
На самом деле суть борьбы оставалась прежней: получат ли короли и императоры власть над церковью, или же она будет независима от светской власти.
Цистерцианцы предприняли ответный ход в Свеаланде и Геталанде. Конунга Карла сына Сверкера, который знал об императоре Фридрихе Барбароссе не так много, чтобы бояться его, убедили в необходимости создания нового архиепископства именно над Свеаландом и двумя гетскими областями. Не имело большого значения то, в каком именно городе будет архиепископский престол, только бы он был учрежден. Когда-то конунг Сверкер поступил разумно, отказавшись от своего собственного города Линчепинга в пользу свейского города Восточный Арос. Пусть будет так, решили цистерцианцы, нужно только ковать железо, пока горячо.
Между тем отец Генрих приехал на собор в Сансе, где Эскиль, в присутствии самого Папы, помазал Стефана на архиепископство в Свеаланде и двух гетских областях. Поскольку архиепископство Норвежское также было верно истинному Папе, расстановка сил была теперь не в пользу Фридриха Барбароссы к его кандидата. Стефан уже принял сан в Восточном Аросе, и Эскиль мог с триумфом вернуться в Данию. Бой был выигран.
Член ордена цистерцианцев на третьем по счету архиепископском престоле в Скандинавии — это не шутки. Варнхем был облагодетельствован ранее конунгом Эриком сыном Эдварда, но теперь его преемник Карл сын Сверкера пообещал монастырю новые земли и привилегии и даже пожертвовал часть собственных владений для основания женского цистерцианского монастыря во Врете, в Восточном Геталанде.
Из того, что только что случилось в Свеаланде, стало ясно, что теперь в Скандинавии уже не может произойти такого конфликта между церковью и королевской властью, какой вспыхнул в Варнхеме.
Одна благословенная Богом женщина по имени Дотер подарила цистерцианцам свое большое владение Вибю под Сигтуной, подобно тому, как мать Арна принесла в дар монахам Варнхем. И точно так же, как и в случае с Варнхемом, появились наследники и потребовали объявить дар незаконным. На этот раз речь шла о сыне Дотер. Звали его Гере.
Но Гере не пришлось рассчитывать на поддержку со стороны нового архиепископа Стефана. Наоборот, тому быстро удалось заставить конунга Карла сына Сверкера признать дар и записать это в грамоте с королевской печатью. Гере не был обойден, он получил всю остальную часть наследства своей матери, но все поняли, что дар цистерцианцам больше не может оспариваться никем, и это было самым важным.
Положение монастыря в Варнхеме упрочилось, и пришло время снова браться за работу и восстанавливать его первоначальный вид. Ибо Варнхем влачил жалкое существование, в нем жили всего лишь двенадцать братьев, основной задачей которых было не дать монастырю погибнуть окончательно.
За прошедшие годы Школа Жизни в Дании во всем обогнала Варнхем. И теперь, когда отец Генрих взялся возглавлять работы по восстановлению, было понятно, что первые свежие силы нужно черпать именно в Школе Жизни, о чем священник дал подробные наставления, закончив описание справедливой победы служителей Божьих в саду Его над светским властителем Барбароссой.
Среди призванных в Варнхем были и брат Гильберт с Арном. За десять лет работы в Школе Жизни брат Гильберт прекрасно наладил все кузнечные работы. Ему помогали несколько способных послушников, которых он сам выучил. В Варнхеме дело обстояло иначе, здесь кузницы находились в запустении. Поэтому было очевидно, что брат Гильберт должен вернуться в Варнхем.
Однако вопрос о молодом послушнике Арне был более сложным. Свои практические навыки Арн в основном получил от брата Гильберта, поэтому если того призывали в Варнхем, то Арну было бы логичнее остаться в Школе Жизни.
Но у отца Генриха в отношении Арна был план, который он пока не хотел раскрывать, уж во всяком случае, не в письме, которое окажется в архиве цистерцианцев.
Он частично замаскировал свои намерения, написав, что нескольких лошадей из Школы Жизни необходимо привести в Варнхем, чтобы посмотреть, не заинтересуют ли идеи брата Гильберта варваров-гетов больше, чем варваров-данов. Он написал, что не хочет вдаваться в детали, а оставляет решение всех практических вопросов брату Гильберту. Закончив этот сложный пассаж, сложный потому, что он не мог написать всей правды о своих намерениях, но и не хотел, чтобы там было хоть одно слово лжи, он перешел к вопросу о садоводстве. Лучшие ученики брата Люсьена должны были прибыть в Варнхем, чтобы сразу же стать полноправными членами ордена. На брата Люсьена налагалась ответственность за то, чтобы разные травы в необходимом количестве, а также черенки, семена и все остальное было хорошо упаковано и отправлено из Дании в Варнхем.
Завершив свое длинное письмо, отец Генрих некоторое время занимался тем, что исправлял буквы, казавшиеся ему недостаточно красивыми; он сосредоточился на этой работе и довольно долго не думал ни о чем ином. Покончив с этим и отложив письменные принадлежности, он глубоко вздохнул, чувствуя радость и облегчение. Он обвел взглядом свой старый любимый скрипторий. По какой-то причине именно это помещение казалось ему его духовным домом, местом, где он должен был осуществлять наиболее важную работу. Сейчас книжные полки зияли пустотами, но это был всего лишь вопрос времени. Здесь, в этой комнате он закончит свой жизненный путь и в назначенное время будет похоронен под каменным полом церкви, где уже покоилась земная основательница Варнхема — госпожа Сигрид.
Отец Генрих откинулся назад в потертом кожаном кресле, глядя на растрескавшийся потолок; мысли его витали вокруг различных практических дел, но потом на него вдруг нахлынули воспоминания о триумфе в Санском соборе.
Само здание собора было верхом изящества, и людей, понимающих толк в зодчестве — таких, как брат Гильберт, — его красота поразила бы еще больше, чем отца Генриха. Оно было построено в совершенно новом стиле — с остроконечными сводами, которые устремлялись ввысь, так что каждая церковь в этом стиле должна была выглядеть так, словно она действительно устремлялась к Богу, покидая грешную землю. По мнению отца Генриха, архитектурные формы неразрывно связаны с верой. Прежде всего нужно достигнуть гармонии между формой и содержанием, особенно в освященном месте. Вычурные украшения — это разврат, отвлекающий мысли от высшего мира. Но здание, устремленное к Богу, строгость и чистота, выраженная в камне, — все это содержало в себе нечто совсем иное, Божественное. Может быть, следует выписать с родины чертежи и пригласить новых зодчих? Нет, в Варнхеме, в его теперешнем состоянии есть более неотложные практические дела. Заниматься красотой форм сейчас было бы грешно.
* * *
Для Арна не существовало такого места, которое он мог бы назвать своим. Им не был ни Варнхем, ни Школа Жизни у Лимфиорда. Арн чувствовал себя дома там, где были братья и, что самое важное, где были брат Гильберт и отец Генрих.
Самая большая сложность, связанная с отъездом из Школы Жизни, заключалась в разлуке с Шамсином; брат Гильберт решил, что коня нужно оставить на племя в Дании, и доказывал это Арну, рисуя на песке сложные фигуры, означающие, какие лошади появились от Шамсина и какие — от Назира и почему Назир и жеребенок от Шамсина и Лиши должны отправиться в Варнхем, а Шамсин — остаться в Школе Жизни. Арну нечего было возразить.
Молодой жеребец был серо-рыжего цвета, и после прощальной молитвы в Школе Жизни брат Гильберт сказал Арну, что его будут звать Шималь, что на тайном языке лошадей означает Север. Увидев печаль в глазах юноши, монах отвел его в сторону и объяснил, что скучать по своему коню не стыдно и не грешно. Те, кто говорят, что конь — это только вещь, у которой нет души и которая поэтому не заслуживает любви, слишком мало знают. Они как будто правы, но очень часто люди, и даже люди благочестивые, многого не понимают. Перед Богом, и в этом брат Гильберт поклялся, любить таких лошадей, как Шамсин, — настоящее благо.
Однако с другой стороны нужно помнить о том, что лошади, как и ближние наши, как братья и родичи, рано или поздно умирают. Уже по той простой причине, что лошади живут меньше, чем люди, Арну придется скорбеть не по одному коню. Это как со старшими родственниками, и скорбь о них не является греховной. Печаль — часть жизни, данной нам Богом.
Арн немного утешился, но лишь потому, что понял: греха в его грустных думах о расставании с Шамсином нет.
Хотя теперь Арн был взрослым, он немного всплакнул, когда обоз выезжал из Школы Жизни. Никто, кроме брата Гильберта, не видел его слез. И никто, кроме брата Гильберта, не смог бы понять, почему он плачет. Ибо у других монахов и послушников, как и у Арна, дом на земле был только в том месте, где были другие братья. А что знали они о конях из Святой Земли?
В канун праздника святого Варфоломея, когда в Западном Геталанде убирали урожай и закалывали коз, Арн увидел на горизонте шпиль Варнхемской церкви, сперва неясно, словно это была верхушка засохшего или разбитого молнией дерева в густой дубраве, а потом совершенно отчетливо.
В детских воспоминаниях Арна не сохранилось церкви, его тронуло не это, но он знал, что там, внутри, была похоронена его мать, та, к которой он каждый вечер обращался в своих молитвах. Казалось, она оставалась живой, а там покоились лишь ее останки; из тайников памяти всплыла неясная картина, как он ребенком стоял во время похорон среди множества чужих мужчин, которые тогда еще не были его любимыми братьями. Преисполнившись торжественности, он проехал через монастырские ворота, даже не подумав о том, узнает ли он это место, хотя он его узнал, или о том, насколько все вокруг разрушено. Поприветствовав отца Генриха, который вышел навстречу вновь прибывшим к воротам монастыря, он попросил прощения и поспешил к церкви, но прежде, чем подойти к алтарю, упал на колени при входе и перекрестился.
В церкви находились два послушника. Стоя на коленях, они обрабатывали каменную плиту на могиле его матери, которая раньше была помечена лишь крохотным, почти незаметным значком; теперь, когда цистерцианцы одержали великую победу над светской властью и Monasterio Beatae Mariae de Varnhemio стал безопасным местом как для братии, так и для погребенных здесь, отец Генрих решил, что могила Сигрид должна быть украшена. Он рассчитывал, что работа будет закончена к прибытию обоза из Школы Жизни. Однако погода необычайно благоприятствовала поездке, и братья прибыли раньше, чем планировалось.
Когда Арн застенчиво поздоровался с послушниками — сперва на латыни, которой они владели не очень хорошо, потом на французском, которого они не понимали вовсе, и, наконец, на северном языке, который оказался их родным, хотя речь их была более певучей, чем ее помнил Арн, — он опустился на колени и прочитал молитву. Арн был счастлив, что наконец-то вернулся сюда и благодарил Бога за это.
Читая надпись на могильной плите, ту, которая уже была высечена, и ту, которую только наметили, он почувствовал, словно его мать жива, и жива не только ее душа, но и она сама, ее плоть и кровь. Ему казалось, что он видит, как она лежит и улыбается ему. «Здесь, под камнем, вкушает вечный мир наша благословенная дарительница Сигрид, родившаяся в 1127 и умершая в 1155 году от Рождества Христова», — прочитал он. Ниже был набросан рисунок льва и чего-то еще, что было ему непонятно. Он видел перед собой руки матери, чувствовал ее запах и грезил, что слышит ее голос. Во время благодарственного молебна по случаю приезда Сигрид вспоминали с благодарностью снова и снова, и это вызвало в Арне чувства смутные и неопределенные, в которых он тут же решил исповедаться. Он испугался, что в него вселилось высокомерие.
* * *
В течение недель, предшествовавших визиту архиепископа Стефана и новому назначению отца Генриха приором Варнхема, брат Гильберт и Арн вместе с несколькими местными послушниками лихорадочно работали над тем, чтобы привести в порядок водостоки. Большой мельничный пруд застоялся, и его нужно было прочистить; канал, по которому вода подводилась к большим и маленьким колесам, был частично разрушен, мельничные колеса нуждались в починке. Вода была нужна везде: в лаватории и на кухне, в стеклодувных мастерских, на мельнице и в столярнях, поэтому те, кто занимался водоснабжением, освобождались от молитв и чтений в течение всего дня. Арн забирался в постель после всенощной и спал без сновидений до заутрени, а утром снова приступал к делу. Так продолжалось день за днем, и Арну казалось, этой работе не будет конца.
Зато, когда архиепископ и его свита въехали в ворота Варнхема, чистая вода снова струилась в лаватории и на кухне, комнаты для гостей были заново облицованы и вычищены, а в одной из кузниц уже слышались удары молота о наковальню.
После обряда посвящения архиепископ проповедовал братьям о победе добра над злом и о том, что орден цистерцианцев теперь настолько силен, что в этой части мира для него больше не существует внешней угрозы, а сохраняется лишь постоянная опасность, которая всегда есть в жизни каждого человека: грехи высокомерия, лени или безразличия могут навлечь на него кару Божью. И поэтому никто не должен успокаиваться, нужно продолжать трудиться на благо Господа столь же усердно, как и раньше.
После праздничной трапезы архиепископ Стефан и отец Генрих скрылись в галерее — в том месте, где они всегда раньше сидели вместе, рядом с садом, который находился теперь в запустении. Они долго говорили о том, что, очевидно, не предназначалось для ушей других братьев, и потому разговор велся столь тихо, что монахи, работавшие в саду, лишь изредка слышали то или иное слово, нечаянно громко вырывавшееся у кого-нибудь из досточтимых мужей, после чего собеседники снова переходили на пониженные тона.
Примерно через час они пришли к согласию и позвали к себе Арна, который работал в одной из кузниц, где вышел из строя механизм, раздувавший меха.
Арн пошел в лаваторий и вымылся, думая о том, что нужно бы выбрить макушку, чего он не делал в последние недели, так как был освобожден от всех обязанностей, кроме работ по налаживанию водостоков. Проведя рукой по голове, он почувствовал полудюймовую щетину. В таком виде, пожалуй, нельзя являться перед архиепископом. Но с другой стороны, он не мог задерживаться, ведь его уже ждали.
Слегка смущенный, Арн пришел в галерею, опустился на колени перед архиепископом, поцеловал его руку и попросил прощения за свой неряшливый вид. Отец Генрих быстро объяснил, что Арн относился к числу тех, кто в течение последних недель выполнял тяжелую и очень важную работу, но архиепископ только отмахнулся от подобной мелочи и пригласил Арна сесть, что было неслыханной милостью.
Арн опустился на скамью напротив двух досточтимых мужей, чувствуя себя не в своей тарелке. Он не мог понять, почему они хотят говорить именно с ним, молодым послушником. Не ясно было и то, что должно теперь с ним случиться. До сих пор Арну казалось, что жизнь его идет по накатанной колее и столь же определена, как движение звезд на небосклоне.
— Ты, возможно, помнишь меня, молодой человек? — дружески спросил архиепископ, но неожиданно по-французски, а не на латыни.
— Нет, Ваше Высокопреосвященство, я не могу честно сказать, что помню вас, — смущенно ответил Арн и уставился в землю.
— Когда мы встретились впервые, ты пытался побить меня, назвал старикашкой или кем-то еще и сказал, что не хочешь сидеть и читать скучные книги, но это ты, конечно, забыл? — продолжил архиепископ с притворной строгостью, которая была столь наигранна, что все другие люди на земле, кроме Арна, могли бы это заметить.
— Ваше Высокопреосвященство, я смиренно молю о прощении и могу объяснить это только тем, что был неразумным ребенком, — краснея от стыда, ответил Арн.
Но архиепископ и отец Генрих только рассмеялись.
— Ну-ну, мой юный друг, я просто пошутил, я приехал сюда вовсе не для того, чтобы отомстить за твой поступок. После всего того, что я услышал, мне остается только благодарить Бога, что тебе не пришло в голову поколотить меня сегодня. Нет, не нужно снова просить прощения! Лучше послушай. Мой дорогой старый друг Генрих и я очень долго размышляли о твоей судьбе, кстати, мы начали думать о ней еще тогда, когда тебя привезли сюда ребенком. Ты ведь знаешь, что тебя привело к нам чудо, сын мой?
— Я читал об этом, — тихо ответил Арн. — Но сам я ничего не помню о том, что случилось со мной в действительности.
— Но если Господь и святой Бернард подняли тебя из царства мертвых и привели к нам, какие нужно из этого сделать выводы? — спросил архиепископ с новой, менее шутливой интонацией, словно начиная теперь серьезный разговор.
— Когда я был ребенком и упал с высокой башни, Господь явил свою милость ко мне и, может быть, к моим отцу и матери за их горячие молитвы, — ответил Арн, по-прежнему не смея поднять глаз.
— Конечно, конечно, но это еще не все, — продолжал архиепископ Стефан с едва заметной ноткой нетерпения в голосе. — Но сразу же возникает вопрос — почему?
— Да, — сказал Арн, — но я никогда не мог найти на него ответ. Милость Божья простирается далеко за пределы человеческого разумения. Наверное, не только я не понимаю всего, что связано с Его милостью.
— Ах, теперь-то я узнаю маленького проказника, который пытался меня побить и назвал старикашкой. Прекрасно, молодой человек! Противоречь! Нет, я не иронизирую, мне нравится, что ты противоречишь. Это значит, что мы не превратили тебя в тепличное растение, у тебя сохранились воля и разум, и нам обоим кажется, что это чудесно, Генрих особенно расписывал мне это твое качество. Кстати, я давно не говорил по-французски, не будешь ли ты возражать, если мы перейдем на латынь?
— Нет, Ваше Высокопреосвященство.
— Хорошо. На самом деле я просто хотел отплатить тебе за нашу первую встречу, когда ты сер— дился на меня за то, что я не слишком хорошо говорю на языке скандинавов. Но моя шутка не удалась, поскольку твой французский великолепен. Кстати, как это получилось, ведь почти все тексты написаны на латыни?
— У нас было заведено так, что я должен говорить на латыни, когда дело касается духовных тем и чтения, на французском — во время примерно половины работ в монастыре и на языке скандинавов с теми послушниками, которые не владеют французским, — ответил Арн, в первый раз подняв глаза и прямо посмотрев на архиепископа. Он уже почти преодолел смущение.
— Прекрасный порядок, хорошо, что ты сохранил северный язык, тем лучше, если все закончится так, как я думаю, — задумчиво пробормотал архиепископ. — Но позволь теперь задать тебе конкретный вопрос, и я ожидаю искреннего ответа на него. Говорил ли с тобой Господь Бог? Прояснил ли Он тебе свои замыслы?
— Нет, Ваше Высокопреосвященство, Бог никогда не обращался ко мне, и я ничего не знаю о Его намерениях, — ответил Арн, снова погрузившись в смущение и уныние. Он словно стыдился того, что не получил наставлений от Бога, который сотворил чудо и вернул ему жизнь. Ему казалось, что из-за своей греховности он стал недостойным первоначального Божьего замысла, в чем бы он ни заключался.
Двое старших в молчании размышляли над ответом Арна. В течение долгого времени они ничего не говорили, но в конце концов обменялись выразительными взглядами и кивнули друг другу, а отец Генрих стал откашливаться, как обычно, прежде чем пуститься в долгое объяснение.
— Мой возлюбленный сын, выслушай меня и не пугайся, — начал он с заметным волнением. — Стефан, добрый друг мой, и я приняли решение, которое кажется нам единственно правильным. Мы столь же мало, как и ты, знаем о замыслах Господа в отношении тебя; единственное, что нам известно, — у тебя должно быть особое предназначение. Но может оказаться так, что Его призыв прозвучит еще не скоро. В таком случае наша задача заключается только в том, чтобы как можно лучше подготовить тебя к этому моменту, не правда ли?
— Да, разумеется, святой отец, — тихо ответил Арн. У него вдруг пересохло в горле.
— У тебя хорошее образование, а дела рук твоих радуют нас здесь, в стенах монастыря, — продолжал отец Генрих. — Но ты ничего не знаешь о жизни там, снаружи. Поэтому ты отправишься в мир, вернешься в усадьбу своего отца, в Арнес, который находится на расстоянии одного дня пути отсюда. Да, один день пути на скандинавской лошади, ты понимаешь, что я имею в виду, — на коне из Святой Земли это всего лишь полдня пути. В общем, это тебе мое повеление. Ты вернешься к тому, что когда-то было твоей жизнью.
— Я… я, конечно, подчиняюсь вашему повелению, — сказал Арн, хотя слова застревали у него в горле. Ему показалось, что на него обрушился страшный удар, словно его отлучают от церкви, изгоняют из высшего мира.
— Я вижу, ты не очень рад нашему повелению, — заметил архиепископ.
— Нет, Ваше Высокопреосвященство. Я пытался жить здесь, среди братьев и могу честно сказать, что я делал все, что мог, — ответил уничтоженный Арн.
— Ты цистерцианец, мой юный друг, — сказал архиепископ Стефан. — Помни об этом, ты всегда останешься одним из нас, ибо то, что сделано, уже нельзя изменить. Может быть, ты вернешься в монастырь, обнаружив, что жизнь в миру тебе не под— ходит, и станешь монахом, одним из нас, мы ведь ничего об этом не знаем. Но ты должен узнать, как живут люди за пределами монастыря, — и для этого ты должен оставить нас. Никакие книги, сколько бы ты их ни прочел, не дадут тебе это знание. Мы желаем тебе добра, Арн, и помни, что и Генрих, и я действительно любим тебя и будем за тебя молиться. Но ты должен узнать хоть что-то о другом мире, в этом все дело.
— Когда мне можно будет вернуться? Сколько времени я должен провести там? — спросил Арн, в котором снова затеплилась надежда, что он не отлучен от братьев навсегда, что все это — лишь временное испытание.
— Ты вернешься к нам, когда этого захочет Бог. Если Господь этого не захочет, Он поставит перед тобой другую задачу. Ты должен спрашивать Его в своих молитвах, мы здесь не властны, поскольку это касается только тебя и Бога, — сказал архиепископ и сделал движение, будто собираясь встать, показывая таким образом, что разговор окончен. Но тут он вспомнил, что должен сказать еще кое-что, и лицо его просветлело. — Да, еще одно, Арн. Находясь в миру, ты должен знать, среди твоих друзей есть и архиепископ, ты всегда можешь обратиться ко мне в трудную минуту, помни об этом!
С этими словами архиепископ Стефан поднялся и протянул руку Арну, который упал на колени и поцеловал ее, склонив голову в знак повиновения.
* * *
Когда Арн выехал из Варнхема, разум его словно помутился. Несмотря на множество наставлений и пожеланий от отца Генриха, он не мог преодолеть в себе чувство, что его подвергли наказанию, будто он оказался не достоин общества братьев.
Чтобы утешиться, он начал петь, и это вскоре помогло. Настроение Арна улучшилось, и он пел уже больше от радости, чем в утешение. Теперь он умел петь, как все остальные братья, немного лучше, чем одни, и похуже, чем другие. И сейчас пение радовало его впервые за многие годы, с тех пор как в церковном хоре однажды зазвучало его сопрано.
Когда его грусть сменилась радостью, столь же быстро и непредсказуемо, как меняется погода весной, его душу наполнило напряженное ожидание. Он ведь действительно ничего не знал о мире и едва помнил, как выглядит Арнес, который когда-то был его домом. В памяти Арна остались высокая каменная башня, усадьба, обнесенная стенами, возле которых он и другие дети играли в обруч и где отец показал ему, как обращаться с луком и стрелами, но восстановить ясную картину того, как они тогда жили, ему было трудно. Арну казалось, что жили все вместе, что было темно и горел огонь в большом очаге. И вот завтра он все увидит своими глазами. На хорошем коне он поспел бы домой уже к вечеру, но ему дали старую медлительную северную клячу, одну из тех, которые, по мнению брата Гильберта, не годились ни на племя, ни на что-либо другое. В Арнесе находился послушник Эрленд, учивший детей грамоте, и ему вполне можно будет отдать эту лошадь, когда он соберется ехать в Варнхем. Отец Генрих предполагал, что после возвращения Арна присутствие в Арнесе послушника Эрленда вряд ли будет необходимо.
Человек должен уметь примиряться со своей судьбой, ведь ее определяет Бог. Не помогут стенания о том, что ты хотел бы быть кем-то другим или оказаться в другом месте. Нужно пытаться извлечь полезный урок из любого дела — только так можно выполнить то, что предначертано Богом. Последним из братьев повторил это Арну перед отъездом брат Ругьеро, который также был призван из Школы Жизни в Варнхем, поскольку отец Генрих счел местную пищу весьма скверной.
Брат Ругьеро, украдкой уронив слезу при прощании, навьючил на Арна большую котомку с провизией, которой хватило бы на неделю или больше. Когда Арн стал возражать, брат Ругьеро быстро завязал его котомку, а потом буркнул, что не повредит иметь с собой немного гостинцев, когда едешь домой. Как и многие другие братья из Школы Жизни, Ругьеро думал, что Арн оказался среди них потому, что его родители были бедны и не могли прокормить лишний рот. Ведь дети чаще всего оказывались в монастыре именно по этой причине.
Через пару часов Арн увидел вдали Скару. Двуглавая башня высилась над скоплением деревянных домишек. Вскоре он почувствовал запах города, поскольку ехал против ветра. Пахло дымом, гнильем, отбросами и испражнениями животных, и все это вместе создавало такое зловоние, что путь в город можно было найти безошибочно, даже в кромешной тьме.
По мере приближения к Скаре в Арне все больше просыпался интерес к строительству, которое там велось, и он сделал небольшой крюк для того, чтобы посмотреть поближе. В городе строилась крепость.
Он придержал лошадь, все более поражаясь тому, что открылось его взору. Перед ним двигалось множество людей, большинство из них с усилием передвигали каменные блоки по катящимся бревнам. Работа шла очень медленно. Он нигде не видел подъемных механизмов, все делалось за счет ручного труда каких-то оборванцев, и трудились они под присмотром людей с оружием, настроенных отнюдь не дружелюбно. Создавалось впечатление, что никто из тех, кто надрывался на строительстве, не радуется своему труду.
Стены были не очень высокими и состояли в основном из земляных насыпей, до гребня которых можно было доехать верхом. Хорошая лошадь могла прыгнуть наверх одним скачком; по крайней мере, Шамсин справился бы с этим.
Арн мало знал о войне и оборонительных сооружениях, кроме того, что он прочитал, а читал он в основном о римской стратегии и тактике. Но ему показалось, что строящуюся здесь крепость будет трудно защищать, если осаждающие соорудят собственные деревянные башни и подкатят их к стенам. Хотя не исключено, что римские методы полностью устарели.
Кто-то из охранников обнаружил глазеющего Арна, подошел к нему и произнес грубые слова, которые Арн не до конца понял, но смысл которых, как ему показалось, заключался в том, что ему нельзя здесь оставаться. Он тут же попросил прощения и развернул свою медлительную лошадь по направлению к городу.
Скара также была окружена своего рода стенами, состоявшими из бревен, вязанок хвороста и набросанной земли. Рядом с местом, где можно было въехать в город, стояло несколько палаток, а возле них — люди, певшие чужие песни и игравшие на каком-то незнакомом инструменте. Подъехав поближе, Арн увидел, что в одной из палаток сидело много, мужчин. Оци пили пиво, и, видимо, занимались этим уже давно, поскольку некоторые из них, упав, спали беспробудным сном. К своему удивлению, он заметил также женщину: одежда ее была в беспорядке, и она, шатаясь, брела к палатке поменьше. Тут же совершенно спокойно стоял мужчина и справлял нужду.
Арн ничего не понимал в поведении своих ближних, и это ясно выразилось у него на лице, ибо трое маленьких мальчиков, заметивших его, стали показывать на него пальцами и смеяться, хотя Арн не понимал и причины их смеха. Однако ему нужно было миновать их, чтобы проехать через проем в стене, а они, немного пошептавшись между собой, загородили ему дорогу.
— Здесь нужно заплатить пошлину беднякам, чтобы проехать, монашек! — закричал самый старший и наиболее отчаянный из них.
— Я мало, что имею, — ответил опечаленный Арн. — У меня с собой только немного хлеба и…
— Хлеб — это хорошо, потому что у нас вообще ничего нет! А сколько у тебя его, монашек?
— Четыре хлеба, испеченных сегодня утром, — честно ответил Арн.
— Прекрасно, давай их сюда! Давай сюда хлеб! — закричали все трое, и Арну показалось, что они вдруг повеселели.
Обрадованный тем, что ему так легко удалось сделать добро ближнему своему, Арн развязал котомку и вынул хлебы, которые трое мальчишек тут же схватили и с диким хохотом потащили прочь, не сказав ни слова благодарности. Арн смущенно смотрел им вслед. Он подозревал, что его каким-то образом обманули, но не мог понять, почему кому-то могло прийти в голову это сделать, и тут же устыдился того, что плохо подумал о мальчишках.
Когда он собрался проехать через ворота, двое сонных стражников с оружием в руках преградили ему дорогу. Они сперва хотели узнать, как его имя и какое у него дело. Тот ответил, что его зовут послушник Арн из Варнхема, а приехал он для того, чтобы посетить собор, но скоро отправится дальше. Смеясь, они впустили его в город, сказав что-то непонятное о том, что он должен остерегаться совершать какие-то поступки, но какие именно, Арн тоже не понял. И когда это ясно отразилось на его лице, стражники захохотали еще громче.
Въехав в ворота, он засомневался, куда ему двигаться дальше. Направление к собору указывали две высокие башни, которые были видны отовсюду. Но казалось, что везде между низенькими, тесно прижатыми друг к другу деревянными домишками лежит компост, и Арн сперва подумал, не поискать ли ему другую дорогу среди всех этих отбросов. Тут он увидел всадника, ехавшего навстречу ему по улочке, которая вроде бы вела прямо к собору. На каждом шагу копыта лошади погружались в отбросы, навоз и нечистоты. По-прежнему сомневаясь и морщась от запаха, щекотавшего ему ноздри, Арн отправился по той же дороге. Еще было утро, или время, которое считалось в городе утром, везде слышался петушиный крик, а пока Арн ехал по улочке, его несколько раз чуть не облили нечистотами из ночных горшков и объедками из кухонных котлов. Из того, что он слышал и видел, Арн скоро понял, что люди жили под одной крышей со скотиной и птицей. Его переполняло скорее удивление, чем отвращение.
Наконец Арн выбрался из узкой улочки и оказался перед самим собором, на большой площади, где выстроились длинные ряды палаток и происходила торговля. Здесь было немного почище.
Выбирая, куда поставить ногу, Арн осторожно слез с лошади и привязал ее к столбу перед собором, рядом с которым уже стояли два других коня. Он на секунду заколебался, нужно ли сперва утолить свое любопытство и пойти посмотреть, что продается в палатках, или идти прямо в храм Божий. Задав себе этот вопрос, он тут же устыдился своих сомнений, подошел к воротам собора, упал на колени и перекрестился.
Внутри было почти пусто и так темно, что ему пришлось ненадолго задержаться, дав глазам привыкнуть к полумраку. Перед алтарем горело около двадцати маленьких свечек; он увидел женщину, которая только что зажгла новую свечу, опустилась на колени и стала молиться.
Где-то впереди, в темноте, хор запел псалмы. Но мелодия звучала нескладно, он тут же услышал два голоса, которые откровенно фальшивили, и удивился: ведь петь так — значит насмехаться над Богом в Его же доме.
Арн вошел в один из боковых нефов и сел на маленькую каменную скамью. Прежде чем начать молиться, он попытался осмыслить то, что он услышал и увидел. Арн чувствовал себя неуютно в этом храме Божьем. Рядом с алтарем висели два тканых полотнища ярких цветов, а также изображения двух святых и Девы Марии, расписанные синей, желтой, красной и зеленой красками. Сверху, из застекленного окошка, прямо на него струился поток света, переливаясь всеми цветами радуги. Это производило на Арна впечатление искусственности, все украшения словно были фальшивыми. Изображение Иисуса Христа на одной из стен башни сияло золотом и серебром, как будто Господь был земным правителем. Арн упал на колени и сперва попросил о прощении своих грехов, а потом обратился к Богу с просьбой простить людей, которые превратили Его храм в нагромождение светских украшений и образчик дурного вкуса.
Но, снова сев на маленькую скамью, он почувствовал, что от нее будто идет тепло, словно камень с ним разговаривает. Ему подумалось, что он уже сидел здесь раньше, но это было невозможно. Потом вдруг Арн увидел свою мать — улыбаясь, она шла к нему. Но видение быстро исчезло, едва хор начал новый псалом, вновь звучавший фальшиво.
Хор пел только на два голоса, но пение попрежнему было нескладным, поскольку запевала во втором голосе неправильно вел за собой остальных. Думая, что он может сделать благое дело, Арн встал перед хором, взял второй голос и начал петь правильно; текст псалма он знал еще с детства.
Капеллан собора Инге, руководивший хором, подумал сперва, что Бог в шутку, устав от этой какофонии, решил их поправить. Но тут он обнаружил Арна, который, совершенно не стесняясь, вел за собой вторые голоса. Когда псалом закончился, соборный капеллан взял Арна за руку и поставил в середину хора. Так Арн и пел до конца службы. По окончании богослужения несколько певчих забросали юношу вопросами, но соборный капеллан, не дав Арну сказать ни слова, быстро провел его в ризницу, которая освещалась из крохотных окошек, так что при разговоре собеседники могли видеть друг друга. Он усадил Арна и дал ему кружку воды, пошутив, что это лишь мизерная плата за его чудесное пение.
Арн, который не понял шутки, тут же возразил, что не требует никакой платы за то, что пел в храме Божьем. На вопрос о том, как его зовут, он ответил лишь, что его зовут Арн из Варнхема.
Соборный капеллан очень заинтересовался Арном, так как ему показалось, что он приобрел себе ценного певчего. Перед ним сидел юноша, который по той или иной причине не смог стать полноправным членом ордена цистерцианцев, которого изгнали из монастыря, и теперь с его помощью можно будет усилить хор. Ибо что бы ни говорили об этих чужеземных монахах, а петь они умели так, что привели бы в восторг и ангелов, грех это отрицать.
Поскольку никто еще не говорил с Арном, скрывая при этом свои намерения, он ничего не понял из содержания тех вопросов, которые задавал ему капеллан.
Значит, он оставил Варнхем для того, чтобы вернуться домой? Вот как, и где же его дом? А чем занимаются его отец и мать? Значит, мать умерла, вечная ей память, упокой Господи ее душу, а отец, что делает он? Трудится, как и все остальные, в поте лица своего? То есть занимается земледелием, значит, он арендатор или наемный работник?
Арн честно отвечал на все вопросы, кроме вопроса о том, богат ли его отец. Тут он сказал «нет», потому что слово «богатый» показалось ему постыдным, а он не хотел думать о своем отце со стыдом. Что означают слова «арендатор» и «наемный работник», он не знал вовсе и сомневался, что они могут относиться к его отцу.
Скоро капеллану все стало ясно. Перед ним сидел сын бедняка, в поте лица своего возделывавшего землю, может быть, вольноотпущенного раба, который, вынужденный кормить свое огромное семейство, смог избавиться от одного из ртов, отправив отпрыска в монастырь. И теперь юноша, достигший, кстати, возраста, когда парни становятся наиболее прожорливыми, возвращался домой, не годясь при этом ни для какой работы, кроме молитвы за столом. Здесь можно облагодетельствовать все стороны, только бы схватить удачу за хвост.
Возможно, думал капеллан, и сам молодой человек втайне надеялся на счастливый случай, хотя он казался слишком застенчивым для того, чтобы прямо об этом сказать.
— Думаю, мой юный послушник, что мы можем помочь друг другу к нашему обоюдному удовольствию, — заявил капеллан, довольный своими выводами.
— Если я могу помочь тебе, святой отец, то я, без сомнения, выполню твою просьбу, но в чем я могу тебе пригодиться? Я всего лишь бедный послушник, — сказал Арн не лукавя, потому что он верил в то, что говорил.
— Да, многое из живущих на земле бедны, но и бедным Господь иногда посылает свои дары, как и тебе, Арн, ведь тебя так зовут? Ты действительно получил дар от Бога.
— Да, это правда, — сказал Арн и смущенно потупился, вспомнив о том, как Бог однажды вернул ему жизнь, хотя он не мог взять в толк, откуда об этом известно капеллану.
— Тогда я рад сообщить тебе, Арн, что ты сможешь избавиться от заботы, гнетущей тебя и твоего отца, и вместе с тем совершить богоугодное дело. Ты готов выслушать мое предложение? — спросил капеллан, победно наклонившись к юноше и широко улыбаясь, так, что Арн почувствовал дурной запах из его рта и увидел черные гнилые зубы.
— Да, святой отец, — послушно сказал Арн, испуганно откинувшись назад. — Хотя я не понимаю, что ты имеешь в виду.
— Я могу предложить тебе жилье и еду, а также новую одежду за то, что ты останешься здесь и будешь петь в хоре собора. Ты должен знать, что это большая честь для бедного юноши. Но у тебя есть редкий дар Божий, и ты сам об этом знаешь.
Арн был так изумлен, что сперва онемел. До него только сейчас дошло, что, по мнению священника, Божьим даром был его голос, а вовсе не то, что Господь вернул его к жизни из царства мертвых. Он не знал, что ответить.
— Да, я понимаю, ты поражен, — довольно продолжал соборный капеллан. — Не каждый день можно решить столько вопросов сразу. Твоему отцу не придется кормить еще один рот, а мы сможем порадовать души живых и мертвых красивыми песнопениями; ты получишь одежду, еду и жилье, это ведь большая удача?
— Нет… то есть да, можно сказать и так, — растерянно ответил Арн. Ему ни за что на свете не хотелось остаться у этого плохо пахнувшего священника, но Арн не представлял, как ему выпутаться. Он не знал, как отказать человеку, которого следует слушаться.
Соборный капеллан, снова неверно истолковавший то, что он слышал и видел, подумал, что вопрос решен, хлопнул себя по коленям и поднялся, чтобы немедленно взяться за дело.
— Пойдем со мной! — оживленно начал он. — Ты познакомишься с остальными, и у тебя будет почти свое собственное спальное место.
— Так, пожалуй, не… так не пойдет! — отчаянно перебил его Арн. — То есть… я, конечно, очень благодарен за твою доброту… но так не пойдет.
Соборный капеллан удивленно взглянул на молодого человека с недавно заросшей тонзурой и мозолистыми руками раба, которые свидетельствовали о тяжелом труде. Что во имя всего святого могло заставить этого нищего юнца отказаться от столь щедрого предложения? Казалось, он сам терзается потому, что отказывается.
— Там снаружи привязана моя лошадь, я отвечаю за нее и должен привести ее домой, чтобы отдать другому послушнику, — попытался объяснить Арн.
— Ты утверждаешь, что у тебя есть лошадь? — озабоченно пробормотал соборный капеллан. — Этого не может быть, я хочу своими глазами взглянуть на нее!
Арн послушно позволил провести себя вдоль всего собора, а капеллан шел рядом и подсчитывал стоимость лошади, в конце концов обнаружив, что она в любом случае намного превосходит все, предложенное им Арну в виде еды и жилья.
Там, в свете дня действительно стояла лошадь с тяжело опущенной головой; она как будто очень устала. Однако соборному капеллану показалось, что это прекрасная лошадь. Арн же, к своему отчаянию, обнаружил, что исчезла его котомка с приготовленными братом Ругьеро бараньими колбасками и копчеными окороками, и думал, кому они могли понадобиться. Соборный капеллан стал громко расхваливать красивого скакуна, на что Арн возразил, что лошадь эта ничем не примечательна, и добавил, что не может понять, куда исчезли его окорока и колбасы. Тогда капеллан, разозлившись, объяснил: нельзя быть настолько глупым, чтобы оставить котомку ворам.
Арн ужаснулся мысли, что его обокрали, что он соприкоснулся с тяжким грехом, и невинно спросил, нельзя ли найти воров и взять свое добро назад, если пообещать им прощение. Этот вопрос привел капеллана в ярость, и он обозвал юношу болваном. Арн предположил, что это слово означает что-то унизительное.
Когда же он собрался просить прощения за то, что оказался болваном, хотя и без злого умысла, соборный капеллан просто развернулся и ушел, гневно бормоча при этом. Арну не оставалось ничего другого, как прочитать короткую молитву о прощении душ тех несчастных, которые были введены в искушение и совершили кражу. В молитве он добавил, что часть ответственности за содеянное лежит на нем, поскольку он оставил котомку с провизией на площади и тем самым искушал голодных и слабых духом.
* * *
К северу от Скары праздновали свадьбу Гуннара из Редеберги, который был арендатором у настоятеля собора Торкеля. Тот лично присутствовал на свадьбе, довольный тем, что ему удалось сделать для своего арендатора, потому что этот Гуннар был не очень пригожий малый и не мог предложить невесте богатый утренний дар. Настоятелю собора стало жаль и арендатора, и свои собственные доходы, поэтому он устроил так, что Гуннар все-таки смог жениться.
Когда-то, в трудную минуту, настоятель оказал помощь довольно богатому крестьянину по имени Тюргильс из Турбьернторпа, который пообещал отплатить сторицей, и теперь такой час настал — он должен отдать свою младшую дочь Гудрун за Гуннара из Редеберги. Это было выгодно всем. Тюргильсу не нужно было давать большое приданое, что пришлось бы делать, если бы он нашел для дочери лучшую партию. А Гуннар из Редеберги, в свою очередь, мог не заботиться об утреннем даре и, невзирая на бедность и внешнюю непривлекательность, женился на молодой миловидной девушке.
Настоятель собора считал, что всех осчастливил, особенно своего верного и покорного арендатора Гуннара, который сам никогда не нашел бы себе жену, способную нарожать ему детей. Гуннар хорошо справлялся с обязанностями арендатора и возвращал одолженное ему настоятелем в семикратном размере, а потому со стороны Торкеля было нелишним позаботиться о том, чтобы в его доме появились дети, которые потом будут работать в той же усадьбе, и ему не придется выгонять Гуннара, когда тот состарится один, без детей.
Таким образом, все были довольны. Кроме Гудрун, которая горько проплакала всю неделю, прежде чем ее заставили сказать «да» перед настоятелем и произнести обещания, которые вскоре нужно было выполнять.
Всеми, в том числе и церковью, супружество признавалось законным только после первой брачной ночи. Старшие женщины уже поведали Гудрун о страданиях и обязанностях молодой жены, и та в конце концов заткнула уши, чтобы не слышать обо всех этих ужасах.
Она слезно молила своего отца Тюргильса, чтобы он не отдавал ее за этого отвратительного человека, а позволил ей выйти замуж за другого Гуннара, который был третьим сыном в соседней усадьбе Лонгавретен. Молодые люди любили друг друга и страстно желали пожениться.
Но Тюргильс только рассердился и сказал, что ему это невыгодно, потому что усадьба Лонгавретен такого же размера, как и у него, и если соседи захотят соединить свои роды и пить пиво на свадьбе, то ему придется давать за невестой слишком большое приданое. А если он не сделает этого, его сочтут бесчестным. Это невозможно, и мольбы дочери тут не помогут. Только один раз отец попытался утешить ее, сказав, что девичьи капризы скоро забываются. Как только закричат ее первые малыши, она обо всем забудет.
Теперь Гудрун сидела в свадебном наряде за столом среди мужчин, которые напивались все сильнее и сильнее, а грубые шутки о брачной ночи, при которой все хотели присутствовать, каждый раз кололи ее, словно острые иглы. Когда она увидела, как ее будущего мужа, слюнявого и пьяного, хлопнул по спине один из гостей, делавший непристойные знаки, которые обозначали член, большой, как у коня, ее прошиб холодный пот и она стала молиться Деве Марии и просить о смерти, такой, которая не считалась бы самоубийством и грехом, но избавила бы ее от страданий. В глубине души она прекрасно понимала, что Матерь Божья никогда не исполнит столь греховную просьбу, что надежды больше нет, что скоро она будет осквернена слюнявым стариком и что ей останется только послушно раздвинуть ноги, как учили ее замужние женщины.
Но когда Гудрун увидела заходящее солнце, Божья Матерь вдруг явственно заговорила с ней. С диким криком девушка вскочила на стол, преодолела его одним широким прыжком и оказалась у двери, вырвалась наружу, и, подобрав одежды, бросилась бежать со всех ног.
Прошло некоторое время, прежде чем пьяные гости за столом поняли, что произошло; многие просто не заметили, что невеста убежала. Но теперь они собрались с силами и, нетвердо ступая, побрели на поиски Гудрун, а кто-то при этом закричал: «Украли невесту! Невесту украли!»
Тогда пьяная толпа вернулась назад, чтобы взять мечи и копья и неуклюже оседлать лошадей, в то время как расстроенные женщины смотрели вослед Гудрун, которую еще было видно на дороге, ведущей в Скару.
По этой же самой дороге неспешно ехал Арн. У него бурчало в животе от голода. Он не торопился, поскольку понял, что ночь будет темной и безлунной и нужно искать ночлег, а в Арнес он попадет только к полудню следующего дня.
И тут перед его глазами появилась девушка в разорванной одежде, с безумным взглядом, в отчаянии простирая к нему руки. Он остановил лошадь и уставился на нее, не в состоянии ни понять того, что он видит, ни дружелюбно поприветствовать ее.
«Спаси меня, спаси меня от бесов!» — закричала она и без чувств упала на землю под копыта его коня.
Арн осторожно и испуганно спешился. Он ясно видел, что его ближнему грозит беда, но как он может спасти девушку?
Он сел рядом с маленьким горячим женским телом и протянул руку, чтобы погладить девушку по красивым каштановым волосам, но не осмелился. Тогда она взглянула на него и встретила его взгляд; ее лицо просияло от счастья, и она стала несвязно говорить о его добрых глазах, о том, что Пресвятая Дева послала ей ангела-спасителя и еще о чем-то, что заставило его заподозрить, что она потеряла рассудок.
В таком положении и нашли пьяные, разъяренные участники свадебного пира сбежавшую невесту и ее похитителя. Мужчины, которые первыми спрыгнули с лошадей, прежде всего вцепились в Гудрун, которая душераздирающе закричала. Ее связали по рукам и ногам, а рот завязали платком. Двое держали Арна, заведя ему руки за спину и заставив наклонить голову. Он не сопротивлялся.
Тут появился жених, Гуннар из Редеберги, и ему протянули меч, ибо по закону он имел право убить похитителя своей невесты. Увидев занесенный меч, Арн мягко попросил о том, чтобы ему позволили помолиться, и преследователи, тяжело пыхтя, сочли, что нельзя отказать ему в этой христианской милости.
Когда Арн опускался на колени, он не чувствовал страха, только удивление. Разве только для этого Бог сохранил ему жизнь, чтобы его безвинно убила пьяная толпа, считавшая, очевидно, что он хотел причинить женщине зло? Это было слишком глупо, чтобы быть правдой, и поэтому он молился не за свою жизнь, а о том, чтобы разум вернулся к этим несчастным братьям, которые, находясь в заблуждении, собирались совершить тяжкий грех.
Он, должно быть, выглядел очень жалко, стоя на коленях и молясь, как все думали, о своей жизни, которая скоро оборвется, — юнец с пушком на щеках, одетый в потертую коричневую рясу и со следами монашеской тонзуры на голове. И тогда кто-то начал молиться за Арна в надежде, что поможет несчастному. Кто-то другой сказал, что не будет мужественным поступком просто убить беззащитного монашка, нужно, по крайней мере, дать ему меч, чтобы он мог защищаться и умереть, как мужчина. Вокруг послышался одобрительный гул, и Арн вдруг увидел, как на траву перед ним упал неудобный короткий скандинавский меч.
Он долго благодарил Бога, прежде чем взять меч, потому что он понял, что останется в живых.
Настоятель собора Торкель из Скары подошел так близко, что мог четко видеть все происходящее, и то, что он увидел, или ему показалось, что увидел, имело впоследствии большое значение.
Ибо когда Гуннар из Редеберги бросился вперед с поднятым мечом, чтобы быстрее покончить с тем, кто испортил его свадебный пир, он обнаружил, что рубит воздух. Гуннар не понимал, что происходит, ведь он не считал себя сильно пьяным.
Он снова ударил, не попав в цель, а потом снова и снова.
Арн видел, что человек перед ним беззащитен, и догадался, что это связано с опьянением. Тем лучше, подумал он, потому что тогда сам он не причинит вреда ближнему своему.
Однако для Гуннара из Редеберги все происходящее казалось кошмаром. Его гости начали потешаться над ним. Как бы Гуннар ни наносил удары, этот проклятый демон — а это, скорее всего, был демон, — не обращаясь в бегство, всегда оказывался где-то в другом месте.
Арн спокойно кружил в обратную сторону, держа меч в левой руке, потому что брат Гильберт всегда говорил, что такой удар отразить труднее всего. Но ему и не нужно было это делать, хватало того, что он все время находился в движении; он рассчитывал, что этот немолодой человек скоро устанет и сдастся и тогда никому не будет причинено зло, потому что вмешательство Божье спасет их всех.
Но униженный и напуганный Гуннар из Редеберги стал просить старого воина Юара, чтобы тот помог ему исполнить его законную обязанность; и поскольку мир свадебного пира уже был нарушен более чем достаточно, Юар, прикинув, как можно обмануть мальчишку, решительно бросился в бой, чтобы скорее со всем этим покончить. Не помогли даже слабые протесты настоятеля.
Арн, внезапно почувствовав, что ему угрожает опасность, испугался, перебросил меч в другую руку, поменял направление и впервые серьезно провел две оборонительные комбинации. Гуннар из Редеберги тут же упал на землю с перерубленным горлом, а Юар со стоном согнулся от удара, пришедшегося в живот.
Все словно окаменели. Только что своими глазами они увидели то, что показалось им совершенно невероятным.
Это было настоящее чудо.
Арн, напротив, застыл от страха. Видевший, как закалывают животных, он прекрасно понял, что из человека, который первым напал на него и который лежал теперь на земле, содрогаясь в конвульсиях, уходит жизнь, а второй, который умел обращаться с мечом, смертельно ранен. Потрясенный своей жестокостью, Арн уронил на землю меч и склонил голову в молитве, готовый в следующее мгновение принять смерть от любого.
Но настоятель простер руки к небесам и затянул псалом, сделав тем самым все дальнейшие нападки на Арна неуместными, по крайней мере в данную минуту. Потом святой отец с трепетом заговорил о чуде, которому все они стали свидетелями: невинный человек, вследствие своей невинности, получил защиту свыше, за спиной беззащитного юноши стоял сам архангел Гавриил и направлял его руку. Вскоре несколько присутствовавших подтвердили, что видели то же самое — воистину чудо Господне, — как беззащитный маленький монашек смог противостоять двум испытанным в боях воинам.
Освобожденную наконец невесту развязали, и она стала читать благодарственные молитвы за то, что Господь в труднейший миг послал ей избавителя. Были пропеты несколько псалмов, но Арн не решался принять участие в пении.
Настоятель собора выспросил у Арна, кто он и откуда, и решил, что проводит бедного монашка в Варнхем; тело Гуннара из Редеберги пусть отнесут домой, чтобы предать земле, а тяжело раненного Юара нужно положить на носилки и донести до дома.
Потом он строго оглядел всех и спросил, кто три раза прокричал о похищении невесты. Все молча уставились в землю. Тогда он задал следующий вопрос — действительно ли кто-то считает, что монашек из Варнхема похититил невесту. Никто из присутствующих не ответил ему и в этот раз.
* * *
В то осеннее утро, когда липы, дубы и буки вокруг монастыря начали окрашиваться в желтый и красный цвета, у стен Варнхема появилась очень странная пара.
Настоятель Торкель был в прекрасном настроении, ибо Бог позволил ему созерцать одно из Его чудес на земле. Это была особая милость.
Арн, который постился со дня своего преступления и отказывался проводить ночь где-либо, кроме как в соборе, замаливая грехи, был смертельно бледен. Он знал, что рассказ о чуде — ложь. Бог был к нему милостив, дав меч, с помощью которого он мог бы защищаться, не причиняя никому зла. Но он злоупотребил этой милостью и совершил самый тяжкий из всех грехов. Он знал, что ему нет прощения, и его удивляло только, что Бог не поверг его на землю в тот же миг, когда он совершил злодеяние.
Когда их впустили в ворота монастыря, где стояли два высоких ясеня, — единственное, что осталось от прошлого, когда еще была жива мать Арна, — юноша тут же попросил извинить его и исчез в монастырской церкви, чтобы молить Господа ниспослать ему силы перед предстоящей исповедью.
Настоятель Торкель гордо попросил о встрече с отцом Генрихом, потому что он должен сообщить ему великую новость.
Разговор между ними получился весьма странным, и не только потому, что они с трудом понимали друг друга — настоятель Торкель так же плохо говорил на латыни, как отец Генрих на языке скандинавов, — но и из-за того, что Торкель был настолько взбудоражен, что не мог связно говорить, пока отец Генрих не попросил его успокоиться, выпить вина и начать все сначала.
Когда же до отца Генриха постепенно дошел весь ужас происшедшего, он не смог разделить восторг настоятеля.
Прежде всего, ему было сложно объяснить своему неученому северному коллеге, что Арн не мог быть похитителем невесты и его нельзя обвинять в чем-либо подобном.
Далее, с того момента, когда кто-то необдуманно бросил Арну меч, было очевидно, что вскоре прольется кровь. У отца Генриха шевельнулась крамольная мысль о том, что Господь Бог сыграл злую шутку над гостями свадебного пира. Или скорее, наказал этих людей за жестокость и недомыслие, проявленное ими, когда они схватили первого встречного, обвинив его в похищении невесты. Последнее воистину было варварством, ведь они считали себя вправе убить схваченного ими человека. Хотя, с другой стороны, именно таковыми были законы в этой части мира, так что несчастные грешники поступали по совести.
Но труднее всего ему было поверить в то, что отец настоятель будто бы стал свидетелем настоящего чуда и видел за спиной Арна архангела Гавриила, направлявшего руку юноши.
Отец Генрих сказал себе, что, если бы архангел Гавриил действительно видел то, что происходило, он скорее поспешил бы на помощь не к Арну, а к неразумным пьяницам. Но вслух он ничего подобного не произнес.
Положение осложнялось еще и тем, что настоятель Торкель просил у монастыря помощи: рассказ о чуде должен быть записан по всем правилам, пока он в точности помнил все, что случилось, и имена всех свидетелей.
Отец Генрих сперва уклончиво ответил на эту просьбу и изъявил желание послушать, что говорят светские законы о поступке Арна; таким образом, ему надолго удалось отвлечь настоятеля Торкеля.
Законы гласили, что похититель невесты должен быть убит на месте преступления. Однако так нельзя поступить с невинным человеком, иначе это приравнивалось к убийству.
С одной стороны, в законе было сказано, что если дюжина свидетелей подтвердит, что Арн невиновен и случилось чудо, то, если дело дойдет до тинга, его должны освободить от ответственности. С другой стороны, если род убитого или, в худшем случае, роды двух убитых захотят обвинить его на тинге, то возникает вопрос, есть ли у Арна — ведь так его зовут — кто-то, но не чужеземец, кто может поручиться за него. Может, он принадлежит к какому-нибудь роду?
— Да, — с облегчением вздохнул отец Генрих. — Этот юноша — знатный человек, его зовут Арн сын Магнуса из Арнеса, его отец — Магнус сын Фольке, а брат его отца — Биргер Бруса из Бьельбу, лагман Эскиль — его родич, и так далее, и так далее. В общем, мальчик принадлежит к роду Фолькунгов.
— Нет, не может быть! Помилуй Бог! — вскричал соборный настоятель Торкель. — Я немедленно сообщу родственникам погибших, что им нечего ждать от тинга. Тем лучше, тогда они не станут отказываться и подтвердят правдивость рассказа о чуде!
Несмотря на то что два священнослужителя, казалось, разобрались в законах, их обуревали разные чувства. Настоятель был счастлив, прямо парил над землей: его рассказ о чуде, о котором он многое мог бы поведать в соборе, спасен и к тому же вскоре будет записан на пергаменте искусными мастерами.
Отец Генрих, знавший, что на самом деле никакого чуда не произошло, испытывал облегчение оттого, что Арна не покарает суровый и слепой закон Западного Геталанда. Но он сожалел о вине Арна и о своем собственном фехе, ибо считал, что в том, что случилось, есть большая доля вины брата Гильберта и его самого.
— Могу ли я теперь получить помощь, как того требует это важное дело? — спросил настоятель, разрумянившись от радости.
— Да, конечно, брат, — на удивление сдержанно ответил отец Генрих. — Мы немедленно все запишем.
Отец Генрих позвал одного из писцов и сказал ему по-французски, будучи уверенным в том, что невежда-настоятель не знает этого языка, что нужно записать рассказ настоятеля и не перечить, сколь бы глупой ни показалась ему эта история.
Когда окрыленного и во всеуслышание благодарящего Господа настоятеля проводили в скрипторий, отец Генрих тяжело поднялся, чтобы отправиться на поиски бедного Арна. Он прекрасно знал, где его найти.
Глава VII
Соборный настоятель Торкель был человеком практического склада и хорошо умел считать деньги, особенно свои.
Теперь он, спустившись с небес на землю после того, как ему удалось своими глазами наблюдать чудо Господне, начал оценивать последствия и прикидывать что и как. Его арендатор, Гуннар из Редеберги, очень некстати погиб во цвете лет, не оставив после себя наследников, будущих арендаторов. Самым спешным делом было сейчас найти нового арендатора в Редебергу.
Поскольку Торкель был исповедником найденной и уже почти отданной замуж невесты Гудрун, то у него появились некоторые весьма простые идеи. Девушка желала смерти как себе, так и своему предполагаемому супругу, за что настоятель наложил на нее недельное мягкое наказание, но она также признала, что сильнее всего ее греховные мысли занимал молодой человек, которого тоже звали Гуннар.
Как довольно быстро понял настоятель Торкель, этот Гуннар из Лонгавретен был третьим сыном своего отца и вообще не должен был жениться, потому что тогда пришлось бы разделить усадьбу на три ничтожные наследные доли. Однако Гуннар, здоровый и сильный парень, был склонен скорее к тому, чтобы заниматься земледелием, только бы не стать чьим-то дружинником.
Вскоре Торкель призвал к себе молодого Гуннара, выслушал его исповедь, а потом придумал, как можно все устроить. Молодой человек так же сох по Гудрун, как она по нему. Следовательно, наилучшим выходом из положения будет, если Гудрун выйдет замуж за Гуннара и молодые станут новыми арендаторами настоятеля Торкеля в Редеберге. Тюргильс из Турбьернторпа, отец Гудрун, возможно, желал для своей дочери лучшего мужа, чем какой-то третий сын в семье. Но в теперешнем положении, когда рассказы о ее кровавой свадьбе быстро распространились по всему Западному Геталанду, ее не так-то легко будет пристроить, сколь бы красива она ни была. Соборный настоятель в немалой степени сам способствовал этому, поскольку он старался, чтобы его рассказ о чуде как можно чаще упоминался в проповедях. Так что свободному бонду Тюргильсу выгодно отдать свою Гудрун замуж при первом же удобном случае.
А для отца молодого Гуннара, Ларса Коппера из Лонгавретен, было и вовсе прекрасно женить своего сына, да к тому же на девушке, которая нравилась парню. А теперь, когда молодые поймут, какая на них упала манна небесная, они уж точно не оставят своих отцов в покое.
Настоятель Торкель посеял первые семена во время задушевного разговора с Гудрун, потом поступил так же с Гуннаром, а затем уже было легко позвать к себе двух отцов, и вскоре дело было улажено. Можно было устраивать пир и объявлять о помолвке.
На праздник святого Михаила, когда страда закончилась и не надо было чинить изгороди вокруг лугов, в Редеберге пировали в честь помолвки Гудрун и Гуннара. Пригласили самого настоятеля. Обращаясь к ним на пиру, пока гости были еще достаточно трезвы, настоятель Торкель напомнил жениху и невесте, что они должны почитать то чудо Божье, которое вопреки всему земному свело их вместе.
Для Гудрун это был самый счастливый день в ее жизни. Пусть ее жизнь будет теперь проходить в худших условиях, чем те, к которым она привыкла в родительском доме. Зато сейчас она сидит на плетеном стуле для помолвленных вместе со своим Гуннаром, которого чуть было не потеряла навсегда. Как жаворонок, поднялась она из глубочайшего отчаяния к небесному блаженству. Гуннару, своему будущему супругу, она отдалась бы охотно, и девушка жалела лишь, что они должны подождать с этим до весны, когда сыграют свадьбу. Однако это легко пережить, ведь если бы все шло так, как она боялась, то каждый вечер ей пришлось бы лежать под отвратительным стариком, что было бы ужасно — по крайней мере, так описывали ее несчастное будущее замужние женщины.
Теперь Гудрун и Гуннар могли встречаться так часто, как им хотелось, только чтобы кто-то при этом присутствовал. Пир продолжался уже несколько часов, и они ненадолго вышли на двор, посмотреть, как заходит солнце. Держась за руки, они ощущали и страх, и радость оттого, что отныне будут жить вместе, состарятся и умрут в этой скромной усадьбе.
Суженый Гудрун не стал возражать против того, что предложила ему невеста, и она тут же почувствовала облегчение.
Гудрун во веки веков будет благодарна Деве Марии, которая в последний миг вырвала ее из рук смерти. Она никогда не забудет упомянуть об этом в своих молитвах.
Однако хотя человек — всего лишь орудие в руках Божьих, ничто не может произойти помимо воли Божьей и следует благодарить Господа за все, Гудрун не могла забыть о том юноше, который и был этим самым орудием. Он выглядел так жалко в своей потертой коричневой рясе, когда эти пьяные бонды хотели обезглавить его. Но потом он все же спас ее, спас их обоих.
Поэтому она пожелала, чтобы они пожертвовали двух лошадей, полученных в качестве подарка к помолвке, монастырю в Варнхеме, а кроме того, сами отправились бы туда и высказали свою благодарность маленькому монашку, который устроил их счастье, рискуя собственной жизнью.
Ее Гуннар счел, что это хорошая мысль; он похвалил Гудрун и тут же предложил сопровождать ее в поездке в Варнхем.
Решение счастливых влюбленных должно было пролиться как бальзам на душу спасшему их юноше, который, однако, вовсе не был таким маленьким и жалким, каким запомнила его Гудрун.
* * *
Брат Гильберт шесть дней трудился в кузнице; он был либо в горячке, либо в ярости, либо на него снизошло божественное вдохновение. Он совершенно забыл о всех остальных своих обязанностях, но отец Генрих не говорил ему ни слова, так что в эти дни удары молота доносились из кузницы даже во время молитв.
Давно уже брат Гильберт не ковал мечи новым способом. Продавать их северным варварам не имело смысла, они все равно никогда не заплатили бы настоящую цену за такую работу. Кроме того, у них не было нужды в мечах из дамасской стали — они с трудом могли обращаться дома со своими собственными.
При изготовлении северных мечей он использовал три сорта железа, которые он сплавлял, многократно сгибал материал и снова его выравнивал. Таким образом, сплав получался достаточно упругим, а клинок — блестящим и узорчатым, как хотели скандинавы. Они считали, что чем красивее узор, тем лучше меч. Больше всего им нравился узор в виде змеи, который проступал, если подышать на холодный клинок. Монаху удавалось добиться большей прочности сплава, чем обычно получали на этой окраине мира.
Но для меча, над которым брат Гильберт работал сейчас в священном огне, он использовал только закаленную сталь. Скандинавы не владели искусством превращения железа в сталь. Для этой цели брат Гильберт взял лучшее железо и три дня расплавлял его, запечатав в уголь, кожу и кирпич, чтобы произошло превращение. Это благословенное стальное ядро он заковал затем в слой более мягкого железа. Острие должно было быть достаточно острым, чтобы побрить голову монаха. С каждым ударом молота по наковальне и с каждой молитвой он медленно, но верно создавал шедевр, равный которому можно было найти только в самом Дамаске или в Святой Земле, где он сам, как и другие, научился сарацинскому искусству. Брат Гильберт придерживался отличной от общепринятой точки зрения на сарацин, но об этом он не распространялся. Сколь бы сильно ни уважал он отца Генриха как самого умного и мягкого приора, под начальством которого оказался такой грешник, как он, в глубине души Гильберт был уверен, что даже с ним лучше не говорить о сарацинах.
На шестой день, когда он уже довольно далеко продвинулся в своей работе, ему помешал послушник с испуганным лицом, который, очевидно, испугался еще больше, увидев брата Гильберта с горящими глазами и спутанными волосами. Послушник, однако, был послан отцом Генрихом, который звал брата Гильберта на срочную встречу.
Брат Гильберт тут же прервал свою работу и отправился в лаваторий, чтобы предстать перед своим приором в достойном виде.
Отец Генрих ожидал его в своем любимом скриптории. Осень еще только начиналась, но вечера уже стали прохладными. Отец Генрих так и не сумел привыкнуть к северному климату, поэтому для разговора вместо каменных скамеек в галерее у сада он выбрал скриптории. — Добрый вечер, мой милый Вулкан, — произнес отец Генрих шутливое приветствие, когда чисто вымытый, но все еще разгоряченный брат Гильберт нагнулся, чтобы пройти в низенькую дверь. — В таком случае, добрый вечер, мой дорогой отец Юпитер, — тем же тоном ответил брат Гильберт и без приглашения уселся перед пюпитром, за которым стоял отец Генрих, что-то записывая в свою тетрадь.
Некоторое время царило молчание, пока отец Генрих заканчивал какую-то завитушку; затем он медленно вытер перья и отложил их. Наконец, прокашлявшись, — для брата Гильберта, как и для многих других в Варнхеме, это было сигналом к тому, что сейчас последует длинное объяснение, — он заговорил.
— Через некоторое время я выслушаю исповедь нашего сына Арна, — начал отец Генрих с глубоким вздохом. — И я собираюсь дать ему отпущение грехов. Сразу же. Для него это будет неожиданно и непонятно, ибо он полон раскаяния, подавлен сознанием своего греха и тому подобное. Но ты, воистину любимый брат мой, должен знать, что я долго размышлял и пришел к выводу, который ни мне, ни тебе не будет приятен. То есть то, что случилось, не ошибка Арна, а, скорее, твоя и моя вина. Мы имеем конфликт между мирским законом, сколь бы варварским он ни казался нам, и законом Божьим. Ни мирской, ни божественный закон не покарает Арна. Что же касается нас с тобой, то тут дело более щекотливое, и ты знаешь, что я имею в виду.
— Прости меня покорно, святой отец, но ведь я говорил, — быстро ответил брат Гильберт. — Мы должны были сказать ему, кто он такой. Если бы он знал, кто он, когда встретил этих пьяных крестьян…
— То ничего плохого не случилось бы, я знаю! — прервал его отец Генрих, в голосе которого было больше отчаяния, чем раздражения. — Но в любом случае мы сделали то, что сделали, и теперь должны подумать о последствиях. Со своей стороны, я попытаюсь убедить Арна в том, что он прощен перед Богом, хотя не думаю, что это будет просто. Да поможет мне Бог, я действительно люблю этого мальчика! Когда он уезжал от нас, направляясь в дом своего отца, он являл собой столь редкое зрелище человека безгрешного…
— Персеваль, — задумчиво пробормотал брат Гильберт. — Воистину юный Персеваль.
— Кто? Ах он, ну пусть, — буркнул в ответ отец Генрих, ход мыслей которого был несколько нарушен. Прежде чем продолжить, он некоторое время молчал. — Теперь, брат Гильберт, как твой приор, я велю тебе следующее. Когда Арн придет к тебе от меня, ты должен рассказать ему, кто он такой, объяснить то, чего не могу объяснить я. Ты понимаешь, что я имею в виду?
— Я полностью уверен в этом и в точности исполню твое приказание, — с глубокой серьезностью ответил брат Гильберт.
Отец Генрих молча кивнул, а затем ушел, махнув на прощание рукой. Брат Гильберт долго еще оставался в скриптории. Он молил Господа, чтобы тот дал ему силы и научил, что сказать, когда он будет исполнять только что полученное приказание.
* * *
Арн провел десять дней в одной из гостевых келий Варнхема. Но он отказался от всего, что полагалось гостям монастыря, — от плотного соломенного матраса, красных тканых покрывал и овечьих шкур, наложил на себя обет молчания, а в пищу употреблял только хлеб и воду.
Отец Генрих нашел Арна бледным, с застывшим от скорби взглядом. Было непонятно, ясен ли его рассудок и поймет ли он, что вскоре должно с ним случиться. Отец Генрих решил вести себя как и положено исповеднику, не демонстрируя ни жалости, ни строгости.
— Я готов теперь выслушать твою исповедь, сын мой, — сказал он, сел на жесткое деревянное ложе и знаком показал Арну, чтобы тот сел рядом.
— Прости меня, святой отец, ибо я согрешил, — сказал Арн. Голос его прервался, и Арн робко кашлянул, потому что после десяти дней молчания ему было трудно говорить. — Я совершил самый тяжкий из всех грехов, и мне нет прощения. Я убил двух человек, хотя вместо этого мог лишь слегка их поранить. Я убил двух человек, хотя знал, что для моей души было бы лучше, если бы я умер сам и встретил Господа Иисуса Христа, не отягощенный этим грехом. Поэтому я готов понести любое наказание, которое ты наложишь на меня, отец. И ни одно из них не покажется мне суровым.
— Это все? И больше ты ни в чем не хочешь покаяться? — легкомысленным тоном спросил отец Генрих, но тут же пожалел об этом, опасаясь, что юноша подумает, что он смеется над его муками.
— Нет… это все… то есть я хочу сказать, что у меня были злые и ложные мысли, когда я пытался отвести от себя вину, но это уже я признал, — ответил Арн, заметно растерявшись.
Отец Генрих тут же почувствовал облегчение оттого, что Арн смог контролировать себя, получив столь непонятный вопрос. Но теперь на Арна должна снизойти милость Божья, которая часто превосходит человеческое разумение. Отец Генрих сделал глубокий вдох и в последний раз обратился за советом к Богу, прежде чем произнести два решающих слова. Он чуть медлил, до тех пор, пока не почувствовал, что Бог дал ему необходимую поддержку.
— Те absolve, я прощаю тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, сын мой, — сказал он и перекрестил сперва Арна, а потом себя.
Арн уставился на него, словно завороженный, не в состоянии понять то, что он только что услышал. Отец Генрих терпеливо ждал, когда юноша осознает смысл его слов. Потом он натужно закашлялся, предваряя начало объяснения. — Милость Божья воистину велика, и теперь ты действительно освобожден от греха, сын мой. Я, с Божьей помощью, простил тебя как твой исповедник и как смиренный служитель Господа. Возрадуемся же тому, что произошло, но не будем взирать на это легкомысленно. Знай же, что время, которое ты провел здесь в одиночестве и молитве, я тоже не потратил впустую. И если Бог, возможно, сказал тебе нечто иное, чем Он сказал мне, то в этом, наверное, также кроется глубокий смысл, ибо это было очень сложное дело, самое сложное для меня как исповедника. Муки раскаяния, которые ты испытал в течение этих дней, стали частью твоего испытания.
— Но… это ведь… все равно невозможно… убийство?.. — перебил его Арн.
— Слушай и не перебивай, — снова начал отец Генрих решительно, но уже более спокойно. — Мир Божий двойственен, и мы должны попытаться взглянуть на него с разных сторон. Там, снаружи, существует мир extra muros, со своими, иногда весьма странными, законами. Согласно этим законам, на тебе вины нет. Но есть высший мир intra muros, который предъявляет к нам значительно более высокие требования. Во-первых, в том, что касается этих убийств, гораздо больше греха на брате Гильберте и на мне, чем на тебе. Скоро я объясню тебе это подробнее. Во-вторых, мы должны попытаться взглянуть на твой поступок с высшей точки зрения, сколь трудно ни казалось бы это нам, грешным. Мы должны попытаться понять, каково было намерение Бога. Несомненно, он хранил тебя не для этого поступка, можешь быть в этом уверен. Главное дело твоей жизни, каково бы оно ни было, по-прежнему впереди. Но в тот день Бог использовал тебя как орудие, чтобы наказать людей, которые тяжко согрешили. Ведь было так: они, ради собственной похоти и выгоды, принуждали молодую девушку — Гудрун, которую ты впервые встретил там, на дороге, выйти замуж за человека, к которому она чувствовала лишь отвращение. Когда она в отчаянии убежала со свадьбы, они преисполнились гнева и, готовые убить любого, кто попадется им на пути, громко кричали о том, что первый же встречный — похититель невесты и по закону он должен умереть. Увидев это, Господь прогневался и поставил тебя на пути грешников, чтобы сурово их покарать. Настоятель собора Торкель не совсем был не прав, говоря, будто ангел направлял твою руку, хотя, разумеется, все его рассказы о чуде и тому подобном недостойны внимания. Ты был орудием в руках Божьих и исполнил Его волю, чего ты, может быть, и не сделал бы, если бы брат Гильберт или я не ввели тебя в заблуждение. Поэтому ты прощен и на тебе нет греха, сын мой. Твой пост заканчивается сегодня, но помни — вечером ты должен вкушать пищу умеренно, чтобы себе не навредить. Это все.
Арн не произнес ни слова, и отец Генрих терпеливо ждал, когда все сказанное укрепится в сознании юноши.
Арну нетрудно было увидеть формальную логику в том, что говорил отец Генрих, — все его утверждения основывались на абсолютной истине и смирении перед Богом. Арн устыдился своей первой мысли, возникшей после того, как он услышал слова прощения: ему показалось, что отец Генрих с чрезмерной любовью отнесся к своему духовному сыну, что именно ему он оказал особую милость, тогда как с другими он был бы строже. Плохо думать так об отце Генрихе, и Арн посчитал, что даже после прощения он вновь согрешил. Но подходящее время для того, чтобы заново исповедаться, еще не пришло.
— Наконец мы подошли к вопросу о моем собственном грехе и грехе брата Гильберта, о нашей ответственности за то, что случилось, — вздохнул отец Генрих. — За стенами монастыря в мирской жизни людей отличают и оценивают не так, как здесь, где ты стоишь не больше, но и не меньше, чем твой брат. Там в человеке люди видят в первую очередь не ближнего своего, а то, кто он — раб или король, ярл или вольноотпущенник. Для них важно, есть ли у мужчины или женщины знатные родичи. Приблизительно так ты сам и брат Гильберт оцениваете лошадей.
— Но ведь у всех людей есть предки, мы все происходим от Адама и Евы и рождаемся одинаково голыми, — возразил Арн с нотками удивления в голосе.
— Разумеется, у нас у всех есть предки. Но у одних они более знатные, чем у других, и одним достается более богатое наследство, чем другим…
— Так что если человек рождается богатым, он и остается богатым, а если у человека есть знатные предки, ему ничего не нужно делать самому, он все равно будет знатным? И тогда не имеет значения, плохой человек или хороший, умный или глупый, если он все равно знатный? — задумался Арн, делая первые робкие шаги на пути к познанию мирской жизни.
— Да, все именно так, поэтому некоторые и по сей день имеют рабов, ты ведь об этом знаешь? — сказал отец Генрих.
— Знаю… — ответил Арн с сомнением. — У моего собственного отца были рабы. Я давно об этом не думал, гоня прочь воспоминания, больше всего во время вечерних молитв я думаю о матери, реже — об отце и никогда — о том, что у него были рабы. Теперь я вспоминаю, как однажды он отрубил голову рабу, не помню почему, но эту картину я никогда не забуду.
— Боюсь, что у твоего отца и сегодня есть рабы. Он происходит из знатного рода, и это означает, что ты тоже знатного рода, подумай об этом хорошенько. На могиле твоей матери ты видел два знака, хотя мы никогда об этом не говорили. Один — голова дракона и меч, это герб твоей матери. Второй — стоящий лев, и это герб твоего отца, герб рода Фолькунгов, следовательно, ты — Фолькунг. Но ты, вероятно, не понимаешь, что это значит.
— Не-ет, — протянул Арн.
— Это означает следующее, — резко сказал отец Генрих. — У тебя есть право ездить с мечом, носить щит с гербом Фолькунгов, и, если бы эти невежды встретили тебя вооруженным, им бы и в голову не пришло на тебя напасть, а если бы у тебя не было меча и щита с гербом Фолькунгов, тебе следовало лишь назвать свое имя, Арн сын Магнуса из Арнеса, и их боевой пыл тут же бы угас. Я никогда не говорил тебе об этом, никогда не рассказывал тебе, кто ты в глазах мирян, и это было моей ошибкой. И если я могу оправдывать себя, то только тем, что мы здесь, в монастыре, смотрим на ближнего своего иначе. И я не хотел вводить тебя в искушение и заставлять думать, что ты лучше других. Мне кажется, что ты можешь понять это и простить.
— Но это не может сделать меня иным, чем я есть на самом деле, — задумчиво возразил Арн. — Я такой, каким создал меня Бог, как и все мы, такой, как ты или рабы из того мира, здесь нет ни моей вины, ни заслуги. И кстати, почему тех несчастных, которые хотели меня убить, должно было остановить мое имя? Для них я бы по-прежнему оставался монашком, который не умеет обращаться с мечом, так почему же они должны были испугаться моего имени?
— Потому что если бы они подняли на тебя руку, то никто из них не прожил бы и нескольких дней после этого. Ни один. А именно: тогда их врагом стал бы весь род Фолькунгов, твой род. Ни один крестьянин в этой злосчастной стране и не помыслит о подобном безумии. Так обстоит дело в том мире, и ты должен привыкнуть к его законам.
— Но я не хочу привыкать к столь неразумному и злому порядку, святой отец. И жить в таком мире я тоже не хочу.
— Ты должен, — коротко сказал отец Генрих. — Ибо так решено. Скоро ты вновь отправишься в этот мир, таково мое приказание.
— Я подчинюсь, но…
— Никаких «но», — прервал его отец Генрих. — Ты не должен теперь брить голову. С этого момента ты прервешь свой пост, только подумай о том, чтобы вначале есть понемногу. Сразу же после ужина ты отправишься к брату Гильберту, он расскажет другую сторону правды о тебе, ту сторону, которая тебе также неизвестна. — Отец Генрих тяжело поднялся с ветхого деревянного ложа. Внезапно он почувствовал себя старым и немощным и впервые подумал о том, что его жизнь приближается к закату, что отпущенное ему время неумолимо тает и что, может, ему не дано узнать, какую судьбу уготовил Бог для Арна.
— Но прости меня, святой отец, позволь задать последний вопрос, прежде чем ты уйдешь, — попросил Арн с таким выражением лица, словно он отчаянно пытался что-то понять.
— Разумеется, сын мой, ты можешь задать мне сколько угодно последних вопросов, потому что вопросы все равно никогда не кончаются.
— Я по-прежнему не могу этого понять, в чем заключается грех твой и брата Гильберта?
— Очень просто, сын мой. Если бы ты знал, кто ты и из какого ты рода, тебе не нужно было бы убивать. Мы утаили от тебя правду, потому что думали, что ложью сможем защитить тебя, а Бог строго нам напомнил, что из дурного никогда не получится ничего хорошего. Все просто. Но так же и из хорошего не может получиться ничего дурного, и у тебя не было злого умысла. Ну вот и все, увидимся на всенощной!
Отец Генрих оставил Арна одного на те несколько часов, которые были необходимы ему для благодарственной молитвы. Как только отец Генрих закрыл за собой дверь, Арн опустился на колени и возблагодарил Бога, Пресвятую Деву и святого Бернарда, ибо они своей непостижимой милостью спасли его душу. Во время молитв он почувствовал, что Бог словно бы отвечает ему. В его тело вернулась жизнь, словно теплая струя надежды, и наконец у него возникло столь земное чувство, как голод.
* * *
Ощущение своей доброты пьянило Гудрун и делало ее счастливой. Она и Гуннар хотели принести в дар монастырю двух красивых коней, которые составляли, пожалуй, половину того, чем владели она и ее жених, и отдать так много было для них совсем не легко. Но они должны были сделать это, и, по мере приближения к Варнхему, ни она, ни Гуннар не сомневались в правильности своего решения. Как считала Гудрун, Пресвятая Дева услышала ее сокровенные молитвы и не дала погибнуть, послав маленького монашка, который двумя ударами меча навсегда изменил ее судьбу и судьбу Гуннара. Теперь они будут жить вместе до тех пор, пока их не разлучит смерть, каждый день благодаря Пресвятую Деву за то, что она спасла их и дала им самое дорогое, что у них было в жизни.
Но даже если монашек был всего лишь орудием, ничтожеством в сравнении с Пресвятой Девой, он все равно был единственным человеком, которого могли отблагодарить Гудрун и Гуннар, и он был из монастыря — единственного места в этом мире, куда люди приносили пожертвования. Отец Гудрун всегда много говорил о значении жертвы, хотя, кажется, сам благодарил не только святых.
Когда она с Гуннаром, ее мать Биргит и сестра Гуннара Кристина въехали в рецепторий Варнхема, где принимали мирян, Гудрун почувствовала трепетное почтение к этим стенам, выложенным из камня сводам, под которыми эхо от стука копыт разносилось, словно музыка, к дивным цветам в маленьком внутреннем садике, где журчала вода. Душа ее преисполнилась торжественности — здесь как-то особенно ощущалось Божественное присутствие.
Они спешились и привязали лошадей, а тот из братьев, в обязанности которого входило принимать посетителей, любезно подошел к ним и спросил о цели их приезда. Выслушав объяснения Гуннара, монах предложил им сесть на каменные скамьи рядом с журчащей водой и послал за пивом и хлебом, который он благословил и разделил для всех, произнеся слова приветствия, а потом отправился за приором.
Им пришлось довольно долго ждать, но за это время они не проронили ни слова, наслаждаясь спокойствием этого места. Гудрун думала о том, как тяжело будет возвращаться домой пешком. Но девушка была по-прежнему тверда в своем намерении, ибо что такое две гнедые лошадки по сравнению с даром любви, который она и Гуннар получили от Бога благодаря обитателю этого монастыря?
Наконец в дальней части рецептория открылась низенькая, обитая железом дубовая дверь, и к ним вышел почтенный приор. Его волосы, лежавшие венчиком вокруг тонзуры, были серебристо-седыми, но приветливые карие глаза искрились жизнью, и это делало его моложе, чем он был на самом деле. Он благословил их, спокойно сел и, по обычаю, преломил хлеб, который он также благословил, а потом перешел прямо к делу, сказав, что хочет услышать, почему небогатые люди намерены принести служителям Господа столь ценный дар. Понять его было непросто, ибо он произносил много церковных слов, которые обычно говорят священники.
Гуннар, который должен был говорить от их имени, смутился, и Гудрун тут же взялась за дело сама, при этом жених ничуть на нее не рассердился. Она рассказала отцу Генриху, как с последней в жизни надеждой обратилась к Пресвятой Деве, и как ей был послан избавитель в лице маленького монашка, и как случилось так, что она и ее любимый теперь могут жить вместе до конца своих дней.
Сперва приор слушал очень внимательно, иногда задавая вопросы, значения которых Гудрун не понимала. Вскоре почтенный старик просиял от счастья, которое, казалось, исходило из глубины его души. Он иногда кивал, словно в подтверждение своих мыслей, а потом прочел молитву на чужеземном языке.
Затем он послал за огромным монахом, грязным и потным, который осмотрел лошадей, выражая то одобрение, то явное неудовольствие, а потом принялся что-то объяснять приору на непонятном языке.
— Благослови вас Господь за ваш щедрый дар, — сказал отец Генрих, а они напряженно следили за тем, как монах-великан подошел к кобыле, взял ее за недоуздок и стал ласково с ней разговаривать. Статный жеребец, казалось, его совершенно не интересовал.
— Ваша жертва велика, ваше желание подарить нам большую часть того, что у вас есть, заслуживает уважения, — продолжал отец Генрих. — Но мы можем принять только кобылу, а жеребец не может сослужить нам никакой службы. Однако вы не должны воспринимать это как пренебрежение, дар ваш уже принесен, и, возможно, Матерь Божья смилостивилась над вами, посчитав, что ваша жертва слишком велика. Итак, я прошу вас оставить жеребца себе.
Пока они сомневались, думая, что ответить, отец Генрих подал знак брату Гильберту, который важно поклонился им и увел кобылу. Гуннар не скрывал радости, так как расстаться с жеребцом было для него труднее всего. Кобыла всегда была немного капризной, и Гуннар очень удивился тому, как легко чужеземный монах сумел взять ее за недоуздок и провести через узкую дверь, а она при этом никак не проявила свой норов. Всем известно, думал Гуннар, монахи не разбираются в лошадях, наверное, кобыла просто присмирела, оказавшись в доме Божьем.
Когда отец Генрих обнаружил, что щедрые и благодарные гости приняли назад половину дара, он довольно опустился на скамью и, как обычно, спросил, не может ли он, в свою очередь, отблагодарить их или помянуть их в своих молитвах.
Тогда Гудрун, краснея, попросила, чтобы ей разрешили увидеть того монашка, и тут же попросила прощения за свою дерзость, добавив, что ее жених поддерживает эту просьбу.
Возможно, она ожидала, что старый священник разгневается. Но, к ее радости, он просиял, сказав, что это, пожалуй, прекрасная мысль, легко поднялся, словно был юношей, и повернулся, чтобы уйти, но вдруг о чем-то вспомнил и остановился.
— Вы встретитесь с ним без меня, — сказал он и широко улыбнулся. — Юноша только напрасно смутится, если приор будет стоять у него за спиной, ему не так часто приходилось выслушивать слова благодарности. Но не волнуйтесь, он — один из вас и поймет все, что вы скажете.
Отец Генрих на прощание благословил своих гостей и, слегка напевая, быстрыми шагами направился к дубовой двери.
Некоторое время они сидели, рассуждая о том, как следует все это понимать, но так и не могли найти подходящего объяснения. Им показалось естественным, что молодой монашек останется наедине с гостями, пусть даже женского пола, как естественным было и то, что они одни приехали в Варнхем.
И вот в рецепторий робко вошел Арн. Начав долгую благодарственную речь, Гудрун упала перед ним на колени и схватила его руки; она могла это сделать, потому что ее жених, мать Биргит и сестра Кристина стояли рядом.
Но постепенно она почувствовала, что руки, которые она держала, вовсе не были руками юнца. Они были грубыми и мозолистыми, словно руки ее отца или кузнеца. Светлый взгляд Арна, его по-детски мягкое лицо как-то не вязались с такими руками, и ей почудилось, что Пресвятая Дева послала ей не простого монаха, ибо руки его вовсе не были руками слабого юноши.
Арн стоял, краснея, и не знал, как ему держать себя. С одной стороны, он должен был уважать искренние чувства этой девушки. С другой, ему казалось, что она чересчур пылко благодарит его. Несколько осмелев, он осторожно попытался от нее освободиться и попросил ее встать. Благословив ее благодарность, он напомнил о том, что подобные чувства должы быть устремлены к небесам. Гудрун немедленно с ним согласилась, уверив, что будет делать это, пока жива.
Арн взял за руки и других, и все они почувствовали то же, что и Гудрун, ощутив его мозолистые ладони. Гости сели и на некоторое время умолкли.
Тогда Гуннар понял, что он должен что-то сказать, прежде чем будет слишком поздно, ибо если он не сделает этого сейчас, то потом всю жизнь будет раскаиваться. Мужественный и честный бонд должен уметь прямо сказать то, что думает.
И Гуннар стал объяснять, сперва короткими фразами и заикаясь, что они с Гудрун многие годы были тайно влюблены друг в друга, что они постоянно молили Бога о том, чтобы соединиться, хотя судьба была против них, а отцы отмахивались от их желаний, как от детских глупостей. Но он чувствовал, что не сможет жить без своей Гудрун. И она чувствовала то же самое. И в тот день, когда ее увезли на свадебный пир, он не хотел больше жить.
И она тоже не хотела жить. И хотя Пресвятая Дева наконец смилостивилась над ними, все равно ее волю исполнил Арн.
Перед этими словами, этой искренней попыткой простого человека на своем грубом языке выразить суть Милости, Арн ощутил глубокое уважение и благодарность. Будто вера Арна в то, что отпущение его грехов было настоящим, стала фундаментом дома, который еще был до конца не достроен. Но с даром любви, который получили эти простые крестьяне, столь искренне благодарившие его, ставшего ничтожным орудием в руках Божьих, дом словно был завершен, и все его стены, перекрытия и окна были готовы.
— Гуннар, друг мой, — сказал он, ликуя в душе, — то, что ты мне сказал, навсегда останется в моем сердце, можешь быть в этом уверен. Но единственное, чем могу отплатить вам я, — это слова из Священного Писания, и не думай об этом плохо, пока не услышишь, что это за слова. Потому что любовь победила все, и Матерь Божья, увидев вашу любовь, смилостивилась над вами. Теперь слушайте слова самого Господа, и пусть они навсегда останутся в вашем доме и в ваших сердцах:
Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: Ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; Стрелы ее — стрелы огненные; она — пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. [2]Он прочитал стихи на их родном языке, и ему пришлось повторить эти слова несколько раз, чтобы они их запомнили, а потом он сказал, из какого места Священного Писания эти Божественные слова.
Расставаясь, они снова взялись за руки, и Гудрун спросила его имя. Арн попробовал в первый раз произнести свое имя, относившееся к другому миру: Арн сын Магнуса из Арнеса. Но он не смог этого сделать, оно казалось ему слишком напыщенным. Он лишь сказал им, что его зовут Арн.
Когда Гуннар отправился в путь вместе с сидевшей перед ним на седле невестой, обняв ее за талию — теперь, когда у них остался сильный жеребец, им не нужно было идти пешком, — его грудь сильно вздымалась и ему казалось, что никогда еще осенний воздух не был столь свеж и приятен. Он ехал, держа в объятиях свою будущую жену, чувствовал тепло ее тела, слышал, как рядом с его рукой бьется ее сердце, и вместе они снова и снова повторяли слова Господа об их всепобеждающей любви.
* * *
В тот день быстро стемнело, и погода резко переменилась. Поднялась буря. Разговаривать на дворе было невозможно, и брату Гильберту и Арну сказали, что они могут встретиться в парлатории, рядом с залом капитула. Когда Арн в развевающейся на ветру рясе быстро шел по галерее, он молился о том, чтобы Гудрун и Гуннар нашли по дороге убежище от первой осенней бури, чтобы их могло согреть еще что-то, кроме любви. Хотя, думал он, любовь их настолько сильна, что защитит их как от жизненных тягот, так и от непогоды, которая сейчас бушевала на дворе.
Когда Арн пришел в парлатории, брат Гильберт, чисто вымытый, со все еще мокрыми волосами, уже ждал его. Юноша быстро открыл и снова закрыл дверь, и пламя трех свечей слегка заколебалось. Сперва они вместе прочли Патер Ностер, а потом стали молиться каждый про себя, перед тем как заговорить.
Наконец брат Гильберт поднял глаза после своей молитвы. Взгляд его выражал нежную любовь к воспитаннику, но также и глубокую потаенную печаль, которую Арн замечал у него лишь иногда.
— Я — брат нашего ордена Гильберт из Бона, ты это знаешь, — медленно начал он. — Но меня звали так и в другом ордене, родственном нашему, в нашем воинствующем братском ордене, у которого тот же духовный отец, что и у нас, и тебе известно, кто это.
— Святой Бернард Клервосский, — кивнул Арн, положив руки на тяжелый дубовый стол и склонив голову в знак того, что теперь он будет только молчать и слушать.
— Верно, он и никто другой, — продолжал брат Гильберт и глубоко вздохнул, — он и никто другой создал также Священное воинство Господне, орден рыцарей-храмовников, в котором я сражался во славу Господа двенадцать долгих лет. Это значит, что двенадцать лет я был рыцарем в Святой Земле, и в бою я встречал больше тысячи воинов, плохих и хороших, храбрых и трусливых, искусных и неумелых, и никто не мог победить меня. Как ты, наверное, понимаешь, этому есть теологическое объяснение, все зависело не только от моей физической силы. Но в данный момент я опускаю эти подробности. Следовательно, суть в том, что я никогда не встречал человека, который превосходил бы меня в искусстве владения мечом или копьем. Речь, однако, идет только о сражении верхом на лошади, и я говорю это не ради хвастовства, ты знаешь, что здесь никто не хвалится. Я говорю это потому, что так и было и чтобы ты ясно уяснил себе, у кого ты учился искусству обращения с мечом, копьем, щитом, луком и, что важнее всего, с лошадьми. Прежде чем продолжить, я должен из чистого любопытства задать тебе один вопрос. Тебе это действительно никогда не приходило в голову?
— Нет, — ответил Арн неуверенно, сбитый с толку мыслью, что в течение всех этих лет он скрещивал меч с превосходящим его соперником, у которого было благословение свыше. — Нет, во всяком случае, не сначала, ведь тогда были только ты и я. Но когда я впоследствии стал думать о людях, которые пытались убить меня, о том, как они по-детски неуклюже обращались с мечом, я удивился. Ведь ты и они, дорогой брат Гильберт, в своем искусстве далеки друг от друга, как небо и земля.
— Да, давай здесь остановимся и немного поговорим об этом, я думаю, что для тебя это не опасно, а даже полезно. — Брат Гильберт словно собирался поменять тему разговора, как будто он уже сказал то, что должен был сказать. — Если я правильно понимаю, один из них заходил сбоку и сзади и целился тебе в голову, не так ли?
— Да, кажется, так, — помедлив, сказал Арн. Ему не понравился тот оборот, который принял теперь разговор.
— Ты, разумеется, ушел от удара и одновременно поменял руку, и тогда человек перед тобой открылся, его взгляд был направлен не на твой меч, а на голову, которая, как он думал, должна была упасть на землю. Ты увидел брешь в обороне и сразу же бросился в атаку. Но ты успел сообразить, что должен быстро обернуться и прыгнуть в сторону, чтобы второй снова на тебя не напал. Ты так и сделал. Второй человек успел поднять свой меч, но должен был поменять ногу, ты увидел открытым живот, от локтя до согнутого колена, и снова ударил. Так все произошло, быстрее, чем ты или кто-либо другой успел бы подумать. Правильно?
Брат Гильберт говорил с закрытыми глазами, сильно сосредоточившись, словно он наблюдал внутри себя то, что произошло.
— Да, именно так, все верно, — ответил Арн, стыдясь. — Но я…
— Нет! — прервал его брат Гильберт и поднял руку в знак предупреждения. — Не извиняйся больше за это, ты уже прощен. Вернемся теперь к тому, что велел мне разъяснить тебе отец Генрих. А именно: не имеет значения, будь эти мужланы втроем или вчетвером, ты мог убить их всех. Честно говоря, я не думаю, что там, за стенами монастыря, тебе есть равные с мечом, по крайней мере в этой стране. Теперь представь себе, что ты и я действительно стали бы сражаться не на жизнь, а на смерть. Как ты думаешь, что бы случилось тогда?
— Ты бы ударил меня, прежде чем я успел бы моргнуть два… может быть, три раза, — ответил сбитый с толку Арн. Он не мог представить себе ничего подобного.
— Вовсе нет! — фыркнул брат Гильберт. — Я не имел в виду наши упражнения, в которых я всегда приказывал, а ты повиновался. Но если бы тебе было разрешено думать самому, если бы ты был вынужден рассчитывать сам, как бы ты стал со мной сражаться?
— Столь греховная мысль не могла бы прийти мне в голову, я никогда не посмел бы со злым умыслом поднять оружие на того, кого я люблю, — ответил пристыженный Арн, как будто он именно об этом и думал.
— Я приказываю тебе подумать, мы занимаемся теорией, а не какой-то ерундой. Ну, как бы стал драться со мной в теории?
— Я бы, пожалуй, не стал прямо нападать на тебя, — с сомнением начал Арн.
Некоторое время юноша размышлял, прежде чем послушно искать ответ на заданный вопрос.
— Если бы я совершил прямое нападение на тебя, то твоя сила и опыт быстро решили бы исход дела. Мне нужно дольше от тебя уклоняться, кружить вокруг тебя, ждать и ждать до тех пор, пока…
— Да? — сказал брат Гильберт, чуть улыбаясь. — До тех пор, пока — что?
— До тех пор, пока удача не окажется на моей стороне, до тех пор, пока передвижение не утомит тебя и твоя тяжесть и сила не будут больше твоим преимуществом. Но я бы никогда…
— Так ты поступил бы, если бы имел возможность думать самостоятельно, — прервал его брат Гильберт. — Перейдем теперь к более важным вещам. Намерение отца Генриха никогда не говорить тебе, кто ты есть на самом деле, было легко понять с чисто логических позиций, не так ли? Мы должны любой ценой уберечь мальчика от гордыни, спасти его от тщеславия, особенно когда дело касается вещей, которые считаются низменными в монастыре, но не там, где я был прежде, чем оказаться здесь. В бытность мою в Святой Земле я обучал многих братьев, когда война утихала. Но все же я видел мало людей, у которых был бы твой талант, данный от Бога, в обращении с оружием; к тому же у тебя есть два секрета, которые делают тебя очень сильным противником, и мне кажется, что один из них ты знаешь.
— Я могу менять правую руку на левую, — ответил Арн, смотря в стол перед собой. Он словно стыдился, сам не понимая чего.
— Именно, — подтвердил брат Гильберт. — И теперь я открою тебе второй секрет. Ты не такой высокий, как я. Поэтому большинство людей, которых ты, возможно, встретишь с мечом в руке, будут выглядеть выше и сильнее тебя. Но единственное, чему ты учился в течение всей своей жизни, — это именно драться против того, кто больше тебя, и это у тебя лучше всего получается. Поэтому никогда не бойся человека, который выглядит более сильным, скорее, нужно опасаться того, кто твоего роста или ниже. Но есть еще одно очень важное обстоятельство. Та опасность тщеславия, которой столь страшился отец Генрих, действительно существует, хотя, возможно, не в той форме, в какой он себе ее представляет. Я видел, как многие люди погибали именно потому, что были тщеславны, потому что в середине боя против уступающего им противника или того, кто просто выглядел меньше их, они преисполнялись высокомерия. Клянусь Богом, я видел людей, умиравших с тщеславной улыбкой на устах. Запомни это, и запомни хорошенько! Ибо даже если все твои соотечественники уступят тебе в воинском искусстве, в чем я уверен, любой из них сможет ранить или убить тебя в тот момент, когда тебя поразит тщеславие. Кара Божья падет на главу того, кто грешит с оружием в руках. Ибо так же происходит, когда речь идет о гневе и жадности. Это говорю тебе я, и ты не должен забывать этого: искусство, которому ты научился в этих священных стенах, — благословенно. Но если ты поднимешь меч во грехе, то кара Божья будет неотвратима. И в третий раз повторяю тебе, никогда не забывай этого. Аминь.
Когда брат Гильберт закончил свое объяснение, они некоторое время сидели молча — Арн отвлеченно смотрел на три дрожащих огонька свечи, а брат Гильберт украдкой поглядывал на Арна. Они сидели и словно чего-то ждали друг от друга, и никто из них не хотел нарушить молчание первым.
— Тебе, наверное, интересно, какой грех заставил меня перейти из тамплиеров в цистерцианцы? — спросил наконец брат Гильберт.
— Да, разумеется, — ответил Арн. — Хотя я не могу вообразить тебя грешником, дорогой брат Гильберт. Этого просто не может быть.
— Ты говоришь так просто потому, что не представляешь себе низкий мир, а он полон греха и искушений, он как трясина, как поле, по которому расставлено множество капканов. Моим грехом была симония — самый тяжкий грех в уставе тамплиеров. Ты вообще знаешь, что это такое?
— Нет, — честно ответил Арн, которым овладело любопытство. Он слышал о множестве грехов, тяжких и мелких, но никогда не слышал об этой симонии.
— Это означает брать деньги за исполнение службы Господу, — со вздохом ответил брат Гильберт. — В нашем ордене всегда в ходу было много денег, и поэтому иногда сложно было решить, что является грехом, а что нет. Но я не буду себя оправдывать, я признал свой грех и искупаю его по сей день. Я не удостоился умереть с мечом в руке, сражаясь за веру. Вот так. Но если бы мой грех не привел меня на эту мирную службу, то ты никогда бы не встретил меня и стал бы совершенно другим человеком, нежели ты есть сейчас. Об этом также можно поразмышлять — за всем, что происходит, стоит воля Божья.
— Я обещаю, что не обману твое доверие, не разочарую тебя, любимый брат мой, — быстро проговорил Арн, обуреваемый нахлынувшими чувствами.
— Гм, — произнес брат Гильберт, наклонился вперед и участливо заглянул в открытое по-детски лицо Арна, в его большие наивные глаза. — Пожалуй, тебе стоит подождать с обещаниями, потому что тебе придется давать их раньше, чем ты думаешь. Однако теперь наш разговор окончен, и я приказываю тебе провести ночь, с полуночной службы до заутрени, в нашей церкви. Ищи Бога в сердце своем в эту ночь, это повеление отца Генриха. Поспеши, до всенощной ты успеешь поспать несколько часов, и там, может быть, мы увидимся.
— Я повинуюсь вашим приказаниям, — пробормотал Арн, встал, поклонился своему учителю и пошел в келью, приказав себе проснуться ко всенощной и не проспать. После этого он сразу уснул.
Брат Гильберт некоторое время оставался сидеть в задумчивости рядом с дрожащими язычками пламени. Потом он задул свечи и широкими шагами направился в кузницу, где все еще трудились два послушника. Он еще не совсем закончил свою работу, теперь ему нужно было пустить в дело тайные масла, которые он привез с собой из Святой Земли, а также немного подправить орнамент.
* * *
После всенощной Арн остался один в церкви Варнхема и провел первые часы на коленях перед могилой своей матери, у алтаря. Для долгих коленопреклоненных молитв можно было взять мягкие подстилки, которые находились в ризнице.
Арн не узнавал себя, он чувствовал, что в нем словно живут два человека. Один из них, которого он знал и которым себя ощущал, — послушник Арн, скорее из Школы Жизни, чем из Варнхема. А вторым был Арн сын Магнуса из Арнеса, малознакомый, в общем чужой, представитель знатного рода. В эту ненастную ночь он молил Бога, чтобы Он помог ему найти то хорошее, что есть в этих двух лицах, он просил святого Бернарда, чтобы он направил его по верному пути, чтобы ему не погрязнуть в грехах, которыми, кажется, полон мир, и, прежде всего, не впасть в грех тщеславия.
То, что стараться избегать тщеславия так важно, он понял недавно, ибо не чувствовал за собой этого греха. Знание Арна об этом проистекало из того, что отец Генрих и брат Гильберт страшились тщеславия так, что даже пытались сохранить некоторые вещи в тайне от него.
Молясь, он не слышал бури, время остановилось. Или скорее, времени больше не существовало, когда он всем своим существом погрузился в молитву. Наконец забрезжил свет, и на заре буря утихла.
К удивлению Арна, в церковь вошел весь хор и встал за алтарем, и несколько певчих дружески и загадочно подмигнули ему. Он догадался, что сейчас будут служить прощальную службу, как обычно, когда из монастыря уезжал кто-нибудь из более важных братьев, чем он сам.
Но тут по скрипу талей и веревок он определил, что рядом со входом в церковь спускают вниз большую купель, и когда он обернулся, то увидел, что позади готовят для нее святую воду. Теперь он совершенно перестал понимать, что происходит.
Хор внезапно запел один из самых сильных псалмов, гимн о вечном царстве и вечной власти. Арн тут же заметил, что певчие настроены серьезно и поют действительно замечательно: во время некоторых песнопений, которые он тоже пел про себя, закрыв глаза, у него возникало чувство, что в груди теснятся и жар и холод, что душа наполняется высшим светом и тайная сила гимна возносит его к Господу.
Но, взглянув вверх, он обнаружил, что несколько певчих, вытянув шеи, смотрят на купель, разумеется не нарушая при этом стройности пения. Обернувшись, Арн увидел картину, которая показалась ему самой странной и неожиданной из всех, виденных им в жизни. Там стоял отец Генрих и благословлял меч, который держал перед ним брат Гильберт. Меч окроплялся святой водой, как будто его крестили. Оружие в храме Божьем — это было неслыханно!
Когда величественный гимн Те Deum был пропет до конца, отец Генрих и брат Гильберт приблизились к алтарю. Брат Гильберт нес перед собой меч на вытянутых руках, словно это была облатка или другой священный предмет. Меч был осторожно возложен на алтарь, отец Генрих начал читать Патер Ностер, и все повторяли за ним слова молитвы. Потом он повернулся к Арну и знаком показал, что тот должен подойти к могиле своей матери. Когда Арн повиновался, хор запел по-французски новый гимн, которого юноша никогда в жизни не слышал и который певчие знали не так хорошо, как все остальное. Арн был настолько поражен странностью происходившего, что до него не доходили слова гимна. Он неотрывно следил за тем, что совершалось перед ним.
Тем временем меч был взят с алтаря и помещен прямо перед ним, над могилой его матери; рукоять была направлена к алтарю, а острие — на Арна. Это был меч необычайной красоты, он отливал белой закаленной сталью, подобной которой Арн раньше не видел. Рукоять меча была выполнена в виде креста, и на ней была выгравирована надпись, которую нельзя было истолковать неправильно: IN HOC SIGNO VINCES, «Сим победишь», то есть только во имя этого знака можно победить, сразу же понял Арн.
Рукоятка меча была сделана как раз по руке Арна, он сразу понял, что она будет лежать как влитая в его ладони. Оружие сверкало новой позолотой, и при ярком солнечном свете блеск золота будет помогать отражать удары, ведь позолота эта делалась не ради богатства или тщеславия.
Отец Генрих и брат Гильберт опустились на колени, повернувшись к Арну, по другую сторону могилы его матери, и в церкви стало совершенно тихо, будто все затаили дыхание. Отец Генрих шепнул брату Гильберту, что будет лучше, если тот возьмет на себя все остальное. Монах ответил ему быстрой, понимающей улыбкой, преисполнившись величия происходящего. Затем он повернулся к Арну и взглянул ему в глаза.
— Арн, возлюбленный брат наш, — начал он по-французски, а не на латыни, и его громкий голос зазвучал под церковными сводами, — клянись и повторяй за мной следующую клятву:
Я, Арн сын Магнуса, клянусь перед Иисусом Христом, Пред Гробом Господним и Храмом, Что меч, который я принимаю, Никогда не будет занесен в гневе Или ради собственной выгоды. Этот меч послужит добрым делам, истине, чести братьев и моей собственной. С этой верой и этим знаком Я буду побеждать. Но если я не устою в своей вере, Бог справедливо покарает меня. Аминь.Арн дважды повторил клятву по-французски, а в третий раз на латыни, держа меч двумя руками. Затем отец Генрих взял меч в свои руки, поцеловал его и некоторое время держал, вытянув перед собой, читая про себя молитву с закрытыми глазами. Закончив, он повернулся к Арну, чтобы произнести несколько слов:
— Никогда не забывай своей клятвы, данной Господу, сын мой. Этот меч, который теперь будет твоим до конца жизни, — священный, его можешь носить только ты или рыцарь-храмовник. Этот меч и ему подобные — единственные, которые могут находиться в храме Божьем, запомни и это. И носи его, не колеблясь в своей любви к Богу и не нарушая чести оружия.
Чуть дрожащими руками отец Генрих протянул меч Арну, который, казалось, колебался, прежде чем принять его. Он словно боялся, что меч обожжет его.
Когда Арн взял его в свои руки, хор начал другой хвалебный гимн, которого он не знал и который также исполнялся по-французски.
* * *
Арн уехал в тот же день. Но этот отъезд из Варнхема был подготовлен лучше, чем его первая поездка, которая быстро закончилась несчастьем. Теперь он сидел верхом на жеребце Шимале, который уже сослужил свою службу в табуне на год вперед и не был нужен до тех пор, пока в нем снова не возникнет необходимость. Арна одели в серо-красную одежду, как человека из низшего мира; сам он не мог вспомнить того времени, когда носил иную одежду, чем одеяние послушника. Его волосы были коротко пострижены и равномерно покрывали голову; следы тонзуры исчезли.
Брат Ругьеро снабдил его тяжелой котомкой, которую в этот раз уже никто не смог бы отнять у него за воротами монастыря. В ней лежали также упакованные во влажные кожаные мешочки черенки, семена и косточки плодов.
На боку у Арна висел чудный меч в простых кожаных ножнах, меч, который был столь легок в руке, что казался частью его самого, и который был так идеально сбалансирован, что Арн мог без труда стоять прямо и чистить им ногти на ногах, не держа при этом меч двумя руками.
Брат Гильберт с плохо скрываемой гордостью рассказал ему все о подобных мечах и о том, что отличает их от обычных. Ну, может быть, не совсем все, добавил он стеснительно. Но остальное Арн узнает сам.
Юноша долго и взволнованно прощался со всеми. Он остро ощущал их любовь к себе, особенно глубоко почувствовав ее в последние минуты, когда услышал пение хора в красивейшей из прощальных служб.
Наконец в рецептории остались только он, отец Генрих и брат Гильберт. Отец Генрих молча кивнул ему, чтобы он садился на коня, и Арн быстро взлетел на нетерпеливо пританцовывавшего Шималя.
— Подумай напоследок еще об одном, теперь, когда ты лучше, чем в первый раз, подготовлен к встрече с другим миром, — сказал отец Генрих, но остановился, потому что чувства, казалось, переполняли его. — У тебя в ножнах могущественный меч, и ты знаешь об этом. Но помни также слова святого Бернарда: «Смотри, воин Божий, каково твое оружие? Разве это прежде всего не щит веры, шлем спасения и кольчуга смирения?»
— Да, святой отец, клянусь, что никогда не забуду этого, — ответил Арн и посмотрел в глаза отцу Генриху.
— Au revoir mon petit chevalier Perceval[3], — сказал брат Гильберт и сильно шлепнул нетерпеливого жеребца, который тут же, стуча копытами по мощенному камнем узкому переходу, вылетел в мир, лежащий за монастырской оградой.
— Все-таки как неосторожно с твоей стороны, ведь он мог упасть с лошади! — воскликнул отец Генрих.
— Арн не падает с лошадей, вряд ли ему угрожает именно это, — ответил брат Гильберт и с улыбкой покачал головой, насмехаясь над ненужной заботой своего приора.
— Кстати, не нравятся мне эти глупости о Персевале, Святом Граале и подобные вульгарные песни, — недовольно заметил отец Генрих, развернулся и сделал несколько шагов к дубовой двери. Но, как это часто случалось, ему в голову пришло еще что-то, и он остановился на полпути. — Всякие Перегнали и тому подобное, все это скоро будет забыто, как и прочие низкие истории, это просто чепуха!
— Однако ты, святой отец, кажется, прекрасно знаком с этой низостью, — засмеялся брат Гильберт с дерзостью, которую он обычно не позволял себе в разговоре с приором.
Оба монаха были явно тронуты прощанием с Арном, хотя и не хотели этого показывать. Но брат Гильберт, в отличие от отца Генриха, твердо верил в то, что встретит Арна снова. Ибо, в отличие от своего приора, он догадывался, какую судьбу уготовал Бог юному Арну.
Глава VIII
Господин Магнус среди бела дня сидел дома и, нахмурившись, пил пиво. Его мучали угрызения совести — он никак не мог полюбить своего второго сына, Арна, который был единственным утешением блаженной памяти госпожи Сигрид.
Магнусу было трудно признаться самому себе, хотя он и пытался сделать это при помощи пива, что оба его взрослых сына не приумножили честь и славу, достойную их рода. Что из того, что в жилах их текла королевская кровь, если люди показывали на них пальцем и насмехались.
Что касается Эскиля, то Магнус давно уже смирился с существующим положением вещей. В конце концов, за старшим сыном — будущее, даже если людям это трудно понять: Эскиль знал толк в торговле, умел обрабатывать землю, и в его сундуках копилось серебро, так что благодаря своему уму он оставит после себя вдвое больше, чем получит в наследство. А те, кто высмеивал Эскиля за отсутствие мужских добродетелей, были просто глупцами и ничего не смыслили в Божием промысле. Ведь Эскиль будет по-настоящему мудрым и богатым господином в Арнесе, и в этом нет никаких сомнений.
То, что его старший сын не стал воином, еще можно пережить, да и сам Эскиль, к вящей радости всего Арнеса, проживет дольше, не держа в руках щит и меч.
Гораздо хуже было то, что и второй сын не обладал этими самыми мужскими добродетелями. И это был настоящий позор! Магнус слышал, о чем шептались его дружинники: они называли Арна монашкой из Варнхема, и отец готов был скорее проглотить обиду, чем показать, что он слышит такие слова. Самое неприятное, что он соглашался с дружинниками! Магнус никак не мог понять, что же такое сделали монахи с тем малышом, которого он помнил как жизнерадостного и шаловливого и который с малолетства держал в руках лук и стрелы. С тех пор как Арн вернулся домой, за трапезой зазвучали красивые молитвы, но больше чести в доме не прибавилось.
Юноша приехал в погожий осенний день верхом на тощей кляче, которая вызвала смех, но что еще хуже, на боку у него висел меч, пригодный разве что для женщин, если только можно представить себе нечто подобное. Меч был слишком длинный, легкий, плохой ковки, слишком блестящий. Магнус сразу же поспешил распорядиться, чтобы злополучный меч убрали подальше в башню, дабы он не вызывал злых насмешек в адрес невинного мальчика.
Отец должен любить своих единокровных сыновей, это непреложный закон Божий. Но столько разочарований и обид могут обрушиться на человека, что он перестанет в конце концов испытывать это чувство по отношению к своим детям.
Другой вопрос в том, можно ли будет сделать из мальчика человека? Казалось, что он был так долго у монахов, что стал во всем походить на них. Отца вовсе не радовало, что в доме у них теперь будто поселился священник и нельзя уже больше говорить о чем угодно вечером за столом, приходилось все время следить за собой, чтобы с языка не сорвалось что-нибудь неподобающее.
Пить его сын был тоже не мастак. Это стало ясно при первой же встрече, когда Арн вернулся домой. А ведь отец так хотел устроить ему настоящий праздник! Прямо как в притче о блудном сыне, Магнус заколол откормленного теленка, а если быть точным, откормленного поросенка, что было большим лакомством. Все принарядились к пиру, и Арн надел на себя одежду, из которой уже вырос Эскиль, ибо старший братец уродился в своего прадеда Фольке Толстого.
Но в тот вечер, пожалуй, каждый заметил, что Арн не слишком-то проявляет свои мужские качества: выпил он всего лишь две кружки пива, а лакомого поросенка ел, словно женщина, держа куски кончиками пальцев. Как он ни старался угодить своим родичам, все равно было видно, что он с трудом понимает, о чем говорят за столом, не смеется шуткам, не умеет поддержать разговор, даже когда ему пытаются помочь в этом. Будто бы он и не унаследовал от своей матери ни живость мысли, ни острый язычок.
Пиво дурманит голову так же, как и развязывает язык, и Магнусу вдруг взбрело на ум, что Арн действительно в монастыре превратился в женщину. О таких историях он был наслышан от всяких богохульников, перемывавших косточки некоторым грешным монахам.
Порастеряв за пивом свою проницательность, Магнус теперь силился рассудить, что раз уж Арн легко находит общий язык с женщинами, то это означает либо мерзость греха, либо просто то, что он более склонен общаться именно с женщинами, а не с мужчинами.
Нет, все-таки есть в этом грех, сперва решил он. Потому что такие падшие мужчины похожи на женщин, а поэтому лучше чувствуют себя в их обществе.
Да нет же, все наоборот, поправился затем он. Ибо если мужчина становится жертвой такой мерзости, как скотоложство, и распутничает с телками, то разве не будет он втайне искать именно их общества? В Арнесе предостаточно молодых рабов, но люди глаз не спускают с чудаковатого блудного сына, и любая его попытка свести знакомство с каким-нибудь юношей мгновенно вызвала бы бурю сплетен и пересудов.
Нет, роль женщины он не исполнял. Это было бы самым страшным бесчестьем, которое он навлек бы на свой дом и на родичей. В таком случае его следовало бы убить, чтобы восстановить честь рода.
Магнус гневно рявкнул своим перепуганным слугам, чтобы они принесли еще пива, и те беспрекословно повиновались.
Поразмыслив над своим последним открытием и опрокинув очередную кружку пива, Магнус разрыдался от нахлынувших на него чувств. Он так плохо думает об Арне, а ведь это его родной сын, сокровище его любимой Сигрид. Что же задумал сотворить с ним Господь? Сперва Арн, еще ребенком, должен был быть посвящен Богу, все предвещало это, и не было в том никакого сомнения. Ну ладно, пусть Арн всю жизнь служит Богу, и все будет хорошо, так как Магнус вовсе не относился к тем, кто отрицал добро, которое принесли монахи людям в Западном Геталанде. Напротив, он признавал, что многие улучшения в усадьбе Арнес происходили именно благодаря монашеской мудрости.
Но получалось так, что Арн вместо того, чтобы служить Богу в монастыре, вернулся в свой отчий дом. Зачем же оставаться полумужчиной-полумонахом? Вот уж поистине верны слова о том, что пути Господни неисповедимы.
А хуже всего было то, что мальчик упорно желал трудиться в усадьбе, как простой раб. Сразу же через несколько дней после возвращения сына в Арнес кругом принялись копать, возводить каменную кладку, ковать. И ничего не изменилось, когда Магнус осторожно намекнул сыну, что тот не обязан так надрываться, потому что всегда в это время года можно нанять рабов. Уговоры отца не помогли, и Арн продолжал метаться, как угорелый, хватаясь то за одну работу, то за другую. Что выйдет из этого — неизвестно, но было бы неразумно сердиться, пока не поймешь, в чем тут дело.
Лишь одно признали в Арнесе все безоговорочно, даже самые ехидные из дружинников. Арн заново подковал всех коней в усадьбе, причем новенькими, невиданными доселе подковами, с заклепками по переднему краю копыта, которые удерживали саму подкову. Так что теперь стало гораздо лучше, чем прежде. Магнус расспрашивал и дружинников, и кузнецов, и все в один голос признали заслугу Арна.
Дело было полезное, а то, что менялось в Арнесе к лучшему, было хорошо. Так понимали это и Магнус, и Эскиль. Но одно было плохо: родной сын стоял в кузнице, весь в копоти, и работал, словно какой-нибудь раб. Причем это его ничуть не смущало. Напротив, в молитве, которую он отныне произносил за столом на настоящем церковном языке, он обычно благодарил Бога за благословенную работу, совершенную днем.
Эскиля, в отличие от его отца, такие сомнения не терзали, и он только приговаривал, что, во-первых, никогда не надо презирать чужое умение и, во-вторых, умение и искусный ручной труд, которому Арн, несомненно, научился у монахов, могли послужить и другим. Если бы Арн обучил рабов, то они потом смогли бы взять всю работу на себя. Но сперва-то они должны поучиться у Арна, ибо он — единственный, кто может им в этом помочь. Так что глупо презирать труд, который улучшает жизнь в усадьбе. Движение вперед пойдет на пользу всем.
Возможно, утешал себя Магнус, Арн многое перенял у монахов, и теперь его знания сделают Арнес сильнее и богаче. Во что бы то ни стало нужно проследить, чтобы рабы поживее научились работать так, как Арн, и тогда уж он сам перестанет надрываться наравне с ними, позоря свой род.
Гораздо лучше то, думал теперь Магнус, когда пиво сделало его чувствительным, что Арн поладил с Эрикой дочерью Юара. Магнус не знал в точности, что такое делали в поварне Арн со своей мачехой, ибо сам он там никогда не показывался, но Эрика, похоже, ходила радостная и довольная. Это хорошо, что хоть кто-то из хозяев умел ладить с Эрикой, ведь Эскиль с трудом терпел свою мачеху. Магнус все пытался зачать с ней детей, но только на третий раз ей удалось родить сына, и Магнус решил, что уж этот-то сын не будет отдан на воспитание монахам, но с детства будет расти воином и настоящим дружинником.
У Эрики был изъян, всем заметный. С виду она была пригожая, но лишь откроет рот, как сразу было слышно, что она гнусавит: из-за расщепленного нёба звук шел больше из носа, а не изо рта. Дурно воспитанные люди принимались смеяться над ней, и поэтому Эрика старалась не открывать рот в присутствии незнакомых и держалась очень стеснительно, когда в доме устраивали пир и ей приходилось занимать жен гостей. Магнус едва переносил свою жену и частенько вспоминал Сигрид, самого близкого для него человека — так он мог сказать лишь о Боге и о самом себе.
Но нельзя было забывать, что Эрика приходилась племянницей королю и в ее жилах текла королевская кровь, а потому две дочери и сын, рожденные Эрикой, также были королевского происхождения, со стороны как матери, так и отца.
* * *
Ангел почтил своим посещением Арнес. Все, чего бы он ни коснулся, сразу же становилось лучше, красивее. Он единственный из всех тех, кого встречала когда-либо Эрика дочь Юара, говорил с ней понимающе, как с равной. Он никогда не обращал внимания на то, что речь ее была неразборчивой, напротив, он сам извинялся, что подзабыл свой родной язык, потому что слишком много общался с данами. И он никогда не показывал, как его старший брат Эскиль, что Эрика дочь Юара была для них чужой, занявшей место их родной матери.
Рано утром, на рассвете, когда все мужчины еще спали после пира в его честь, Арн, трезвый, умытый, заглянул в поварню, где Эрика с прислугой уже приступила к долгой дневной работе. Он учтиво и осторожно попросил ее показать свои владения, за которые она отвечала как хозяйка дома, и они вместе обошли все поварни и кладовые в усадьбе. Из вопросов, которые задавал ей Арн, Эрика вскоре поняла, что он гораздо больше других мужчин знает, как следует подвешивать, коптить и хранить мясо, как варить рыбу, и это его совершенно не смущает.
Понемногу все в их хозяйстве начало меняться, хотя Арн предоставлял Эрике возможность принимать решения самой: он только брал ее под руку, водил по кладовым и объяснял, что надо сделать сразу, а с чем можно повременить.
Арнес с обеих сторон окружала вода. На берегу озера Венерн стоял замок с крепостными стенами — там, где два водных рукава сужались и образовывали ров. Нечистоты из дубилен и отхожего места, от забоя скота и варки пива попадали в оба потока, и Арн был уверен в том, что именно это было причиной болезней, часто поражавших детей рабов: у них были покрасневшие глаза, слюнявые рты, сыпь на коже, а грудные младенцы порой даже умирали.
Арн установил новый порядок. Теперь надлежало сбрасывать нечистоты только в восточный поток Арнеса, тогда как западный должен был оставаться чистым. Арн нарисовал Эрике на песке, как все должно быть устроено, повел ее к воде, описал детали: вот так следует провести водный поток с чистой стороны — сперва через поварни, а потом уже вывести его на нечистую сторону. Благодаря водопроводу можно будет выиграть время в работе, да и поварни будут поддерживаться в чистоте, а пища станет более пригодной для употребления. Кроме того, необходимо переустроить сами поварни: пол надо выложить камнем на строительном растворе поверх утрамбованной земли, и камень этот надо класть немного с наклоном, чтобы получался сток.
Все эти нововведения требовали времени. Быстрее пошло дело с устройством огорода между поварнями. Арн принялся расчищать все пространство между бараками рабов, а собранные отбросы отвозились к месту посадки, где они утрамбовывались или сжигались — вроде рыбных объедков и костей, которые не сразу смешивались с землей, становясь удобрением. Арн тщательно следил за тем, чтобы Эрика всем заправляла и отдавала приказания слугам, принимая решения на правах хозяйки.
Сложнее всего обстояло дело с канализацией. По мнению Арна, человеческие нечистоты были столь же хорошим удобрением, как и навоз, хотя от них было больше вреда, попади они в воду или пищу. И если раньше каждый раб в усадьбе справлял свою нужду где придется, то отныне всех заставляли ходить к специальным выгребным ямам с жердью, а тот, кто справил нужду в неположенном месте, наказывался.
Рабы тихо роптали, но Эрика дочь Юара была строгой хозяйкой и поддерживала нововведения, ибо доверяла Арну больше, чем другим.
Так как она провела пять лет послушницей в монастыре, прежде чем отец не забрал ее оттуда и не выдал замуж, она действительно знала многое из того, о чем рассказывал ей Арн. Однако она раньше считала, что в пределах монастырской ограды царил совсем другой порядок, и этот лучший порядок принадлежал к высшему миру, и что все там, в монастыре, должно было быть гораздо чище, чем снаружи, будто бы чистота имела только духовное содержание. Но вот появился Арн и открыл ей глаза, и теперь она стала думать, что этот чудесный порядок можно поддерживать не только в монастыре, но и в миру, в повседневной жизни. Она слегка краснела при воспоминании о своей оплошности, когда она при первой встрече с Арном заранее приготовила несколько латинских фраз, словно бы латынь каким-то образом могла скрасить ее физический недостаток и сделать ее лепет благозвучнее. В тот раз Арн радостно ответил на ее приветствие длинными фразами, из которых она поняла лишь половину, и ей пришлось притвориться, будто она поддерживает разговор. Но Арн быстро разгадал причину ее замешательства и перешел на их родной язык и при этом громко, чтобы слышали другие, заявил, что во всем Арнесе только они оба владеют латынью, а потому было бы неучтиво исключить всех остальных из общей беседы.
Теперь, когда она узнала его получше и они каждый день подолгу разговаривали друг с другом, она напомнила ему о своей оплошности, и они вместе посмеялись. Арн, в свою очередь, рассказал забавную историю о том, как он впервые встретился со священником в Форсхеме. Когда он увидел святого отца, ему показалось естественным заговорить с ним на церковном языке, и он учтиво приветствовал священника, назвал свое имя и сообщил, что рад вернуться в церковь своего детства. Вокруг стояли люди, и священник немедленно ответил ему, будто бы говоря по-латыни, хотя на самом деле это было не так. Арн воспроизвел его абракадабру, весело передразнивая своего собеседника, и они с Эрикой долго хохотали. А он продолжал описывать самого себя, каким озадаченным он выглядел, когда услышал из уст священника латинообразную болтовню и не сразу нашелся с ответом. Священник же воспользовался его замешательством и снисходительно пояснил окружающим, что латынь, конечно же, не так-то проста для молодых людей, — а потом извинился и, озорно подмигнув Арну, заспешил по своим делам на другой конец церковного двора.
Арн с Эрикой смеялись до слез, так что упали друг другу в объятия, и Эрика с материнской нежностью погладила его по щеке. Но тут он испугался и отпрянул от нее, стеснительно попросив прощения.
Итак, с появлением Арна в усадьбе жизнь Эрики дочери Юара стала светлее, а хозяйские обязанности сделались более легкой ношей. Теперь она поднималась рано утром, испытывая радость, о чем раньше и подумать не могла. А когда вскоре мужчины в господском доме поняли, что на столе появляется кое-что новенькое, вкуснее прежнего, они стали нахваливать хозяйку, чего прежде никогда не бывало. И главное — за тот самый копченый окорок.
У Арна были с собой колбасы и копченые окорока, когда он вернулся из Варнхема, и, хотя почти все было съедено за пиршественным пивом, так что никто уже и не помнил о монастырской пище, Эрика все же спросила его, как это готовится. И вскоре Арн занялся постройкой коптильни из просмоленных бревен. Когда коптильня была готова, он прокоптил в ней пару кусков свинины и показал ей, как это надо делать, и вот уже Эрика сама, вместе с прислугой, могла коптить свинину так, словно она получена прямиком из монастыря.
А тем временем Арн затевал уже что-то другое, и он объяснял ей, что если для простой коптильни достаточно просмоленных бревен, то для многого другого в хозяйстве требуется кирпич. И Арн на некоторое время исчез, занимаясь строительством мастерской для обжига кирпича. На восточном берегу, что выше дубильни, было много глины, которая годилась для этого. Арну пришлось потратить неделю на то, чтобы объяснить нанятым рабам, как они должны месить глину в деревянных формах, чтобы каждый кирпич получался одинаковых размеров, и как после этого следует ее обжигать, будто бы выпекаешь хлеб, хотя тут требуется больше времени и больше огня для кузнечных мехов. И вскоре рядом с поварней начала расти новенькая кирпичная кладовая. Арн часто брал Эрику с собой, показывал ей строительство и даже поднимался с ней на леса, чтобы все объяснить и описать, как будут брать лед с озера Венерн, чтобы охлаждать кладовку в жаркие летние дни. Сперва она лишь посмеялась над ним, ибо всем известно, что летом льда на озере не сыскать. И тогда впервые Арн показался ей обиженным: он молча опустил голову, словно сдерживаясь, чтобы не сказать чего-нибудь гневного. А потом мягко и терпеливо объяснил ей, как будет храниться лед и что в том, что лед можно использовать даже летом, нет никакого чуда.
В своих вечерних молитвах Эрика дочь Юара неустанно благодарила Бога за то, что он послал ей этого блудного сына, который, не приходясь ей родным, все равно обходился с ней как с матерью и сделал ее жизнь в Арнесе радостной, наполнил ее смыслом. Но она не осмеливалась признаться Богу в том, о чем думала ежедневно: Арн явился в Арнес как ангел.
* * *
Эскиль был в нерешительности, он просто не знал, что и думать о младшем брате, который вдруг в один прекрасный день появился в усадьбе верхом на своей ужасной кляче.
Первым чувством, которое испытал Эскиль, была братская любовь. Он прекрасно помнил тот день, когда расстался с младшим братом у ворот дома и когда он бежал за повозкой, увозившей Арна и, плача, упал на дорогу, прямо на колею от колес, глядя сквозь пелену слез и дорожную пыль, как Арн, по какому-то неведомому Божьему повелению, исчезает навсегда.
И когда он обнял вернувшегося Арна на том самом месте, где они некогда разлучились, он сперва подумал, до чего же его брат хрупкий, вроде как истощенный. Но потом он ощутил медвежьи объятия Арна, который так обхватил его, что Эскиль чуть не задохнулся. Это был миг настоящей радости.
Однако уже за праздничным столом в первый же вечер Эскиль почувствовал смутное беспокойство за младшего брата, который будто бы и не пировал вместе со всеми, неучтиво отказывался от угощения, мало пил, прямо как женщина, да и в остальном держался несколько странновато.
Это беспокойство усилилось, когда отец и старший брат отдалились от Арна, а тот, в свою очередь, разгадал их неприязнь, но вместо того, чтобы общаться с мужчинами, начал искать общества хозяйки и рабов. Дружинники первыми насупились и, закатывая глаза, насмешливо щелкали пальцами за спиной у Арна. У Эскиля тогда возникло желание строго поговорить с братом, но он не решился, потому что сам испытывал те же чувства, что и недовольные дружинники.
Отец отзывался об Арне односложно, и единственно разумное, к чему они пришли вместе с Эскилем, — это то, что надо подождать, и пусть пока Арн занимается делами женщин и рабов, а там можно будет уговорить его начать что-нибудь другое.
Между ними легла словно пелена — ни света, ни тьмы, — каждый был занят своим, и ни Магнус, ни Эскиль не беспокоились о том, чтобы проверить, чем там занят Арн с рабами в поварнях, в южной части Арнеса, куда сами-то они наведывались редко.
Но не заметить изменений было невозможно. На столе появились новые мясные блюда, и Эскилю особенно пришелся по вкусу копченый окорок, не такой сухой, жесткий и соленый, как из запасов на зиму, а необычайно сочный, даже слюнки текли при одной мысли о нем. И еще нельзя было не заметить, как изменилась хозяйка усадьбы Эрика, как громко, без стеснения, она говорила теперь, невзирая на свой дефект речи, и как смеялась и радовалась за столом, когда отвечала на вопросы о новых блюдах к обеду.
Эскиль всегда был за перемены, и довольно скоро он начал понимать, что его мать Сигрид была куда смышленее отца. Перемены создавали богатство, если они были на пользу, ну, а если не на пользу, так ведь их самих можно переменить. Так всегда было и должно быть в Арнесе, и именно поэтому их усадьба богаче и лучше других, где ничего не менялось.
А потому Эскиль не смог утерпеть и попросил Арна, чтобы тот показал ему, что же нового было сделано. Арн обрадовался, он был так счастлив, что готов был вскочить прямо из-за стола, чтобы показать все свои новшества старшему брату.
Они обошли всю усадьбу, и то, что увидел Эскиль, заставило его изменить свое мнение о брате. Арн был вовсе не глуп, он твердо знал, что делает, и Эскилю пришлось признаться самому себе, что он поступил неразумно, поспешно осудив младшего брата.
Когда они подошли к баракам рабов, Эскиль обнаружил, что и здесь все теперь иначе: отбросы и нечистоты убраны, все вычищено, как в хлеву зимой. Можно было даже не смотреть себе под ноги, боясь наступить в какую-нибудь грязь.
Эскиль сперва пошутил, что, мол, выглядит-то все красиво, но не стоит так уж позволять рабам жить лучше других, но тут же пожалел о своей шутке.
Арн серьезно ответил ему, что теперь, когда кругом чистота, рабы стали меньше болеть и выживает гораздо больше их детей, а здоровые рабы, разумеется, лучше, чем рабы больные, так же как живые рабы лучше, чем мертвые; и еще что зараза от больных рабов могла распространиться по всей усадьбе, и потому чистота здесь будет на пользу всем. Затем Арн поведал брату о состоянии двух водных потоков — один из них должен стать чистым, и еще о выгребных ямах, где будут копиться нечистоты, которые могут использоваться как удобрение и опять-таки послужить на пользу, а не быть во вред.
Та серьезность, с которой Арн рассуждал о столь низменных вещах, как нечистоты рабов, произвела на Эскиля двойственное впечатление. С одной стороны, это выглядело смешным, почти шуткой, а с другой — звучало настолько убедительно, что просто голова кружилась. Неужели изменения к лучшему могут происходить от таких простых вещей? Вот уж действительно, от такой малости — столько пользы, и это не будет стоить ни одной марки серебра.
Когда они поднялись к поварням, Арн показал, как отбросы будут удобрять почву на маленьких участках огорода, где можно выращивать лук и прочую зелень, в которой Эскиль мало что смыслил. Когда же он вошел в поварню и увидел, как кладут пол, его прежде всего удивило, зачем наводить такую красоту там, где работают лишь рабы да женщины. Но тут Арн впервые улыбнулся, словно солнечный луч наконец пробился сквозь облако его серьезности, и пояснил. что это делается не для красоты и не ради рабов, а для чистоты и более вкусная пища за столом пойдет на пользу всем без исключения.
Когда же Эскиль увидел новую коптильню и Арн рассказал ему, как там коптятся окорока, и еще кирпичную постройку, где планировалась новая кладовая-ледник, в которой летом будет поддерживаться холод и полумрак, — он был так взволнован, что на глазах его показались слезы. Больше он ни в чем не сомневался. Да, это точно, Арн научился в монастыре разным премудростям, хотя и не стал мужчиной, достойным уважения дружинников. Благодаря его знаниям в Арнесе теперь произойдут полезные перемены. По правде сказать, многие годы тут все стояло без движения, и, хотя дела в усадьбе шли лучше, чем у других, все равно не хватало движения вперед.
Эскиль обнял Арна и немедленно попросил прощения за то, что не разглядел в нем сразу своего настоящего брата — такого же, как он сам. Арн поспешил утешить его и сам чуть не прослезился, ибо они были весьма чувствительными. Проходившие мимо рабы с изумлением взирали на них.
Едва Эскиль заметил это, как тотчас выпрямился и строго взглянул на рабов, и те поспешили удалиться. А он предложил Арну подняться в башню и пропустить пару кружечек пива.
Арн сперва попытался сказать что-то о занятости, о работе, о том, что только в конце дня можно наслаждаться плодами рук своих, добытыми в поте лица, но тут же изменил свое намерение, поняв, что не стоит навязывать правила монастырской жизни своему брату. Ведь он сам ждал этого признания, молился о нем и страдал, чувствуя прохладу и неприязнь со стороны брата и отца. И Арн надеялся, что они со временем поймут: он делает все правильно. Так что не будет большим прегрешением, если он выпьет сейчас пива со своим братом, хотя и в разгар рабочего дня.
* * *
Магнус искал оправданий тому, что не брал с собой Арна в Норвегию, где надо было решить дела о наследстве родичей. К норвежской родне опасно было брать даже Эскиля, ибо норвежцы, принимая гостей, быстро хватались за оружие, едва их крепкое пиво начинало оказывать свое действие, и тот, кто был недостаточно проворен и ловок или же недостаточно стар, чтобы отказаться от юных забав, рисковал своей жизнью в стычке с хозяевами. Несмотря на это, он все же хотел взять с собой Эскиля, ибо дело представлялось сложным и необычным, а Эскиль, даже после многих кружек пива, сохранял способность к трезвому расчету и мог вычислить, что сколько будет стоить в серебре. Они подробно обсудили это дело и решили, что разумнее всего будет продать норвежское наследство, даже если кому-то это придется не по вкусу. В Норвегии, как и в Западном Геталанде, считалось делом чести сохранить свое наследство в целости и не дать ему распылиться среди прочих родичей, однако выгода от двора на берегу большого фьорда невелика, коли сам там не живешь. Если же жить в Норвегии постоянно, то можно пользоваться тем, что фьорд круглый год не замерзает, а потому вести торговлю там выгоднее, чем на озере Венерн.
Конечно, можно было бы посадить в усадьбе наместника или норвежского родича, но Магнус и Эскиль полагали, что такой порядок превратит их владения в совершенно неприбыльное дело и останется лишь удовлетвориться самим правом собственности, тогда как получить ничего не удастся, ибо ни один норвежский родич не в состоянии будет платить хозяевам выгодную аренду.
Если же продать усадьбу, то можно будет выручить за нее серебро и потратить его на что-нибудь стоящее. Ибо теперь, когда Арн вернулся домой, предстояло подумать о будущем его наследстве. И в таком случае неплохо было бы прикупить земли вблизи от Арнеса или на границе с Эриковым родом, к югу от Скары. Или почему бы не купить землю у рода Поля, возле Хусабю? Любая такая возможность была бы уж наверняка лучше и надежнее для Арна, чем жизнь в усадьбе среди воинственных норвежцев.
А тем временем вопрос о том, что сказать Арну о поездке в Норвегию, чтобы при этом не обидеть его, отпал сам собой. В ту осень раб Сварте и его сын Коль охотились на оленей и кабанов. Они вернулись домой со знатной добычей. У Арна с Эрикой прибавилось дел в новой коптильне — Арн был уверен, что мясо диких животных лучше всего коптить, а не солить или сушить. И как раз перед поездкой в Норвегию, когда приближался неприятный разговор между Магнусом и Арном о том, что неразумно показывать норвежцам мягкотелого сына, Арн сам пришел к отцу. Он хотел сопровождать Сварте и Коля на охоту, чтобы поучиться этому искусству.
Магнус обрадовался невероятно. Теперь-то он уж точно избежит мучительного объяснения по поводу норвежских родственников, пива, мечей и секир. А кроме того, Арн впервые проявил интерес к тому, что относилось к жизни хевдингов. Хороший охотник пользовался большим уважением, даже если он был рабом.
Впрочем, Магнус не питал особых надежд на то, что Арн, наполовину монах, сумеет научиться сложному и чисто мужскому искусству охоты.
Сварте тоже не верил в это, однако повиновался. Услышав, что он должен взять с собой младшего сына хозяина, он сразу понял, что ему предстоит. Однажды, две осени тому назад, его заставили взять на охоту старшего, Эскиля, который тогда еще не стал круглым, как пивная бочка, но все равно был охотникам в тягость, и потому их охота окончилась ничем. Нелегко сговориться с хозяйским сыном, который берется за то, в чем ничего не смыслит.
Младший сын, Арн, вызывал у Сварте еще большие сомнения, чем господин Эскиль, который все же походил на своего отца. Другие рабы много рассказывали об Арне, отмечая, что он человек дельный и умеет многое такое, чего не умеют сами хозяева, и к тому же мягкий по нраву. Он ни на кого не поднимал руку, никого не приказывал выпороть, даже ни с кем не разговаривал грубо.
Сварте полагал, что эта особенность была как-то связана со странной верой хозяев, а вовсе не с тем, о чем поговаривали дружинники. Ибо вера хозяев была во многом непостижимой. У них было так много богов, что за ними не уследишь, и эти боги постоянно наказывали людей ни за что ни про что, и что самое странное, наказывали даже за помышления. Словно боги могли подслушать, о чем думает человек! И словно они, если и подслушали бы что-то, стали бы раздавать наказания за всякую ложную мысль!
А что касается этого самого Арна, то Сварте хорошо помнил, как тот, еще мальчиком, стоял наверху, на башне, высматривая галку, а потом упал оттуда, но ему повезло, и он угодил в сугроб. Разумеется, мальчик какое-то время был без сознания, и хозяева молили своих богов сохранить ему жизнь, обещая им все возможное и невозможное, а закончилось все тем, что они отослали мальчишку в монастырь, то ли в наказание себе, то ли ему. Сварте трудно было разобраться в этом.
Теперь наказание закончилось, и Арн вернулся домой, но стал непохожим на других. Сварте видел, как Арн работает в кузнице, и невольно должен был признать, что ему, собственно, и научить-то нечему этого парня, хотя сам он считался в Арнесе лучшим кузнецом. По правде говоря, это было даже обидно, и проглотить обиду было нелегко.
Когда они собирались вместе на охоту, произошло еще много такого, что сильно озадачило Сварте. Так как с ними шел хозяйский сын, им было позволено выбрать в башне оружие. Наблюдая за тем, как Арн выбирал себе лук, пробуя тетиву, причем без малейшего усилия, Сварте понял, что сын хозяина привык держать в руке оружие. Решив, какой именно лук он возьмет, Арн стал тщательно выбирать стрелы. У Сварте были весьма смутные представления о том, чем занимаются верующие в Белого Христа в своих монастырях, и то, что они совершенно определенно умели стрелять из лука, явно не совпадало с едкими шуточками в их адрес, которые отпускали и Сварте, и другие рабы.
Когда они вывели верховых лошадей, чтобы седлать их, Коль осторожно намекнул, что Арн, как господский сын, вправе выбрать себе коня по вкусу, и он уж точно будет лучше, чем его неказистая монастырская кляча. Но Арн только посмеялся в ответ, впрочем беззлобно, и сказал, что как только они выедут на открытую местность, он им покажет, что это вовсе не обыкновенная кляча.
Сварте был знатоком лошадей не больше, чем другие, но и не самым плохим. Он обычно подковывал лошадей в Арнесе, теперь уже новыми подковами, которые, по правде говоря, были гораздо лучше прежних, и ездил верхом, как и все остальные — свободные люди или рабы, бонды или дружинники. Но так, как скакал Арн, Сварте скакать не умел, и это он сразу же признал. Когда они отъехали от Арнеса на некоторое расстояние, Арн начал проделывать со своим конем такие вещи, которые никто другой не сумел бы, и в этом Сварте и Коль согласились между собой. Его лошадка, которая с виду была неказистой, пока стояла смирно, на самом деле оказалась сильной и быстроногой, едва Арн сел в седло, и, глядя на нее, невольно думалось о коне Одина.
Охотникам не всегда было легко понять Арна, они часто переспрашивали друг друга, и их это смущало, так что в первые часы они ехали почти не разговаривая.
Как только они достигли дубравы Чиннекулле возле Хусабю, выяснилось, что Арн все же был некудышным охотником, как и его брат. Но его отличало от господина Эскиля то, что он понимал, когда совершал ошибку, извинялся и расспрашивал, что и как надо делать.
Так было, когда они впервые приблизились вплотную к оленям, отдыхавшим в лесной прогалине. Сильный ветер дул охотникам в лицо и шуршал сухой осенней листвой. Это обмануло чуткий слух животных, и охотникам удалось приблизиться к ним на расстояние выстрела. Сварте и Коль уже давно заметили оленей, но Арн увидел их внезапно и возбужденно заговорил. Животные, услышав голос Арна так же отчетливо, как Сварте и Коль, тут же вскочили и унеслись прочь.
В тот вечер у костра Арн задавал много детских вопросов. Сварте и Коль терпеливо отвечали юноше, не показывая, что они думают на самом деле. Да, охотник всегда должен подбираться к зверю против ветра, иначе олени и кабаны, да и все остальные заметят его. Да, они слышат человека на расстоянии полета стрелы, если вокруг тишина и безветренно. В противном случае — на полпути. Нет, нельзя убивать оленей с рогами, такие хуже всего на вкус, особенно в этом году, когда только что прошла течка. Да, течка — то время, когда самцы покрывают самок, и тогда их мясо сильно пахнет мочой. То же самое относится и к кабанам. Не следует убивать боровов, лучше — кабанчиков средних размеров. Если удается подстрелить свиноматку с поросятами, то это хорошо, ибо, когда она умирает, вокруг нее собираются все поросята, и если повезет и боги помогут, то можно убить и поросят, а мясо их на вкус — лучше не найти.
Пока они сидели у костра и учтиво отвечали на наивные вопросы хозяйского сына, неподалеку в дубовой роще вдруг послышался страшный рев. Арн в страхе вскочил и схватился за лук, вопросительно взглянув на Сварте и Коля. Но те сидели молча и улыбались. Увидев, что они не напуганы, Арн удивленно сел на место.
Сварте объяснил, что темные люди называют этот рев всем, чем угодно, начиная от воинственного клича горного короля и кончая воплями троллей, которые мстят людям. Конечно, вся эта нечисть существует, но на самом деле так рычит старый олень-самец. Звук этот пугает многих, ибо он самый громкий в лесу, но для охотника — большая удача услышать его, это значит, что через несколько часов, когда забрезжит рассвет, можно будет найти оленух, за которыми бегает старый самец. Если следовать за оленем, за его силуэтом в темноте, особенно ранней осенью, то можно добраться до оленух с оленятами, а мясо их годится для жарки, соления и вяления.
Незадолго перед рассветом они тихо и осторожно вступили в лес, чтобы, прислушавшись, попытаться определить, где находится старый олень и его оленухи. Трудно было идти тихо, так как ночью случились заморозки и под ногами шуршали подмороженная дубовая и буковая листва и желуди, даже когда почти неслышно двигались Сварте и Коль. Когда же шел Арн, то казалось, будто по лесу едет целая дружина в полном вооружении. Охотники думали про себя, не смея высказать это вслух, что для чутких оленей топот Арна вообще походил на гром.
Сварте не решался приблизиться к оленям, и охотники вышли на поляну в дубовой роще, возле небольшого озера. Им навстречу дул слабый ветерок — Сварте, а тем более Коль всегда шли против ветра. Однако озеро лежало на другой стороне поляны, в направлении движения ветра, и от воды поднимался плотный туман, а потому охотники могли слышать призывный рев старого самца совсем рядом, но едва различали оленух, время от времени мелькавших в тумане. Они были слишком далеко, и ничего нельзя было поделать. Если бы охотники попробовали подкрасться поближе и выйти на поляну, они тотчас обнаружили бы себя. Оставалось не двигаться с места и надеяться на лучшее.
Прошло немного времени, и Арн, наученный горьким опытом, спросил как можно тише, почему они не стреляют. В ответ охотники прошептали, что расстояние слишком велико и оно должно сократиться вполовину, чтобы выпущенная стрела попала в цель. Недоверчиво посмотрев на них, Арн возразил, что он мог бы попасть и отсюда.
Сварте хотел было поспорить с ним, но разумно рассудил, что пусть уж лучше Арн учится на собственных ошибках, чем согласится с рабом, и лишь коротко повторил то, о чем уже говорил вечером у костра. Целиться под лопатку, в легкие. Тогда, при метком выстреле, олень остается неподвижен. Ниже под лопаткой находится сердце. И если попасть в него, то олень вскидывается от страха, и этот страх передается другим животным. Когда же стрела попадает в легкие, олень замирает на месте и можно успеть подстрелить еще одного.
Арн вложил стрелу в тетиву, зажав ее большим пальцем левой руки, и перекрестился. Охотники замерли в ожидании.
И вот через некоторое время, которое показалось Арну дольше, чем двум другим, в тумане стали различимы три оленя. Они чутко вслушивались в лесные шорохи. Видны они были хорошо. Арн легко тронул Сварте за плечо, спрашивая глазами. Сварте тихо шепнул, что олени стоят удачно, но слишком далеко. Арн кивнул ему в знак того, что он понял.
Затем он внезапно натянул тетиву, прицелился в олененка, стоявшего ближе всех, и не колеблясь выстрелил. Охотники слышали, что стрела попала в цель, а олененок стоял неподвижно, словно не понял, что смерть уже настигла его. Арн выстрелил снова. И еще раз, не мешкая ни минуты. Теперь было слышно, что олени понеслись прочь.
Арн хотел сразу же броситься к озеру, в туман, чтобы взглянуть, что там. Но Коль ухватил его за рукав, сам же испугавшись своего жеста. Однако Арн нисколько не разгневался и лишь кивнул в знак согласия. Им пришлось еще долго дожидаться, когда наконец солнечные лучи рассеют этот танец эльфов, как зовут в народе туман.
Сварте и Коль устроились около дерева и задремали. Арн сел поблизости, но спать не мог. Он стрелял с меткостью, на какую только был способен, и точно знал, что первые две стрелы попали в цель, но сомневался в третьем выстреле, чувствуя, что здесь что-то неладно. Может, он поторопился или слишком нервничал. Сердце его билось так громко, что, казалось, олени слышали этот стук.
Когда солнце было уже высоко и разогнало туман, Сварте проснулся и разбудил сына. Все вместе они отправились на поляну, взглянуть на убитых оленей.
Тот олененок, которого Арн подстрелил первым, лежал там, где его настигла стрела; иного и нечего было ожидать, как объяснил Сварте, глубокомысленно взирая на тушу. Стрела прошла через легкие и вышла с другой стороны. Поэтому олененок упал там, где стоял. Он не почувствовал боли и не успел убежать.
Оленухи не было видно, но Сварте и Коль сразу же обнаружили кровавый след. Изучив кровь, они кивнули друг другу. Коль сказал Арну, что эта оленуха тоже бьша поражена в легкие и она наверняка лежит где-нибудь поблизости, так что они ее быстро найдут. Коль воткнул в землю стрелу там, где они увидели кровь, а потом вместе с отцом медленно, наклонившись к земле, они дошли до того места, где, как они помнили, стоял третий олень, когда Арн выпустил в него стрелу. На траве виднелась кровь, и охотники потерли ее между пальцами, понюхали и понимающе переглянулись.
Сварте пояснил, что эта оленуха была не убита, а смертельно ранена и сейчас где-то бьется в агонии, поэтому они могут пойти и не торопясь забрать своих коней, так как не стоит слишком рано отправляться на ее поиски. Она должна спокойно умереть.
Все оказалось именно так, как говорили охотники. Вторая оленуха, которую Арн уложил последним выстрелом, лежала мертвой на большом расстоянии от поляны. Сварте показал, что стрела Арна прошла слишком низко, но, когда Арн начал извиняться, он не смог скрыть улыбки. Сварте серьезно объяснил, что, даже если олень стоит в удобном для охотника месте, в момент выстрела он все равно мог сделать маленький шаг вперед, пока летела стрела. Именно это и произошло.
До самых сумерек они охотились на оленей, но безуспешно. Как сказал Сварте, ветер стих и животные теперь чутко улавливали все движения человека.
Тем не менее, когда наступила ночь, охотники пребывали в хорошем настроении, и три убитых оленя висели в ряд на крепкой дубовой ветке. Удача все же улыбнулась охотникам.
У костра Сварте и Коль в надежде, что господский сын не поймет, чем они занимаются, принесли в жертву своим богам сердца оленей, повернувшись к Арну спиной и бормоча над огнем что-то на своем языке. Когда же они собрались ужинать, Коль принес гибкие ореховые прутья и подвесил их над уже затухающим костром, нанизав на них кусочки печени и почек вместе с луком, который Сварте достал из своей кожаной сумы. Сварте и его сын засомневались: всем было известно — такая еда не годится для господ. К изумлению рабов, Арн сразу же изъявил желание отведать их пищи и ел с тем же аппетитом, что и оба охотника, да еще попросил добавки, отодвинув в сторону свое сало. После совместной трапезы охотники стали гораздо меньше стесняться хозяйского сына.
Насытившись, они довольные лежали у костра, завернувшись в свои плащи, и тогда Сварте осмелился спросить, действительно ли можно научиться стрелять из лука в монастыре Белого Христа. Арн, поняв, что охотник одобряет его выстрелы, повеселел. Он подумал о том, что недолго довелось ему брать уроки у такого учителя, как брат Гильберт, и ответил, что случается это нечасто. Обычно монахи не стреляют из лука, но ему самому повезло, ибо у него был искусный учитель. Сварте и Коль добродушно рассмеялись, а Коль прибавил при этом, что хотели бы они повстречать такого учителя. Но когда Арн ответил им в том же веселом тоне, что такая встреча возможна, если Сварте и Коль примут святое крещение, то оба раба помрачнели и молча уставились на огонь.
Пытаясь загладить неловкость, Арн уверил их, что, как бы они ни думали о монастыре Белого Христа, — это мир, в котором нет рабов и каждый имеет равную ценность и достоинство с другими людьми. На это ответом ему было молчание. Но ему не хотелось менять тему, и он спросил, стараясь выражаться понятно и просто, отчего это Сварте и Коль до сих пор остаются рабами, как и во времена его далекого детства, ведь многие другие уже стали свободными людьми.
Сварте был вынужден что-то ответить, и он очень неохотно пояснил, что те рабы, которые обрабатывали землю, получали свободу легче, чем те, которые строили или охотились. Крестьян используют, чтобы распахивать новые земли для Арнеса, к они получают свободу в обмен на аренду. Однако охота — добывание шкур зимой и мяса осенью — непосредственно относится к ведению хозяйства в самой усадьбе, и потому невозможно стать свободным человеком, если ты охотник, так как постоянно приходится трудиться на Арнес. То же самое относилось и к плотникам, и к кузнецам. Словно бы решив, что он зашел слишком далеко и заговорил неподобающе смело, Сварте прибавил, что он вовсе не жалуется и что многие плотники — в таком же положении.
Охотники молча ждали, что им ответит хозяйский сын, и Арн, подумав, сказал, что находит эту систему несправедливой, потому что, если он правильно понял, шкурки горностая и куницы приносят столь же хорошую прибыль, как ячмень, репа и пшеница. Тут Коль рассмеялся прямо ему в лицо, и, когда Арн спросил, почему он смеется, тот с издевкой в голосе ответил, что, пожалуй, трудновато будет найти способ сделать рабство справедливым. Сварте толкнул его ногой, чтобы заставить умолкнуть.
Но Арн нисколько не рассердился на дерзкие слова Коля, даже наоборот, молча кивнул своим мыслям и попросил прощения за то, что ошибся. Сам же он никогда не хотел и никогда не захочет иметь рабов.
Сварте и Коль не нашлись что ответить, и их беседа иссякла. Арн прочитал за всех вечернюю молитву, завернулся в свой плащ и шкуры, и было видно, что он раньше спал под открытым небом и знает, как надо укладываться, чтобы не замерзнуть. Он сделал вид, что не слышит, о чем шепчутся между собой охотники.
А Коль и Сварте никак не могли уснуть. Они лежали, прижавшись друг к другу, чтобы подольше сохранить тепло, и все говорили об этом странном хозяйском сыне и о его странных богах.
* * *
Из-за ночных заморозков они поднялись рано, еще до рассвета, и позавтракали похлебкой, которую Коль начал готовить с вечера и которая всю ночь варилась на костре. Сварте и Коль по очереди подкладывали дрова в огонь и подливали воды в котелок. С похлебкой, сваренной из луковиц и оленьих желудков, они ели грубый коричневый хлеб, и вскоре тепло вернулось в их тела.
Утро было прекрасным, и они, на тяжело навьюченных лошадях, ехали вниз по склонам Чиннекулле, покрытым редким дубовым лесом, а у их ног расстилался весь Арнес от края до края. Охотники скакали в лучах восходящего солнца, которое окрасило озеро Венерн сперва в серебро, потом в золото. Арн радостно вдыхал свежий воздух. Он заметил, как вдали блестит церковь Форсхема, и смог отыскать взглядом место, где находилась его усадьба, хотя она была еще не видна.
Вдоль горных склонов тянулись густые дубовые и буковые леса, а у подножия гор лежали обширные пашни. Сейчас они были черные, слегка посеребренные инеем. Арн ехал и думал, что никогда мир не был бы таким красивым, если бы Бог не создал Своей любовью все эти горы, дубравы, поля. Он даже запел от радости, но, заметив, что это пугает Сварте и Коля, вскоре перестал. Арн преодолел желание спросить, почему им не нравится его пение, почему боятся они Белого Христа. Он сдерживал себя, понимая, что должен запастись терпением в общении с ними, ибо внутренне эти люди оставались рабами и свобода скорее пугала их, чем прельщала.
Пока они ехали, восходящее солнце растопило иней, и железные подковы коней теперь уже не цокали так звонко. Волны Венерна сделались синими, но охотники уже спустились с горы, и озеро пропало из виду.
Они приехали в Арнес около полудня, и их встретили радостными возгласами: ведь после такой короткой охоты они привезли с собой трех оленей! Все слуги радовались, что именно Арн подстрелил оленей, они поднимали вверх все, что было у них в руках, — разные плошки, поварешки и стучали ими над головой, издавая при этом трели. Так выражали рабы свое ликование. Видя, как их встречают, Арн не мог не преисполниться гордости, но тотчас обратился к святому Бернарду с мольбой о помощи и избавлении от опасного высокомерия.
Охотники быстро содрали с оленей шкуры и разделали туши. Шкуры отнесли в дубильню. Теперь они уже были не в лесу, где Арн выступал их учеником, нет, теперь речь шла о мясе, и здесь все решал только Арн. Сварте и Коль учили его искать следы крови и осторожно ступать по промерзшей земле, а он может научить их, как надо подвешивать и коптить мясо, и потому считал совершенно естественным распоряжаться единолично.
Ноги и лопатки были отправлены в коптильню. Спины Арн приказал подвесить на новеньких железных крюках в новой же кирпичной кладовке. То, что осталось от сердец, печени, почек и желудков, он не колеблясь послал домой Сварте и Колю. Затем он подробно описал Эрике дочери Юара и ее прислуге, сколько времени требуется для копчения ног и лопаток, а сколько — для мяса. Когда все приказания были отданы, он учтиво спросил Сварте и Коля, не лучше ли будет снова отправиться на охоту, тогда они успеют добраться до леса к вечеру и смогут поохотиться уже завтра утром. Рабы удивленно посмотрели на него и согласно кивнули в ответ. Коль захватил с собой новые овечьи шкуры и свежеиспеченный хлеб, и они отправились в путь.
По дороге к Чиннекулле Арн осторожно выспрашивал, не слишком ли быстро они поскакали в лес и не собирались ли охотники заночевать дома, в теплой постели, или же они тоже хотели поохотиться. Рабы отвечали Арну уклончиво, и он понял, что они вовсе не жаждали так скоро снова отправиться в путь. Он догадывался, что их уклончивость была вызвана тем, что они никогда и ни с кем не говорили честно и искренне. И он подумал, что сразу они не изменятся. Он сам должен давать им хороший пример, это единственно верное. Нельзя спасти эти души, строго приказывая.
Когда охотники достигли склонов Чиннекулле, они заметили в отдалении кабанье семейство. Сварте увидел кабанов первым, придержал коня и показал пальцем в их сторону. Арн долго всматривался в дубовый лес, прежде чем увидел животных, причем они оказались гораздо ближе, чем он предполагал. Кабаны стояли тихо, повернувшись в сторону охотников, словно почуяли опасность и выжидали теперь, что предпримет враг. Вокруг росли редкие могучие дубы, так что пространства для коней хватало.
Арн на своем Шимале приблизился вплотную к сильному северному жеребцу Сварте и спросил, не следут ли подстрелить кабанов прямо сейчас. Сварте постарался как можно вежливее ответить, что если они подъедут ближе, то спугнут животных. Арн нетерпеливо возразил, что он все понимает, но неужели маленькие кабанчики бегают быстрее коня?
Услышав этот глупый вопрос, Сварте напрягся, чтобы сохранить вежливость, и Арн заметил это по его тяжелому дыханию. Словно объясняя ребенку, Сварте сказал, что на равнине конь, может, и догонит кабана — особенно такой, как у Арна. Но здесь лес, это во-первых. И во-вторых, даже если он догонит кабана, то что он сможет делать дальше, верхом на коне?
Арн заулыбался и молча снял со спины лук. Он легко тронул тетиву, будто бы это был не самый тугой лук во всем Арнесе, достал из колчана несколько стрел и засунул их под руку, державшую лук, затем снял с коня часть поклажи и отдал ее Сварте. Потом он спросил, каких кабанов подстрелить лучше, когда он их догонит. Сварте опустил голову и, незаметно кусая себе губы, чтобы не рассмеяться, ответил, что лучше убить тех, что средних размеров или даже поменьше.
Арн кивнул ему и спокойно пустил коня рысью прямо на кабанов, словно думал, что они так и будут стоять на месте, дожидаясь смерти. Сварте и Коль молча обменялись насмешливыми взглядами и пожали плечами.
И в тот же миг конь Арна рванулся вперед, так что показалось, будто он взлетел над землей. Сварте и Коль успели заметить, как Арн выпустил первую стрелу, стоя в седле, и она попала в цель. А потом слышался только стук конских копыт, шуршание дубовой листвы на горном склоне да кабаний визг.
Сварте и Колю требовалось время, чтобы во всем разобраться. Они видели, как Арн подстрелил первого кабана, нашли убитое животное и быстро освежевали тушу. Но потом пришлось потрудиться, чтобы заставить молодого господина рассказать, где он находился, куда стрелял и в какую сторону метнулся раненый кабан. Арн был возбужден и не мог толком объяснить, как было дело. Однако когда стемнело, все три кабаньи туши уже висели на ветке, как и положено.
Охотникам пришлось разбить лагерь гораздо ниже по склону Чиннекулле, чем они думали, но это было оправдано. Ведь они так удачно и легко подстрелили целых трех кабанов! И туши надо было везти побыстрее в Арнес, ибо кабанье мясо портится гораздо быстрее оленьего.
У костра им снова было трудно начать разговор. Но в конце концов Сварте, опустив глаза, признал то, что нельзя было не признать. Ни один человек не смог бы скакать быстрее и одновременно стрелять из лука так, как Арн, особенно в лесу. Это можно сделать только при помощи колдовства.
Арн сперва испугался, поняв было, что колдовство столь же тяжкий грех для язычников, как и для христиан. Он пустился в долгие рассуждения о том, что никогда бы не стал прибегать к такому средству, потому что это грешно. Но вскоре Арн обнаружил, что рабы его отца вовсе не считали колдовство грехом и даже, наоборот, проявляли любопытство и желание им заняться, коль скоро это полезно на охоте. Для них колдовство было делом хорошим.
Сделав это открытие, Арн стал размышлять, что же им ответить. Наконец он заговорил, пытаясь объяснить, как многие годы упражнялся в стрельбе на отличных скакунах, таких, как Шималь, и учил его отличный знаток лошадей, и только поэтому он умеет стрелять, стоя в седле.
Но вскоре он почувствовал, что рабы ему не верят. Коль, который был откровеннее своего отца в общении с Арном, говорил загадками, словно считал, что Арн просто не желает делиться своими секретами, но оно и понятно, ибо он, Коль, и его отец — рабы, тогда как Арн господин.
На это Арн просто не нашелся что ответить и лишь долго молча молился в душе, прося святого Бернарда сделать так, чтобы Сварте и Колю когда-нибудь все-таки открылась истина и чтобы эта истина была свободна от всяких подозрений.
* * *
Альгот сын Поля из Хусабю владел многими дворами и угодьями, но сам он считал, что у него есть два главных сокровища. Это его дочери Катарина и Сесилия, юные девушки, которые расцвели, как два нежных цветка. Они — свет его очей, как он любил с гордостью повторять. Однако девушки были крутого нрава и шаловливы, особенно старшая, Катарина, и отца это очень огорчало. Но об этом он вслух не говорил.
Когда Катарине исполнилось двенадцать лет, отец попытался обручить ее с Магнусом сыном Фольке из Арнеса. Вот было бы счастье в Хусабю, и свет просиял бы во тьме, которая настала со смертью жены Альгота, Доротеи дочери Рюрика; она умерла при родах, а с нею — и сын Альгота.
Если бы он выдал старшую дочь за человека из рода Фолькунгов, то он бы сравнялся с королевским родом или даже, учитывая все его владения, окруженные землями Фолькунгов и Эрикова рода, возвысился бы над ним. Конечно, он являлся наместником короля Карла сына Сверкера в Хусабю, королевской усадьбе. И была та усадьба, раскинувшаяся на склонах Чиннекулле, гораздо больше и красивее его собственных владений.
И все же находиться в таких тесных отношениях с королем Карлом сыном Сверкера было вовсе не безопасно, если живешь в Западном Геталанде, ибо род Сверкера был столь же силен в Восточном Геталанде, как слаб — в Западном. Карл сын Сверкера не осмеливался называться здесь королем, он был лишь ярлом Западного Геталанда, и с этим пока соглашались Фолькунги и Эриков род. Но даже самый беспечный человек, думающий лишь о себе, должен был бы поразмыслить о том, что может случиться в будущем. В тот день, когда король Карл будет убит, как обычно бывает с королями, станет не так-то легко жить в Хусабю.
А потому все бы устроилось к лучшему, если бы Катарина стала хозяйкой Арнеса. Тогда бы уж точно Альгот подстраховался и не сложил бы все яйца в одну корзину. Кто бы в итоге ни победил в борьбе за власть, его род оказался бы связан семейными узами с другими родами и сохранил бы себе жизнь и богатства.
Но все развалилось, так как Магнус сын Фольке предпочел жениться на женщине из рода Эрика. Альгот не мог упрекнуть Магнуса за этот разумный шаг, и ему оставалось лишь сетовать на собственное невезение. Они с Магнусом обсуждали эту тему, и Альгот знал, что оба они думают одинаково и придают особое значение тому, что их земли граничат друг с другом.
Было еще не поздно упрочить свое положение. У Магнуса был сын, одного возраста с Катариной и Сесилией, и сын этот, Эскиль, в свое время станет хозяином Арнеса. Такой вариант был даже лучше, не то Катарине пришлось бы выходить замуж за человека в летах, тогда как сама она была еще почти ребенком.
Оставалась проблема с шаловливостью дочек. Ни та, ни другая не вели себя с молодыми людьми скромно, чего вправе был требовать каждый отец, и, когда их поведение начало вредить их репутации, а в худшем случае могло и испортить ее окончательно, сделав невозможным замужество, Альгот решил разлучить дочерей. Катарина оставалась дома, Сесилия же была отдана послушницей в монастырь Гудхем. А когда Сесилия вернется домой, то настанет очередь Катарины отправиться в Гудхем на воспитание, и к тому же получить множество полезных знаний, которые пригодятся будущей хозяйке Арнеса. Последними не стоило пренебрегать, ибо знания возвысили бы дочек в глазах окружающих, хотя сами они не выражали отцу особой благодарности за то, что он разлучил их и поочередно отправлял в монастырь. Теперь настал черед Катарины, и ее это вовсе не радовало.
Содержание дочерей в Гудхеме стоило немало серебра, и именно серебро было единственным, что принимали в качестве оплаты монахини. Но Альгот считал, что его затраты не напрасны, ибо, когда девочки удачно выйдут замуж, все окупится с лихвой. А кроме того, у него теперь появился вполне естественный повод чаще общаться с Магнусом сыном Фольке, у которого было несметное количество серебра в сундуках. Продав Арнесу дубовую рощу, Альгот получил столь нужное ему серебро, да вдобавок прекрасную возможность потолковать о добром нраве своих дочерей, на которых тратятся эти деньги. Тем самым он лишний раз напомнил Магнусу о состоявшейся было помолвке и намекнул, что Катарина и Сесилия могли бы помочь им заключить хорошую сделку.
Альгот сын Поля слышал разговоры о том, что второй сын Магнуса сына Фольке, который еще в детстве был отправлен в монастырь, вернулся теперь в Арнес. Люди отзывались о нем не очень-то лестно, говорили, что он остался наполовину монахом.
Арн, так его звали, своим видом вначале подтвердил слухи, когда он однажды холодным и туманным осенним вечером приехал верхом к Альготу, за две недели до большого ландстинга в Аксевалле. С ним было два раба, и они привезли в Хусабю долю от своей добычи — оленей и кабанов. Магнус сын Фольке и Альгот имели между собой соглашение, что когда люди из Арнеса охотятся на земле Хусабю, где угодья получше, так как множество кабанов приходит осенью в дубраву полакомиться желудями, то за это четверть добычи должна посылаться Альготу.
Похоже, в этот раз охота их оказалась очень удачной, и они привезли в Хусабю тяжелую ношу. Сняв поклажу с коней, гости тут же собрались в обратный путь, ибо старший из рабов уверял, что найдет дорогу даже ночью.
Но Альгот немедленно возразил ему. Негоже отпускать на ночь глядя гостей, которые привезли столь знатную добычу. А кроме того, быстро смекнул он, может, это само провидение посылает Катарине одного из сыновей хозяина Арнеса, хотя и худшего. Будь что будет, думал Альгот, кто знает, может, Катарина скорее обратит внимание на старшего сына.
Вот так случилось, что в Хусабю устроили пир прямо перед днем Всех святых, в канун зимы. Расседлали лошадей, отвели их в конюшню, унесли оленину и кабанов: мясом этим теперь займутся в поварнях Хусабю, — и спутники Арна отправились в помещение для рабов. Тут к отцу подошла Катарина и с самым невинным видом заявила, что не следует вынуждать гостя ночевать в длинном доме, вместе с другими, ибо в Арнесе привыкли к большим удобствам. Она решила, что юный Арн будет спать в отдельной постели, в одной из хижин, которые сейчас как раз закрываются на зиму. Альгот лишь буркнул в ответ, что согласен, не понимая или не желая понять. что замышляет его дочь.
Арн чувствовал себя очень стесненно, ибо он никогда еще не гостил у чужих людей и не знал, как себя следует вести. В Арнесе он успел заметить, что хозяева недовольны, когда их гость ест и пьет слишком мало, и с тяжелым вздохом он, расседлав и самолично почистив Шималя, решил, что попробует есть и пить до отвала. Его отец не должен стыдиться сына даже за пределами Арнеса. Еще повезло, что они успели проголодаться, — в пути у них не было времени поесть, ведь мокрая от дождя земля не лучшее место для привала.
Итак, Арн решил есть и пить как свинья, как бы ни тяжело ему было вести себя не по-христиански. Он вышел на двор к колодцу, чтобы умыться. Там стояли рабы, и, едва сполоснувшись, Арн заметил, что рабы эти, испуганно фыркая и показывая на него пальцами, убежали. Пусть как хотят, сами-то не приучены к чистоте, подумал он. Даже если он и собрался наесться как свинья, то вовсе не обязательно иметь такой же запах.
Арн прилег отдохнуть в низенькой бревенчатой хижине, которую ему определили, и лежа смотрел в потолок, где в прыгающем пламени огня ему виделись олени и кабаны. Он был рад, что удачно поохотился и добыча его, даже больше, чем кирпичи, заставит отца смотреть на сына добрее. С этой утешительной мыслью и видениями диких зверей он уснул.
Когда слуга осторожно разбудил его, на дворе было темным-темно, и ему показалось, что он проспал много часов. Он испуганно вскочил, опасаясь, что его поведение сочтут неучтивым, будто бы он отказывается от трапезы, и хозяева будут сердиты. Но слуга успокоил его, сказав, что пир только еще начинается и что он пришел как раз позвать гостя. Потребовалось немало времени, чтобы зажарить мясо.
Когда Арн вступил в полутемный зал усадьбы Хусабю, ему показалось, что он очутился в далеком прошлом. В длинной полутемной комнате стояли два ряда резных столбов, и Арн догадался, что крыша из дерна слишком тяжелая, а значит, ей необходимы опоры. Вдоль конька крыши располагались три дымовых отверстия с заслонками, и все равно на его лицо упали дождевые капли, когда он проходил через центр зала мимо длинного очага, в котором пылал огонь. На четырехугольных столбах со всех сторон были красные узоры из колец дракона и сказочных зверей, и так же были украшены почетные сиденья и другие сиденья в конце зала, в углу между длинной и короткой стенами. Жилище показалось Арну языческим, мрачным и холодным.
Он заметил, что Альгот и его дочь Катарина одеты в нарядные одежды, как и еще четверо незнакомых ему людей, которые сидели вокруг почетного места хозяина, и это его смутило, ибо сам он был одет как охотник, в одежду из грубой шерсти и оленьей кожи. Но делать было нечего. Все смотрели на него и словно чего-то ждали. Тогда он приветствовал их миром Божиим, поклонился им, но прежде всего — Катарине. Он увидел, как она улыбнулась ему несколько презрительно, и понял, что сделал что-то не так.
Альгот сын Поля не видел больше причин держать своего важного, но неуклюжего гостя в затруднении. Он спустился с почетного сиденья, взял Арна под руку и повел его к месту справа от себя, на котором обычно сидели знатные гости. Затем он велел принести большой рог, который хранился в Хусабю со времен Улофа Шеткорольа, и торжественно подал его Арну, чтобы начать наконец пир.
Арн поднес рог ко рту, не позволяя себе рассматривать его резьбу. Сперва он, правда, подумал не о его тяжести, а о языческих образах, которыми рог был украшен. Еще он подумал: от него, наверное, ждут, что он выпьет содержимое рога залпом, — и он, глубоко вздохнув, попытался сделать все от него зависящее: он тянул и тянул из рога, пока не поперхнулся, а в это время все не сводили с гостя глаз. Когда же он, задыхаясь, оторвался от рога, оказалось, что там оставалось еще больше трети пива, но тут Альгот быстро схватил рог и выплеснул остатки на пол, а потом повертел рогом перед гостями. Все застучали ладонями по столу в знак того, что гость почтил их дом, выпив пиво до дна. Арн уже понял, что будет вспоминать этот пир без особой радости.
Внесли жаркое и новое пиво в больших кружках для каждого, и оказалось, что жаркое-то приготовлено из оленины, зажаренной на вертеле, и лежалой свинины. Как Арн и ожидал, оленина оказалась сухой и жесткой, ничем не приправленной, кроме соли, которой насыпали весьма щедро. Значит, они зажарили зверя, который утром был еще жив, а такое брат Ругьеро расценил бы как тяжкий грех, наравне с кощунством. Но Арн обещал себе, что будет стараться пребывать в хорошем настроении и ни на что не жаловаться. Он похвалил жаркое, жадно выпил пива и довольно зачмокал, по примеру всех остальных. Однако ему было трудно найти тему для разговора, и Альгот вынужден был прийти ему на помощь, расспрашивая об охоте, ибо каждый мужчина, похваляясь своими охотничьими победами, делался красноречив, как скальд, будь он даже отъявленный молчун.
Арн не знал, что говорить, когда призывают хвалиться, и отвечал кратко, немногословно, гораздо больше нахваливая своих рабов, искусных охотников, чем вызвал недоумение среди сидевших за столом. Поэтому в начале пира разговор тянулся, как улитка по высохшей тропинке. Когда же Альгот спросил Арна, не подстрелил ли он сам кого-нибудь на охоте, — хотя вопрос его был коварный, ибо гость был обязан слегка приврать, но не настолько, чтобы вызвать к себе недоверие, — Арн, тихо, опустив глаза, ответил, что убил шесть оленей и семь кабанов, а потом поспешно прибавил, что рабы его убили почти столько же. За столом воцарилось молчание. Но Арн не понял, что оно означает: на самом деле никто ему не поверил — все считали, что гость, конечно же, вправе слегка присочинить, но нельзя же так откровенно врать.
Один юноша, родство которого с Альготом Арн плохо себе уяснил, спросил насмешливо, промахнулся ли Арн хоть раз, или ему посчастливилось уложить всех с первого выстрела. Арн, не заметив подвоха, совершенно искренне признался, что убил всех зверей с первого раза. Тогда молодой человек издевательски захохотал и попросил позволить ему поднять кубок за столь удивительную меткость. Арн серьезно выпил за его здоровье, но щеки его запылали, едва он увидел издевку в глазах окружающих. Он догадался, что отвечал не умно на вопросы хозяев. Но ведь он говорил чистую правду, как же можно быть умнее, если лжешь? Над этим следовало подумать, и он был почти готов соврать что-нибудь половчее, чтобы погасить насмешки в глазах других.
Альгот сын Поля поспешил к Арну на помощь, заговорив о новых растениях из монастыря, о которых он был наслышан. Может, Арн расскажет о них поподробнее? Но молодой человек, посмеявшийся над Арном, не захотел дать ему сорваться со своего крючка и, многозначительно взглянув на Катарину, громко сказал, что будет худо, если такие вот хвастуны получат себе в жены славных девушек, не заслужив их своей силой и разумными речами. Из этого Арн сделал вывод, что враждебно настроенный юноша влюблен в Катарину, но до этого самому Арну не было никакого дела.
Альгот вновь повторил попытку заговорить на мирные монастырские темы, лишь бы не возвращаться к стрельбе из лука, которая могла вызвать еще больше негодования за столом. Однако Торд сын Гейра, как звали насмешливого юношу, стремился уложить Арна на обе лопатки. Желая показать свою силу Катарине, он предложил принести лук и поупражняться в стрельбе прямо здесь, благо что зал был длинным. Арн тут же дал согласие, краем глаза заметив, что Альгот сын Поля старается предотвратить состязание.
Послали рабов за луком и стрелами, а возле самой двери поставили пук соломы. Мишень находилась на расстоянии двадцати пяти шагов от людей. Торд сын Гейра взял лук со стрелами и громко сказал, что это не слишком большое расстояние для того, чтобы подстрелить кабана, и что, возможно, господин Арн, столь ловкий на охоте, захочет первым показать, как ему это удается. Тогда он сам, Торд, будет стрелять вторым.
Почувствовав холодную решимость, Арн встал. Ему не нравилось, куда завела его искренность, и он желал изменить положение, увидев в состязании выход. Медленно подойдя к Торду сыну Гейра, он почти вырвал у него лук, быстро подтянул тетиву и тщательно выбрал три стрелы. Одну из них он вложил в тетиву, натянул ее как можно сильнее, чтобы выстрелить в полную силу и чтобы стрела минимально отклонилась от цели. Арн попал в центр мишени, но на дюйм ниже, чем самая середина. Все вытянули шеи, глядя на пук соломы, и зашептались. Теперь Арн знал, как надо стрелять из этого лука, и не торопясь подготовился к двум остальным выстрелам. Стрелы его попали прямо в цель. Затем он молча протянул лук Торду сыну Гейра и сел на свое место.
Торд сын Гейра стоял, побледнев, уставившись на три стрелы, торчавшие совсем рядом из пука соломы. Он уже понял, что проиграл, но не знал теперь, как ему выйти из трудного положения. Любой путь представлялся постыдным, и он выбрал не лучший. Гневно отшвырнув от себя лук, он молча удалился под громкий хохот окружающих.
Арн молился про себя, чтобы гнев Торда утих и юноша извлек урок из своего высокомерия. И за себя он помолился, вспоминая слова святого Бернарда о гордыне, дабы не впасть в искушение и не оценить свою победу выше, чем должно.
Когда Альгот сын Поля оправился от изумления, увидев таланты Арна, он выказал бурную радость и тотчас пригласил всех опять за стол, чтобы выпить за меткого стрелка. Принесли еще больше пива, и Арн начал чувствовать себя свободнее. Вскоре он решил, что жесткая оленина вовсе не так плоха на вкус. Пиво же он пытался пить как настоящий мужчина.
Катарина теперь сама подавала Арну пиво, что служило выражением почтения, хотя она должна была делать это с самого начала, ибо сидела на месте хозяйки дома, а Арн был почетным гостем. Сперва она нашла его нерешительным и ничтожным. Теперь же она считала. что он слишком уж важный.
Вскоре Катарина вытеснила своего отца с почетного сиденья и оказалась рядом с Арном так близко, что он ощущал ее тело, когда она говорила с ним, все более оживляясь и показывая, как она ценит те умные вещи, которые сообщает ей Арн. Время от времени ее рука, словно бы невзначай, касалась его руки.
Арн был в восторге и пил кружку за кружкой. Его очень радовало, что Катарина, сперва державшаяся с ним так холодно и насмешливо, теперь сияла и тепло улыбалась ему, так что теплота эта заполняла все его существо.
Если бы Альгот сын Поля показал себя учтивым хозяином, он сделал бы порицание своей дочери, тем более что сам он не одобрял ее игривости. Но Альгот решил, что все хорошо. Одно дело, когда неприличное для юной девушки кокетство направлено на гордого, но бедного родича Торда сына Гейра, и совсем другое — на молодого господина из Арнеса. Так что он смотрел на происходившее сквозь пальцы, хотя, как любящий отец, и должен был бы строго одернуть свою дочь.
От выпитого пива у Арна закружилась голова, его мутило, и он бросился к выходу, чтобы скрыть ото всех свою слабость. Холодный ветер ударил ему в лицо, и он рванулся вперед, выплевывая жесткий кусок оленины. Вслед за этим из него вылетела добрая бочка пива. Наконец ему полегчало. Арн горько раскаивался в том, как он провел этот вечер.
Он тщательно утерся, глубоко вдохнул свежий воздух, признаваясь себе, что вел себя глупо, и вернулся в зал, где пожелал всем доброй ночи и мира Божия. Поблагодарив за щедрое угощение, он пошатываясь, но решительно двинулся к выходу, а там прямиком к колодцу, окруженному темнотой и влажным туманом. Арн плеснул на себя ледяной воды, громко разговаривая сам с собой. Бормоча что-то строго и невнятно, он побрел к своей хижине, нащупал в потемках постель и рухнул на нее, словно оглушенный обухом бык.
А когда наступила глубокая ночь и в длинном доме раздавался дружный храп, Катарина тихонько скользнула за порог. Альгот сын Поля, который спал плохо из-за больших возлияний, услышал, как она прокралась на двор, и прекрасно понял, куда она направилась. Как хороший отец, он должен был бы остановить ее и подвергнуть суровому наказанию.
Но, как хороший отец, он на все закрывал глаза ради того, чтобы дочь его все-таки стала хозяйкой Арнеса.
Глава IX
Тому, кто ничего не знал, могло показаться, что Фолькунги отправляются из Арнеса на войну. И даже для тех, кто все знал, это выглядело вполне вероятным.
Большое войско толпилось на внутреннем дворе замка, и меж каменных стен разносилось эхо от цокота копыт и лошадиного фырканья, бряцания оружия и тревожных людских голосов. Всходило солнце, день обещал быть холодным, но бесснежным, так что дорога будет хорошей. Две тяжело нагруженные повозки проехали за ворота, скрипя дубовыми колесами, обитыми железом. Они сразу освободили место для всадников. Люди ожидали хевдингов рода, которые совершали молитву в высокой башне, и некоторые шутили, что молитвы будут долгими, раз за дело взялся монах. Чтобы согреться, а может, победить волнение, четверо дружинников из Арнеса принялись биться друг с другом на мечах. Испуганные рабы удерживали под уздцы их норовистых коней, а родичи подбадривали сражавшихся радостными возгласами и добрым советом.
Действительно, Арн совершал молитву вместе со своим отцом, дядей Биргером Брусой и братом Эскилем, ибо следовало испросить помощи Божией и покровительства святых перед этим путешествием, которое могло либо закончиться благополучно, либо привести к войне по всему Западному Геталанду.
Когда Арн вышел на двор и увидел четырех сражавшихся дружинников, он просто онемел от изумления, так как понял, что эти воины, казалось бы лучшие среди остальных, совсем не умели владеть мечом. Он даже представить себе не мог ничего подобного. Взрослые люди, одетые в длинные, до колен, кольчуги и боевые рубахи цвета Фолькунгов, воины эти выглядели как мальчишки, имевшие самое смутное представление о щите и мече.
Магнус, заметив растерянный вид сына, подумал, что Арна, наверное, напугали дикие игрища, и тихо положил ему руку на плечо, пытаясь утешить и объяснить, что не надо бояться этих людей, пока они у него на службе. Они славные воины, и это для Арнеса главное.
Но Арн застыл на месте, и вид у него был при этом глупый и непонимающий. Он выглядел так впервые за долгое время. При словах отца он словно очнулся, нерешительно улыбаясь, а потом начал уверять его, что вовсе не испугался и, конечно же, чувствует себя в безопасности, видя, что воины одеты в те же цвета Фолькунгов, что и он сам. Не желая огорчать отца, Арн не стал говорить ему, что эти люди не умеют владеть мечом. Он уже научился тому, что в этом мире не всегда надо высказывать правду.
Однако Магнусу пришлось огорчиться по другому поводу. Он увидел, что Арн, ничего не подозревая, берет с собой тот самый меч, который получил от монахов и который у всех вызывал лишь смех. Отец тотчас бросился в башню и выбрал там славный норвежский меч, чтобы предложить его Арну. Но Арн заупрямился, как и тогда, когда он отказался от великолепного северного жеребца и предпочел ему свою тощую монастырскую клячу.
Магнус попробовал объяснить, что Фолькунги собрались в войско, чтобы нагнать страху на врага, и Арн, одетый в цвета рода, тоже должен внести свою лепту в общее дело, ни у кого не вызывая насмешек. А эти насмешки неизбежны, если сын из знатного рода держит в руках меч, пригодный разве что для женщин, и конь его никуда не годится.
Арну пришлось долго сдерживать себя, прежде чем спокойно ответить отцу. Он как можно мягче предложил, что сменит своего коня на одного из этих медлительных вороных жеребцов, но меч не отдаст ни за что на свете. Уж лучше ему остаться вовсе без меча. И Магнусу пришлось отступить. Он был не совсем доволен, но все же удовлетворился тем, что, по крайней мере, конь его сына не вызовет издевательских ухмылок.
И вот наконец рать Фолькунгов выехала из Арнеса, направляясь на общий тинг гетов. Этот тинг назывался теперь ландстингом, потому что король Карл сын Сверкера лично участвовал в нем — впервые за два года — и ему приходилось выбирать между войной и миром.
Впереди всех ехал вождь дружины, и на высоком его копье реял флажок Фолькунгов. За ним скакали бок о бок Биргер Бруса и Магнус сын Фольке, одетые в серебристо-синие цвета, закутавшись в свои широкие плащи, подбитые мехом куницы. На головах у них сверкали островерхие шлемы. Слева у седла они прикрепили свои щиты, на которых был изображен золотой лев Фолькунгов, поднявшийся для битвы. Далее следовали Эскиль и Арн, одетые и вооруженные так же, как и главы рода, а за ними — двойной строй дружинников, и у всех — копья с цветными флажками Фолькунгов, реявшими на ветру.
Столько же Фолькунгов должно было примкнуть к ним из южной и западной части страны, а под Скарой они должны были объединиться с Эриковым родом, чтобы продемонстрировать, когда приедут сильнейшими на тинг, что война будет стоить королю Карлу слишком дорого, если он наживет себе врагов из рода Фолькунгов и Эрика, ибо эти два рода были связаны не только кровными узами, но и общим стремлением не подчиняться. Тинг гетов должен был проходить возле королевской усадьбы в Аксевалле.
Двое юношей, если бы это были не Эскиль и Арн, скача бок о бок, обсуждали бы дорогой борьбу за власть, в которой они участвовали. Но Эскиль предпочел поведать Арну о делах в Норвегии.
Арн ехал задумчивый, молчаливый. Таким он был с тех пор, как вернулся из Варнхема. На следующее утро после пира в Хусабю он немедля поскакал в монастырь, чтобы исповедаться у отца Генриха, а когда наконец приехал домой, то угрюмо взялся за переделку шлемов для себя и брата. Снаружи все осталось по-прежнему, но внутри эти шлемы были утеплены войлоком, так что теперь ему и Эскилю не грозило отморозить себе уши.
Негоже двум братьям молчать всю дорогу, думал Эскиль. Сообразив, что ему надо первому сломать лед, он заговорил о том, что его больше всего заботило. Так легче было бы выпытать у Арна, что того угнетает.
А потому Эскиль начал рассказывать о норвежских делах, которые шли хорошо, ибо им с отцом удалось оставить владения за одним родом и к тому же получить за них много норвежского серебра, что как нельзя лучше для Арнеса. И главное, удалось совершить продажу без всяких распрей и недовольства.
Гораздо больше Эскиль думал теперь о другом — о вяленой рыбе, которую в Норвегии называют сушеной треской. В море у берегов Северной Норвегии водится множество рыбы. В одном местечке, которое называется Лофотены, ее ловят в огромных количествах — больше, чем успевают съесть и продать по всей Норвегии, и потому там теперь много сушеной трески. Ее можно дешево купить, перевозится она без труда и прекрасно хранится, не портясь, пока не размочишь ее в воде. Эскиль горел желанием закупить эту норвежскую треску и потом продавать ее в землях гетов. Надо ведь соблюдать церковные посты, и самый длинный из них — сорокадневный пост перед Пасхой, когда не дозволяется вкушать мясо. А той рыбы, которую можно выловить в морях и озерах Геталанда, не хватит на всех — особенно тем, кто живет вдали от озер, например в городах Скара и Линчепинг.
К удивлению Эскиля, Арн сразу же дал понять, что ему знакома эта рыба, хотя называл он ее не сушеной треской, a kabalao. Арн сказал, что ел ее не только в пост, этой рыбой часто питались в монастыре. Арн считал, что если бы убедить горожан в полезности вяленой рыбы, — что дело не простое, так как сам он невысокого мнения о горожанах, — то это наверняка принесло бы много серебра первому, кто возьмется за дело. Все сказанное — чистая правда: рыбу удобно хранить, перевозить и употреблять в пищу, она вкусная, а потребность в хорошей еде вырастает, особенно в пост и долгие зимы. Когда, разумеется, люди живут не в монастырях.
Эскиль обрадовался несказанно: он был уверен в том, что затевает прибыльное дело и вскоре получит много серебра. Он уже видел перед собой орды неряшливых горожан, которые жадно поглощают его рыбу, и тут же решил послать к норвежским родичам повозку с крупным заказом на треску. За рыбой — большое будущее, в этом нет никаких сомнений.
Могущественная рать Фолькунгов подъезжала к церкви Форсхема. Уже появились первые всадники, но хвост войска терялся где-то вдали. Церковный колокол звонил словно к несчастью, а может, наоборот, приветственно, и бонды выстроились в ряд, чтобы поглазеть на это зрелище. Они стояли молча, испуганно, ибо никто не ведал, пришла ли эта орда сюда, чтобы ввергнуть страну в войну или же для сохранения мира. Понять это было трудно. Хотя простым бондам рать Фолькунгов внушала скорее страх, чем надежду.
Совершив на полпути привал и отдохнув, в ожидании скорой встречи с сородичами, число которых удвоит войско, Эскиль начал осторожно выспрашивать у Арна, что тяготит его, что бьшо причиной поездки в монастырь Варнхема, после которой брат подверг себя десятидневному покаянию, питаясь лишь хлебом и водой и нося власяницу, которую заметил Эскиль, хотя Арн и пытался скрыть ее. Эскиль поспешил заверить брата, что вовсе не собирается выпытывать у него тайну исповеди, но он все-таки ему не чужой. Брат может говорить с братом о гораздо более деликатных вещах, нежели только рыба и серебро.
Тогда Арн без обиняков выложил ему, что он покрыл себя позором: напился, его стошнило, а ночью после пира в Хусабю он совершил нечто такое с женщиной, что совершается только в браке, и очень раскаивается во всех этих глупостях.
Однако Эскиль вовсе не встревожился, услышав слова брата. Напротив, он громко расхохотался, так что отец, скакавший впереди, повернулся в седле и строго взглянул на них. Ведь Фолькунги ехали на тинг отнюдь не веселиться.
Понизив голос, но по-прежнему весело Эскиль сказал, что он все понял и догадаться об этом не составляло труда. Насчет обильной пищи и возлияний и беспокоиться нечего, даже если все это вылетело вон. Это лишь показывает, что гость оценил угощение, таков хороший обычай. И потом, что касается Катарины, ему ведь понравилось? Даже если ничего не решено, все равно может статься, что сам Эскиль или брат Арн вступят в брак либо с Катариной, либо с Сесилией… Альгот сын Поля из Хусабю стеснен в средствах, серебра у него маловато — он разбирался в делах неважно, — так что могло случиться, что земли его в конце концов отойдут к Арнесу безо всякого брака. Тем не менее в Хусабю только и ждут, как бы заключить брачную сделку, и если уж Катарина затеяла такое, так просто для того, чтобы поторопить Господа Бога в этом отношении. Не следует хмуриться, ведь это достойно лишь смеха.
Однако Арну трудно было заставить себя смеяться. Как ни старайся, все равно выходит, что он несет личную ответственность перед Богом за то, что совершил своей свободной волей. Даже если эта самая воля случайно пошатнулась от выпитого пива. Как и Эскиль, отец Генрих посмотрел на этот грех более спокойно, чем ожидал Арн, и сделал те же выводы, что и Эскиль. Похотливая, алчная женщина соблазнила Арна пивом и пошла на уловки, на которые горазды женщины, хитрые, как змеи. А наивный Арн не сумел уберечься от ее сетей.
Поэтому он и отделался таким мягким наказанием, как десятидневный пост, и теперь чист перед Богом. Но ему было трудно порадоваться этому облегчению. Словно он тяжко согрешил вновь, не покаявшись. Его беспокоила мысль, что грех его, даже прощенный, сидит где-то в нем самом. Он хорошо помнил, что не заставил себя долго упрашивать, когда Катарина пришла к нему той ночью.
* * *
Король Карл сын Сверкера стоял на крепостной стене Аксеваллы и вместе со своей свитой смотрел, как скачут к месту тинга Фолькунги и Эриков род. Они были подобны волнам синего моря, ибо цвета Фолькунгов — синий и серебряный, а Эрикова рода — синий и золотой. На копьях реяли синие флажки, и были эти копья словно густой лес, которого и взглядом не охватить. Оба рода пожаловали на тинг как хорошо вооруженное войско, а вовсе не несколько дюжин вассалов, и было нетрудно догадаться, что они этим хотели сказать. Но что еще хуже: впереди скакали не только Юар сын Едварда и его зять Магнус сын Фольке, как и следовало ожидать, но и Биргер Бруса из Бьельбу. И это тоже было понятно. Род Бьельбу, самая мощная ветвь Фолькунгов, примкнул к врагам короля. Одно было хорошо: претендент на престол, юный Кнут сын Эрика, чей отец — король Эрик сын Едварда — не присутствовал в синем войске. Иначе бы мира на тинге не сохранить. То, что Кнут сын Эрика не приехал, было добрым знаком стремления к миру.
Король Карл был теперь вынужден держать совет со своими людьми. Провозглашение самого себя королем Западного Геталанда на этом ландстинге придется отложить на будущее — эти планы неосуществимы против желания Фолькунгов и Эрикова рода, демонстрировавших силу.
Но следовало также не показывать свою слабость и испробовать другой вариант: тинг должен избрать ярлом Западного Геталанда первенца короля, Сверкера, который был еще грудным младенцем.
Затем можно надеяться на выгодное разрешение спора между Эмундом Ульвбане[4] и Магнусом сыном Фольке. Здесь была отличная ловушка: Магнус являлся самым слабым звеном в цепи Фолькунгов, и если бы это звено удалось порвать, то король бы победил.
Фолькунги и род Эрика встали лагерем к западу от места тинга, и даже на расстоянии вид у них был воинственный, что и требовалось показать.
Когда поставили палатки и разгрузили повозки, с востока пришел род Сверкера с королевским младенцем. Родичи присоединились к сводным братьям короля, Колю и Болеславу, и численность их войска стала тоже огромной. Так что теперь на западе все переливалось синим, серебряным и золотым, а на востоке — красным, золотым и черным.
На севере и юге собрались те роды, которые не присоединились ни к одной из сторон, и выглядели они бледнее; цвета у них были пестрые, ибо многие, как подобало, приехали на тинг Западного Геталанда не в полном вооружении, а в крестьянской одежде.
Тинг должен был начаться не раньше полудня, когда солнце стоит высоко в небе и наступает благоприятное время для того, чтобы держать совет. Возле самой большой палатки в синем лагере развевался флаг Фолькунгов с золотым львом и еще новый флаг рода Эрика, на котором сияли три золотые короны на фоне голубого неба. Это было прямым оскорблением короля Карла сына Сверкера, ибо род Эрика, получается, славит Эрика сына Едварда как своего короля. Всем известно, что три короны были его, и ничьим другим, флагом. А те, кто прославлял короля Эрика сына Едварда, считались врагом королю Карлу сыну Сверкера. Вражда была тем более явной, что теперь все знали наверняка: именно Карл сын Сверкера стоял за убийством Эрика сына Едварда и несчастный датчанин Магнус сын Хенрика был всего лишь орудием в руках Карла и сам погиб в тот же миг, когда Эрик сын Едварда пал мертвым на землю. Ибо в тот день, когда Магнус сын Хенрика возомнил себя победителем Восточного Ароса, видя убитого короля у своих ног, он лишился поддержки Карла сына Сверкера из Линчепинга. Тот нарушил свои обещания и выступил против своего же ближайшего помощника, убийцы короля.
Вот как было, когда Карл сын Сверкера завоевал себе королевскую корону. Поговаривали, что тот, кого он послал на помощь Магнусу сыну Хенрика, чтобы убить Эрика сына Едварда, был Эмунд Ульвбане и что именно Эмунд держал в руках меч, которым и отрубил Эрику сыну Едварда голову.
Если слухи эти были правдивы, то Магнус сын Фольке находился в тяжбе, как оказалось, с убийцей короля, и следовало хорошенько подумать, как уладить дело, ибо всем было ясно, что речь здесь идет не только о хуторах на границе владений Арнеса и земли, которую сводный брат короля Болеслав недавно пожаловал Эмунду.
Если размышлять хладнокровно, не горячиться, не позволять взвинтить себя тем, кто этого хочет, то можно было бы выиграть тяжбу без особого труда. Ибо сам лагман, Карле сын Эскиля, внук лагмана Карле из Эдсверы, был тоже родичем Фолькунгов. И теперь он пришел на совет в их палатку.
Там уже находились Юар сын Едварда, Биргер Бруса, Магнус, двое его сыновей и еще четверо хевдингов Фолькунговой и Эриковой дружины.
Следовало обсудить две вещи, и слово взял лагман Карле, самый знатный в палатке. Он говорил сдержанно, кратко, не тратя попусту время. Если сейчас король Карл попытается провозгласить себя правителем всего Западного Геталанда, к чему он всегда стремился, а Фолькунги и Эриков род препятствовали ему в этом, — тогда дело ясное. Ни один лагман и ни один епископ его не одобрят. Но вдруг, если верить слухам, король Карл обратится к тингу, чтобы избрать своего сына Сверкера ярлом Западного Геталанда: что тогда?
Биргер Бруса высказал свое мнение. Он считал, что это будет хорошо. Король Карл избежит насмешек и поубавит свой воинственный пыл. Западный Геталанд не окажется в его власти, а если он хочет увидеть младенца ярлом, то это, скорее, льстит его самолюбию, но значения не имеет. Малолетний ярл еще долго не сможет служить своему королю. Таким образом можно избежать самой худшей из всех войн — войны между равными по силе противниками.
Юар сын Едварда и Магнус сын Фольке согласились с Биргером Брусой. Они тоже считали, что войны между равными следует избегать любой ценой. Тот, кто победит в этой войне, заплатит слишком дорого за свою победу, оставшись среди вдов, сирот и разоренных земель.
Лагман Карле заявил, что в этом вопросе все согласны, и никто ему не возразил.
Тогда стали обсуждать второй вопрос — тяжбу о собственности между Магнусом и ставленником юного Болеслава, Эмундом Ульвбане. Здесь крылся какой-то подвох. Дело-то было пустячным, и странно, что решалось оно на ландстинге. Значит, кто-то пытался затеять ссору, которая полыхнула бы пожаром и раздула войну. За Эмундом Ульвбане стоял сводный брат короля Болеслав. Но он был еще ребенок, даже не юноша, и не мог самолично строить козни. За Болеславом стоял король Карл, и это значило, что именно он хотел ссоры.
Лагман Карле прекрасно понимал, что тяжба может быть разрешена очень просто, если стороны пожелают сохранить мир. Но так как стороны эти способны привести за собой равные дюжины вассалов, причем до бесконечности, если потребуется, то существует вероятность, что тяжба выйдет за рамки закона. Какой же избрать путь? Что думает об этом сам Магнус?
Магнус выступил кратко и по-мужски, заявив, что думает точно так же. С вассалами распря останется на том же месте, и конец ее вернется к началу. Поэтому он собирался предложить примирение и уплатить тридцать марок серебра за те хутора, которые стали предметом спора. Стоят они, пожалуй, марок на десять дешевле, но Магнус за ценой не постоит, если именно такую сумму требуется уплатить за прекращение тяжбы. Коль скоро можно купить мир в стране всего за десять марок серебра, то он это сделает.
Лагман Карле задумался и одобрительно кивнул, сказав, что так они и поступят. Сперва принесут клятву, чтобы все видели, что тяжба еще не закончена. А потом Магнус предъявит тингу свои тридцать марок серебра и предложит примирение. Для лагмана и его присяжных дело окажется легким. Они тотчас вынесут решение о примирении, и никто не посмеет им возразить.
На том и решили в палатке. И все, довольные, расстались друг с другом, чтобы пройтись по лагерю и пообщаться с сородичами.
Эскиль и Арн проверили коней и оружие и пошли навестить своих родичей из Фолькунгов, которых Эскиль знал, а Арн — нет, и еще людей из Эрикова рода, которых не знали они оба, и по дороге Эскиль рассказывал Арну, как обычно проходит тинг. Арн должен знать, что нельзя проносить меч через белый, очерченный известью круг, служивший границей места тинга, и что, когда он будет произносить клятву, он обязан знать ее наизусть и выговаривать слова четко и внятно, без запинки, иначе произведет впечатление ненадежного человека.
Слова клятвы таковы: «Воистину будут боги милостивы ко мне, если я говорю правду».
Арн повторил за братом слова, но потом возразил, что клятва противоречит первой заповеди Божией, ибо что это за боги, которые будут милостивы? Как можно приносить клятву идолам?
Но Эскиль лишь посмеялся над его сомнениями и объяснил, что, даже если слова клятвы сохраняются с незапамятных времен, — ее содержание говорит только об одном Господе, и, чтобы доказать это Арну, он процитировал первые строки закона гетов: «Христос — первейший в нашем законе. Потом — христианское вероучение и все христиане: король, бонды и все жители, епископ и все ученые люди».
Арн удовлетворился его объяснением, и ему стало весело, что по закону Эскиль относится к бондам, тогда как он сам ухитрился попасть в разряд ученых людей. Во всяком случае, было ясно, что закон на их стороне.
Когда пришло время, приехал епископ Бенгт из Скары и благословил мир на тинге, а лагман Карле громко возвестил, что тинг начинается, и тот, кто нарушит мир, будет объявлен вне закона. Усилился гул тысячной толпы, напряженно следившей за тем, как король Карл медленно продвигается к скале тинга, где стоял лагман. Скоро все узнают, быть миру или войне.
Когда король, поднявшись на холм, стал виден всем, люди заметили, что он держит на руках младенца, и многие, поняв, что это значит, испустили вздох облегчения. Мир был сохранен, ибо Карл сын Сверкера не намерен с мечом в руках требовать себе корону Западного Геталанда.
Затем все пошло так, как предсказывали Карле и Биргер Бруса. Карл сын Сверкера высоко поднял сына над головой, чтобы все могли видеть его, и попросил тинг одобрить нового ярла в Западном Геталанде, Сверкера. Из рядов рода Сверкера и тех, кто собрался вокруг королевских сводных братьев, Коля и Болеслава, мгновенно послышались утвердительные возгласы, и вслед за этим напряженные взгляды устремились в ту сторону, где синело Фолькунгово войско, а впереди стояли Юар сын Едварда, Магнус сын Фольке и Биргер Бруса.
Биргер Бруса, улыбаясь, шепнул, что надо выждать пару минут. Они стояли молча, молчали и люди у них за спиной. Гул голосов смолк, и стало вдруг так тихо, что слышался шум ветра над местом тинга. Но вот три главы рода воздели руки к небу, как один, и за ними вырос лес рук. Вскоре уже над тингом пронеслось ликование, люди выражали свое облегчение и радость. Епископ Бенгт благословил нового ярла, который слабо пищал, будто на крестинах, а не на избрании первого человека Западного Геталанда.
Затем на тинге полагалось рассмотреть несколько дел, связанных с убийствами и нанесением ущерба. Потом повесили парочку воров церковного имущества, дабы повеселить собравшихся, которые проделали долгий путь, чтобы попасть на тинг. Лишь ближе к вечеру принялись обсуждать тяжбу между Магнусом сыном Фольке и убийцей короля Эмундом Ульвбане. Едва подошел черед этого дела, как над тингом словно подул холодный ветер, и люди, одетые в цвета рода Сверкера, со всех сторон стали стекаться поближе к скале. Было ясно, что они ожидали чего-то большего, чем стоила эта ничтожная тяжба.
Вначале все шло именно так, как и предполагали Фолькунги. Дюжина добрых людей с каждой стороны принесла клятву, уверяя своих милостивых богов, что земля, о которой спорят с давних пор, принадлежит именно их господину.
Потом тоже все шло как положено. Магнус сын Фольке выложил свое серебро, заявив, что готов пойти на мировую и просит своего противника принять мир, ибо цена за него хорошая и мир между соседями дороже серебра. Эмунд Ульвбане упрямо стоял на своем и отказывался примириться, но лагман Карле и его присяжные вынесли решение о примирении, даже не удаляясь на совещание. Разочарованные люди начали было расходиться, увидев, что дело это больше ни к чему не приведет.
И тут вперед выступил Эмунд Ульвбане. Он презрительно швырнул полученное серебро себе под ноги и поднял правую руку в знак того, что хочет говорить. Все сразу стихли, напряженно застыв, ибо вид у Эмунда Ульвбане был грозный и недовольный.
— Как и любой другой, я вынужден подчиниться решению тинга, — начал он зычным голосом, так как он был очень сильный человек. — Но тяжко видеть, что серебро ценится выше чести и права. Тяжело примиряться с таким нечестивцем, как Магнус сын Фольке, ибо ты, Магнус, не настоящий мужчина, да и сыновья твои не лучше тебя. Оба они — сукины дети: один — монашья дочка, другой — пивная бочка.
Затем Эмунд Ульвбане сделал знак одному из своих дружинников, и тот подошел и взял серебро, а сам он продолжал стоять на своем месте, подбоченясь и презрительно глядя в сторону врагов. Один из тех, на другой стороне, кто встретился с ним взглядом, был как раз из «сукиных детей» — юноша с глуповато-наивным видом. Он смотрел на Эмунда, испытывая вовсе не страх, а скорее удивление и сострадание.
На тинге раздались выкрики, все зашумели, заволновались, и многие поспешили скрыться подальше, ибо мир, казавшийся таким прочным, теперь был в опасности.
В палатке Фолькунгов собрались на совет; настроение у всех было испорчено, ибо и Юар сын Едварда, и Биргер Бруса имели недобрые предчувствия. Они хорошо знали, что по законам предписывается тому, кто открыто произнес ругательства на тинге, и что нужно предпринимать в таком случае. Тут серебром не откупиться.
Следовало подождать, пока не придет лагман Карле и не прочитает закон. Люди сидели в мрачном ожидании, изредка перебрасываясь словами. Эскиль распорядился, чтобы в палатку принесли бочку пива и кружки, и люди пили молча, словно на поминках.
Когда лагман Карле вошел в палатку, он был печален и озабочен, и все это заметили. Коротко приветствовав собравшихся, он сразу перешел к делу: — Братья, вы хотите знать, что гласит закон, когда на тинге звучат ругательства. И я скажу вам, а потом вы сами решите, что лучше делать, ибо в этом я вам не советчик. О словах, которые вы слышали из уст Эмунда, закон говорит столь четко, что я не думаю, будто бы Эмунд действовал неумышленно. Итак, послушайте, что сказано в законе.
Тут он заметил, что в палатке есть пиво, взял себе кружку и сделал несколько больших глотков. Вид же у него был такой, словно он уже в мыслях проговаривал текст закона. Поставив кружку, лагман вытер рот тыльной стороной ладони и громко, нараспев начал читать текст закона: — «Если кто-то оскорбит другого такими словами: «Ты не мужчина», то должны они встретиться на перекрестке трех дорог. Если придет тот, кто оскорбил, а другой не придет, значит, оскорбленный таков и есть. Отныне не смеет он приносить клятву или свидетельствовать — ни в пользу мужчины, ни в пользу женщины. Если же тот придет, кого оскорбили, но не оскорбитель, то первый трижды воскликнет: «Вне закона!» — и начертит знак на земле. Значит, сам оскорбитель хуже, чем его слова, за которые он не осмелился постоять. Но вот встречаются оба с оружием в руках. Падет оскорбленный — за него платят половину штрафа во искупление убийства. Падет оскорбитель — он останется неотомщенным, ибо слово — худшее из преступлений и язык — это зло».
В палатке воцарилась тишина. Все молча обдумывали сказанное лагманом. А Карле сел и снова взял себе кружку пива. Взгляды присутствующих устремились на Биргера Брусу, сидевшего с поникшей головой. Он понял, что должен высказать худшие предположения, которые вертелись на языке у остальных. Его брат Магнус сидел неподвижно, побелев лицом.
— Встретиться с Эмундом Ульвбане в поединке для всякого славного воина, даже более искусного, чем мы, — это все равно что идти на верную смерть, — начал он, тяжело вздохнув. — Верно и то, что король Карл со своими советниками хитро придумали это, специально подстроив так, чтобы Эмунду пожаловали приграничные с Арнесом земли. Мой брат Магнус вынужден выбирать: либо поединок с Эмундом, либо — бесчестие. Выбор таков, что и худшему врагу не пожелаешь. Но выхода нет, и ничего лучше я не могу посоветовать.
Магнус не отвечал, и, судя по всему, он и не собирался отвечать. Тогда взял слово Юар сын Едварда.
— Плохо же вознаградил король Карл наше стремление избежать войны, — начал он. — Все-таки войны не миновать, раньше или позже, как показал нам Карл сын Сверкера, и все мы, сидящие здесь, понимаем это. Мой племянник, претендент на престол Кнут сын Эрика, не приехал на ландстинг, потому что иначе было бы трудно сохранить мир. Но Кнут лишился отца и короны из-за этого лжеца и убийцы, Карла сына Сверкера, а потому мы знаем, что придет время, когда мы потребуем отомщения. И тогда я спрошу вас, родичи, в чем польза, если Магнус сын Фольке сейчас пожертвует своей жизнью? Все в этой палатке и за ее пределами понимают, что выпад со стороны Карла сына Сверкера нацелен на то, чтобы убить главу Фолькунгов Западного Геталанда прежде, чем начнется война. Тем самым он многое выиграл бы, а мы — многое бы потеряли. Магнус сын Фольке сумеет повести людей в бой под знаменем Фолькунгов, но простите меня за откровенность, я не уверен, что люди пойдут за Эскилем сыном Магнуса. И коль скоро Магнус должен умереть за наше общее дело, если этого хочет Бог, то пусть уж лучше он умрет на поле брани, в будущей войне. Мы все теперь — и Фолькунги, и Эриков род — можем разом сняться с места и отправиться в путь. Так мы покажем, что намерены делать дальше. Вот что я хотел сказать.
— Разумные речи, дорогой брат, — сказал Биргер Бруса и недовольно заерзал. — Однако закон совершенно определенно предписывает, что надо делать. Если Магнус не явится на поединок, то он — вне закона, человек без чести, который даже не может свидетельствовать на тинге. Такой человек не вправе вести за собой Фолькунгов — этого никогда не было и не будет. Вы это знаете, и Карл сын Сверкера знает это, как и его коварные советники, которые поставили нас в такое положение. Магнус должен сделать выбор — тяжело говорить такое брату, но я обязан сказать правду. Либо он сохранит себе жизнь, но лишится чести, либо изберет поединок, где лишь чудо святых может спасти ему жизнь. Последнее — лучше. Ибо никогда исход поединка не решается заранее. Но все уже решено с тем, кто трусливо уклоняется от поединка. Так вот бывает.
Лагман Карле тяжело поднялся и заявил, что ему нечего больше прибавить к сказанному, так как в законе все выражено понятно и ясно, и что трудное решение, которое должны принять три главы рода, легче не станет, если людей вокруг них будет больше. И он вышел из палатки, печально покачивая головой.
Воцарилось молчание. Все теперь ждали, что скажет сам Магнус, ибо его слово было решающим, если не единственным. Речь шла не только о его собственной жизни, но и о чести Фолькунгов.
— Я принял решение, — молвил он наконец, когда ожидание сделалось уже нестерпимым. — Завтра на рассвете я выйду на перекресток трех дорог сразиться с Эмундом, как то предписывает закон. Да поможет мне Бог, и вы молитесь обо мне. Иного пути у нас нет, никто из нашего рода не изберет себе путь бесчестия, и верно также, что никто не пойдет за человеком без чести.
Эскиль и Арн сидели рядом в углу палатки, и старики не обращали внимания на юношей. Теперь, когда их отец высказался, обрекая себя на смерть, Эскиль прерывисто вздохнул, и вид у него был такой, словно он вот-вот разрыдается. В тягостной тишине никто не возразил Магнусу, и это означало, что все согласились с ним и намерены принести его жизнь в жертву. Тут поднялся Арн и с мужеством отчаяния заговорил.
— Простите, что мы, сыновья, тоже вмешиваемся в это дело, — начал он несколько неуверенно. — Но нас оно касается так же, как и всех остальных. Я так считаю, во всяком случае. Ведь нас оскорбили, как и нашего отца Магнуса, когда Эмунд назвал нас сукиными детьми, или как там?
— Да, это верно, — мрачно ответил Биргер Бруса, — тебя и Эскиля оскорбили точно так же, как и вашего отца Магнуса. Но это его дело — защищать вашу честь.
— Но разве у нас по закону не равное право с отцом защищать свою честь? — спросил Арн с детской наивностью, так что старшие не смогли сдержать улыбки, несмотря на серьезность момента.
— Немного чести для Магнуса, если он вместо того, чтобы, как подобает мужчине, защищать себя, пошлет на заклание кого-нибудь из этих юнцов, — кисло буркнул Биргер Бруса и вышел из палатки, оставив других в молчании.
Поколебавшись немного, Арн вышел вслед за Биргером Брусой. Он вглядывался в темноту, которая рано сгустилась после короткого зимнего дня, пока они сидели в палатке, и потом решительно двинулся вперед, прямо к брату своего отца, который тем временем справил нужду. Арн заговорил с ним властно, с убеждением в голосе:
— Должен сказать тебе что-то очень важное, дорогой дядя. А ты должен поверить мне, ибо пришел час, когда нет места пустым словам. Дело не только в том, что я лучше владею мечом из всех нас, кого оскорбили. Но и в том, что я уверен: я легко смогу победить этого самого Эмунда, или тебя, или кого угодно из наших дружинников. Поэтому ты должен устроить так, чтобы именно я участвовал в поединке, а не мой бедный отец.
Биргер Бруса просто лишился дара речи и замер, едва натянув штаны. То немногое, что он знал об Арне, вызывало всеобщие насмешки, да и Эмунд Ульвбане тоже обозвал его монашкой. И теперь этот верующий в Бога, очень серьезный молодой человек стоит перед ним и говорит такое, во что невозможно поверить, однако в лице его нет ни тени лжи. Биргер Бруса не знал, что и думать, и, хотя речи юноши показались ему безумными, сам Арн не производил впечатления сумасшедшего. Сомнение дяди было столь очевидным, что Арн сделал нетерпеливый жест рукой и внезапно предложил:
— Дорогой дядя, ты гораздо сильнее меня, примерно как этот Эмунд. — Арн говорил запальчиво, все более загораясь какой-то идеей. — Возьми меня за руку и встань рядом, — продолжал он и протянул руку Биргеру Брусе, который, сам не ожидая того, взял ее и удивился ее силе. А тем временем Арн повернулся так, что они теперь стояли наискосок друг от друга, как обычно, когда хотят померяться силой. — Вот так! — весело воскликнул Арн. — Попробуй-ка теперь повалить меня. Ведь ты сильнее!
Биргер Бруса сделал неуверенную попытку, не возымевшую никакого действия и лишь рассмешившую Арна. Тогда он повел себя решительнее, но в следующий же миг упал прямо в грязь. Изумленно поднявшись на ноги, он снова схватил сильную руку Арна. И вновь покатился на землю. Этот мальчик вертел его, как игрушку. После третьей попытки Арн поднял руки, останавливая дядю.
— Послушай теперь, — сказал он. — Точно так же я могу справиться с Эмундом или с кем угодно, и я скажу тебе почему. Все эти годы в монастыре я упражнялся ежедневно, больше кого бы то ни было. Владеть оружием меня учил человек, который прежде был тамплиером в Святой Земле. Клянусь Пресвятой Девой и святым Бернардом, моими небесными покровителями, что я владею мечом лучше всех вас, и тебе следует знать, что в такой серьезный миг я никому не солгу, тем более своим родичам.
Биргер Бруса почувствовал, как убедительность и искренность Арна передались ему и словно озарили его светом. Он вдруг понял, что все сказанное Арном — чистая правда. Поразмыслив еще немного, он просиял и радостно обнял Арна. Биргер Бруса, у которого был острый ум, особенно в том, что касалось борьбы за власть, наконец-то понял, что для Фолькунгов черное может обернуться белым, причем независимо от того, кто на рассвете выиграет поединок — Арн или Эмунд Ульвбане. Либо Арн выиграет, либо он проиграет, но с большей честью, чем Магнус. И тогда победа Эмунда будет считаться постыдной.
Однако уже заранее скорбящие родичи испытали сомнения и недовольство, когда Биргер Бруса вернулся в палатку и объявил, что Арн — тот человек, который может сразиться с Эмундом Ульвбане, что надо всем сообщить: Арн оскорблен больше других, ибо Эмунд не только обозвал его, но и произнес хулу на дом Божий, в котором воспитывался Арн.
Терзаемый сомнениями, Магнус возразил Биргеру Брусе. Он видел, что жизнь его спасена, хотя он уже было начал прощаться с ней, но вместе с тем понимал, что потеряет сына, и сетовал, что ему не подобает так поступать: взрослый мужчина должен сам защищать свою честь и не посылать на верную смерть юношу-сына. Осторожные уверения Арна в том, что разумнее послать на поединок того, кто лучше владеет мечом, он не принял всерьез.
Юар сын Едварда, растерянный, оставил Фолькунгов на ночь и вместе с четырьмя дружинниками удалился. Вид у них был смущенный, когда они, опустив глаза, попрощались, прося Божьего благословения на юного Арна, у которого еще виднелся пушок на щеках.
Когда Фолькунги наконец остались одни, Магнус предложил молиться всю ночь, кто сколько выдержит. Арн нашел предложение хорошим, но как же удивились его родичи, когда он начал с того, что помолился об Эмунде Ульвбане, его грехах и гордыне.
* * *
На рассвете того утра, которое надолго запомнят все жители Западного Геталанда и о котором расскажут столько саг, собралось множество народа, будто на тинг. Люди толпились вокруг того места, которое называлось встречей трех дорог: оно находилось в трех выстрелах из лука от скалы тинга, и здесь уже не действовали законы мира. Мало кто уехал накануне домой, хотя тинг и окончился, — все желали посмотреть на сражение, которое могло стать причиной войны.
Не уехал домой и никто из Фолькунгов или Эрикова рода, все как один должны были показать людям короля, что убийца их родича нанесет удар им всем без исключения. Еще важнее было находиться рядом с человеком, который решил пожертвовать своей жизнью во имя чести. С родичами следует быть вместе от рождения до смерти, и вот теперь настал смертный час.
Молча и торжественно пришли с запада к месту поединка Фолькунги и род Эрика. С востока тянулись люди и родичи короля: они веселились и смеялись, ибо знали, что победа — за ними. Если Магнус сын Фольке не явится, спасая свою жизнь, то все равно победят люди короля, так как Фолькунги будут посрамлены. А если Магнус сын Фольке встретится с Эмундом Ульвбане лицом к лицу в поединке, то и тогда их ждет верная победа, и к тому же будет на что посмотреть.
Впереди Фолькунгов шли Биргер Бруса, Магнус сын Фольке и оба его сына — все завернулись в свои толстые, подбитые мехом куницы синие плащи, в шлемах и со щитами на левой руке. На щитах был виден лев Фолькунгов. Четверо воинов встали в ожидании несколько впереди своих сородичей. Эмунд и его люди намеренно опоздали.
Утро выдалось холодное, и восходящее солнце окрасило небо позади людей короля в цвет крови. Славный день для того, чтобы умереть, — так думали люди, собираясь под нетерпеливый ропот и ожидая, когда же просияют первые лучи солнца, ибо с восходом должен начаться поединок.
Едва на горизонте показался пылающий край солнца, люди короля издали воинственный клич, а Эмунд Ульвбане сбросил свой плащ, вытащил из ножен тяжелый меч и, ступая медленным, могучим шагом, вышел на середину.
То, что произошло следом, оказалось для всех неожиданностью: младший из сыновей Магнуса сына Фольке, тот, кого прозвали монашкой, снял с себя плащ, шлем и перевязь, достал длинный, тонкий меч и, поцеловав его, произнес клятву, которую никто не расслышал. Затем он перекрестился и медленно, но решительно вышел навстречу Эмунду.
Сперва среди тысячи собравшихся воцарилось молчание, потом начал усиливаться недовольный ропот. Все видели, что этот монастырский парнишка даже не потрудился надеть кольчугу, так что малейший удар мог свалить его мертвым на землю. Он даже шлем свой снял!
Для Эмунда Ульвбане это было тяжким оскорблением: его вынуждали отказаться от поединка либо без всякой чести убить этого беззащитного монаха, ибо так и произойдет, в этом были уверены даже Фолькунги, которые изумились не меньше людей короля, увидев юного Арна, вышедшего на смертный поединок вместо своего отца. Что за безумная затея! Ведь все знали, что Эмунд Ульвбане не из тех, кто проявит мягкость или откажется от боя с предрешенным исходом. А паренек этот имеет мужество, если готов пожертвовать жизнью ради спасения отца и чести рода, — так думали люди короля.
Эмунд Ульвбане решил не вызывать насмешек и побыстрее окончить бой, которым Фолькунги задумали оскорбить его. И он ринулся с занесенным мечом прямо на Арна, чтобы отрубить ему голову.
Но вдруг оказался на земле. Наверное, он слишком поспешно замахнулся и потому совершил ошибку, а противник увернулся от его меча. Парень этот настолько глуп, что даже не воспользовался дарованной Богом возможностью. Он просто стоял и молча ждал, когда разъяренный воин короля поднимется и нападет на него снова.
Трижды пытался Эмунд поразить мечом своего противника, но все безуспешно. Арн круговыми движениями уворачивался от его меча, даже не отражая удары. Те, кто стоял далеко от места поединка и плохо видел, что происходит на самом деле, сперва думали, что Эмунд играет с противником в кошки-мышки. Но люди, стоявшие ближе, ясно понимали: происходит что-то не то.
Среди Фолькунгов и Эрикова рода начали раздаваться отдельные смешки, и вскоре они переросли в громовой хохот, издевательски обрушившийся на Эмунда Ульвбане, который, несмотря на яростные наскоки, лишь рубил мечом воздух.
Арн уже почувствовал в себе уверенность, ибо хотя его противник был сильным и могучим, но все же не столь могуч, как брат Гильберт, и уж тем более не столь искусен. Надо было прежде всего пощадить Эмунда, сохранить ему жизнь, обуздать собственную гордыню и скорее перейти в контрнаступление, как только сопение Эмунда станет чаще и тяжелее. Арн был доволен, что он, несмотря на все добрые советы и уговоры, проявил волю и не надел кольчугу и шлем. Если он хотел победить, не убивая своего противника, то должен был двигаться быстро и хорошо все видеть, иначе малейшая оплошность могла бы привести к смертельному исходу.
Когда Арн внезапно начал обороняться, Эмунд был уже настолько измотан и неповоротлив, что все без труда заметили это. Арн изматывал его еще больше, встречая теперь его удары своим мечом или щитом, но все время наискось, направляя меч Эмунда вниз, к земле. Раз за разом тяжелый меч Эмунда высекал искры, ударяясь о камни. Арн притворялся, что встречает его удары прямо, но постоянно поворачивал руку так, что меч противника скользил по инерции дальше. Арну недолго пришлось прибегать к этой уловке, ибо Эмунд вновь упал на землю от собственной тяжести. Тогда Арн подскочил к нему и приставил острие меча к его горлу, заговорив с противником. Эмунд стоял на коленях, задыхаясь, и казалось, настал его последний час.
Оба воина находились в центре избранного для поединка места, вдали от гомонящей толпы, и никто не смог расслышать, о чем там они говорят.
У людей была только одна догадка: тот человек, которого все называли монашкой, предлагает Эмунду жизнь в обмен на то, что тот сдастся и в знак этого отдаст свой щит. Но Эмунд внезапно отпрянул от грозящего ему меча, поднялся, и бой продолжился.
Теперь даже люди короля поняли то, что они вначале отказывались понимать. Этот Фолькунг, которого Эмунд оскорбил, превосходил его, и не было в этом ни чуда, ни колдовства, ни случайности, ибо все убедились воочию, как идет бой. Бывалые воины, стоявшие поблизости, пытались уследить за тем, как Арн отражает и наносит удары своим мечом. Они уже были единодушны в том, что искусство его велико и что Эмунд нашел достойного противника. Со стороны Фолькунгов издевки звучали все громче, а из рядов людей короля раздавались отдельные выкрики о том, что Эмунду надо отступить и отдать свой щит. Все видели собственными глазами, что его пощадили, и уже не раз.
Однако Эмунд Ульвбане высоко ценил свою честь и не мог просто так сдаться какому-то щенку. Он часто дрался на поединках и знал: даже самое безнадежное положение может внезапно измениться, причем безо всяких чудес. И, продолжая бой, он стал более осторожным и двигался, экономя силы.
Арн сперва несколько растерялся, поняв, что не сможет закончить поединок капитуляцией Эмунда, что было бы самым разумным. Ведь должен же заметить его противник, что удары его ни разу не достигли цели, тогда как сам Арн мог поразить Эмунда в любой момент. Арн сознавал, что обязан вести себя хладнокровно, не поддаваться искушению гордыней, каким бы беззащитным ни казался сейчас Эмунд. И он решительно положил свой щит на землю, чтобы вызвать новые неистовые наскоки Эмунда и вконец измотать его.
Вздох ужаса пронесся по толпе, когда все увидели, что Арн положил щит, да еще взял меч в другую руку, ибо теперь возможности Эмунда нанести смертельный удар увеличились вдвое. И Эмунд клюнул на эту приманку. Собравшись с силами, он ринулся в наступление, испытывая одновременно отчаяние и ярость. Арн, двигаясь по кругу и постоянно обманывая Эмунда, легко мог отрубить противнику голову, и многие видели это, не понимая, почему же он медлит.
Но у Арна были свои планы. Он намеревался отрубить Эмунду не голову, а правую руку, как раз в том месте, где кончалась скандинавская кольчуга, оставляя кисть без защиты. И чем дольше он кружил вокруг Эмунда, тем чаще тот показывал свою обнаженную руку. Арн выжидал, пока она не оголится окончательно. И тогда со всей силы нанес свой первый удар.
И опять тысячная толпа содрогнулась от ужаса, когда все увидели, как огромный меч Эмунда пронесся по воздуху вместе с его правой рукой, по-прежнему сжимающей рукоять.
Эмунд тихо упал на колени, отшвырнул щит и левой рукой схватился за рану, чтобы остановить бьющую кровь.
Арн подошел к нему и приставил меч к его горлу. Все замерли, разом умолкнув, ожидая смертельного удара, на который Арн имел полное право.
Но вместо этого он поднял Эмундов красный щит с черной головой грифа, повернулся к поверженному спиной, взял свой щит и, подойдя к своему отцу, отдал ему щит противника.
Несколько людей королевского брата Болеслава подбежали к Эмунду и спешно унесли его.
Со слезами гордости и облегчения на глазах Магнус сын Фольке триумфально поднял завоеванный красный щит к небу, и Фолькунги застучали своими мечами о щиты так, что поднялся страшный грохот.
Ни один из тех, кто был там, никогда не забудет тот день. А те, кого там не было, услышат так много рассказов о поединке Арна и Эмунда, что им будет казаться, словно они видели все своими глазами.
Глава X
Как осенняя буря, налетел на Западный Геталанд претендент на престол Кнут сын Эрика, возвращаясь из Норвегии. Сперва он поехал к брату своего отца, Юару сыну Едварда, и отпраздновал у него адвент, выразив благодарность за возвращение в церковь Эриксберга. Затем он гостил у многих других родичей, говоря, что приехал поохотиться. В Западном Геталанде стояла суровая, «волчья» зима, когда снега не слишком много для коня и бредущего по сугробам раба, но чересчур — для бегущего волка. В такую зиму, по обычаю, молодые и смелые охотники ездили от двора к двору, собирая людей на облаву на волков. Но и кроме охоты было что обсудить — конечно, все говорили о победе Фолькунгов и Эрикова рода на ландстинге в Аксевалле. А Кнуту было о чем поразмыслить, чтобы легче собрать урожай, когда подоспеет время жатвы.
Его первейшей и главной целью во время этой охоты на волков стало посещение Арнеса. Когда он и его люди прибыли туда, их уже ждали, ибо накануне хозяева получили весть от гонцов Кнута. И Магнус заранее послал Сварте, Коля и других рабов, кто подвернулся под руку, в лес, севернее Арнеса, чтобы окружить волков. Там были отличные места для охоты.
На двор въезжали ловкие, сильные молодые парни, половина из них — норвежцы. Кони их звонко цокали копытами, а навстречу уже спешили слуги, беря коней под уздцы. Кнут сын Эрика первым соскочил с коня и с распростертыми объятиями двинулся к хозяину — Магнусу. Арна он обнял вторым, дружески тряхнув его за плечи. И сказал при этом, что встреча действительно радостная, ведь именно Арна он помнит лучше всех с самого детства. Арн сперва не понял, что за воспоминания детства тот имеет в виду, но Кнут весело напомнил ему, как они вместе прятались в этом самом доме, чтобы послушать норвежского скальда, которого привез с собой отец Кнута, святой Эрик, и как этот самый святой король ненароком окатил их, справляя нужду.
Теперь Арн наконец-то вспомнил, о чем идет речь, и заявил, что само по себе событие гораздо приятнее в воспоминаниях, чем в действительности. И оба весело посмеялись, словно добрые друзья, встретившиеся через много лет. Обняв Арна за плечи, Кнут, как почетный гость, первым вошел в дом. Юноши громко переговаривались, к великому удовольствию окружающих, так как было занятно, когда один говорит как норвежец, а другой — как датчанин.
Словно Божие благословение просияло над праздничным пиром, ибо ничего лучшего тогда не было в Арнесе.
Магнус являлся теперь уважаемым отцом, сын которого сразил самого Эмунда Ульвбане, завоевав славу своему отчему дому и всему роду. Эскиль был тоже несказанно рад тому, что его оклеветанный брат теперь стал тем, о ком говорят с уважением. Все недоразумения в отношениях между отцом и сыновьями исчезли. И Арн ощущал, что он, словно блудный сын, теперь действительно вернулся в свой дом. На пиру Эрика дочь Юара тотчас услышала со всех сторон слова похвалы и почтительности в свой адрес, ибо запеченная оленина с заморскими специями и маленькие кабанчики с медом, которых она поставила перед гостями на стол рядом с лучшим в доме пивом и медовухой, вызвали громкие возгласы восхищения и изумления, и гости только и делали, что пили за Магнуса, прославляя его счастье — такую хорошую хозяйку в доме. Никто больше не замечал, что речь Эрики была невнятной.
Кнут сын Эрика встретил в усадьбе самый радушный прием, и он теперь мысленно рассматривал Арнес как наиважнейший оплот во всем Западном Геталанде. А потому он тоже испытывал великую радость на пиру.
Когда все наелись до отвала и могли только пить, зашел разговор о том, о чем должен был зайти рано или поздно, — о поединке на ландстинге в Аксевалле.
Арн смутился, умолк и сказал лишь, что он победил просто неумеху с плохим мечом и дело не стоит того, чтобы много говорить о нем. Но Кнут попросил хотя бы показать ему меч, а просьба королевского сына и почетного гостя должна быть исполнена немедленно. И слуга быстро принес меч.
Кнут с удивлением вытащил меч из ножен и взвесил его сперва на руке, а затем прошелся по залу и испытующе рубанул мечом воздух, так что стало понятно, что он и прежде держал в руках меч. Кнут нашел, что меч Арна слишком легок и хрупок, как ему и рассказывали, и он попросил объяснить, в чем тут дело.
Арн сначала воспротивился, говоря, что нечего о мече рассуждать за кружкой пива. Но потом увидел заалевшее лицо Эрики дочери Юара, упрямо просившей его показать меч, и покорился.
Он подошел к Кнуту, спросив разрешения обнажить его меч, и взвесил его на руке. — У тебя тяжелый, искусно украшенный норвежский меч, дорогой друг детства, — сказал он и задумчиво помахал мечом в воздухе. — И если ты не промахнешься, то даже шлем врага не устоит. Но вот взгляни!
Он поднял меч, словно желая ударить им плашмя прямо по очагу, и тогда бы меч этот сломался прямо посередине. Кнут вскрикнул от страха. Но Арн удержался от удара и, засмеявшись, почтительно протянул Кнуту меч, добавив, что он, разумеется, ни за что не посмеет разбить этот меч, которым, возможно, будет завоевано целое королевство.
Потом он взял из рук Кнута свой собственный меч, поднял его и со всей силой ударил о камни, так что сталь зазвенела.
— Теперь ты видишь разницу, дорогой друг Кнут, — сказал он насмешливо, сгибая острие своего меча. — Наши северные мечи сделаны из твердого каленого железа и могут лопнуть. Их тяжело держать в руке. А мой меч — гибкий, упругий, он не разбивается, и им легко рубить.
Слова Арна пробудили не недоверие, а изумление. Кнут предложил Арну обменяться с ним несколькими ударами и снова обнажил свой меч, а Арн послушно поднял свой. Он несколько раз встретил в воздухе удары Кнута, продемонстрировав, насколько тяжелый меч проигрывает в сравнении с упругостью легкого. Арн просто стоял и как будто даже не прилагал усилий, тогда как Кнут вкладывал всю свою мощь в каждый удар, не достигавший цели. В конце Арн внезапно согнул руку в одном из отражающих ударов, так что меч Кнута заскользил вниз и сам его владелец повалился на землю вслед за ним. Норвежским родичам этот прием Арна особенно пришелся по душе.
Кнут поднялся без гнева, восхищенный, подошел к Арну и обнял его, сказав, что взывает ко всем святым, чтобы меч этот был всегда на его стороне, ибо не хотел бы он, Кнут, иметь Арна своим врагом.
Они вместе дружно выпили за эти добрые слова, и все ощущали, что связаны чем-то большим, нежели просто кровным родством.
Когда немного погодя Эрика дочь Юара поднялась, чтобы пожелать всем доброй ночи, — первым подошел к ней Эскиль, похвалил ее и поблагодарил, пожелав напоследок хорошего сна. Прежде такого никогда не бывало, и Эрике казалось, будто бы наконец, как поздней весной, вскрывается лед, который слишком долго сковывал воду.
Когда же к ней подошел Арн, она довольно фыркнула и тихонько шепнула ему, что никогда не слышала столько похвал за приготовленную не ею пищу. Арн сказал в ответ, что гостям понравилось, как готовят в этом доме, и оба они много трудились над тем, чтобы теперь все так получилось. И, подмигнув, добавил, что это останется их тайной, иначе норвежцы снова будут судачить о его немужском поведении. На том мачеха с пасынком и расстались, питая друг к другу искреннюю любовь.
Эскиль нашел способ продолжить пир наверху, в одной из башен. Там было холодно, но слуги должны были вскоре принести огонь. Так что все, кто хотел спать, улеглись без помех, а те, кто еще был в состоянии пить пиво и мед, делал это, не беспокоя хозяйку.
Молодые люди выбрали башню. Магнус же благоразумно покинул их, пожелав всем доброй ночи.
Сперва в башне ощущался холод, пока не принесли огонь, да и стужа на дворе, вероятно, делала свое дело, и, когда теперь юноши снова стали пировать, тон разговора изменился.
Кнут повел хитрые речи о том, что не надо было Арну щадить Эмунда-убийцу. Хотя, с другой стороны, было неплохо, что Арн поступил так, а не иначе, тут же поспешил заверить Кнут. Ведь после свершившегося Эмунд обречен на вечные насмешки, и зовут его теперь Эмунд Однорукий вместо Ульвбане. Но все же убийца короля не достоин жизни, и Кнут, как сын своего отца, обязан завершить то, что не сделал Арн.
При этих словах Арн побледнел и ничего не ответил. Впрочем, ему и не нужно было говорить, потому что в дело вмешался Эскиль, причем самым неожиданным образом.
Прежде всего Эскиль подтвердил, что прекрасно понимает Кнута и ничего не имеет против его намерений. Однако есть одно дельце, которое можно решить, будучи добрыми родичами.
Он встал и принес пергамент. Это была карта. Он расстелил ее на столе и, поднеся свечу, попросил всех подойти и взглянуть. Гости с любопытством столпились вокруг Эскиля.
А тот ткнул сперва пальцем в Арнес, а потом указал в направлении реки Тидан, вплоть до Аскеберга, места тинга на востоке, и здесь его палец замер у Форсвика, на берегу озера Веттерн, — там, где была усадьба Эмунда Ульвбане, то есть Однорукого, как поправился Эскиль.
— Взгляните сюда и подумайте, — сказал он и обвел пальцем земли Эмунда. — В Форсвике живет Эмунд, один в стране врагов, да к тому же с одной рукой. Радости это у него не вызывает, да и чувства уверенности тоже. От щенка Болеслава помощи он не дождется, и пройдет время, прежде чем Карл сын Сверкера покажет свой нос в Западном Геталанде. Смотрите же! Если мы сможем купить его владения, то все эти земли, от Венерна до Веттерна, будут принадлежать нам. В наших руках окажутся все дороги и вся торговля!
Эскиль торжествующе посмотрел вокруг, думая, что все его поняли, но это бьшо не так. Кнут мрачно буркнул, что одно вовсе не связано с другим.
Тогда Эскиль осторожно возразил, что, может, стоит сначала провернуть это дельце, а потом уж пусть убийца короля получает по заслугам. В противном случае его земли унаследует вражеский Арнесу род. Сейчас же положение таково, почти прошептал Эскиль, что Эмунд сам не станет противиться мысли о переезде в более безопасное место, и поэтому ему можно будет предложить за Форсвик низкую цену. Договориться-то будет не сложно.
Тут два норвежца, из свиты Кнута, которых звали Гейр сын Эрленда и Эллиннг Силач — прозвище это он получил не случайно, — захохотали громовыми голосами, едва они поняли, о чем идет речь. И вскоре уже все в зале смеялись до слез — все, кроме Арна, который совершенно не видел здесь ничего веселого.
Гости выпили за Эскиля, за его блестящую идею, и тут же на месте, как хорошие родичи, пообещали приложить все усилия, чтобы дело было сделано наилучшим образом.
— Редко же ты, брат Эскиль, делал кому-нибудь столь простое предложение, — фыркал Гейр сын Эрленда в свою кружку с пивом. — Эмунд Однорукий, пожалуй, не сможет отказать тебе, даже если цену ты назначаешь низкую. А потом ты преспокойно позволишь нам довершить это дело и, может, еще получишь обратно добрую половину своего серебра!
— Я ваш хевдинг и будущий король и клянусь, мы отблагодарим наших славных родичей! — воскликнул Кнут сын Эрика, и снова все засмеялись, а Арн так и не понял, что за дела решаются сейчас в башне.
Пока еще было не поздно — ведь назавтра они отправляются по снегу в обратный путь, — норвежский родич Эйвинд сын Иона решил, что пора послушать скальда. Пусть он поведает об отцах и дедах и укрепит дух собравшихся. Скальда звали Орм сын Регнвальда, он вышел вперед, ожидая, когда все нальют себе пива и сядут поудобнее, а потом начал рассказывать. Родичи из Западного Геталанда ожидали услышать истории о походах викингов на Запад, которые особо ценились мужчинами. Но скальд рассказал им совершенно новую сагу, и звучала она так:
«Это случилось в праздник Вознесения Господня, и многие знамения были видны на небе. В тот день святой Эрик был на мессе в церкви Пресвятой Троицы — там, на Горе Господней в Восточном Аросе. Он получил послание от одного из своих людей. Враг стоит у городских стен, гласило послание, и надо без промедления вооружиться и выйти ему навстречу. Рассказывают, что король ответил: «Дослушаем в мире эту праздничную мессу. Я уповаю на Господа и верю, что мы торжественно будем слушать Его Божественную литургию в другом месте». После таких слов он обратился с молитвой к Богу, осенил себя крестным знамением и, выйдя из церкви, вместе со своими людьми вооружился. Невзирая на малое число воинов, он мужественно двинулся с ними вперед, навстречу врагу.
Закипела битва, и враг всей своей силой обрушился на короля. Когда удалось поразить помазанника Божия и тот упал на землю, злодеи стали наносить ему одну рану за другой. Он был уже при смерти, но еще более жестокие враги приблизились к нему. Вперед выступил Эмунд Ульвбане, наемник Карла сына Сверкера, и отрубил королю голову. Так святой Эрик торжествующе перешел из земной юдоли в небесное блаженство. А там, где пала его голова с плеч, тут же забил чистый источник, и течет он до нынешнего дня, называясь источником святого Эрика. Воды его совершили множество чудес. Так живет святой Эрик среди нас и будет жить вечно».
Когда скальд Орм сын Регнвальда закончил свой рассказ, в зале было совсем тихо, не слышалось даже стука пивных кружек о столы, которым гости просили еще пива. Кнут пожелал, чтобы Арн прочитал молитву о его отце и для большей силы произнес ее на церковном языке. Арн исполнил его просьбу, охваченный печалью и гневом после того, что услышал из уст скальда.
Между тем сам Кнут сын Эрика нанял ученого Орма, чтобы тот рассказывал сагу в каждом доме, где они останавливались погостить. Все до единого жители этой страны должны услышать ее, таков был замысел Кнута.
На другой день они славно поохотились в Арнесе, убив восемь волков. Волчьи шкуры лучше всего зимой.
* * *
Праздничная рождественская заутреня в этом году должна была проходить в церкви Хусабю, которая являлась королевской. Однако король там не покажется — западные геты защищали от него свои земли. Но в Хусабю должен прибыть лагман Карле, самый знатный из всех в Западном Геталанде. Поэтому Фолькунги тоже отпразднуют Рождество в Хусабю, а не в своей церкви в Форсхеме.
За несколько дней до праздника в Арнес пришло послание, в котором королевский священник из Хусабю, зная об Арне как о чудесном певчем, приглашал его приехать в Хусабю пораньше и поупражняться с церковным хором, чтобы рождественская месса удалась на славу. Арн решил, что от доброго предложения он отказаться не может, отложил свой мастерок и начал собираться в путь.
Магнус хотел было послать с ним дружинников, ведь Арн стал таким человеком, сразиться с которым было почетно и смерть которого могла бы порадовать Сверкерову свору. Но Арн отказался, заявив, что при свете дня, когда он едет верхом, никто не посмеет напасть на него, — по крайней мере, когда завидят его тощую монастырскую клячу, добавил он со смехом.
Теперь-то Магнус тоже мог усмехнуться его шутке, ибо знал, что заблуждался насчет лошади Арна и его меча, что недооценивал способностей своего сына управлять конем и владеть мечом. Магнус тогда извинился за свою ошибку, и больше они это не обсуждали.
На следующее утро, на рассвете, Арн отправился в путь. Он был вооружен, закутан в волчью шкуру, а в сумке, привязанной к седлу, лежало церковное облачение. Стоял сильный мороз, но всадник скакал быстро, так что ему и его коню Шималю удавалось сохранять тепло. Уже в полдень Арн достиг церкви и пасторской усадьбы в Хусабю. Сразу же после того, как он отвел Шималя на конюшню, выпил немного пива и, как того требовал обычай, преломил хлеб, поданный женою священника, он отправился в церковь, самую большую во всем Западном Геталанде после кафедрального собора в Скаре. Церковь эта выделялась своей огромной западной башней, построенной в незапамятные времена.
Арн был в хорошем настроении, ему нравилось петь, и он верил, что каждый знает наизусть дивные рождественские гимны, а кроме того, само Рождество было столь радостным праздником, что петь было легко всем, даже тем, кто не очень-то умел это делать.
Однако среди певчих он оказался не единственным, кто обучался пению у цистерцианцев, — на хорах стояла и Сесилия дочь Альгота, которая в последние годы воспитывалась по очереди со своей сестрой Катариной в монастыре Гудхема, возле озера Хурнборгашен.
И первое, что услышал Арн, войдя в холодную церковь, — это ее голос. Чистый, ясный, он звучал выше всех остальных голосов, и Арн изумленно приостановился, вслушиваясь в него. Он никогда не слышал такого прекрасного пения и подумал, что это сопрано какого-нибудь мальчика. Так и он сам пел когда-то в детстве в Vitae Scholae, Школе Жизни, но сейчас ему казалось, что этот голос звучит лучше, в нем было больше полноты и жизни.
Арн остановился вдали от хора и не мог видеть, кому принадлежал этот небесный голос, да его это пока и не волновало. Он опустил глаза, глядя на каменные плиты пола, чтобы ничто не отвлекало его от слушания, от мельчайших нюансов пения.
Когда хор пропел четыре из шестнадцати стихов, из которых состоял гимн, священник прервал певчих, чтобы сделать замечание второму голосу. Тогда Арн подошел поближе и поприветствовал священника, робко поклонившись певчим.
И тут он впервые увидел ее. Перед ним была словно Биргитта из Лимфиорда, но уже взрослая, — та самая Биргитта, из-за которой ему пришлось так много каяться, из-за которой он чуть не рассорился с отцом Генрихом, выясняя, что же значит любовь. Те же густые рыжие волосы, заплетенные в длинную косу, те же живые карие глаза и прекрасное белое лицо. Наверное, он слишком пристально смотрел на нее, и она досадливо усмехнулась, привычная к взглядам молодых людей. Она не знала, кто он, — священник утаил от них, что пригласил еще одного певчего, так как сам не знал наверняка, захочет ли сын хозяина Арнеса затруднять себя и приехать только ради того, чтобы поупражняться вместе с хором.
Конечно же, священник из Хусабю обрадовался: даже если этот Арн окажется вполовину таким искусным певчим, как похвалялся болтливый священник из Форсхема, то и тогда праздничная заутреня выйдет необычайно красивой. Тем более что он уже заполучил для своего хора великолепное сопрано первого голоса. А так как он был скорее веселым, чем строгим пастырем и не чурался розыгрышей, то он, пользуясь случаем, решил пошутить.
Он коротко заявил, что из церкви Форсхема прибыл еще один певчий — Арн нашел такое представление несколько странным — и что теперь можно попробовать спеть еще раз то же самое, но только с двумя певчими и на два голоса. И священник махнул Сесилии, которая послушно выступила вперед, забавляясь этим глазеющим на нее бондом из Форсхема.
Арн понял, что именно она владеет таким ангельски прекрасным голосом, и от этого еще более глупо уставился на нее.
Начав петь, Сесилия нарочно взяла на тон выше, чтобы сразу поставить новичка из Форсхема на место. Но, услышав или даже скорее ощутив всем телом, как этот новый певчий, поющий вторым голосом, следует за ней, ведет ее словно в танце, как их голоса сплетаются и переходят друг в друга, будто бы они всегда пели вместе, она не могла не поднять глаза и не встретиться с ним взглядом. Он смотрел прямо на нее, и оба почувствовали, будто глас Божий обращается к ним в этом пении. Тогда Сесилия начала усложнять мелодию, но Арн по-прежнему следовал за ней, оставаясь вторым голосом, все с той же легкостью, как и прежде, и оба они уже не видели, не замечали других певчих священника, которые пребывали в молчании, пораженные этой красотой, струящейся как свет под церковными сводами. Арн и Сесилия видели лишь друг друга и умолкли только тогда, когда пропели все шестнадцать стихов гимна.
Они упражнялись в пении почти целый день. Священник был добр со всеми и находился в таком приподнятом настроении, в каком его никто раньше не видел. Если он и поправлял кого-то, то делал это мягко, и вскоре все научились хорошо исполнять гимны, так как теперь двое певчих пели на два голоса. Певчие научились петь хором с двумя запевалами и хором с сопрано, вторым голосом и даже третьим голосом, ибо Арн мог петь и за третий голос в этих простых и радостных рождественских песнопениях.
Все были довольны и разошлись только к вечеру. Наконец Арн и Сесилия смогли поговорить друг с другом. Они оживленно обсуждали, кто где учился, рассказывали друг другу о монастыре Гудхем, о Школе Жизни и Варнхеме. Так вместе они вышли на паперть, где Сесилию поджидали два дружинника, с ее плащом и лошадью, чтобы без промедления отвезти ее домой, в усадьбу Хусабю, как строго приказал им ее отец Альгот.
Один из дружинников гневно шагнул к дерзкому певчему, стоявшему слишком близко к этой девице, честь которой он был обязан защищать. Но второй дружинник, помнивший ландстинг в Аксевалле, предупреждающе схватил его за руку и сам кинулся вперед, учтиво приветствуя господина Арна из Арнеса.
Сесилия дочь Альгота прервала свою оживленную речь о монастырском пении, решив, что ослышалась. Этот милый юноша с мягким взглядом — неужели он тот самый, о котором говорят за каждой кружкой пива по всему Западному Геталанду?
— Как твое имя, певчий? — с сомнением в голосе спросила она.
— Арн сын Магнуса из Арнеса, — быстро ответил Арн и тут же подумал, что он впервые в жизни назвал свое имя полностью. — А кто ты? — добавил он, помедлив, не отводя от нее глаз.
— Я — Сесилия дочь Альгота из Хусабю, — застенчиво ответила она.
Оба они были охвачены одним чувством и поняли теперь, что их встреча угодна Господу. Они ощутили это еще там, в церкви, когда голоса их слились в общем пении.
* * *
Рождественская заутреня в церкви Хусабю в год Божией милости 1166 останется в памяти людей. Все были согласны в том, что прекраснее пения Господу никогда прежде не слышали в этом храме. И ни разу на праздничной службе никто не почувствовал ту усталость, которая обычно одолевала долго стоявших на каменном полу.
Глаз радовало то, что этот юный Фолькунг в синем плаще, с белокурыми волосами, стоял рядом с рыжеволосой дочерью Альгота из рода Поля, разодетой в шелка зеленого родового цвета, и они вместе радостно пели гимны, так что все могли видеть, что Господь уготовал их друг другу. Даже если присутствующие здесь их отцы не замечали очевидного, то многие на пиру в Хусабю охотно открыли бы им эту истину. Ибо все также знали, что речь — не о серебре или какой-нибудь выгоде, так как у Альгота сына Поля дела идут плохо. Словно сам Господь наш Христос обратился ко всему приходу, позволив небесным голосам этих юноши и девушки нести радостную весть о Рождестве Христовом, о примиряющей силе любви, о том, что любовь одолевает зло и что любовь друг к другу сильна: это видели и слышали все на рождественской заутрене.
Конечно же, Альгот сын Поля видел это, как и другие, стоявшие гораздо дальше него в церкви. Будучи королевским наместником в усадьбе, он стоял в переднем ряду, рядом с лагманом Карле сыном Эскиля и господином Магнусом. И то, что видел он и все остальные, разумеется, вселяло в него надежду. Однако по опыту он знал, что с господином Магнусом и его сыном Эскилем вести дела непросто, тем более теперь, когда все только и говорят о младшем сыне Арне, который стал близким другом Кнута сына Эрика, по слухам — будущего короля страны. Так что вполне могло оказаться, что пылающая надежда очень скоро превратится в пепел, едва они заговорят об этом деле. Может, обитатели Арнеса строят большие планы на более выгодный брак; может, они хотят упрочить связи между родами Фолькунгов и Эрика, а может, подумывают о какой-нибудь дочери норвежского короля. Мечты Сесилии и Арна, словно птицы, летали и пели высоко в небе, но это вовсе не означало, что им действительно суждено сбыться.
Итак, Альгот сын Поля ощущал в себе то надежду, то отчаяние, обдумывая все мыслимые и немыслимые возможности. И еще он испытывал страх перед предстоящим пиром, ибо это все равно что сжечь за собой все корабли на берегу, как делали их предки, согласно сагам, когда не было возврата назад. Так и для Альгота возврата теперь не было.
Его обязанности наместника в королевской усадьбе заключались в том, чтобы следить за порядком; король мог приехать сюда когда пожелает, с какой угодно свитой, и их всех надо было кормить. В любой момент усадьба должна быть готова к пышному пиру.
И если сам король, Карл сын Сверкера, послал бы гонцов с сообщением, что он и его свита едут на Рождество в Хусабю, как это делалось множество раз, то все должно было быть приготовлено как следует. Но неразумно забывать и о том, что произошло с отцом короля, Сверкером Старым, как раз по дороге на рождественскую мессу. Да, Западный Геталанд теперь не самое безопасное место для людей из рода Сверкера.
Вместо этого пришла весть, что Фолькунги, во главе с лагманом и господами из Арнеса, с большой дружиной, будут праздновать Рождество в Хусабю, словно они уже получили королевские права. Отказать им было бы глупо, особенно если привести одну-единственную причину: королевская усадьба принадлежит не Фолькунгам, а Карлу сыну Сверкера. Высказать эту истину — все равно что пойти на верную смерть.
Но согласие Альгота сына Поля тоже могло оказаться равносильным смерти. Конечно, стояла зима и выпало много снега, так что королевское войско сможет добраться сюда не раньше весны, да и то сомнительно. Но даже если его войско дойдет и одержит победу, как объяснить, что враг вытеснил короля из его собственной усадьбы? Единственное, на что уповал Альгот сын Поля, так это на то, что к весне Фолькунги и их родичи сами уже победят короля. Иначе, пожалуй, жить Альготу останется недолго. Обо всех этих трудностях он ни словом не обмолвился с дочерью Сесилией, он и представить себе не мог, что она своей девичьей головкой сообразит, что происходит.
Тем не менее пир удался на славу. Поначалу, правда, Альгот сын Поля чувствовал себя словно зажатым между двумя щитами, сев на почетное сиденье между лагманом Карле и тремя знатными Фолькунгами из Арнеса, которые сидели соответственно своему положению. Было несложно догадаться, о чем они думают, нахально поедая королевские запасы и расположившись, словно у себя дома. Они даже не стеснялись громко отпускать шутки по этому поводу и время от времени пили за короля, смеясь при этом все оглушительнее.
У Сесилии и Арна не было никакой возможности поговорить на этом пиру. Они лишь обменивались взглядами, сидя в нескольких шагах друг от друга. Но такой способ общения был весьма заметным: казалось, будто в зале звучали колокола.
Магнус и Эскиль вскоре смекнули, что перед ними возникают трудности, но, пошептавшись, они договорились, что сейчас не место и не время толковать об этом деле — ни с Арном, ни между собой.
После рождественского пира в Хусабю Фолькунги со своей дружиной поскакали на юг, в Эриксберг, — погостить несколько дней у Юара сына Едварда, Кнута сына Эрика и их родичей.
Их ждало обильное угощение, и потом они, усталые, вернулись в Арнес. Но тут к ним опять нагрянул Кнут сын Эрика со своими буйными норвежскими дружинниками, вооруженными так, словно речь шла не только об охоте на волков в Тиведене. Хотя именно охота была как будто причиной их приезда.
Погода явно не подходила для охоты, и казалось, это вполне устраивало Кнута сына Эрика, ибо ему о многом надо было поговорить с Фолькунгами. Он хотел обсудить с Эскилем, какими делами ему, будущему королю свеев и гетов, стоит заняться, и Эскиль дал ему разные советы. Прежде всего сын Магнуса считал, что тот, кто правит и Свеаландом, и Восточным Геталандом, обязательно должен вести дела с Саксонией и Любеком, причем больше, чем прежде. Раньше недооценивалось значение Балтийского моря, будто бы оно кончалось там, где после смоландских лесов начиналась Дания. Но морская торговля могла бы стать очень выгодной, если удастся вести ее мирно и заключить договор с любекцами. Надо чеканить и новую королевскую монету, ведь прошло уже то время, когда заморские товары выменивали на мех куницы. Затем следует проложить торговый путь между Норвегией и восточными землями страны, который шел бы из Ледесе, через Венерн, в земли Арнеса и потом Веттерн. Эскиль прежде всего считал, что по этому пути можно с большой выгодой для себя вывозить с Лофотенов вяленую рыбу. Там ее можно купить за бесценок, а продать здесь — с прибылью.
Эти торговые планы вдохновили Кнута сына Эрика, и он решил, что Эскиль будет его главным советником во всем, что касается торговли и денег, как только он, Кнут, завоюет три королевские короны.
Ну, а сейчас из всех их грандиозных планов могло решиться одно-единственное дело — дело Эмунда Однорукого из Форсвика, ибо его земля была как раз недостающим звеном в торговом пути между Норвегией, Свеаландом и Восточным Геталандом. Но это самое дело могло бы стать крайне выгодным для одной стороны и менее выгодным — для другой, как справедливо полагал Эскиль, и потому следовало начинать его с письменной сделки. В Арнесе найдется немного пергамента и письменных принадлежностей, но все же их хватит на такой документ, и все спросили у Арна, не возьмется ли он написать его. И в Школе Жизни, и в Варнхеме Арн частенько трудился у архивариуса: в обоих монастырях хранилось множество писем подобного рода о всяких дарах и покупках. Если Арну скажут, кто покупает, что продают и за какую сумму, он сразу сможет составить документ.
Выслушав объяснения Эскиля, Арн поднялся в башню, взял там все необходимое и остаток дня провел в работе над письмом. К ужину он вернулся с очень красивым пергаментом, на котором была уже восковая печать Магнуса сына Фольке. Так как письмо было составлено по-латыни, как обычно и делалось, чтобы придать документу законную силу, то Арну пришлось зачитать его несколько раз на северном языке:
— «Во имя святой и нераздельной Троицы. Я, Магнус, хозяин Арнеса, и два моих сына, Эскиль и Арн, извещают как ныне живущих, так и потомков, что позорная долгая распря между нами и Эмундом Ульвбане отныне прекращена и мы с помощью Божией и по взаимному согласию кладем ей конец следующим образом: Эмунд Ульвбане передает нам усадьбу Форсвик со всеми ее землями, полями, лесами, рыбными водоемами и прочим, что относится к усадьбе, так что она свободно и навсегда останется в нашем владении. К этому договору прилагается пятьдесят марок серебра.
Также и я, Кнут сын Эрика, который после Бога является инициатором соглашения, со многими свидетелями принимал участие в передаче усадьбы. Чтобы договор стал утвержденным и неоспоримым, мы скрепляем его печатями Магнуса и Кнута, и того, кто нарушит его, мы, данной нам властью от Господа нашего Иисуса Христа, Его матери и Пресвятой Девы Марии и всех святых, объявляем вне закона.
Свидетели сей сделки — Эскиль и Арн, сыновья Магнуса, Эйвинд сын Иона, Орм сын Регнвальда, Рагнар-пробст из Форсхема и многие другие, имена которых долго перечислять».
Арн трижды прочитал текст, пока наконец все не поняли его содержание, и присутствующие принялись оживленно обсуждать его. Норвежские родичи считали, что следует называть Эмунда не Ульвбане, а по справедливости — Однорукий. Магнус возразил им, что Эмунд охотнее поставит печать на письме, где его величают Ульвбане. Конечно, прозвище Однорукий он заслужил, но главным сейчас были не оскорбления, а заключение сделки. Однако норвежцы продолжали ворчать, уповая на посмертный суд или что-то вроде того.
Сам Кнут желал называться не просто отцовским именем, а с прибавлением титула — гех sveorum et gothorum, что по-латински означает: «король свеев и гетов». Его слова понял вначале один лишь Арн и воспротивился этому, ибо считал, что такой титул должен сперва стать действительным, получить законную силу, что вовсе не следует называться им прежде времени, ведь это все равно что делить шкуру неубитого медведя.
Никто не понимал, о чем они спорят, пока Арн не объяснил им, что значат латинские слова, и тогда взял слово Магнус: он сказал, что все присутствующие здесь надеются, что титул этот станет действительным уже в самом недалеком будущем и, может, стоит называться им прямо сейчас, но все-таки слишком много этих самых свеев и гетов не знают об этом обстоятельстве и считают, что король Свеаланда и Восточного Геталанда — Карл сын Сверкера. А мы составляем всего лишь письменную сделку, и чем правдивее она написана, тем более законна. Правда же заключается в том, что Кнут сын Эрика — это Кнут сын Эрика и останется таковым даже после того, как станет королем. Если на документе будет его печать, то он не потеряет своей законной силы и в будущем, несмотря на то что в нем отсутствует пресловутый титул.
Но Кнут не желал сдаваться в этом вопросе, и тогда Арн указал, что он фактически отразил в письме королевское достоинство Кнута. Вот эти многозначительные слова, которые Арн еще раз, медленно и с расстановкой, прочитал: «… того, кто нарушит этот договор, мы, данной нам властью от Господа нашего Иисуса Христа, Его матери Пресвятой Девы Марии и всех святых, объявляем вне закона».
Арн пояснил, что если читать это «мы» как относящееся лишь к Кнуту сыну Эрика, то, значит, именно он и имеет власть от Бога, а такую власть получает только король, и кроме того, только король имеет право объявить кого-то вне закона. Конечно, можно прочитать это «мы» и как относящееся ко всем лицам, перечисленным в письме, и тогда с натяжкой предположить, что угроза должна быть одобрена тингом. Но фраза составлена так, что трудно истолковать ее буквально. Целью Арна было сказать, что Кнут сын Эрика является королем Божией милостью, и в то же время не сказать этого.
Кнут примирился с доводами Арна, дал ему свою печать с тремя коронами и попросил поставить ее на документ. Теперь не хватало только печати Эмунда, но то, что она вскоре будет стоять рядом с другими печатями, считалось делом решенным, не смотря на то, что сам Эмунд в данный момент не имел ни малейшего понятия о готовящейся сделке.
На другой день Эскиль и Кнут, вся норвежская дружина и половина дружины из Арнеса должны были выехать в Форсвик. Арн спросил было, зачем так вооружаться, когда едут заключать мирную сделку в обмен на серебро, но Эскиль объяснил ему, что лучший способ избежать ссоры — это позаботиться о том, чтобы тот, с кем предстоит непростой разговор, сам меньше всего хотел бы поссориться. Норвежские дружинники подействуют на Однорукого остужающе. Когда Эмунд будет ставить печать на документ, он должен пребывать в добром здравии и спокойном расположении духа, иначе все провалится. Арн решил, что все понял, и успокоился.
Тут его отвел в сторону Кнут и шепнул, что Арну не стоит ехать с ними: его присутствие плохо отразится на настроении Эмунда. Предстоит заключить сделку, и это — дело Эскиля, а не Арна. Но скоро уже наступит время, когда, напротив, Арн будет полезнее своего брата.
Арн быстро и легко согласился — так быстро, что это даже удивило Кнута, беспокоившегося перед началом разговора. На самом деле у Арна были свои планы, и он осторожно намекнул, что пока его родичи отлучатся на озеро Веттерн, сам он отправится по делам в Хусабю. Кнут мгновенно смекнул, о чем идет речь, — Эскиль успел рассказать ему о Сесилии и тех хлопотах, которые могут возникнуть в связи с ней и Арном.
В воздухе ощутимо пахло весной, снега было немного, но ледоход еще не начался. Тяжело нагруженные и вооруженные люди выехали из Арнеса. Поклажу они везли на спине или в сумках, привязанных к седлам, так как повозка или даже сани увязли бы с тяжелым грузом в подтаявшем снегу. Время для поездки, сразу же после дня святой Гертруды, было выбрано намеренно, так как Эмунд и его люди не ждали гостей и это значительно упрощало дело.
Сперва всадники скакали на север и добрались до Тидана, покрытого льдом. Оттуда было легче доехать до Аскеберги, места тинга, где они и заночевали в оставленных там палатках. На следующий день выехали с восходом солнца, чтобы прибыть в Форсвик в сумерках и проникнуть на двор усадьбы прежде, чем люди Эмунда обнаружат гостей.
И это им удалось. Изумленные Эмунд и его люди были быстро схвачены и разоружены. Дружинников хозяина, у которых могло быть оружие, заперли в кладовых и кузницах, и сторожили их суровые норвежцы. Таким образом, в господском доме остались только Эмунд, его взрослый сын Гермунд, жена Ингеборг и трое малолетних детей. Еще в доме находились слуги, но гости тщательно проверили, нет ли у них оружия.
Эскиль и Кнут угощались, громко, без стеснения переговариваясь; Эмунд и его люди отвечали на все вопросы односложно и с подозрением.
Эскиль, судя по всему, был в отличном настроении и с самого начала заявил, что приехал по делу и что они наверняка договорятся, но обычай требует, чтобы сперва они разделили трапезу и выпили вместе. Так будет легче разговаривать. Поев немного, Эскиль велел принести ларец с серебром, который поставили на стол между ним и Эмундом. Хозяин дома явно подобрел, но не потому, что жаждал заполучить себе серебро, а скорее просто перестал бояться за свою жизнь и жизнь детей. Серебро на столе говорило о сделке, а не о смерти. Однако разговор все равно не клеился.
Поели еще немного, и Эскиль как можно учтивее предложил, что пора перейти к делу, а потому пусть в горнице останутся только мужчины. Ингеборг с детьми было позволено удалиться. Повиновалась гостям и прислуга.
Оставшись втроем с Эмундом и Кнутом, Эскиль изложил дело просто и понятно. Он сказал, что цена, возможно, низковата, ибо Форсвик стоит больше пятидесяти марок серебра, это каждому ясно. Тут он остановился и, открыв ларец с серебром, достал документ, который и был им зачитан на родном языке, но при этом Эскиль не стал называть всех имен в конце письма, и особенно имени Кнута сына Эрика. Эмунд еще больше уверился в том, что дело действительно касается купли-продажи, хотя и невыгодной для него лично.
А Эскиль тем временем указал, что самая приемлемая сумма теперь — те тридцать марок серебра, которые предлагались Эмунду на ландстинге в Аксевалле. Тогда Эмунд не пошел на мировую, но сейчас-то он должен быть более благоразумным и примириться.
Эмунд согласно кивнул в знак того, что понимает Эскиля, но осторожно заметил, что достаточной суммой были бы в таком случае восемьдесят марок серебра, особенно если речь идет о примирении в ходе сделки. Эскиль выразил радость, что им так легко удалось понять друг друга.
Но Эмунд отказался поставить свою печать и принять серебро, прежде чем не получит определенных гарантий. Как-то сомнительно совершать сделку, когда твои собственные дружинники заключены под стражу воинственными норвежскими берсерками. И потом, он не может понять, что это за человек сидит с ними за столом и называется Кнутом. Не знает он никакого Кнута.
На это Эскиль ответил, что может понять опасения Эмунда. И предлагает следующее: пусть назавтра семья Эмунда и дружинники, которые захотят остаться с ней, погрузятся в сани и уедут. Мы дождемся, когда они окажутся на безопасном расстоянии, и только тогда довершим дело. Эмунду не придется бояться за жизнь своих родичей.
Тот согласился, но прибавил, что в этом случае его собственная жизнь — под угрозой, коль скоро он остается в Форсвике один, окруженный людьми, которые вовсе не являются его друзьями.
Эскиль понимающе кивнул и сказал на это, что жизнь хозяина и сейчас под угрозой. Но если родичи Эмунда окажутся вне пределов досягаемости, то это все же большая разница в сравнении с теперешним положением, когда их всех могут убить, если сделка не состоится.
Эмунд выразил пожелание договориться. Но он предлагал одно условие: серебро, которое он получает, должны заблаговременно увезти с собой его родичи.
Это условие Эскилю не понравилось, ибо не годится платить за то, что еще не получил. И если вдруг Эмунд откажется от сделки, то серебро пропадет понапрасну. И они пошли на уступки, обсудив дело со всех сторон. Половина суммы будет увезена семьей, а вторую половину Эмунд получит после того, как скрепит письмо своей печатью. На том и порешили и отправились спать, хотя для многих в Форсвике эта ночь была неспокойной.
Наутро половина дружинников была выпущена из-под стражи, их покормили, и они снарядили в дорогу сани. Эмунд простился с женой Ингеборг и детьми, отнес в их сани половину серебра, как и договорились с Эскилем, и положил его рядом с женой. Сани понеслись по льду Веттерна.
Люди в молчании ждали, когда сани удалятся от усадьбы на такое расстояние, что их невозможно будет догнать. Теперь пришло время довершить дело. Эмунд был подавлен и бледен, его левая рука дрожала, когда он, с помощью Эскиля, прикладывал печать к документу. От его правой культи, обмотанной полотняной тряпицей, плохо пахло.
Когда все было готово, Эскиль бережно свернул пергамент и сунул его под рубаху. Он подвинул ларец со второй половиной серебра к Эмунду и попрощался, заявив что ему лично нечего больше делать в Форсвике. Но его люди останутся в усадьбе до лета, а потом им на смену приедут из Арнеса другие.
Затем Эскиль вышел, учтиво простившись с Эмундом, собрал часть дружинников и, сев в седло, неспешно тронулся в путь.
Однако никто в доме не позволил Эмунду сесть в свои сани, стоявшие наготове. Едва прошло достаточно времени для того, чтобы Эскиль исчез из виду, Эллинг Силач и Эгиль сын Улафа вышли на двор и тотчас убили дружинников, поджидавших своего хозяина, а тела их побросали в сани.
Когда с этим было покончено, они вернулись в дом и молча сели на место, так как слова были излишни. Все в доме слышали, что творилось на дворе.
Повернувшись к Эмунду, Кнут заговорил тихо, с холодной ненавистью в голосе:
— Ты спрашивал, Эмунд Однорукий, кто я такой, и сказал, что не знаешь никакого Кнута. Теперь я отвечу тебе, что я не просто какой-то норвежец, я — Кнут сын Эрика, и мой отец — Эрик сын Едварда. И если ты теперь ничего не должен Эскилю сыну Магнуса, то ты остался должен мне.
Эмунд понял, что это за долг, и сразу вскочил, словно намереваясь бежать, но тут же был схвачен радостно галдящими норвежцами. Под тычки и затрещины они выволокли его на двор и там пинали его и издевались над ним, растянув на земле и связав ему руки и ноги так, что он лежал на спине с поленом в изголовье.
Гейр сын Эрленда считал, что следует положить его спиной вверх, и тогда Кнут смог бы увидеть добрый норвежский обычай — врезать кровавого орла тому, кто заслужил смерть в муках. После того как ребра у негодяя и убийцы короля будут сломаны, выдернуты и, наподобие крыльев, будут волочиться по земле, Кнут сможет голыми руками вырвать у него сердце.
Однако Кнут сын Эрика и слышать не желал об этом, ибо он не хотел марать руки в крови злодея. Вопреки Священному Писанию, этот убийца умрет той же смертью, что и его жертва-король: ему отрубят голову.
Эмунд Ульвбане держался мужественно и не просил пощады. Одним ударом Кнут сын Эрика отрубил ему голову и водрузил ее на копье посреди двора, чтобы показать оставшимся слугам: отныне в Форсвике будет новый хозяин. Тело же Эмунда он велел бросить в сани, рядом с телами убитых дружинников, а затем пустил сани на лед, чтобы сжечь их подальше от дома.
Кнут сын Эрика и его люди задержались в Форсвике еще на день. Они посмотрели, чем можно поживиться в кладовых и клетях, и нашли кое-что для себя. В одном из сараев было предостаточно пиленых дубовых досок. Эйвинд сын Иона, Ион сын Микеля и Эгиль сын Улафа остались в Форсвике, чтобы построить лодку, прежде чем вскроется Веттерн. Это славная и нелегкая работа, с которой справятся лишь норвежцы.
С остальной дружиной и частью дружинников Арнеса Кнут сын Эрика вернулся в Западный Геталанд. Он сделал первый шаг на пути, который должен привести его к трем королевским коронам.
* * *
Голос возлюбленного моего! Вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал… [5]Снова и снова шепча библейские слова о том, что переполняло его, Арн скакал в Хусабю, и комья земли и снега летели из-под копыт Шималя. Конь был разгорячен, весь в мыле, но Арна сжигало внутреннее пламя, и он надеялся, что весенний ветер охладит его пыл, если он будет скакать во весь опор. Смутно он чувствовал, что он не в том состоянии, которое подобает для того, чтобы пребывать в доме Божием и петь хвалу Господу, а не кому-то другому. И он совершенно точно знал, что отец Генрих отнесся бы к нему со всей строгостью.
Но он все равно скакал как безумный, потому что не мог иначе. Его переполняли чувства к Сесилии, и все остальное, кроме Господа, не имело сейчас значения. Будто лукавый искушал его злыми помыслами, вопрошая, как он поступит, если придется выбирать между любовью к Господу и к Сесилии. Нечистые помыслы теснили его душу, как ни пытался он уберечься от них, — словно лукавый нашел себе жертву.
Арн был вынужден остановиться, сойти с коня и просить прощения за те дурные мысли, которые не покидали его. Он молился до тех пор, пока не замерз, однако и тогда не прекращал молитвы. Затем он продолжил путь, но скакал теперь медленнее: он уже подъезжал к Хусабю и его могли увидеть.
Оказавшись у церкви, он соскочил с коня, отвел Шималя на пасторскую конюшню и почистил его, а потом покрыл коня грубым сукном, чтобы тот не остыл после быстрой езды. Шималь задумчиво взглянул на него, будто был обижен и видел своего хозяина насквозь.
Было Благовещение, время, когда в Западный Геталанд прилетали журавли и когда, должно быть, в Дании, в Школе Жизни, уже начали пахать землю. На этот праздник Арн умел петь так же хорошо, как и на Рождество. Пресвятая Дева Мария была небесной покровительницей монастыря в Варнхеме, и его певчие знали праздничную службу наизусть.
Во время пения в церкви Арну по-прежнему казалось, что он грешит. Они с Сесилией пели так же чудесно, как и в прошлый раз, но при словах, которые говорили о любви к Госпоже Небесной, он смотрел на Сесилию и обращался к ней, чувствуя, что она во время пения испытывает то же, что и он.
Не отдавая себя отчета в том, что проявляет неуважение к Альготу сыну Поля, Арн сам предложил, что останется на несколько дней в королевской усадьбе Хусабю, чтобы поупражняться с Сесилией в пении. Понятное дело, Альгот сын Поля не мог отказать сыну хозяина Арнеса и сразу принял предложение Арна. Но затем началась тайная борьба между двумя влюбленными и теми, кто хотел или был обязан сторожить их. Арн и Сесилия пытались употребить всю свою хитрость на то, чтобы поговорить наедине. Но Альгот и старшие женщины в доме не спускали с них глаз. Они не имели ничего против, пока молодежь благонравно сидела в зале вместе с другими и пела дивные церковные песнопения. Терпение Арна и Сесилии было велико, но не больше, чем терпение их надзирателей. Домочадцы пристально следили за тем, чтобы они сидели не слишком близко друг к другу. За ужином Арн и Сесилия красовались на почетном сиденье, но между ними, словно большой волнорез, восседал Альгот, и они никак не могли приблизиться друг к другу, если только Сесилия не подносила гостю еще пива, которое пробуждало в нем угрызения совести, ибо он решил никогда больше в жизни не пить столько, сколько было выпито пива на его первом пиру в Хусабю.
В канун Благовещения пастор Суне из Хусабю присутствовал на коллегии у епископа Бенгта в Скаре. Несмотря на распутицу в это время года, туда съехалось гораздо больше священников епархии, чем ожидалось, и это служило признаком беспокойства, охватившего весь Западный Геталанд после ландстинга в Аксевалле. Все понимали, что король Карл сын Сверкера не удовлетворится потерей власти над Западным Геталандом и что главный противник короля — Кнут сын Эрика. Если случится худшее, то король Карл придет в Западный Геталанд со своим войском, и тогда нелегко будет угадать, кто из них победит. Знали наверняка лишь одно: такая война разорит страну.
Епископ Бенгт хотел обсудить на коллегии только один вопрос: надо ли церкви выступать на стороне того или другого в их борьбе за светскую власть. Священники разделились, и одни поддерживали короля Карла, в том числе и сам епископ, а другие — Кнута сына Эрика. Однако большинство считало, что самое разумное для церкви — не включиться в борьбу. Если церковь начнет участвовать в этой игре, все может обернуться очень плохо. На коллегии у епископа решили оставаться в стороне, и Суне из Хусабю был из тех, кто громче всех поддерживал это мнение. Ведь его самого втягивали в борьбу за власть, когда он был вынужден служить рождественскую мессу в королевской усадьбе для Фолькунгов.
На коллегии говорили также и о других вещах, и настоятель собора рассказал всем, как он оказался свидетелем чуда: маленький беззащитный монашек из Варнхема с помощью архангела Гавриила уложил двух рослых воинов.
Теперь же священник Суне сидел за ужином в Хусабю и, увидев за столом Арна, вспомнил эту историю. Он пересказал ее так, как слышал от настоятеля. Люди за столом зачарованно внимали его словам — все, кроме Арна, которому, как было видно, она не понравилась. Тогда священника осенило, что Арн, возможно, знает больше об этом событии, раз он сам из Варнхема и, следовательно, слышал эту историю прежде или знал лично того монашка. Суне спросил Арна об этом.
Все заметили, что вопрос его Арну неприятен, но никто не мог понять, в чем тут дело. Трудно поверить, что Арн испытывал зависть к другому монаху.
Между тем Арн отвечал с трудом, не умея лгать и чувствуя себя застигнутым врасплох. Он сказал, что отец настоятель превратно понял это событие. Никакого чуда не было, и тем более никакого беззащитного монашка, ибо он сам и был тем, о котором рассказывалось. А случилось так, что пьяные бонды, пировавшие на свадьбе, ошибочно обвинили его в умыкании невесты, хотя он всего какую-то пару часов находился за пределами монастырской ограды. Бонды пытались убить его, но, чтобы это убийство выглядело не столь гнусно, они вручили ему меч для защиты.
Тут Арн остановился, чтобы обдумать, как ему дальше продолжить рассказ. Охотнее всего он на этом бы и закончил, считая, что уже все сказал. Он вовсе не гордился тем, что тогда совершил, — напротив, он чувствовал раскаяние. Но чем больше он узнавал, как думают люди в миру, тем больше ему казалось, что его упрекнут в хвастовстве. На самом же деле тот, кто хвастал, был отец настоятель, высокомерно считавший себя свидетелем чуда Божия там, где было всего лишь несчастье. Но и об этом трудно было сказать. И тогда в невыносимой тишине Арн, похоже, решил больше ничего не рассказывать. Сесилия все же попросила его продолжить. Он поднял глаза и встретился с ней взглядом. Словно Пресвятая Дева Мария обращалась к нему, объясняя, как он должен рассказывать и какие слова говорить, чтобы превратить плохое в хорошее.
Арн миновал неприятные детали. Пьяные бонды ошиблись, думая, что смогуть убить беззащитного с виду монашка, которого сам рыцарь Храма Господня учил искусству владеть мечом. И потому сражение было недолгим. А чуда тут нет, как не было его и в Аксевалле.
Однако в этой истории было другое чудо — чудо любви. Ибо здесь можно было действительно узреть несказанную доброту Девы Марии и заботу о тех, кто уповает на Нее, хотя настоятель не видел или не понял этого. Арн застыдился своих дерзких слов об отце настоятеле, но никто в зале не рассерлился и не прервал его, так что он уверенно продолжил рассказ.
Долго молились Пресвятой Деве девушка по имени Гудрун и юноша Гуннар. Они так любили друг друга, что скорее желали умереть, нежели отказаться от счастья быть вместе как муж и жена, с благословения Господня.
Но Гудрун насильно выдали замуж за другого. В мрачном отчаянии она убежала со свадебного пира, прежде чем молодые должны были отправиться в спальню, и выбежала на дорогу, где ей навстречу попался тот самый монашек, который ничего не ведал, но которого Пресвятая Дева Мария послала на помощь Гудрун. Так девушка была спасена от горькой доли с нелюбимым мужем, ибо он был из тех, кого убил в сражении монах.
Настоятель собора нуждался тогда в новом управляющем в своей усадьбе, где происходила та самая свадьба, и им сделался Гуннар. Они с Гудрун смогли пожениться и теперь счастливо жили вместе. Их любовь с помощью Пресвятой Девы Марии победила все запреты, обычаи, правила, ибо любовь сильнее всего на свете. Именно это и показала Пресвятая Богородица, ответив на сердечные молитвы Гудрун и Гуннара и вознаградив их за то, что в самые трудные времена они возложили все упование на Нее.
В конце рассказа Арн прочитал стихи из Священного Писания о всепобеждающей силе любви: он знал их наизусть на своем родном языке и мог процитировать когда угодно. Своим чтением он произвел огромное впечатление на сидевших за столом, и больше всего — на Сесилию. Именно на это он и рассчитывал.
Священник из Хусабю, задумавшись, подтвердил, что прочитанные Арном стихи — действительно слова Божий. Любовь — такое чувство, прибавил он, что она поистине способна совершить чудо, и в Священном Писании — множество тому примеров. Однако гостям это было понять трудновато, ибо большинство людей, живших по заведенным в Западном Геталанде обычаям, играли свадьбы по совершенно иным причинам, нежели те, которые были у Гудрун и Гуннара. Однако Арн поведал всем эту историю в очень хорошем церковном истолковании, и потому священник из Хусабю присоединился к его мнению. Пресвятая Дева воистину явила чудо любви и веры, а не меча и насилия. Здесь есть чему поучиться.
Сидящие за столом смутно представляли себе, чему же можно поучиться, даже если рассказ был чудесным. Однако священник не стал вдаваться в подробности, а после ужина и совершения молитвы он отозвал Альгота в сторону и завел с ним беседу, которая осталась никому не известной.
Вероятно, эта беседа заставила Альгота изменить направление его мыслей, и на следующее утро он сам спросил Арна, не хочет ли тот в этот прекрасный весенний день взять Сесилию с собой на прогулку. Юношу не пришлось долго упрашивать.
Так и случилось, что в этот первый по-весеннему теплый день, когда дул легкий ветерок, Арн и Сесилия ехали верхом, бок о бок, взбираясь по южным склонам Чиннекулле. Распустилась верба, повсюду звенели ручьи, и лишь местами на земле лежал снег. Сперва они будто бы не осмеливались заговорить друг с другом, несмотря на то что наконец оказались наедине: дружинники, сопровождавшие их, держались на почтительном расстоянии и не могли их услышать. Все то, что Арн говорил ей в ночных жарких мыслях или во время бешеной скачки на Шимале, когда он выкрикивал признания в любви в небо, сквозь ветер, — сейчас сказано не было. Вместо этого он запутался в ребяческих описаниях достоинств своего коня и того, почему кони из Святой Земли гораздо лучше других.
Сесилию, казалось, все это мало интересовало. Но она слушала, улыбаясь, словно поощряя его говорить. Она тоже вела долгие мысленные беседы с Арном в своих ночных грезах, хотя всегда представляла себе, что это он первым произнесет заветные слова, а она ответит ему. Но, обсуждая свойства лошадей, она стала немногословной.
Арн был уже близок к отчаянию из-за своей застенчивости и робости, не зная, как ей сказать самое важное, и он начал внутренне молиться Пресвятой Богородице, чтобы получить хоть каплю той силы, которую имела Гудрун. И сразу же ему на ум пришли нужные слова, будто Госпожа Небесная мягко направила его на верный путь. Он придержал Шималя, беспокойно обернулся на дружинников, державшихся на расстоянии, и, глядя на Сесилию и чувствуя в душе ликование, прочитал такие стихи:
Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста; пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста; о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! [6]Услышав слова Божий, которые были и словами юноши, обращенными к ней, Сесилия остановила коня и взглянула на Арна, ведь с самого начала она говорила с ним именно глазами, и взгляды их до сих пор выражали все самое откровенное. Она молча сидела в седле, и грудь ее вздымалась.
— Если бы ты знал, Арн сын Магнуса, как я ждала этих слов, — сказала она наконец, глядя на него. — Я ждала их с тех пор, когда наши глаза впервые встретились во время пения. И больше всего на свете я желала бы быть твоей.
— Я — твой, Сесилия дочь Поля, навсегда твой, — ответил Арн, и его торжественные слова звучали как молитва. — Это правда, что ты взяла мое сердце при первом же взгляде, как говорят стихи. И я ни за что не хочу разлучиться теперь с тобой.
Влюбленные молча ехали еще некоторое время, пока не увидели старый, наполовину засохший дуб, склонившийся над речушкой. Они сошли с коней и сели на землю, прислонившись к дубу. Дружинники из Хусабю сперва в сомнении остановились и, казалось, заспорили о том, приближаться им или нет. Шум воды заглушал голоса, и они ничего не слышали на таком расстоянии. Наконец они все же решили остаться на месте, но не терять Сесилию с Арном из виду.
А те взяли друг друга за руки, не говоря ни слова. Оба они ощущали в себе чудо.
Наконец Арн промолвил, что должен вернуться в Арнес, как бы ни было трудно им разлучаться, и все рассказать своему отцу Магнусу. Может быть, полагал Арн, они успеют уже к лету объявить о помолвке.
Сесилия сперва обрадовалась его словам, но потом словно тень пробежала по ее лицу.
— Скорее всего, мы столь же нуждаемся в заступничестве Пресвятой Девы Марии, как и те Гудрун с Гуннаром, о которых ты так красиво рассказывал, — серьезно произнесла она. — Ибо наша любовь должна преодолеть суровые испытания и большие препятствия, о которых ты, наверное, и сам знаешь.
— Нет, я ничего не знаю, — ответил ей Арн. — Больших препятствий не бывает, как не бывает горы, слишком высокой, или леса, слишком густого, или моря, слишком широкого, которое не переплыть. С помощью Божией мы все одолеем на своем пути.
— Вот о помощи этой нам и надо усердно молиться, — сказала она, опустив глаза. — Мой отец — человек Карла сына Сверкера, а твой — человек Кнута сына Эрика, это все знают. Поэтому мой отец опасается за свою жизнь, и, пока Карл жив, он не осмелится породниться с Фолькунгами. Мой любимый Арн — какое счастье называть тебя так! — получается, что наша любовь имеет больше препятствий, чем если бы мы переплывали море, пока Карл сын Сверкера остается королем и мой отец служит ему.
Однако Арн вовсе не опечалился. И не только потому, что вера его была велика и он уповал на Пресвятую Деву Марию. Но и потому, что, много зная об Аристотеле, святом Бернарде Клервосском, о высшем и низшем мирах Платона, об уставе цистерцианцев — о чем люди в Западном Геталанде даже не ведали, — он столь же мало знал о правилах, которые определяли борьбу за власть и о которых в Западном Геталанде знали все.
Арн верил, что превыше всего — любовь.
Глава XI
Магнус и Эскиль сидели в башне, и разговор их был нелегким. Их очень устраивало, что у Арна сейчас горячие деньки. Он находился на озере Венерн, где выпиливал ледовые глыбы, такой же формы, как строительный камень для стен. Лед тянули затем на санях в Арнес и складывали в новый ледник. Арн настаивал на том, что именно этим надо заняться в первую очередь, пока лед не сделался слишком тонким. Вот и прекрасно, что он так занят. Было бы трудно вести этот разговор в его присутствии.
Магнус с Эскилем знали по личному опыту, что юноши, а иногда, как говорят, и молодые девушки, подвержены искушениям. Такова жизнь, и ничего другого не оставалось, как ждать, пока эти искушения пройдут, вроде весеннего насморка. Магнус припоминал нечто подобное из своей ранней юности, и при этих воспоминаниях он расчувствовался, признавшись Эскилю, что та женщина, которая была первой хозяйкой Арнеса и матерью Эскиля и Арна, поначалу значила для него не больше, чем пара гнедых или какое-нибудь другое полезное приобретение в хозяйстве. Но со временем Сигрид стала ему дороже всего на свете. И то, что Арн называл любовью, могло появиться позже, когда люди поживут вместе, в благополучии и согласии. Поразмыслив, Магнус добавил, что даже Эрика дочь Юара в последнее время стала для него красивее и приятнее и с ней сейчас легче иметь дело. По крайней мере, никогда прежде не было с ней так легко, как теперь. Разве это не то, что Арн называет любовью?
Но мудрость старших не передашь молодым. Бессмысленно пытаться толковать о разуме там, где его нет и в помине. Это все равно что прийти к тому, кто недавно похоронил родича, и сказать ему, что время лечит все раны. Утверждение справедливое, но бессмысленное, когда еще столь сильна скорбь об умершем.
Что же делать им с Арном, который чуть ли не завтра намерен мчаться в Хусабю и объявлять о помолвке?
Эскиль считал, что надо стараться быть хладнокровными, пока с ними нет Арна. Уж он-то — как раскаленное железо. Есть доводы за и против обручения, и следует спокойно взвесить их, как серебро, чтобы увидеть, что перевешивает.
Против предложения Арна было очень многое, ибо никто не знал, кто возьмет королевскую власть в свои руки в ближайшие два года. Во всяком случае, пока королем остается Карл сын Сверкера, Альгот сын Поля должен остерегаться связывать себя узами родства с врагами короля. По крайней мере, если Альгот — человек с умом. Да и с их стороны было бы неразумно играть свадьбу с представительницей рода, враждебного Кнуту сыну Эрика. А ведь королем вместо Карла, конечно же, будет он, Кнут сын Эрика.
За предложение Арна было тоже немало. Теперь, когда Форсвик на Веттерне принадлежал Арнесу, Фолькунги оказались владельцами всей северной части Западного Геталанда — той самой части к югу от Тиведена, где пройдут торговые пути между четырьмя странами. Слабым звеном были земли Альгота у Чиннекулле. Будет очень важно приобрести себе Чиннекулле и берег Венерна к югу от него. Когда придет время совершить эту сделку, Альгот, пожалуй, заупрямится, и тогда его можно было бы уговорить отдать земли в качестве приданого, вдвое большего, чем принято давать за невестой.
Планы казались неосуществимыми, пока оставался жив Карл сын Сверкера. Но тем покладистее будет Альгот в таких вопросах, чем быстрее Карл сын Сверкера покинет этот мир, как предполагал Кнут сын Эрика.
Значит, так тому и быть. Пока король Карл сын Сверкера надежно сидит в своем замке на Веттерне, ничего не поделаешь. Если же он почит в бозе, можно сразу же с выгодой для Арнеса провернуть это дельце.
Во всех своих расчетах Эскиль усматривал один недостаток. Он не знал планов Биргера Брусы и родового тинга. Однажды уже случилось так, что Магнус сам подумывал о свадьбе с Сесилией либо Катариной, и по тем же самым причинам, о которых они говорили сейчас. Но вместо этого он получил в жены Эрику дочь Юара, ибо родовой тинг счел, что такой брак будет полезнее.
Но Магнус сказал Эскилю, что вроде бы не слышал о каких-то других планах. С Эриковым родом они породнились через Эрику дочь Юара, и, хотя у Кнута была сестра Маргарета, она уже стала женой норвежского короля Сверрира. А так как брат Магнуса Биргер Бруса был женат на Бригиде, дочери короля Харальда Гилли из Норвегии, то их норвежские связи тоже достаточно крепки. Нет, в данный момент Магнус не видит лучшего выбора, чем Катарина или Сесилия — не важно, которая из них. Хотя сам Арн считал, что Сесилия ему дороже жизни.
Оставалось решить, кто скажет все это Арну. Дело ясное: пока жив король Карл — никакой помолвки.
На словах-то все было просто, но гораздо труднее убедить в этом юного сына или брата, живущего в бреду, который он называет любовью.
Говорить должен Магнус, так как он — отец и ему давать согласие на свадьбу. А может, лучше сказать Эскилю, он все-таки брат и безо всякого давления все растолкует Арну. Они поворачивали это деликатное дело и так и этак и наконец решили, что говорить с Арном будет Эскиль.
* * *
За неделю до дня святого Тивуртия, когда на земле местами еще лежал потемневший снег, в Арнес без предупреждения нагрянул Кнут сын Эрика. Он прискакал в обществе Гейра сына Эрленда, скальда Орма сына Регнвальда и Берсе Силача. Кнут объездил весь Западный Геталанд, и его скальд потрудился на славу, а теперь они возвращались из Скары, где у Кнута было много глаз и ушей и где он купил ценные сведения у одного человека, только что оставившего службу у Карла сына Сверкера в Висингсе.
Не сообщив, зачем приехал, Кнут принялся разыскивать Арна, которого нашел печальным, среди слуг в поварне. Кнут счел, что подобное место и настроение не достойны такого воина, как Арн.
К беспокойству Арна, его друг тут же изъявил желание состязаться в стрельбе из лука, поставив мишень из связки соломы. Арн не хотел отказываться, но никакой радости в этой игре не находил. Они установили мишень во дворе, на расстоянии сорока шагов. Арн счел, что это сложно для Кнута, но тот воспротивился. Стрелки выбрали себе тугие луки, и люди высыпали на двор поглазеть на состязание, ибо все знали, что стрелять собираются будущий король страны и сын хозяина Арнеса.
Когда они встали рядом, с луками наготове, хотя Арн с нежеланием подчинился просьбе друга, Кнут обнял его за плечи и сказал то, что тщательно продумал заранее: — Теперь, дорогой друг детства, ты должен выстрелить, чтобы выиграть у своего короля. От этих стрел зависит все. Вспомни о Сесилии, да-да, я знаю о вас. Подумай, что я твой король и могу отдать ее тебе, если ты только одержишь победу. Смотри, вот я стреляю первым. Можешь не отвечать мне, главное — попади в цель.
И пока Арн, потрясенный услышанным, собирался с силами, чтобы не ударить лицом в грязь, Кнут послал в цель десять стрел, вызвав всеобщее восхищение, ибо никто не думал, что он такой отличный стрелок.
После него стрелял Арн — хладнокровно, сосредоточенно, словно действительно все его будущее зависело от состязания. И люди смогли убедиться, что Арн владеет луком лучше Кнута.
Тогда Кнут снова обнял его за плечи, заявив, что Арн сейчас добыл себе в жены Сесилию дочь Альгота. Покинув двор, оба они направились в башню, куда Кнут попросил принести пива.
Оставшись с Арном наедине, Кнут объяснил ему, как обстоят дела. Пришло их время. Для него самого речь идет о короне, для Арна — о Сесилии. По всей стране у Кнута сына Эрика были свои соглядатаи, и потому он знал все, что важно было знать, и даже такое, что представлялось менее важным, вроде новости о Сесилии и Арне.
Арн хмуро ответил ему, что, пожалуй, может понять важность таких донесений для того, кто стремится получить королевскую корону, но он не понимает, зачем было затевать состязание в стрельбе из лука. Ведь будущий король подвергал себя риску и мог проиграть, а потом бы об этом все только и говорили.
В этот момент вошли слуги с пивом, и Кнут широко улыбнулся. Похоже, он хорошо понимал причину недоумения Арна. Они учтиво выпили друг за друга, как того требовал обычай, и Кнут видел, что Арну не терпится получить ответ. Однако он не спеша заговорил о своем отце, святом Эрике, который со всеми был добр, ничего не просил для себя, а придворной жизни предпочитал власяницу и долгие молитвы, помогал слабым и противостоял сильным и умер как святой от руки злодеев. Возможно, Арн много слышал об этом прежде, но теперь следовало прибавить еще одну вещь.
Отец Эрика, Едвард с Оркнейских островов, плавал вместе с Сигурдом Крестоносцем в Святую Землю и оказал там большие услуги норвежскому королю. В благодарность за это Сигурд подарил Едварду две частицы Креста Господня. Сам же король получил святые частицы от короля Балдуина Заморского, правившего в Иерусалиме.
Тут Кнут остановился и спросил у Арна, слышал ли тот когда-нибудь об Иерусалимском королевстве. Арн радостно закивал в ответ.
Так вот, потом отец Кнута, Эрик сын Едварда, стал владельцем этих частиц Святого Креста. Он вставил их в свой золотой крест, который всегда носил на шее. Когда Эмунд Однорукий отрубил ему голову, священная реликвия упала на землю, а коварный злодей взял ее и отнес тому, кто стоял за этим убийством, — Карлу сыну Сверкера. Так что он не только убийца короля, но и святотатец, присвоивший себе чужую святыню. Тот самый золотой крест носит теперь на шее он, Карл сын Сверкера. Ведь это мерзость перед Богом, разве можно усомниться в этом?
Арн тотчас согласился с Кнутом, сказав, что надо восстановить справедливость.
При этих словах Кнут сын Эрика улыбнулся Арну и тихо повторил, что пришло их время. Но для того, чтобы добраться туда, где сейчас находится святая реликвия, нужно уметь терпеть холод, ходить под парусом, метко стрелять из лука и хорошо владеть мечом, а на это способны немногие.
Вот почему он устроил состязание, продолжал Кнут. Ибо другие люди, которые метко стреляют, если им мешает гнев и страх, в нужный момент промахнутся. Арн, когда он стрелял, был взволнован, думая о Сесилии, однако он сумел отправить все свои стрелы прямо в цель.
Теперь и ни минутой позже необходимо сделать то, что должно быть сделано, продолжал Кнут и спросил небрежно, не хочет ли Арн отправиться с ним в эту поездку, как один из восьми избранных воинов. При этом Кнут тут же заверил его, что, когда станет королем, он первым благословит брак Арна с Сесилией.
В третий раз Арну говорили, что он не получит Сесилию, пока жив Карл сын Сверкера. И если в первые два раза он колебался, то теперь его больше не мучили сомнения.
* * *
Приехав в Форсвик, на берегу Веттерна, они увидели, что Эйвинд сын Иона, Ион сын Микеля и Эгиль сын Улафа построили маленькую ладью — красивую, широкую в середине, с тремя парами весел. Она лежала на мелководье. Норвежские дружинники горевали, что не успели вырезать на ладье магические руны, но они очень торопились, чтобы ладья была готова прежде, чем начнется ледоход. Построенная по норвежскому образцу, ладья могла идти под парусом быстрее всех остальных кораблей того времени, особенно в Западном Геталанде. Ею можно было очень ловко управлять, тем более что на веслах сидели норвежские гребцы, и ее легко было перетаскивать волоком по льду. Кнут остался доволен увиденным и подробно объяснил все детали Арну, который никогда не был в Норвегии, в отличие от своих родичей.
После трехдневного ожидания пришло время спускать ладью на воду. Они отслужили мессу, которую Арн для пущей убедительности пел на церковном языке. Затем Кнут сын Эрика обратился к ним с речью и призвал их к решительным действиям. Их сила в том, что они, восемь славных воинов, переправятся через Ветгерн, когда никто не ожидает внезапного нападения. Там, на южном мысе, в Висингсе, сидит убийца короля, Карл сын Сверкера, со своей дружиной и думает, что он в безопасности. Но Господь не станет помогать тому, кто убил святого ради своей выгоды. И когда мы сделаем то, что должно быть сделано, каждый будет вознагражден по заслугам.
Больше ничего сказано не было. Ладью вывезли на лошадях из того разводья, где она лежала, набухая обшивкой от воды. Потом лошадей отвели в конюшню, и люди погрузили поклажу в судно. Каждый из них взял конец веревки, чтобы вытащить ладью в открытое море. Широкая, она легко скользила по льду, да и восемь человек — это немало.
Был уже полдень, когда они добрались наконец до трещины во льдах, за которой плескались волны Веттерна. Вдали виднелся Висингсе. Дул западный ветер, как обычно в это время года, и они вскоре поставили парус. Чем дальше плыли они на юг, тем больше расширялась трещина. В приближавшихся сумерках они различили, что южный мыс Висингсе омывали волны и льда там не видно. Они поняли, что Бог — на их стороне. Если бы они приплыли сюда на день раньше, то вынуждены были бы оставить ладью прямо на льду, и при свете дня ее тотчас заметили бы. А днем позже лед на Веттерне уже тронется, и тогда в королевской крепости выставили бы на стенах стражу — вести наблюдение за тем, не грозит ли опасность с озера.
Спустив парус, они медленно шли на веслах к Несу и причалили к берегу только после того, как наступила ночь. Им удалось спрятаться в маленькой бухте, поросшей ольхой. Натянув на ладью парус и замаскировав ее, они разожгли в двух железных чанах огонь и послали на сушу лазутчиков, чтобы те проверили, не видно ли пламя. Весенние ночи на Севере очень холодные, и им хотелось погреться.
Кнут был в хорошем расположении духа, будто бы все самое трудное уже позади. Сидя рядом с Арном, он говорил, что это либо их последняя ночь вместе, либо первая на долгом пути.
Затем он заговорил о человеке, убившем его отца и пытавшемся убить хитростью, в неравном поединке, отца Арна, однако Арн сразу прервал его, заявив, что эти слова неуместны. Ведь все это он уже знал и много думал над этим.
И все-таки его одолевали сомнения, признался он Кнуту. Он дал клятву не брать в руки меч из чувства гнева или ради собственной выгоды, и теперь ему казалось, что он нарушает клятву. Со смертью Карла сына Сверкера он лично многое выигрывает. Арн сказал еще, что только сейчас понял: дело не просто в том, чтобы вернуть назад святую реликвию, которая по праву принадлежит другу Кнуту и которая несправедливо висит на шее у Карла сына Сверкера, но и в том, что едва они заберут себе крест, как с этой шеи упадет и голова.
Кнут ничего не сделал, чтобы развеять сомнения Арна, так как сказанное им было чистой правдой. Вместо этого он вкрадчиво и проникновенно заговорил о Сесилии и той радости, которую он сам испытает, когда, став их королем, он торжественно введет их в любую церковь. А если они захотят, то смогут предстать перед архиепископом в Восточном Аросе. Арн размяк и подобрел, ему даже жарко стало, несмотря на сырую холодную ночь, и он ответил, что ему все равно, в какой церкви венчаться, лишь бы она была поблизости. Оба они расхохотались, и Кнут, все еще смеясь, бросил, что Арн, если на то пошло, может выбрать себе славный норвежский меч, над которым не произносилась торжественная клятва.
Затем Кнут, понизив голос, объяснил, что должно произойти. В Скаре они платили многим осведомителям, но главные сведения им сообщил человек, который недавно оставил службу у Карла сына Сверкера в Несе. От него они узнали, что когда Несу не грозит явная опасность — как теперь: лед подтаивает, но еще не тронулся, — то Карл сын Сверкера каждое утро в одиночестве совершает небольшую прогулку вдоль берега. Никто в точности не знал, зачем он это делал, но прогулка повторялась ежедневно. Король выходил на берег, едва забрезжит свет, когда уже можно видеть в темноте.
Вот за эти-то важные сведения предатель Карла сына Сверкера и получил награду.
Если им поможет Бог, то все произойдет на исходе ночи, ибо теперь — последняя ночь перед ледоходом. Потом Карл сын Сверкера начнет опасаться вражеских кораблей. Так что им остается лишь помолиться и попытаться немного поспать.
Они выставили дозор. Ладья их была хорошо спрятана за ольхой на берегу.
Арн спал плохо в эту холодную ночь, да и все остальные тоже, хотя они и были норвежцами, которых мало пугает, что следующий день может оказаться последним в их жизни.
Однако все происходило так, словно Бог решил не оставлять их. Арн стоял наготове, с луком и стрелами, когда было еще совсем темно. Начало светать, и он перебрался в местечко поудобнее. Рядом с ним находились сам Кнут, Ион сын Микеля и Эгиль сын Улафа. Было холодно, и они надели толстые волчьи шкуры и двойные обмотки на ноги. Они стояли так близко к крепости, что, выпусти они стрелу, она долетела бы до верхушки крепостной стены. У Арна был с собой норвежский меч. Свой собственный он взять не пожелал. Они почти не говорили друг с другом.
Когда тяжелые дубовые ворота в стене отворились, им показалось, что от волнения они перестали чувствовать холод. Из ворот вышел человек, его сопровождали еще двое. Они видели, как трое людей идут прямо к берегу, туда, где они стояли. Арн сделал движение, натягивая лук, но другие удержали его.
В предрассветной тьме было сложно различить цвета. Но когда эти трое из крепости прошли всего в нескольких шагах от непрошеных гостей, те увидели, что на шедшем впереди всех был красный плащ, а на груди его поблескивал золотой крест.
Кнут сын Эрика предупреждающе поднял руку, чтобы никто не двигался и не стрелял, хотя все уже поняли, что мимо них прошел сам король.
Карл сын Сверкера спустился к берегу Веттерна. Остановившись, он наклонился над водой, зачерпнул рукой воды и выпил ее, а потом упал на колени, чтобы в последний раз поблагодарить Бога за то, что озеро еще на одну ночь спасло ему жизнь.
Земля была мягкой. И поэтому Кнут сын Эрика смог подскочить к троим на берегу так быстро, что они не услышали его шагов. Он мгновенно отрубил королю голову, а потом — и одному из дружинников. Но второго он не убил. Вместо этого он приставил меч к его горлу и махнул, чтобы к нему подошли Эгиль и Ион, что те и сделали, предварительно шепнув Арну, чтобы он оставался на месте.
Арн видел, как его дорогой друг детства нагнулся за золотой цепью и омыл ее от крови в водах Веттерна. Затем он, шепнув что-то своим норвежским дружинникам, подбежал к Арну, а те, зажав рукой рот оставшемуся в живых, потащили его за собой.
Столкнув ладью в воду, они сели в нее. Норвежцы были на веслах, а Кнут стоял у кормила, удерживая одной рукой пленника. В другой у него была золотая цепь со святой реликвией. Когда все было готово к отплытию, он выпустил пленника и громко обратился к нему: — Теперь ты свободен. Я дарую тебе жизнь, но ты должен знать, кто после Бога может даровать тебе ее. Я — Кнут сын Эрика и отныне твой король. Иди же к мессе в честь святого Тивуртия и благодари Бога за спасение, ибо как Всевышний сохранил тебе жизнь, так Он привел нас сюда. Да поспеши, чтобы никто не подумал, что это ты убил Карла сына Сверкера!
Затем Кнут сделал знак рукой, и гребцы взялись за весла. Сильными движениями они вывели ладью в открытое пространство, где их уже не могли настичь стрелы врага, а тем временем пленник, брошенный Кнутом сыном Эрика, словно котенок, в воду, добежал что есть мочи до приотворенных дубовых ворот королевской крепости, — той крепости, которая была построена так надежно, что никто не мог проникнуть в нее и убить короля.
Гребцы отдыхали на веслах ожидая, когда дружинники Карла сына Сверкера появятся на берегу. Они, выбежав с арбалетами и длинными луками, тщетно посылали свои стрелы в сторону ладьи, а король Кнут, в знак победы, держал высоко над головой священную реликвию.
Затем они взяли курс на Форсвик, идя против ветра. Никто во всем Западном Геталанде не сумел бы грести против ветра столь искусно, как норвежские родичи короля Кнута.
* * *
Через неделю после дня святых Филиппа и Иакова, когда скот выпустили на пастбища и починили изгороди, весна сразу вдруг перешла в лето. Дул теплый южный ветер, появилась молоденькая листва, а меж дубов на склонах Чиннекулле белел ковер из анемон. На западе куковала кукушка.
Арн неторопливо ехал в Хусабю. Он словно хотел продлить сладкую муку — теперь, когда знал, что Сесилия будет его. Ему надо было о многом подумать — отныне он был занят выполнением поручений Кнута сына Эрика, но Арн был не вполне уверен, что понимает цели и намерения Кнута.
Когда они вернулись в Форсвик после своей успешной вылазки в Висингсе, им удалось причалить прямо к берегу. Ледовый покров изменился всего за один день. Кнут тут же велел послать эстафету в Арнес, Магнусу сыну Фольке, который должен был переслать ее дальше, Юару сыну Едварда в Эриксберг. Прежде всего следует известить о случившемся собственных родичей, ибо вскоре предстоит собирать войско.
Арн был готов самолично скакать с эстафетой, полагая, что известия должны прийти как можно быстрее. Но Кнут сказал ему, что есть более важные вещи, в которых Арн должен помочь своему королю, а когда все будет сделано как надо, он сможет поехать к Сесилии.
Прежде всего Кнут вместе с Арном снова переправятся через Веттерн, с лошадьми и дружинниками, и поскачут в Бьельбу, к Биргеру Брусе. Нельзя было терять ни дня, так как незнание могло обернуться смертью и все родичи должны были успеть объединиться, прежде чем на них нападет враг. Кроме того, будет правильнее, если Биргер Бруса узнает о том, что случилось, от своего, от человека, участвовавшего в отмщении злодею из Висингсе. Столь же важно, по мнению Кнута, было встретиться с архиепископом Стефаном из Восточного Ароса. Кнуту необходимо привлечь на свою сторону и Биргера Брусу, и архиепископа, с которыми был в дружбе Арн. И возразить на это было нечего.
Когда они прискакали в Бьельбу, Биргер Бруса принял их как родственников и извинился, что вынужден их покинуть на следующий день, так как у него важное дело в Линчепинге. Но, узнав, что произошло, он и думать забыл про все свои дела. Никто из Бьельбу и носа не покажет в Линчепинге, этом городе Карла сына Сверкера, теперь наверняка ставшем оплотом Болеслава и Коля.
Биргер Бруса сидел молча, задумавшись, и лицо его было непроницаемо. Вдруг он поднялся и сказал, что у них есть лишь один путь. Весь род Фолькунгов должен поддержать Кнута сына Эрика в его стремлении отвоевать корону своего отца. Надо объединиться против рода Сверкера и их датских сторонников, надо показать им свою силу и решительность, используя преимущество во времени, о чем уже благоразумно позаботились.
Лед тронулся в день убийства Карла сына Сверкера на берегу Ветгерна, и еще день прошел, прежде чем об убийстве узнали на материке. Биргер Бруса счел своим долгом использовать эту весть в Восточном Геталанде, но предложил, чтобы Кнут тоже действовал быстро и отправлялся в Восточный Арос — увидеться с архиепископом Стефаном и, если получится, склонить его на свою сторону, а затем попытаться собрать свеев на тинг в Муре, чтобы те провозгласили его новым королем. Действовать нужно немедленно, теперь не время для отдыха. Как сказал Биргер Бруса, так и сделали.
Кнут сын Эрика во всем согласился с Биргером Брусой, зная, что он был самым опытным в том, что касалось борьбы за власть. Когда же они собрались в путь, Кнут вдруг изъявил желание, не совсем понятное Арну: он захотел, чтобы в Бьельбу им дали щиты Фолькунгов, синие плащи и флажки на копья, да еще дружинников в придачу. Биргер Бруса глубокомысленно кивнул, выражая согласие, будто бы понял, что имел в виду Кнут сын Эрика. Арну это желание показалось одновременно пустячным и важным. Но в дальнейшем он убедился, что такие люди, как Кнут и Биргер, думают совершенно иначе, чем он.
В Восточном Аросе архиепископ Стефан сперва отказался принять Кнута сына Эрика, когда тот вместе с Арном прибыл в его усадьбу. По слухам, архиепископ был сердит и сказал нечто вроде того, что этот человек только и делает, что плетет интриги.
Однако, узнав, что Кнут приехал вместе с Арном сыном Магнуса, он принял обоих. Когда гости вступили в сумрачные покои архиепископа, Арн преклонил колени и поцеловал его руку, пока Кнут колебался, не сделать ли ему то же самое. К неудовольствию Кнута, разговор велся на церковном языке, и поэтому он ощущал себя менее значительным, чем двое других. Его разбирала злость на Арна, хотя дело-то было в архиепископе.
То, что архиепископ Стефан мог сказать Кнуту сыну Эрика, понять было просто, даже если эти слова были малоприятны для Кнута. Церковь не может и не желает участвовать в начинающейся борьбе за власть. Как архиепископ, Стефан заботится о Царствии Божием, а не о внутренних распрях между претендентами на земной престол. Не может быть и речи о том, чтобы встать на сторону родичей Кнута, или Карла сына Сверкера, или кого-то еще, кто вскоре придет с юга. Мирская власть — это одно, а власть Божия — совсем другое.
Кнут сын Эрика держался достойно, когда понял, что здесь ничего не добьется, и тогда он попросил Арна выразить пожелание причаститься вместе из рук архиепископа на завтрашней мессе. Не видя никакого подвоха в этой просьбе, Арн передал слова Кнута архиепископу. И архиепископ Стефан ответил согласием, впрочем подозревая, что у Кнута иное на уме. Возможно, Стефан посчитал, что это хороший способ закончить спор с человеком, который может стать будущим королем страны. Церковь не участвует в борьбе за королевский трон, но ей все-таки следует поддерживать дружеские отношения с властью.
Едва гости почтительно простились с архиепископом, как Кнут снова исполнился силы и рвения и заявил, что еще не все потеряно. Они вернулись к поджидавшим их людям, которые пока не надели на себя синюю одежду Фолькунгов, и Кнут велел им пойти в город и распространить там кое-какие слухи.
На другой день Кнут вместе с Арном скакали на мессу впереди строя дружинников, одетых в синие плащи. На их копьях реяли синие флажки. Кнут и Арн были при полном вооружении. На щитах красовались лев Фолькунгов и три короны.
Слухи сделали свое дело, и на мессу стеклось столько народу, что большинству не нашлось места в церкви и они остались стоять у ворот. Кнут и Арн поднялись по лестнице в храм, а их дружина осталась снаружи, держа лошадей.
Они вошли в церковь, и люди почтительно расступились, давая им дорогу. Еще в притворе Кнут, как и полагалось, снял свой меч. И он был крайне удивлен тем, что Арн не сделал того же. Кнут шепнул ему об этом, но Арн лишь загадочно улыбнулся и покачал головой. Когда же они подошли к архиепископу за причастием, Кнут сын Эрика вновь изумился тому, что произошло. В дальнейшем это сослужило ему хорошую службу. Арн обнажил свой меч, и прихожане в страхе содрогнулись. В следующий миг он протянул меч архиепископу, который с почтением взял его, приложился к нему и окропил меч святой водой, а затем вернул его Арну. Тот поклонился и, вложив меч в ножны, упал на колени, шепнув Кнуту, чтобы тот следовал его примеру.
Люди расступились, и оба они коленопреклоненно ждали, когда их причастит сам архиепископ. Затем, еще до конца мессы, они тихо вышли из церкви, приняв Святые Дары.
На паперти было большое волнение, ибо до людей уже дошла весть о том, что архиепископ благословил меч, хотя никто и не знал, чье это было оружие.
Тут Кнут вытащил свой меч из ножен и громко крикнул, что это оружие, которое он держит в своей руке, осенено благословением Божиим и именно этим мечом он убил злодея, который когда-то, на этом самом месте, убил короля Эрика. Затем Кнут снял с шеи золотую цепь, высоко поднял ее, так что крест засиял на солнце, и заявил, что это святая реликвия, которую он по праву вернул себе, отняв у святотатца Карла сына Сверкера. И так как он, Кнут, питает столь же глубокое уважение к свеям, как некогда его отец Эрик, то он призывает их через пять дней собраться на тинг и просит передать это лагманам и хевдингам Свеаланда.
Когда он умолк, вновь поднялся шум, исходивший скорее от его дружинников. Однако вслед за ними заволновались и остальные. Все теперь думали, что сам архиепископ решил вопрос о том, кто будет избран королем Свеаланда. Слух об этом распространялся быстрее ветра.
Позже, в тот же день, когда они вернулись в свой лагерь, куда Кнут велел принести воды из источника святого Эрика, чтобы самому окропить всех приходящих, он наконец отпустил Арна.
Кнут отвел его в сторону и сказал, что теперь предстоят томительное ожидание и переговоры с разными людьми. На это у Арна не хватит терпения, как считал Кнут. Не лучше ли ему отправиться к Сесилии? Кнут не хотел проявлять бессердечие и препятствовать счастью своих друзей.
Арн обнял друга, и они расстались. Арн уехал во имя своей мечты, а Кнут остался ради власти.
Поездка в Хусабю заняла у Арна меньше времени, чем могла бы отнять у любого другого на всем Севере, ведь скандинавские жеребцы гораздо медлительнее его Шималя. Хозяин быстрого скакуна даже успел завернуть в Арнес, чтобы рассказать своим новости и сменить одежду.
Но вот наконец он скачет прямиком в Хусабю, и усадьба уже открылась его взору. Он едет медленно, опустив поводья, и Шималь пританцовывает в нетерпении, порываясь вперед. Чем ближе Арн подъезжал к Хусабю, тем меньше он думал о странностях, открывшихся ему в борьбе за власть.
Альгот сын Поля был приглашен в Арнес, чтобы договориться о приданом, и родня Арна порадовалась, что все разговоры ведутся в отсутствие жениха, только между Эскилем, Магнусом и Альготом.
Такое положение вещей вдвойне устраивало самого Арна. Во-первых, его совершенно не волновало, хорош или плох его брак с Сесилией с точки зрения их отцов. Во-вторых, ему не терпелось встретить Сесилию наедине и сказать ей все, что он хотел, без подозрительных взглядов ее отца или дружинников.
Все было слишком уж хорошо, чтобы казаться правдой. Скоро он будет у нее. Скоро он будет держать ее в своих объятиях и скажет ей, что обручение состоится в Хусабю, на день святого Эскиля.
Магнус с Экилем решили, конечно же не спрашивая Альгота, так: обручение — в Хусабю, свадьба — в Арнесе; Сесилия получит в подарок от жениха Форсвик. А о ее приданом теперь надо договориться с Альготом. И они полагали, что он не будет противиться их предложениям.
Арна вопрос о приданом не занимал. Леса или берег — что может сравниться с великим чувством, дарованным человеку Богом?
Пусть Альгота не заботили чувства дочери, пусть Магнус не принимал всерьез чувств младшего сына. Но Альгот благодаря этому браку сохранял себе и своему роду жизнь и состояние. Так понимал это Арн, наблюдая борьбу за власть.
То, что еще недавно, при их последней с Сесилией встрече, выглядело мрачным и безнадежным, теперь превращается в свою противоположность. Как Гудрун и Гуннар, Арн и Сесилия всегда неустанно будут благодарить Пресвятую Деву Марию за вновь явленную силу и за то, что еще раз Она показала людям, что превыше всего — любовь.
Когда Арн подъехал к усадьбе, его заметили рабы, сажавшие репу. Они побежали в дом сообщить о его приезде. На дворе поднялась суета, и скоро слуги и дружинники выстроились в два ряда перед воротами в усадьбу. Когда Арн въезжал в усадьбу, слуги ликующе восклицали; дружинники гремели оружием, а рабы стучали всем, что попадалось им под руку.
Выйдя на крыльцо, Сесилия бросилась было навстречу Арну, но сдержала себя и, выпрямившись, ожидала, когда он приблизится. Ее бабушка Ульрика вышла следом, со строгим выражением лица, но, увидев Арна и ряды прислуги, остановилась в ожидании, точь-в-точь как ее внучка.
В душе Арна бушевали страсти. Он соскочил с Шималя, которого взял под уздцы подбежавший слуга. Арн чувствовал, что краснеет, сердце громко стучало в его груди, и юноша решил, что вот-вот потеряет сознание. Он должен собрать всю свою волю, чтобы учтиво подойти к Сесилии под взглядами окружающих. Ведь она ожидает его спокойно и чинно, опустив глаза.
Но вот она мельком взглянула на него, и их глаза встретились. Откинув всякое приличие, они бросились друг к другу в объятия, что в общем-то не подобало молодым людям, которые еще не объявили о помолвке. Но тут снова раздались ликующие возгласы прислуги, и поднялся такой шум, что нельзя было разобрать ни слова.
В Хусабю уже знали, что должно произойти в скором времени, и многие из слуг надеялись последовать за Сесилией после свадьбы. Все считали, что у Сесилии и молодого господина Арна с ними будут обращаться лучше, чем где бы то ни было. Об Арне рассказывали только хорошее. И речь шла вовсе не о том, как он владеет мечом и луком, — об этом говорили за кружкой пива господа. Известно было, что Арн обращается с рабами как со свободными людьми.
Бабушка Ульрика кашлянула в третий раз, и Сесилии с Арном пришлось оторваться друг от друга. Они вошли в дом, чтобы гость, по обычаю, выпил и преломил хлеб. Ульрика начала выспрашивать о подарке для невесты, о приданом, о том, где будут праздновать помолвку. Арн вынужден был собраться с мыслями, чтобы толково ответить на все ее вопросы, будто они действительно занимали его, и ему пришлось описать местоположение Форсвика, количество мыз, размеры главной усадьбы, число рабов в доме и прочее, о чем он и сам-то не знал в точности. Только после этого Ульрика задала вопрос о более важных вещах: как настроены Фолькунги в Восточном Геталанде и есть ли еще у свеев свой тинг. Арн уверил ее, что Фолькунги Восточного и Западного Геталанда объединились с Эриковым родом и он думает, что Кнут сын Эрика будет избран королем на тинге свеев. Арн сам слышал об этом, проезжая по Свеаланду, и похоже, в этом нет никаких сомнений. Короля Эрика сына Едварда в Свеаланде очень любили, и как понял Арн, к Карлу сыну Сверкера подобных чувств не испытывали. Кто же такие братья Коль и Болеслав, об этом у свеев мало что знали. Возможно, что Кнут сын Эрика уже избран королем свеев, и теперь он должен прибыть на ландстинг в Западный Геталанд, чтобы его и здесь избрали королем.
Госпожа Ульрика порадовалась добрым вестям и поняла, что она замучила расспросами молодых людей. Они придавали мало значения тому, что, конечно же, было важнее их нежных чувств. И как же она удивила их, когда сказала, что погода стоит прекрасная и им стоит совершить прогулку верхом в Чиннекулле. При этих словах Сесилия вскочила и обняла свою строгую бабушку.
Девушка сразу велела седлать смирную кобылку и переоделась: на ней был широкий, теплый зеленый плащ, застегнутый пряжкой на груди и спадавший до пят. Привычно перекинув подол через руку, Сесилия живо вскочила в седло, прежде чем Арн или кто-нибудь из рабов успел ей помочь. Пришпорив свою кобылку, она быстро поскакала прочь, пока Арн брал суму с хлебом, свининой и деревянными кружками для воды, приготовленными служанкой на случай, если прогулка затянется, как она сказала ему, нескромно рассмеявшись. Оказавшись на расстоянии, Сесилия повернулась в седле и крикнула Арну, чтобы он догонял ее. Арн, опьяненный счастьем, засмеялся в ответ и, нежно похлопав Шималя по крупу, пошутил, что они отправляются на охоту с удачным исходом. Одним махом вскочив в седло, так что стоявшие рядом зашептались в изумлении, Арн поскакал за Сесилией. Он пустил Шималя коротким галопом, чтобы не сразу догнать развевающийся вдали зеленый плащ и рыжие кудри.
Когда же королевская усадьба скрылась из виду, он пустил коня во весь опор. Быстрее ветра Арн обогнал Сесилию, повернул Шималя и снова понесся к ней, но в последний миг свернул в сторону и начал скакать кругами вокруг нее, наслаждаясь нежным смехом любимой, который делал его лихим и смелым. Он поднялся в седле, балансируя в воздухе руками, и вновь промчался мимо нее на полном скаку, а она, дивясь его искусству, придержала кобылку. Но когда он, смеясь, обернулся, раскинув руки, то не заметил толстую дубовую ветку, и она смахнула его на землю, словно рукавицу.
Это было досадное падение. Он неподвижно лежал на земле, и Сесилия, в испуге сойдя с лошади, бросилась к нему, в отчаянии гладя его лицо. Он открыл один глаз, потом второй и, смеясь, заключил ее в свои объятия. Они оба покатились по ковру из белоснежных анемон, и она ругала его за то, что он так напугал ее.
Потом они разом смолкли и, сев на траву, обнялись в долгом молчании, будто никаких слов и не требовалось, только пение птиц над головой.
Так они сидели, пока их тела не заныли от неудобного положения. Сесилия высвободилась первой и откинулась на траву, а он лег рядом с ней, гладя ее лицо, и, борясь с робостью, осторожно поцеловал ее в лоб, а затем в щеки и губы. Она начала отвечать на его поцелуи, и их робость словно унесло летним ветром.
Они вернулись в королевскую усадьбу Хусабю поздно вечером.
Глава XII
Доброта Сесилии навлекла на них большую беду. Кто-то возразит, что это Господу Богу решать — быть добру или злу, что счастье или несчастье настигает людей вслепую, по воле рока, как настигает человека смерть, когда норны[7] вдруг обрезают нить его жизни.
Подобный взгляд на Христово учение был довольно распространенным в Западном Геталанде, но для цистерцианцев или для Арна это было не что иное, как пережиток старого язычества, почти кощунство, потому что в таком случае надо было считать, что доброта или злоба людей, их грехи или благодеяния, их разум и заблуждения, как и любовь к Богу, ничего не значат. Своей свободной волей, как и любовью к Богу, мужчина или женщина во многом определяют собственную судьбу. И Арн горевал, что их несчастье более чем что-либо другое имело своим истоком именно доброту Сесилии. Достаточно было только сравнить ее с сестрой Катариной, чтобы понять это.
Для Катарины счастье Сесилии означало ее собственное несчастье. Когда та больше не вернулась в Гудхем для продолжения занятий, Катарина поняла, что она теперь останется замурованной в этих ненавистных ей стенах. Ее злоба только усилилась, едва она узнала, какое большое приданое дает за сестрой их отец Альгот ради того, чтобы одна из его дочерей породнилась с Фолькунгами. Маловероятно, что теперь Альгот позволит выйти замуж еще и Катарине, и она боялась, что навеки останется в монастыре, увянет здесь старой девой среди других старых дев.
Сесилия и Арн пока только обручились, и это промедление зависело не от них самих, а от борьбы за власть в стране. Кнуту сыну Эрика с большим трудом удалось заставить свеев избрать его королем в Муре. И когда наконец это свершилось, он не смог вовремя приехать на ландстинг в Западном Геталанде из-за того, что Болеслав послал против него войско, так что он был вынужден отправить свеев в поход — это первое, что они сделали для своего нового короля.
Болеслав думал, что время будет работать против него, если он не поторопится и не сумеет собрать достаточно большое войско. С ним были лишь датчане и его собственные родичи. Выступив против Бьсльбу, ои тотчас был разбит Кнутом сыном Эрика и его свеями, а также Биргером Брусой и Фолькунгами из Восточного Геталанда. Победа была на стороне Кнута, но время шло, и лето близилось к концу.
Магнус сын Фольке из Арнеса вбил себе в голову, что на свадебном пиру должен сидеть король, и поэтому ждал, пока Кнут не приедет на ландстинг Западного Геталанда.
Теперь, когда Арн и Сесилия ехали в Гудхем, они могли быть мужем и женой перед Богом. Но они пока оставались женихом и невестой, хотя Сесилия уже носила под сердцем ребенка Арна.
Арн в волнении советовался об этом с Эскилем, ибо тот хорошо разбирался в мирских законах страны, но Эскиль лишь посмеялся и сказал, что в таком случае закон предписывает следующее: если отец Сесилии захочет поднять шум и довести дело до тинга, то Арн будет обязан уплатить шесть марок серебра в качестве штрафа. Эскиль, таким образом, отмахнулся от вопроса, ссылаясь на то, что Альгот сын Поля вряд ли затеет спор из-за такой мелочи. Глупее не придумаешь.
Из сестринской любви Сесилия желала встретиться с Катариной, чтобы, если возможно, утешить ее. Ей было нетрудно понять, как страдает Катарина в стенах Гудхема, ведь она хорошо знала свою сестру.
Как оказалось, она все же знала ее недостаточно хорошо. Иначе она никогда не переступила бы порога Гудхема, чтобы утешить Катарину.
Когда сестры встретились в монастырском саду, Сесилия постаралась не особенно-то упиваться описаниями своего счастья перед сестрой и сосредоточилась на том, что она обязательно поможет Катарине и, когда будет сыграна свадьба, поговорит с отцом, который более серьезно отнесется к ее словам, коль скоро она породнится с Фолькунгами. Можно придумать кое-что, чтобы заставить Альгота образумиться. Хотя бы сыграть на его жадности и намекнуть, что содержание дочери в монастыре требует много серебра и стоит им дубовой рощи. Эти деньги просто выбрасываются на ветер, тем более что Катарина ни капли не ценит отцовскую любовь и заботу. И обе они рассмеялись этому доводу.
Но тут Сесилия неосторожно заговорила о своем счастье, о том, как они будут жить сначала в Арнесе, пока дороги непроезжие, а потом переселятся в Форсвик, на Веттерне, и как они с Эскилем поедут навестить норвежских родичей, и о всяких прочих вещах. Катарина ярко представила себе свободную, счастливую жизнь за пределами монастыря, и ее глаза сузились от злобы и зависти. Сесилия была слишком переполнена своим счастьем, чтобы заметить это. Когда же Катарина словно невзначай спросила, уж не много ли гостей было в последнее время в усадьбе, что Сесилия потолстела в талии, то сестра не смогла скрыть своей радости и выдала тайну. Это грех, но его можно искупить всего-то шестью марками серебра и несколькими Патер Ностер и Аве Мария и, возможно, еще ношением власяницы и неделей на хлебе и воде, из чего будет состоять покаяние. Да, это правда, она беременна. И, говоря об этом, она была одновременно счастлива и напугана, потому что боялась рожать.
Но Катарина уже не слушала детского лепета младшей сестры. Она размышляла о том, как этот поворот событий может послужить ее собственному спасению.
Когда настало время разлуки, она нежно обняла Сесилию и попросила ее быть осторожнее в ее нынешнем положении, а также передать горячие пожелания счастья Арну.
Сесилия, попрощавшись, испустила явный вздох облегчения, заставив Катарину задрожать от гнева, и едва за сестрой закрылись ворота монастыря, как Катарина, преисполненная холодной решимости, поспешила к настоятельнице, чтобы как можно быстрее изменить все в свою пользу.
Гудхем был новым монастырем, он возник совсем недавно благодаря пожертвованиям короля Карла сына Сверкера, который, кроме того, подарил землю женскому монастырю Врета в Восточном Геталанде. Что думал Эриков род об обителях, основанных Карлом сыном Сверкера, никто в точности не знал, поэтому настоятельница Гудхема, мать Рикисса, сама из рода Сверкера и близкая родственница ныне убитого короля Карла, весьма опасалась, что Гудхем будет закрыт или же им придется переезжать. Если Кнут сын Эрика станет королем, как все говорили, то незавидная у нее будет доля — принадлежать к роду Сверкера в Западном Геталанде и сидеть в монастыре, основанном этим родом. Всем ведь известно, как в свое время Эрик сын Едварда протянул свои алчные руки к Варнхему.
Мать Рикисса была женщина вспыльчивая, и некоторые звали ее забиякой. Иногда она бывала просто невыносима. Но, как близкая родственница короля, она хорошо разбиралась во всем, что касается мирской власти.
Когда Катарина пришла к ней и неожиданно покаялась в старом грехе, о котором прежде умалчивала, — грехе плотской связи с молодым Арном сыном Магнуса, — то настоятельнице следовало бы проявить строгость. Но Катарина, опустив глаза и будто бы утирая слезы, объяснила, что грех ее усугубился тем, что Арн преследовал не только ее, обещая жениться, но и сестру Сесилию, которая теперь забеременела.
Мать Рикисса сразу смекнула, какая великолепная возможность открывается перед ней. Очевидно, Катарина думала так же, ибо она скромно напомнила, что соблазнитель — близкий друг Кнута сына Эрика, а значит, многое может измениться, если Арна сына Магнуса отлучат от церкви.
Услышав эти слова, мать Рикисса поняла, что они с Катариной — одного поля ягоды. И она удовлетворилась очень мягким наказанием за запоздалое раскаяние Катарины, предписав ей недельное одиночество, молчание на воде и хлебе и обычный перечень молитв. Катарина покорилась, благодарно поцеловав руку матери Рикиссы, громко вознесла хвалу Пресвятой Деве за милосердие и удалилась с едва заметной улыбкой, не ускользнувшей от зоркого взгляда настоятельницы.
А затем мать Рикисса, тяжело ступая (как боялись звука ее шагов послушницы Гудхема!), решительно направилась в скрипторий, чтобы сделать то, что должно быть сделано, и как можно скорее.
Она написала два письма: Болеславу, где советовала ему обратиться с этим делом к архиепископу в Восточном Аросе, и епископу Бенгту в Скару, чтобы тот как можно быстрее объявил об отлучении, иначе какой-нибудь слуга Божий в епархии только усугубит тяжесть содеянного, обвенчав ненароком грешников. Она питала надежду заполучить епископа Бенгта на свою сторону, ибо знала, что он разделял ее беспокойство по поводу того, что времена щедрости к церкви и ее служителям проходят. Кроме того, епископ тоже был многим обязан роду Сверкера.
Катарина и мать Рикисса получили желаемое, хотя и желали этого по разным причинам. Через две недели епископ Бенгт в соборе Скары произнес анафему Сесилии дочери Альгота и Арну сыну Магнуса. Ни один священнник во всем Западном Геталанде не имел права вступать в церковное общение с этими двумя. Единственное убежище, которое они могли себе найти, — монастырь.
* * *
Второй раз Арн и Сесилия ехали в монастырь Гудхема, но какой же печальной была теперь их поездка. Магнус отправил с ними дружину, и воины были одеты в цвета Фолькунгов. Отец не хотел, чтобы его сын ехал на покаяние, прячась, стыдливо, и достойно снарядил его в дорогу.
Они почти не разговаривали в пути, все было сказано прежде. Сесилии трудно было простить Арна, как он ни объяснял ей, что был пьян в тот раз, когда Катарина пришла к нему, и едва понимал, что происходит. Сесилия возражала, что он все-таки умолчал об этом и она сама по незнанию совершила грех, которого могла бы избежать, если бы знала обо всем заранее. Он слабо пытался защищаться, говоря, что ему было нелегко рассказать той, кто дороже ему всего на свете, что он согрешил с ее сестрой и еще что он не знал закона, где было бы сказано, что это мерзость. В последнем она ему поверила, хотя ей показалось странным, что ему неизвестен христианский закон. Обсудив происшедшее, они начали думать о будущем. Как понимал Арн, дело затягивалось надолго, может, на год или более того, пока их грех не будет искуплен и исповедан в Риме. Сесилия смотрела на будущее еще более мрачно.
Разлучаясь с ней у ворот Гудхема, он поклялся перед Богом, что вернется и заберет ее отсюда, поклялся на своем мече, чтобы еще больше убедить ее, но она нашла это ребячеством. Однако Арн упрямо повторял, что она должна верить ему, что, пока он жив, он всегда будет ждать того мига, когда они вновь будут вместе, и он заклинает ее не давать трех монашеских обетов, ибо их нельзя потом взять назад. Лучше жить в монастыре послушницей, а не монахиней, пусть даже в худших условиях. Она молча кивнула ему, вырвалась и побежала к воротам, где ее ждала мать Рикисса, суровая и презрительная. И когда обитые железом дубовые створки закрылись за Сесилией, Арн почувствовал такую скорбь, что, казалось, сейчас умрет. Упав на колени, он долго молился. Дружинники молча ждали, стоя в некотором отдалении. Они тоже горевали о нем, о Фолькунгах и о той радости, которую похитили у них и у Эрикова рода. Они ненавидели Сверкеров род. Ведь всем было известно, что он — причина несчастий.
Арн ехал недолго в обществе дружинников Арнеса. Вскоре он остановился, сошел с коня и переоделся. Сняв Фолькунгову сорочку, он облачился в простую серую одежду из грубого сукна, с красной каймой. Он носил ее в первое время после того, как менее года назад выехал из Варнхема и вернулся домой. Тогда он хотел лучше узнать низший мир. За этот год он многому научился и понял, что часто здесь побеждает зло.
Арн твердо решил, что поедет в Варнхем один и путь его будет пролегать вдоль восточного берега Хурнборагашен, через Биллинговы леса. Дружинники пробовали отговорить его — время теперь неспокойное, и никто не мог знать, что ожидает его в лесу. Но Арн холодно ответил им, что у него есть меч и что Господь защитит тех разбойников и прочий сброд, которые вздумают напасть на него. На этом он повернул Шималя и поскакал прочь, не проронив больше ни слова. Дружинники знали, что им не догнать его коня и что ничего другого не остается, как понуро отправиться назад в Арнес — без того, чью жизнь они поклялись защищать даже ценой собственной жизни, если бы это потребовалось.
Арн долго ехал через болота и топи, и вокруг не было ни следа человеческого жилья. Дорога была тяжелой, и лишь в сумерках он наконец добрался до лесистых склонов горы Биллинген. Он знал, что ему следует продолжать путь на север и тогда он вскоре окажется на земле Варнхема. Но было очень рискованно взбираться в гору ночью, да и небо было затянуто тучами, так что ни звезды, ни луна не освещали ему путь. Он равнодушно продолжал скакать до тех пор, пока виднелась дорога, но потом решил все же остановиться и заночевать в лесу. Вместо овчины у него был лишь тонкий плащ, и ночью он мог замерзнуть, но Арн расценил это как начало испытаний на пути к покаянию. Он был готов страдать, лишь бы это сократило время наказания и он с помощью Божией смог бы исполнить свою священную клятву и забрать Сесилию из Гудхема.
Вдруг в сумерках он увидел крохотную избушку. В ней горел свет, а рядом стоял покосившийся хлев, в котором при его приближении беспокойно замычала корова. Он решил, что здесь живут вольноотпущенники или беглые рабы, но готов был заночевать даже в их избушке, лишь бы не спать под открытым небом в холодном лесу.
Не раздумывая, он вошел в избушку, чтобы просить о ночлеге. Он ничего теперь не боялся, ибо хуже того, что с ним случилось, уже не могло быть. К тому же у него есть серебро, которым он честно и по-христиански расплатится с хозяевами, вместо того чтобы вламываться в дом силой, с мечом в руках.
Тем не менее он был испуган видом сгорбленной старухи, сидевшей у очага и помешивавшей в котле какое-то варево. Голос ее был каркающим, и приветствовала она гостя вовсе не учтиво, а с издевкой и такими словами, которых он даже не понял, ибо подобные ему страшатся тьмы, а подобные ей общаются с нею.
Арн спокойно сказал, что хотел бы получить ночлег, иначе рискует погубить коня, продолжая путь ночью через гору, и добавил, что хорошо заплатит за услугу. Старуха молчала, и он вышел расседлать Шималя, поставив его в хлев рядом с тощей коровой. Вернувшись в избушку, он снял свой меч и бросил его на пустую лавку в знак того, что будет там спать, а затем подтянул маленький треногий табурет к огню и сел, чтобы погреть руки.
Старуха долго и подозрительно щурилась на гостя, а потом наконец спросила, из тех ли он, кто имеет право носить меч, или из тех, кто просто носит его. Арн ответил, что дело это можно понимать по-разному, но ей, во всяком случае, нечего бояться его меча. Чтобы успокоить ее, он достал маленький кожаный кошелек, который получил на прощание от Эскиля, и, вынув оттуда две серебряные монеты, положил их поближе к очагу, чтобы на них падал свет от огня. Старуха точас схватила монеты и попробовала их на зуб, удивив Арна, ибо он и предположить не мог, что кто-то усомнится в его словах или добрых намерениях. Похоже, она осталась довольна тем, что подтвердили ей ее редкие зубы, и спросила, не пожаловал ли незнакомец сюда, чтобы узнать о своем будущем. Когда-то к ней приходили за этим. Арн сказал, что будущее находится в руках Божиих и никто не может предсказывать, что ждет нас в жизни. Но старуха так громко захохотала в ответ, что обнажился ее почти беззубый рот с почерневшими клыками. Она еще немного помешала в котле и потом спросила его, не хочет ли он ее похлебки. Арн отказался. Он не стал бы есть даже на королевском пиру, ибо уже приготовился долго сидеть на хлебе и воде.
— Я вижу три вещи, которые ты встретишь в жизни, мальчик, — внезапно произнесла она, словно то, что она могла видеть, проявилось независимо от равнодушия Арна. — Вот два щита. Хочешь знать, что я вижу? — продолжала она, зажмурившись, будто стремясь лучше видеть то, что возникало перед ее Внутренним взором. Арна ододевало любопытство, и она поняла это, хотя глаза у нее были закрыты.
— Какие же щиты ты видишь? — спросил он, уверенный в том, что услышит в ответ чепуху.
— Один щит — с тремя золотыми коронами на фоне неба, другой — со львом, — произнесла старуха новым, певучим голосом, и глаза у нее по-прежнему были закрыты.
Арн потерял дар речи. Он не мог взять в толк, как это старая одинокая женщина, живущая вдали от людей, в лесной чаще, может иметь хоть малейшее представление о таких вещах. И он был уверен, что по его одежде она ни о чем не могла догадаться. Арн припомнил одну историю, которой не придавал раньше значения. Однажды Кнут рассказал ему, как его отец, Эрик сын Едварда, во время крестового похода получил предсказание о трех коронах. Но это случилось давно и далеко отсюда, на другом берегу Восточного моря.
— А что за третья вещь, которую ты видишь? — осторожно спросил он.
— Я вижу крест и слышу слова: «Сим победишь», — продолжала она напевно, с неподвижным лицом и закрытыми глазами.
Арн подумал было, что глаза у нее как раз более зоркие, чем он предполагал, и она наверняка прочитала латинскую надпись на рукояти его меча.
— Ты имеешь в виду слова: «In hoc signo vinces»? — спросил он испытующе. Но она лишь качнула головой, словно эти слова ей ни о чем не говорили. — А видишь ли ты женщину в моем будущем? — спросил он с дрожанием в голосе.
— Ты получишь свою женщину! — воскликнула она пронзительно и, открыв наконец глаза, вперила в него свой дикий взгляд. — Но все будет не так, как ты думаешь, совсем не так!
И она хрипло рассмеялась. Похоже, ее настроение изменилось, и ему больше не удалось добиться от нее ни одного разумного слова. Сдавшись-, он лег спать на том самом месте, куда положил свой меч. Завернувшись в плащ, он повернулся лицом к стене и закрыл глаза, но сон к нему все не шел. Арн продолжал ломать голову над тем, что сказала старуха, находя, что слова ее верны, но вместе с тем скупы. То, что она разглядела в нем представителя Фолькунгов и Эрикова рода, изумляло его, и он вынужден был это признать. Но в то же время она не сказала ничего такого, чего бы он сам не знал. Его утешало, что он получит Сесилию, и он верил в это. Но все в нем сопротивлялось ее словам о том, что будет совсем не так, как он думает. В конце концов Арн все же уснул.
Когда он проснулся с рассветом, старухи в избе не было, но Шималь стоял на своем месте в хлеву. Увидев хозяина, он приветственно заржал, словно ничего не случилось.
После полудня Арн въехал в ворота монастыря Варнхем, вдыхая знакомые запахи из сада и из поварни брата Ругьеро. Его прибытия ожидали, но все же он вызвал своим появлением небольшой переполох. Два брата бросились ему навстречу. Один взял Шималя, а другой молча провел его в умывальню и указал на одежду. Арн выразил непонимание, и тогда брат раздраженно ответил, что тот отлучен от церкви, а потому с ним разговаривать не разрешается, прежде чем он хотя бы не совершит омовение и не получит одежду послушника.
Арн долго и тщательно мылся и под молитвы стриг свои длинные волосы. В одежде послушника, столь знакомой, он оказался затем у отца Генриха, сидевшего на своем любимом месте в крытой галерее. Отец Генрих смотрел на него сурово, но с любовью. Тяжело вздохнув, он вынул четки и сделал знак Арну, чтобы тот приготовился к исповеди. Арн упал на колени и помолился святому Бернарду, чтобы тот дал ему силу и искренность исповедаться в том, что не так-то легко выговорить вслух.
* * *
Король Кнут сын Эрика прибыл в Арнес со своей свитой и Биргером Брусой. Гостей было много, и потребовалось время, чтобы всех разместить. Голодных, уставших воинов приняли в ближайшей деревне.
Биргер Бруса был в нетерпении, считая, что надо как можно быстрее держать совет. Нечего упиваться пивом и набивать себе брюхо. Даже в присутствии короля Кнута люди сразу же повиновались Биргеру Брусе, и все, кто имел отношение к делу, собрались в зале господского дома, лишь слегка пригубив пива.
Прежде всего помолились о благословении Божием, чтобы на совете говорились только разумные, а не вздорные речи. Молитва была неуклюжей, и печаль об отсутствующем Арне, как дуновение ветра, пронеслась по залу. Но вопрос о нем был лишь одним из многих, которые предстояло решить.
На совете главенствовал Биргер Бруса, и, когда все затихли, он начал с наиболее важного — с ландстинга в Западном Геталанде, ибо многое зависело от того, чтобы Кнут как можно быстрее получил вторую королевскую корону. Никто не был против.
Довольно долго придумывали, как послать эстафету, как лучше и скорее распространить весть о тинге. Но так как об этом никто ничего нового сказать не мог, вопрос отпал сам собой.
Следующее, что надо было решить, по мнению Биргера Брусы, — как поступить Кнуту, когда его изберут королем, чтобы смыть то позорное пятно, которое оказалось на чести Фолькунгов из-за отлученного от церкви родича. Биргер Бруса считал, что Кнут сам должен высказаться.
Кнут сын Эрика начал с уверений в том, что Арн, как всем известно, его лучший друг, что Арн оказал ему большую услугу, за которую следует отблагодарить, и что то добро, которое Эриков род и Фолькунги могут сделать друг другу, — превыше всего. Когда эти слова были сказаны, Кнут перешел к делу.
Насколько он понял, архиепископ без труда мог отменить анафему, провозглашенную епископом Бенгтом в Скаре. Но ко всеобщей досаде, он уехал, и никто не знает куда. Во всяком случае, в Линчепинге его не было. Плохо, если он скрывается у прихвостней Сверкерова рода, но его не было и в Свеаланде. Иначе осведомители Кнута донесли бы об этом, ведь архиепископу спрятаться нелегко.
Эти служители церкви стали на редкость несговорчивыми. Даже если мы узнаем, где прячется архиепископ, трудно сказать заранее, как он поведет себя, когда король потребует от него решения вопроса, в котором церковная власть ставит себя выше светской. Священникам надо постоянно угрожать, это ясно. Они народ алчный, пекутся о своих землях, жаждут получать новые дары, и это иногда делает их более уступчивыми. Но невозможно что-то предпринять, пока не будут завершены два дела. Кнут считал, что прежде он должен быть избран королем Западного Геталанда, как сказал уже его дорогой родич и мудрый советник Биргер Бруса. А потом он начнет вести переговоры с архиепископом, причем с позиций силы. Следует все-таки разыскать прелата, прежде чем мы сможем выяснить, что у него на уме.
Магнус печально согласился с Кнутом, поняв, что в этом вопросе сейчас не продвинуться. И все же он заговорил о том, что было не менее важным. Простым христианам не очень понятно, как эти дела решаются в церкви и в самом Риме. Известно лишь одно: волокита займет уйму времени. Так что следует уже сейчас подумать о ребенке Арна и Сесилии. Как говорят женщины, Сесилия должна родить Арну сына после зимнего солнцестояния. И можно не сомневаться в том, что мать Рикисса, эта Сверкером ведьма из Гудхема, постарается избавиться от ребенка как можно скорее. Что же делать?
Кнут сын Эрика снова предложил, что, как только он будет избран королем Западного Геталанда, то не без удовольствия померится силой с настоятельницей Гудхема. Ей пора понять, что жизнь ее под угрозой, и тогда она станет более сговорчивой.
Биргер Бруса нахмурился и заявил, что, во-первых, Кнут должен все хорошенько обдумать, прежде чем раздражать церковь, и брать пример со своего отца. Вместо угроз лучше избрать принуждение. Во-вторых, ребенок, рожденный вне брака, не может оставаться в монастыре. И это хорошо, ибо никто не будет использовать в своих целях те грязные сплетни, которые непременно возникнут в этом случае. Так что вопрос заключается в другом: кто позаботится о сыне Арна? И еще: станет ли незаконнорожденный сын законнорожденным, если впоследствии его родители вступят в брак?
Эскиль сказал, что знает, как поступить. Плохо, если ребенок Арна и Сесилии, будь то сын или дочь, — лично он, Эскиль, не понимает, как это может быть известно заранее, — попадет к Альготу сыну Поля. Альгот уже высказался по этому поводу, пробормотав что-то вроде того, что вместо зятя в доме поселится внебрачный сосунок. Такие слова не свидетельствовали о добром отношении. Так что о ребенке должны позаботиться Фолькунги.
Что же касается второго вопроса — будет ли он законнорожденным, — то ответ прост. Смогут они снять анафему и сыграть свадьбу, как было задумано между Арном и Сесилией, — значит, все будет устроено честь по чести.
Биргер Бруса задумчиво проронил, что у него самого маленькие дети, их мать и еще две кормилицы, так что ему представляется, что ребенка лучше всего отдать к нему в Бьельбу. Никто ему не возразил.
Последний вопрос, который предстояло решить на совете, был незначительным, но мешал, как мозоль. Альгот сын Поля не только скулил о будущем ребенке, но еще и горько плакался на то, что сын хозяина Арнеса сорвал сделку и свадьбе не бывать. Разумеется, Альгот не считался опасным врагом, да и сам он никогда не осмелился бы поднять меч против Фолькунгов. Но неприятно, если он будет вот так ходить и жаловаться всем подряд.
Магнус угрюмо ответил ему, что дело в церковном послании в Рим и на это уйдет много времени. Если же все уладится быстрее, то они мирно и спокойно сыграют свадьбу, как и было задумано. Хуже, если дело затянется на несколько лет, что, по слухам, вполне могло произойти. В таком случае, полагал Магнус, свадьба все равно состоится. Но только с Катариной в роли невесты и с Эскилем в роли жениха. Она, Катарина, тогда выйдет из монастыря.
Мысль Магнуса было нетрудно понять, но все сидевшие за столом опечалились. Они знали, что именно Катарина была источником всех бед, обрушившихся не только на Арна с Сесилией, но и на род Фолькунгов. Не хотелось бы, как вздохнул Эскиль, столь высоко вознаграждать Катарину за ее злой умысел.
На это Биргер Бруса холодно заметил, что предложение Магнуса все же разумно и что молодому Эскилю следовало бы понять: речь идет о деле, а не о чувствах. И если с Арном ничего не получится, придется Эскилю готовиться к свадьбе с женщиной, к которой просто так не повернешься спиной, иначе получишь удар кинжалом.
На том и порешили. За этим столом вели речь о делах, о борьбе за власть, и здесь любовь не была превыше всего.
* * *
Отец Генрих, выслушав исповедь Арна, не отпустил ему грехи. Ничего другого Арн и не ожидал, ведь такой приор, как отец Генрих, не имел права отменить анафему. Он очень коротко объяснил Арну суть греха и послал его в келью сидеть на хлебе и воде, как и следовало ожидать.
За то время, что Арн провел в миру, он совершил три тяжких греха. Во-первых, он убил двух пьяных бондов, во-вторых, напился сам и вступил в связь с Катариной и, наконец, в-третьих, вступил в связь с Сесилией.
Из этих трех грехов два первых были прощены очень быстро, так что Арн даже удивился. Но третий грех — связь с Сесилией — женщиной, которую он любил и на которой хотел жениться, — оказался таким тяжким, что его отлучили от церкви, да и Сесилию заодно с ним. Это было трудно понять. Убить двух людей — это ничего, вступить в связь с женщиной, которую он не любил, — тоже ничего. Но сделать то же самое с женщиной, которую он любил больше всего на свете, так, как описано в Библии, — оказалось страшным грехом!
Ему послали текст закона из архива Варнхема, и в нем все было ясно и неумолимо. В архиве имелись только те тексты законов, которые касались ведения Церкви, а все прочее — поединки, клевета, штраф, убийство рабов или кража скота — мало интересовало церковников.
Тот закон, который нарушил Арн, был как раз церковным. В тексте брачного кодекса Западного Геталанда, в восьмой главе, было написано: «Спал кто-то со своей дочерью — это дело должно быть передано из страны в Рим. Спали отец и сын с одной и той же женщиной, или два брата, или сыновья двух братьев; или мать и дочь — с одним и тем же мужчиной, или две сестры, или дочери двух сестер, или дочери двух братьев — это противно закону».
Буквы закона были красиво выведены по-латыни, а перевод его на родной язык, следующий ниже, выглядел более небрежным. Арну нетрудно было узнать эти слова, ибо они были взяты из Пятикнижия Моисеева.
Получалось, что странные и непонятные запреты содержались в Библии, и все, что Арн истолковывал по своему разумению, теперь рухнуло. Ясно, что, если отец спит с дочерью, — это мерзость. Но немыслимо, чтобы то же самое относилось к его случаю, когда он в пьяном виде один раз переспал с Катариной — лишь телом, но без любви, как с Сесилией.
Арн долго размышлял над законом, так ни к чему и не придя. Все размышления приводили его к тому же запрету в вестгетском законе, как он ни испытывал свои теологические познания, вспоминая Ветхий Завет. Арн видел в этом законе подобие того, как запрещалось носить одежду определенного цвета в месяц траура или стричь определенным образом волосы. Он хорошо помнил то почтение, с которым его родичи слушали, как лагман Карле читает закон. Там было так мало места для истолкований, что его собственный отец уже приготовился умереть ради буквы закона.
Значит, он совершил преступление, которое по закону равносильно связи с собственной дочерью.
И все же судить должна Святая Церковь. Священники видят мысли и намерения человека, стоящие за преступлением, иначе, чем западные геты.
После долгих размышлений Арн остановился на том, что решать будет отец Генрих. Ясно, что судить Арна будет он, а не какой-то там тинг. Он даже фыркнул при мысли, как в этом случае ему было бы легко, защищаясь мечом или призвав на помощь бесконечных свидетелей из Фолькунгов.
Нет, его будет судить церковь, поэтому можно рассчитывать на разум, на возможность взвесить плохое и хорошее. Арн колебался между надеждой и отчаянием.
Надежда его укрепилась, когда за ним пришел брат и повел его к архиепископу Стефану. Арн даже не предполагал, что архиепископ находится в Варнхеме, и сперва было подумал, что это как-то связано с его делом, ибо Стефан говорил, что у Арна всегда будет друг, который поддержит его.
Преисполненный надежды, Арн заспешил в галерею, где на своем обычном месте сидел отец Генрих. И вместе с ним был архиепископ Стефан. Арн пал на колени и поцеловал руку Стефана. Затем он сел, но лишь тогда, когда получил позволение.
Однако в глазах архиепископа он заметил отнюдь не мягкость, когда тот молча взглянул на него. По этому взгляду Арн понял, что надеяться не на что.
— Ты немало успел натворить за то короткое время, пока жил в миру, — начал наконец архиепископ. Голос его звучал строго, и отец Генрих не смотрел на Арна, а, казалось, созерцал собственные сандалии. — Ты хорошо знаешь, — продолжал архиепископ все так же строго, — что церковная власть не должна смешиваться с властью мирской.
Между тем ты смешал их, причинив мне массу неприятностей. Причем сделал это совершенно сознательно и к тому же очень коварно.
Архиепископ умолк, словно желая послушать, как Арн будет просить прощения или объясняться. Но Арн, совершенно уверенный в том, что будут разбираться его плотские грехи, чувствовал себя сбитым с толку. Он даже не понял, о чем говорил архиепископ, и так и сказал ему, попросив прощения за свое недомыслие. Архиепископ тяжко вздохнул, и Арн заметил на его лице беглую улыбку, будто он в самом деле не верил в недомыслие Арна.
— У тебя ведь не настолько короткая память, чтобы ты забыл, что мы совсем недавно виделись в Восточном Аросе? — спросил он, и голос его зазвучал мягче.
— Нет, Ваше Высокопреосвященство, но я не понимаю, в чем я тогда согрешил, — неуверенно ответил Арн.
— Занятно! — усмехнулся архиепископ. — Ты явился ко мне с этим искателем королевской короны, одним из тех, которыми, к несчастью, кишит наша страна. Ты просил за него, чтобы я короновал его тут же, на месте. Когда же я отклонил просьбу по причинам, тебе хорошо известным, то что сделал ты? Ты украл у меня сорочку, как говорится, и выставил нагишом на посмешище — вот что ты сделал. Ты — один из нас и останешься таковым навсегда, и потому мы с отцом Генрихом спрашиваем тебя, о чем ты думал, когда так поступал?
— Я особенно не раздумывал, — помедлив, ответил Арн, ибо до него начало доходить, в чем дело. — Как вы справедливо сказали, Ваше Высокопреосвященство, я знал, что и речи не может быть о том, чтобы Церковь сразу же поддержала Кнута сына Эрика. Но я не находил ничего дурного в том, чтобы Ваше Высокопреосвященство сами объяснили это моему другу. Так и было на самом деле.
— Допустим. Но потом, о чем же вы думали потом, когда разыграли весь этот спектакль, в который поверила глупая толпа у ворот храма, — будто я помазал и короновал этого негодяя?
— Я плохо понимаю это, — со стыдом ответил Арн. — Мы не говорили о том, что будем делать, если Ваше Высокопреосвященство откажется поддержать Кнута сына Эрика. Он думал, что просьба его проста. И я не мог убедить его в том, что это не так, ибо он уже тогда считал себя королем. Тогда я решил, что пусть он услышит это от Вашего Высокопреосвященства. Так и случилось.
— Да-да, ладно! — прервал его архиепископ, нетерпеливо махнув рукой. — Это ты уже говорил. Но я спрашиваю о том, что происходило после того, как я поставил негодяя на место!
— Он попросил меня узнать у Вашего Высокопреосвященства, не могли бы мы оба удостоиться чести принять святые дары из ваших рук. Я не нашел в этом ничего неподобающего. И я не знал, что…
— Так вы не говорили об этом заранее и ты не знал, какие выходки последуют за этим! — строго прервал его архиепископ.
— Нет, Ваше Высокопреосвященство, не знал, — пристыженно ответил Арн. — Мой друг думал лишь о том, чтобы его первая просьба была удовлетворена. Мы не говорили с ним заранее даже о причастии.
Два пожилых человека пристально смотрели на Арна. Тот не отводил взгляда, и в глазах его не было ни тени сомнения, ибо он говорил чистую правду, как на исповеди.
Отец Генрих, легко кашлянув, взглянул на архиепископа, который утвердительно кивнул в ответ. Они согласились в чем-то, что обсуждали заранее, понял Арн. Но что это было, он не знал.
— Ну что ж, мой юный друг, иногда ты бываешь слишком наивен, должен тебе сказать, — заговорил архиепископ более дружелюбно. — Ты взял с собой меч и протянул его мне, и ты понимал, что я, разумеется, благословлю его. Вы оба были одеты, как воины. Что ты намеревался этим показать?
— Мой меч освящен, и я никогда не нарушал обета. Я чувствовал гордость, что могу принести этот меч Вашему Высокопреосвященству, и я полагал, что вы будете испытывать те же чувства, ибо освящение меча происходило здесь, у нас, цистерцианцев, — ответил Арн.
— И ты не думал, что твой друг, этот Кнут, сможет воспользоваться этим? — с усталой улыбкой спросил архиепископ и покачал головой.
— Нет, Ваше Высокопреосвященство, но потом я уже понял…
— Потом пошел шум по всему Свеаланду! — фыркнул архиепископ. — Пустили слух, будто я, прямо с кафедры, благословил тот меч, которым убили короля Карла сына Сверкера, будто я потом благословил Кнута сына Эрика и даже помазал и короновал его, и с тех пор я не знаю ни минуты покоя, ибо все эти мелкие корольки, полукороли и претенденты на трон бросились за мной по пятам! Я должен был на время покинуть страну, и вот почему я здесь, а вовсе не ради тебя, если ты так думаешь. Но я верю твоим словам и прощаю тебя за то, что случилось в Восточном Аросе.
Арн опустился на колени перед архиепископом и вновь поцеловал ему руку, благодаря за проявленное милосердие, которого он не заслужил, ибо глупость его не может быть оправданием. В краткий миг счастья Арн вдруг подумал, что все позади и его грех — не в любви к Сесилии, а в том, что он невольно помог Кнуту сыну Эрика одурачить архиепископа.
Но это было не так. Когда Арн по знаку архиепископа поднялся и сел на место, прямо напротив двух старых друзей, ему был вынесен приговор.
— А теперь послушай, — сказал архиепископ. — Тебе прощается обман твоего архиепископа. Но ты преступил закон Божий, обладая двумя сестрами, и за такой грех легкого прощения не бывает. Мы можем осудить тебя на покаяние до конца твоих дней. Но мы проявим мягкость, ибо верим, что в этом промысел Божий. Ты будешь искупать свой грех лишь полжизни, двадцать лет. То же самое касается и твоей Сесилии. Искупать грех ты будешь как тамплиер, храмовник, и имя твое отныне будет Арн Готский. А теперь ступай, и да направит Господь стопы твои и твой меч, да будет милость Его с тобой. Вот так! Брат Гильберт объяснит тебе все подробнее. А я уезжаю, но мы увидимся на пути в Рим, куда ты отправишься первым.
У Арна закружилась голова. Он думал, что помилован! Полжизни — это больше того, что он прожил на свете, и он даже не мог представить себя старым человеком, около тридцати семи лет, когда наконец грех его будет искуплен. Арн умоляюще взглянул на отца Генриха, словно не мог уйти, не услышав от него ни слова.
— Путь в Иерусалим бывает в начале тернистым, мой дорогой Арн, — тихо сказал отец Генрих. — Но на то воля Божия, и в этом мы оба убеждены. Ступай с миром!
И когда Арн, с поникшей головой, нетвердо ступая, ушел, они еще долго сидели, беседуя о Его воле. Оба они ясно видели, что воля эта в том, чтобы отправить еще одного великого воина в святое воинство Господне.
Но если бы Кнут сын Эрика успел стать королем раньше, если бы Арн и Сесилия уже были законными мужем и женой? И если Сесилия не оказалась бы столь наивной и доброй и не навестила бы свою сестру Катарину? И если мать Рикисса не была бы из рода Сверкера и не бросилась бы с такой энергией и решительностью раздувать это дело?
Если бы это и многое другое не произошло, то в воинстве Господнем было бы на одного воина меньше. С другой стороны, философ уже доказал, что подобный тип рассуждений неверен. Господь явил Свою волю, и следовало склониться перед ней.
* * *
Брат Гильберт вел себя осторожно. Ему поручили растолковать Арну, что его теперь ждет. И Гильберт не позволял ему заговаривать о своем наказании или о том, что он оставлял дома.
Итак, Арну предстояло сопровождать архиепископа Стефана в Рим, но там их пути должны были разойтись: архиепископу надо было решить некоторые вопросы с Папой Александром III, тогда как Арн отправится в римский замок тамплиеров — самый большой замок этого ордена в мире. Именно в Риме принимались либо отвергались новички. Разумеется, многие чувствовали себя призванными сражаться в воинстве Господнем, и не в меньшей степени потому, что тем самым они искупали все грехи и шли прямо в рай, если умирали с мечом в руке. Но после испытаний лишь один из десяти принимался в орден.
Испытания вряд ли могли представлять трудность для Арна. Для вступления в орден требовалось, чтобы человек принадлежал к роду с собственным гербом на щите, и это правило брату Гильберту не нравилось, ибо он повидал многих воинов, которые стали бы славными братьями ордена, если бы не отсутствие у них герба. Для Арна такого препятствия не существовало, на щите его красовался лев Фолькунгов. Да и два других требования были легкими для него. Брат Гильберт сухо, но с улыбкой пояснил, что надо знать примерно четвертую часть из того, что знает сам Арн из Священного Писания, логики и философии. И может, хватит ровно четверти того искусства, с которым Арн владеет оружием. Необходимы, разумеется, письма от скандинавского архиепископа и от отца Генриха. Но это как раз не главное — все эти рекомендательные письма. Многие франки, графские сыновья, приезжают в Рим и привозят с собой такие письма, но познаниями Арна они не обладают. Так что воле Божией никто не может противиться.
Арн тогда посетовал на волю Божию, которая столь жестока к нему. Почему, чтобы исполнить Его волю на поле брани в Святой Земле, он должен был сперва оказаться в беде и разлучиться со своей любимой Сесилией?
Брат Гильберт сказал, что у него нет ответа на этот вопрос, но, возможно, со временем Арн сам узнает обо всем. И еще он сказал то, что давно уже понимал: все будет именно так. Брат Гильберт мало встречал таких, кто мог бы сравниться с Арном, и раз Господь одарил его столь редкими достоинствами, то в этом, несомненно, был свой смысл. Как и в том, что Господь послал Арна в Варнхем всего пяти лет от роду, чтобы тот обучился всему, что поможет ему теперь стать хорошим тамплиером.
Арн видел логику в этих рассуждениях, но от этого ему не становилось легче.
Брат Гильберт показал Арну новые боевые доспехи, над которыми он долго трудился по своим же образцам. Самой примечательной была кольчуга с более чем сорока тысячами колец в два слоя, с войлоком между ними и мягкой подкладкой изнутри. Кольчуга закрывала голову, спадала ниже колен, прятала целиком руки до запястий, и была она гораздо легче обычных скандинавских кольчуг. Под стать кольчуге были и штаны, защищавшие ноги и доходившие до щиколоток. Таким образом, воин в этих доспехах был защищен с головы до пят, а этого требовали новые условия ведения войны. Наконец, брат Гильберт достал черную рубаху с белым крестом, закрывавшим всю грудь. Черное и белое — цвета, которые Арну предстояло носить, когда он в качестве охранника будет сопровождать архиепископа в Рим. Кроме того, таким был наряд воина в ордене тамплиеров, и Арн прибудет в их римский замок в соответствующей одежде, архиепископ разрешил ему носить ее в течение всей поездки.
Арн испытал благоговение и гордость, пощупав все эти вещи, но в глазах его не было радости. На это брат Гильберт и не рассчитывал. Но к отъезду Арна, через два дня он приготовил особый сюрприз, полагая, что произведет желаемое впечатление на своего юного ученика.
Утешающе обняв Арна, брат Гильберт повел его вниз, к заднему пастбищу для лошадей, словно приглашая что-то обсудить. Когда они подошли к пастбищу, он остановился. Неподалеку стоял любимый жеребец Арна, Шамсин.
Арн онемел. Потом радостно крикнул, и Шамсин, навострив уши, повернул к нему голову. В следующий же миг крупный жеребец галопом помчался к нему и встал на дыбы перед оградой, затем сделал пару кругов, снова встал на дыбы и заржал, словно жалуясь или приветствуя дорогого друга.
Перемахнув через ограду, Арн обнял Шамсина и осыпал его поцелуями.
— Теперь он твой, — сказал брат Гильберт. — Он — наш прощальный дар тебе, Арн Готский. Ибо я, тамплиер, хорошо усвоил, что в священной войне главное — уповать на Бога. Затем следуют смирение и тренировка. И потом — доброе оружие и такой конь, как Шамсин.
Когда, отправляясь в долгий путь, Арн в своей черной одежде с белым крестом сел на Шамсина, лицо его выражало решимость, но и печаль, которая была в его душе с тех самых пор, когда он узнал о своем наказании.
Отслужили все мессы. Произнесли все прощальные слова. Но отец Генрих и брат Гильберт все еще стояли рядом с Арном, словно желая что-то сказать. Им было тяжело расставаться, скорбь Арна печалила их самих, но они были уверены в том, что все происходит по воле Божией. — Во имя Бога, и смерть сарацинам! — воинственно сказал отец Генрих. — Во имя Бога, и смерть сарацинам! — откликнулся Арн. Он протянул свой освященный меч к небу, произнося эту новую клятву, а затем он медленно тронул коня.
Отец Генрих собрался было назад в монастырь, но брат Гильберт предостерегающе поднял палец, словно говоря, что им надо подождать, и показал в сторону Арна.
Они остались на месте, хотя отец Генрих не совсем понимал зачем, но брат Гильберт по-прежнему ждал чего-то.
И тут они вдруг увидели, как конь Арна сделал несколько скачков вправо, затем влево, а потом седок заставил своего могучего жеребца перейти на галоп. Это было трудным искусством, как понял отец Генрих. И радость Арна от владения этим искусством была неподдельной.
— Ты видишь то же, что и я, дорогой отец Генрих, — прошептал брат Гильберт почти благоговейно. — Да хранит Арна Господь, но да хранит Он и тех сарацин, которые попадутся нашему воину на пути.
Последних слов отец Генрих не понял и посчитал их даже кощунством. Но теперь было не время выяснять это. Они стояли и смотрели, как самый любимый сын Варнхема уезжает от них навсегда.
Отец Генрих, кроме того, хорошо знал, что у брата Гильберта был во многих отношениях странный взгляд на сарацин. Но он знал также, что душа Арна была чистой, как у Персеваля, и что он никогда не испытает подобных искушений. Да защитит Господь Арна!
Иллюстрации
Прощание
Кандинский Василий Васильевич, холст, масло, 1903 г.
Примечания
1
Книга Песни Песней Соломона, 8:6–7.
(обратно)2
Песнь Песней Соломона, 8:6–7.
(обратно)3
До свидания, мой маленький рыцарь Персеваль (фр.).
(обратно)4
Букв.: волчья смерть. (Примеч. перев.)
(обратно)5
Книга Песнь Песней Соломона, 2:8-11.
(обратно)6
Книга Песнь Песней Соломона, 4:9-11.
(обратно)7
Норны — в скандинавской мифологам «небесные пряхи», которые прядут нить человеческой жизни.
(обратно)





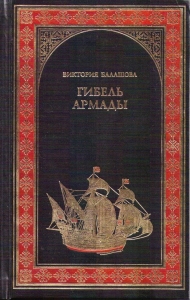


Комментарии к книге «Путь в Иерусалим», Ян Гийу
Всего 0 комментариев