Александр Чаковский Военный корреспондент (Это было в Ленинграде-1)
Редакция помещалась в поезде. Поезд стоял в железнодорожном тупике, близ небольшого городка, в тридцати километрах от фронта.
По обе стороны полотна тянулись лес и болото. Зимой, выходя из вагона, мы проваливались в сугробы, осенью — в трясину.
«Лесисто-болотистая местность» — так официально назывались те места, где мы стояли. У нас острили: «Жизнь в лесисто-болотистой местности…», «Любовь в лесисто-болотистой местности…». Когда был объявлен конкурс на лучшее название отдела юмора в нашей газете, кто-то предложил, не мудствуя: «Юмор в лесисто-болотистой местности».
Когда-то это был благоустроенный поезд. В коридорах вагонов ещё лежали ковровые дорожки. На диванах белели чехлы. На стенах, под стеклом, висели объявления треста «Вагон-ресторан»: краснощёкий юноша в поварском колпаке нёс на блюде поросёнка. Постепенно чехлы и дорожки исчезли, но юноша с поросёнком уцелел…
Канонада глухо доносилась до нашего слуха. По ночам, приоткрыв замаскированные окна вагона, можно было видеть, как режут небо лезвия прожекторов.
В купе нас было трое: Венцель, Губин и я. Губин писал стихи, Венцель и я — прозу.
К поезду привыкли. Мне стало казаться, что, когда война кончится, я и дома буду открывать дверь рывком в сторону.
Столовой в нашем поезде ещё не было. Мы ходили завтракать, обедать и ужинать в маленький домик на разъезде. Там жила стрелочница Евдокия Семёновна. Она готовила нам еду. Хозяйку мы звали просто Дуня. У неё был огромный самовар, каждый из нас выпивал по пять-шесть стаканов чаю. В домике не было диванов, но там стояли обыкновенные стулья со спинками и дверь открывалась по-человечески. Избушка на разъезде стала нашим клубом, домом отдыха…
Наша история началась со сводки Информбюро о разгроме тихвинской немецкой группировки. На отвоёванном плацдарме создавался новый фронт. По дороге сюда мы часто стояли, пропуская эшелоны с войсками, оружием и боеприпасами.
По ночам, в купе, мы спорили о направлении главного удара и создавали планы генеральных сражений. Потом мы слушали ночную передачу ТАСС по радио и засыпали лишь под утро.
Война ещё не стала нашей профессией. Мы выглядели комично в новом, непригнанном обмундировании. Мы — это я и Губин; Венцель в прошлом был военным. Он единственный из нас походил на командира. Мы подтрунивали друг над другом, цитировали Швейка и менялись снаряжением.
В поезде была своя электростанция, и в вагоне горело электричество, но лампы светили тускло. Мы жили в постоянном полумраке.
Кругом были лес и снег. В ту пору мы ещё не знали, что под снегом скрываются бесконечные непросыхающие болота.
Нас окружала тишина. В первый день по приезде я увидел северное сияние, очень бледное и напоминавшее рассвет. Над горизонтом краснело зарево. Оно гораздо больше походило на северное сияние — такое, как его рисуют на картинках.
Жизнь в мирном поезде казалась нам дезертирством. Каждый из нас стремился скорее попасть на фронт. Я, как только приехал, спросил редактора, когда же можно выехать. Редактор ответил: «Успеешь». Он всем говорил «ты».
В ту зиму мы многое пережили, многому научились: не спать по суткам, разводить костёр на снегу, отыскивать блиндажи в лесах и снежных равнинах; мы научились разбираться в картах, спасаться от мин, отыскивать деревни, которых нет на карте и вообще нет на земле, ибо они сожжены и сровнены с землёй, будто по ним прошла гусеница гигантского танка… Научились ценить тепло крохотной землянки с железной печкой и спать сидя и стоя, спать в шофёрской кабине и в кузове, на обледенелых снарядных ящиках, на еловых ветках, брошенных прямо в снег… Научились знакомиться с людьми и вступать с ними в дружбу с первого слова.
В ту зиму наш фронт наступал. Был сделан прорыв, и силами кавалерийского корпуса взято много деревень и железнодорожных станций.
Наши войска двигались по линии железной дороги, соединяющей Москву с Ленинградом. Глубина фронта равнялась расстоянию между двумя станциями на этой дороге. «Стрела» проходила это расстояние за час с четвертью. Сейчас десятки тысяч вооружённых людей, тысячи орудий и бронепоезда штурмовали эти несколько десятков километров.
Многих названий деревень и станций, в которых теперь заключался для нас такой огромный смысл, я раньше просто не знал.
Для нас слово «Ленинград» не было только названием города. Оно приобрело значение лозунга. Оно стало синонимом слова «прорыв».
Среди нас было много ленинградцев. Они изредка получали письма «оттуда». В тот вечер письмо из Ленинграда получил Губин. Он читал его, держа на коленях и опустив голову.
— «…И Женя умерла, и Галя умерла, а мама ещё не умерла, но, наверное, умрёт на днях, потому что ей очень плохо… — прочёл он вслух, и губы его стали тонкими, как всегда, когда он волновался. — И не можешь ли ты прислать нам немного луку…»
Я не получал писем из Ленинграда. Я не знаю почему. Там жила женщина, которую я любил. В мирное время мы часто писали друг другу. Я приезжал к ней по нескольку раз в год. Она ждала меня на Московском вокзале и брала из моих рук маленький чемодан. У нас не было бурных встреч, мы встречались так, как будто лишь вчера расстались. Иногда мы шли к ней, за Нарвскую заставу, где жила её мать и маленькая дочка, но чаще ко мне в гостиницу. Мы садились на подоконник, раскрывали окно, если это было весной или летом, и смотрели на Исаакий и на широкую площадь. Мы не ездили на острова и на взморье и не катались с американских гор. Мы вообще мало гуляли. Нам было хорошо вдвоём.
Её звали Лида. Я вдруг перестал получать от неё письма. Я почувствовал себя так, как будто всю жизнь летел и вдруг упал на землю. Всё вокруг меня ещё летело куда-то по инерции, но я стоял на месте. Я отправил много писем ей и её знакомым — ответа не приходило. Я думал: «Завтра, ну, ещё завтра, ну, послезавтра…» Но ответа всё не было.
Я перечитывал её старые письма, стараясь забыть о датах, и каждый раз её слова звучали для меня по-иному. Подумать только, что я был от неё в четырёх часах езды на «Стреле». И я был совершенно беспомощен.
Когда Губин прочёл отрывок из своего письма, я вздрогнул. Мне это не приходило в голову. Я не допускал даже мысли, что именно это причина её молчания. Я попросил Губина дать мне прочесть всё письмо. Там было много страшного. Я несколько раз перечитал подпись, чужое мне имя.
Вечером я сидел в радиорубке и слушал музыку. Передавали Шестую симфонию Чайковского. Но я повернул ручку и стал слушать фокстроты с машинным, металлическим темпом. Под них не думалось. Потом я пошёл спать.
…Это было ночью. Я проснулся от грохота отодвигаемой двери. Кто-то шарил по стене, отыскивая выключатель. Зажёгся свет. Приехали из частей Венцель и Губин. Они ещё не сняли вещевые мешки с плеч. У них были красные, разгорячённые лица, и, когда они говорили, изо рта шёл пар.
Венцель был, видимо, в хорошем настроении. Он стал стягивать мешок, напевая песенку. Он пел всегда только одну песенку, вставляя в текст отсебятину. Получалось так: «Но ты уйдёшь… — куда ты уйдёшь? — холо-одной и далёкой… укутав сердце — во что? — в ме-ех и шиншил-ла…» В редакции его считали специалистом по юмору. Он вообще был весёлым, обаятельным человеком. В него влюблялись и женщины и мужчины. У него были волосы с проседью, детское лицо и надутые губы. Ему было сорок лет. Во сне он иногда стонал и всхлипывал: «Ах, мама моя…»
— Вставай, — сказал Венцель, — вставай и благодари.
Он вытащил из мешка флягу.
— Письмо получил? — спросил Губин. Он был уже навеселе.
— Нет, — ответил я.
— Ну, получишь, — сказал Губин. — Почта виновата. Письма возят теперь через Ладогу.
Водка ударила мне в голову, стало легко, и всё вокруг потеряло глубину.
— Я знаю об одном случае, — сказал Венцель, — слушай меня, я знаю. Что? Это вот… — Он всегда вставлял «это вот» между фразами. — Ты слушай меня. Я встретил одну женщину. У неё сын на фронте. Полгода не писал. А потом — бац — десять писем подряд. Это всё почта. Ты слушай меня…
Я слушал его и верил. Я верил во что угодно, кроме одного. В это я не мог поверить.
— Конечно, это почта, — сказал я.
— А теперь будем спать, — предложил Венцель.
— Нет, я сначала прочту стихи, — сказал Губин.
— Завтра прочтёшь, — оборвал его Венцель.
— Нет, сегодня! — крикнул Губин.
— Пусть прочтёт сегодня, — примирительно сказал я и полез к себе на полку.
Губин начал декламировать Блока. Первые строфы я слышал. А потом заснул.
Наш фронт не знал чёрных дней отступления. Мы не видели дорог, забитых людьми, и не слышали горьких вопросов жителей: «Куда же вы уходите?» Мы по колени увязли в наших болотах, и если нам трудно было идти вперёд, то идти назад уже было невозможно.
У нас не было громких побед. Мы завидовали Западному и Южному фронтам, читая сводки Информбюро, но мы упорно, хотя и медленно, продвигались вперёд.
В просторном трёхкомнатном блиндаже командующего на стене висела карта нашего фронта: чёрная полоса показывала линию фронта на 1 сентября 1941 года, красная — на 1 января 1942 года. Красная была значительно северо-западнее.
В то время всем нам казалось, что основная цель нашего фронта — прорыв блокады Ленинграда — близка. Я, затаив дыхание, слушал разговоры о вариантах соединения с армией Ленфронта. Но победа пришла гораздо позже, чем мы предполагали.
…Как-то редактор сказал, подавая мне листок бумаги: «Надо написать листовку». Я прочёл бумагу. Это был приказ о наступлении, подписанный Военным советом. Я написал листовку к войскам. Она заканчивалась словами: «Ленинград нас ждёт. Вперёд, к Ленинграду!» Мне было очень трудно писать. Всегда трудно писать, когда чувства больше, чем слов.
Я сдал листовку редактору. Он сказал, что наши танки прорвали оборону немцев и начали рейд по тылам противника.
— Проберёшься к танкистам? — спросил редактор.
— Попробую, — ответил я.
— С Венцелем поедешь, — сказал редактор. — «Эмку» мою возьмёте.
Я пошёл отыскивать шофёра, а Венцель стал укладываться.
«Эмка» уже стояла у вагона. Красная надпись «такси» ещё не стёрлась на переднем стекле. Венцель сел рядом с шофёром, а я позади, и мы тронулись.
Нас ожидал длинный путь — сто двадцать километров по отвратительной дороге. Неожиданно наступило потепление. Мы уже привыкли к шуткам ленинградского климата и не удивлялись. По стёклам кабины лениво ползли капли воды. Венцель перегнулся ко мне и начал рассказывать одну из своих бесконечных пограничных историй: он когда-то служил на границе. Я слушал его и смотрел в оттаявшее окно.
Нам предстояло проехать двадцать километров до реки, пересечь её и проехать ещё километров сто. Внезапно послышались артиллерийские разрывы.
— По переправе бьют, — сказал Венцель.
— Почему ты думаешь, что по переправе? — спросил я.
— Не по чему им больше тут бить. Они всегда бьют по переправе.
Впереди не было машин, и мы ехали быстро. Канонада становилась всё слышней.
— Вот и Городище, — сказал я.
Через переднее стекло кабины уже были видны очертания разрушенных кирпичных домов. Издали городок казался огромной красной кучей.
Шофёр дал газ, мы свернули с дороги, ведущей на переправу, и уже через десять минут ехали по красноватому от кирпичной пыли снегу. В этом разрушенном мирке всё было красным.
Мы вышли из машины и пошли к развалинам.
Немецкая артиллерия била не умолкая. Снаряды ложились правее нас, где-то в районе переправы. Подул холодный ветер, начинало морозить.
Было видно, как горят костры в подвалах сохранившихся домов. Я заглянул в один из подвалов. Там тоже горел костёр и группа бойцов грелась у огня.
Никто не обернулся, когда мы вошли. Бойцы сидели вокруг костра и слушали кого-то. Говорила женщина. Мы не видели её лица, она сидела спиной к нам.
Мы тихо обошли круг, чтобы увидеть лицо говорившей. Это была совсем ещё молодая девушка. На вид ей нельзя было дать больше восемнадцати лет. У неё был очень высокий голос.
Девушка говорила о Ленинграде. Я понял это не сразу. Она не произносила слово «Ленинград». Девушка говорила «он», и мне сначала показалось, что речь идёт о каком-то человеке.
Девушка говорила о бомбёжках, артиллерийских обстрелах и о пожарах в городе. Она сказала, что Гостиный двор горел. Год назад я ходил с Лидой по Гостиному. Она хотела купить мне вечную ручку. Перебрала десяток ручек, прежде чем выбрала одну. Когда я попробовал писать, ничего не вышло: ручку надо было встряхивать, как градусник, чтобы показалась капля чернил. Я потерял ручку по дороге на фронт.
Наконец девушка кончила говорить.
Я подошёл и спросил, давно ли она из Ленинграда. Но девушка ответила, что никогда там и не была, а всё это только слышала и читала. Она агитатор полка и всю жизнь провела в Забайкалье.
Я почувствовал, как холодно в подвале. Пахло сыростью.
— Вот кончится война, — сказала девушка, — тогда обязательно в Ленинград поеду. А вы ленинградец? У нас в дивизии тоже есть ленинградец. Врач. Он где-то в соседнем подвале. Хотите, пойдём к нему?
Но ни в одном из соседних подвалов врача не оказалось.
Я стоял на ветру. Артиллерия замолкла. Стало совсем темно. Я не знал, для чего, собственно, ищу этого врача. Не знал, о чём буду говорить с ним. Ведь было бы бессмысленно спрашивать одного из миллионов ленинградцев, не знает ли он такую-то…
И всё-таки мне очень хотелось увидеть врача. Это шло уже не от разума. Мне просто хотелось увидеть перед собой ленинградца.
У входа в подвал с мешком за плечами стоял Венцель.
— Где ты шатаешься? Надо ехать, пока перестали долбать. Кого ты там искал? — спросил Венцель.
— Врача-ленинградца, — ответил я.
— О ней узнать хотел?
— Нет. Откуда ему знать. Просто хотел поговорить с ленинградцем.
— Земляка ищешь? Все в армии земляков ищут. Это уже так положено. Политруки даже работу специальную проводят.
— Почему это? — спросил я.
— Что «почему»?
— Почему всем так хочется встретить человека из одной деревни, из одного города?
— Что ж тут непонятного? Хочется старое вспомнить. Как жили раньше.
— А тебе не кажется, что именно на войне особенно любишь человека?
— Ну, это уже философия, — сказал Венцель. — Где же наша машина?
В темноте мы отыскали машину. Шофёр Шелехов спал. Мы разбудили его, и он с трудом завёл мотор.
На переправе было пустынно. Мы съехали с пригорка и через несколько минут были на той стороне реки. Опять начала бить артиллерия. В перерывах между залпами слышались пулемётные очереди.
Теперь мы ехали по лесной опушке. Шелехов включил фару, и стало видно, как дорога уходит в тёмную громаду леса.
— Заяц! — крикнул вдруг Шелехов.
Посреди дороги, ослеплённый светом нашей фары, сидел, прижав уши, заяц. Мы быстро приближались, и заяц вырастал в размерах. Потом он вдруг очнулся, сделал резкий скачок и исчез в лесу.
— Вот косой чёрт! — восхищённо сказал Шелехов. Он помолчал немного и добавил: — А я письмо получил из дому. Жена спрашивает, когда война кончится. «Ты, говорит, там лучше знаешь». А чего я ей отвечу?
— Надо ответить, — посоветовал я.
Я подумал о том, что, когда идёшь в дальнюю дорогу, никогда не надо высчитывать, сколько прошёл и сколько осталось: так измучаешься. Надо идти и думать о другом.
Мы ехали молча до тех пор, пока не увидели быстро приближающуюся к нам чёрную массу.
— Пробка, — сказал Венцель и выругался.
Шелехов затормозил, и я выскочил из машины.
Артиллерийские разрывы стали оглушительно громкими. По небу поползли светлые чёрточки трассирующих очередей. Пули как бы нехотя отрывались от земли и плыли в небо.
Впереди было какое-то движение. Видно было, как в темноте люди в полушубках сновали около машин. Шумели моторы.
Вдали показалась машина. Фары вспыхивали и гасли. Машина быстро приближалась. Регулировщик поднял свой флажок и помахал фонарём. Машина, резко тормозя, остановилась метрах в трёх от нас.
— В чём там дело? — спросил я.
— Долбают, — хрипло ответил шофёр, высунувшись из кабины. При свете «летучей мыши» я увидел его грязное, потное лицо. — По горловине долбают. В обход надо ехать.
Километрах в трёх от нас находилась «горловина» — самое узкое место нашего «коридора». Немцы простреливали горловину, чтобы помешать подвозу снарядов и эвакуации раненых. Я вернулся к Венцелю и рассказал ему, в чём дело.
— Поедем, — подумав, сказал Венцель. — Проскочим. Знаю я эту обходную дорогу. Ни черта там на «эмке» не проедешь. А тут проскочим. Садись!
Канонада усиливалась.
Мы неслись со скоростью пятидесяти километров. Машина резко подпрыгивала на ухабах. Со всех сторон слышались артиллерийские разрывы. Трассирующие пули бороздили небо, и звёзды казались тусклыми. Внезапно в машине стало светло, как при вспышке магния. Справа от нас в небе повисла ракета. Она горела ровным бело-синим цветом и висела неподвижно, как лампа.
— Газуй, газуй! — крикнул я.
Но быстрее нельзя было ехать по этой дороге. Я смотрел на оттаявшее окно. Мелькнул силуэт танка. Танк стоял сбоку, у дороги. Мне казалось, что ракета никогда не погаснет. Она погасла внезапно — очевидно, её подбили наши. Снова всё погрузилось во тьму. Трассирующие пули ползли совсем низко над землёй. Мне показалось, что одна из них проплыла вровень с нашей машиной.
Мы молчали. Внезапно машину тряхнуло, я почувствовал сильный толчок и удар по голове…
Очнувшись, я увидел, что лежу в яме. Было темно. Я поднял голову и ударился обо что-то. Я понял, что лежу под нашей «эмкой». Рядом был Венцель. Шелехов тоже лежал тут.
— Прошло? — спросил Венцель, когда я поднял голову. — В воронку угодили. Я перетащил тебя под машину, тут спокойнее.
Я ничего не видел, но слышал частые разрывы и свист пуль.
— Голова болит? — спросил Венцель.
— Нет.
— Потом заболит.
— Мы долго будем так лежать? Надо хоть посмотреть обстановку, — сказал я.
— А по-моему, надо лежать, — возразил Венцель.
— Ну и долежишься, пока тебе «хенде хох» скажут.
Я стал вылезать из-под машины. Венцель пополз за мной.
— Ехать всё равно нельзя, — сказал Шелехов нам вслед, — радиатор осколком пробило. Вся вода вытекла.
По обе стороны дороги темнел лес. Там щёлкали выстрелы, часто, как град по стеклу. Трудно было понять, наши это стреляют или немцы. «Очень вероятно, что немцы, — подумал я. — Они стремятся перерезать горловину». Мне показалось, что я вижу между деревьями людей в белых балахонах. Трассирующая пуля проплыла совсем низко, мимо лица Венцеля.
— Ты видел? — спросил Венцель и лёг в снег.
Я лёг рядом с ним. Потом вынул наган и взвёл курок. Снова показались люди между деревьями. Они приближались. Я уже видел очертания их автоматов, прижатых к бедру.
Потом услышал русскую речь. Это были наши автоматчики. Очевидно, они прочёсывали лес. Я спустил курок, придерживая его пальцем, и сунул наган за борт полушубка.
Справа с мягким треском лопнула ракета. Стало нестерпимо светло. Тёмная громада леса разделилась на сотни видимых деревьев. Дорога, наша «эмка» и мы сами очутились под резким голубоватым светом. Это выглядело феерически, но нам было не до восхищения. Этот свет действовал на нервы сильнее, чем обстрел. Нам казалось, что нас отовсюду видно, как на ладони. Минуты, пока ракета висела в воздухе, были настоящей пыткой. Потом ракета потухла, рассыпавшись тысячью искр.
Мы лежали неподвижно.
— Ну, что будем делать? — снова спросил я.
— Вот ты и решай, — зло ответил Венцель.
— Ты старший, — сказал я.
Венцель был майором.
— А когда мы сидели под машиной, ты был старший?
Я ничего не ответил.
— Ты видел танк, когда мы проезжали? — спросил Венцель. — Так вот, пойдём попросим танкиста вытянуть нашу «эмку» из воронки. Стащим её под деревья и замаскируем.
На первый взгляд это показалось глупым — искать боевую машину и просить танкистов вытягивать «эмку». Но если бы они согласились!..
— Ладно, — сказал я. — А как быть с Шелеховым?
— Я никуда не пойду от машины, — отозвался Шелехов из-под кузова. — Обстрел обстрелом, а наш брат шофёр под любым огнём брошенную машину раскулачит.
Мы пошли искать танк.
Шли по узкой лесной просеке. Свистели пули. Мы не знали, кто нас окружает: свои или враги. Мне было очень страшно и хотелось думать, что другой тоже боится. Я знал, что горловина в этом месте равна километрам трём. Может быть, немцам уже удалось её перерезать. Нам не попалось навстречу ни одной машины. В перерывах между разрывами я слышал треск сучьев в лесу. Я шёл, держа наган в руке. Барабан был полный — семь патронов. У Венцеля был трофейный парабеллум и запасная обойма. Он тоже держал пистолет наготове. Мы прошли молча километра полтора.
— Нет танка, — заметил я.
— Он должен быть дальше, — ответил Венцель.
— Ну конечно, будет он стоять и ждать тебя.
— Что ты огрызаешься? Может быть, танка и нет, тогда вернёмся к машине и переждём до утра.
Мы замолчали.
— Послушай, — сказал я, — а ведь когда-то по этой дороге ездили колхозники и было тихо…
— Никто тут не ездил, — раздражённо ответил Венцель. — Тут и дороги-то никакой не было. Её прорубили в лесу.
Он был прав, как всегда. До войны тут не было никакой дороги.
Мы опять замолчали.
— Ну, танка нет, — заявил Венцель.
Мы прошли уже не меньше двух километров. Идти дальше было бессмысленно.
Мы вернулись назад.
Однако в воронке «эмки» не оказалось. Она стояла недалеко от дороги, в лесу, тщательно замаскированная ветками.
— А меня вытянули, — весело крикнул Шелехов, высовываясь из кабины. — Нашлась добрая душа. Шофёр один с трёхтонки пожалел и вытащил… Только ехать нельзя. Радиатор-то тю-тю!
— Ну, вот что, — предложил Венцель Шелехову, — ты теперь буксируйся к проходящей — и назад до автобата. В Мясном Бору нас и жди. А мы двинемся вперёд.
Я молча согласился с ним. Мы действительно потеряли много времени.
Командный пункт танковой части занимал блиндаж размером не более восьми квадратных метров. Справа, за узким столом, лицом к входу, сидел полковник в серой, накинутой на плечи бекеше. Полковник брился. Когда я вошёл, парикмахер мылил ему лицо. Одна щека была белой от мыльной пены, другая казалась серой и осунувшейся. Напротив полковника расположился майор — начальник штаба. Слева от входа, на нарах, стояла рация. Она была освещена крохотной электрической лампочкой. Дальше лежали люди, но их лиц не было видно. Было тихо, только слышался звук скользящей по коже бритвы. На нарах у рации сидел радист с наушниками на голове. Один из них был сдвинут с уха.
— Есть ответ? — спросил полковник.
Радист вздрогнул, схватил микрофон и заговорил в трубку:
— «Роза», «Роза», говорит «Буря», жду ответа на радиограмму, жду ответа… Приём, приём…
Он передвинул рычажок на рации. Все молчали.
— Не отвечают, товарищ полковник, — доложил радист.
Полковник резко отвёл руку парикмахера с бритвой, шагнул к рации и взял микрофон. Он поднёс его ко рту так близко, что мыльная пена попала на чёрную пластмассу.
— «Роза»! «Роза»! — закричал полковник. — Почему не отвечаете, «Роза»?..
Затем он снял наушники с головы радиста и поднёс к уху, не надевая.
— Молчат! — сказал полковник, бросая наушники на колени радисту.
Он вернулся на своё место. Я заметил порез на его свежевыбритой щеке. Парикмахер тоже увидел кровь.
— Извините, кровь, товарищ полковник. Я сбегаю за квасцами, секунду. — Парикмахер вышел из блиндажа.
Начштаба повернул голову, заметил меня и кивнул.
— Пойдёмте, — бросил он мне.
Передвигаться по блиндажу ему приходилось согнувшись — он был очень высок. На нём была безрукавка мехом наружу.
— Хочу подышать воздухом, — сказал начштаба, когда мы вышли. — Слишком тесный блиндаж.
Была ночь. В темноте мы нащупали какое-то бревно и сели. Майор объяснил мне обстановку.
Наши танки прорвали оборону противника, вырвались на дорогу и продвинулись вглубь. Но немцы успели подтянуть резервы и поставили на дороге, в тылу наших танков, сильный противотанковый заслон. Положение тяжёлое. Боеприпасы на исходе. Пехотное подкрепление ещё не подошло. Уже сорок минут, как прервалась радиосвязь с танками. Принимаются меры… Вот, пожалуй, и всё.
Майор вздохнул, взял пригоршню снега и приложил его ко лбу.
Мы молчали. Я чувствовал сильный голод. Венцель, который пошёл в другую часть, по ошибке унёс мой мешок. Я вытащил сухарь из кармана.
— Сухарь жуёте? — спросил майор.
— Сухарь.
— Дайте и мне.
Я отломил кусок сухаря и подал ему. Майор взял сухарь и поднёс ко рту.
— Не могу есть, — сказал он вдруг, встал и пошёл к блиндажу.
Я пошёл за майором.
В блиндаже всё было по-старому. Полковник сидел с намыленной щекой. Но рядом с ним мы увидели нового офицера с петлицами старшего лейтенанта. Его левая рука была забинтована. По белизне бинта и по розовому оттенку проступавшего кровяного пятна я догадался, что перевязка сделана недавно. Старший лейтенант положил раненую руку на стол, а правой неуклюже свёртывал папиросу. Когда мы вошли, полковник поднял голову и провёл пальцем по намыленной щеке.
— Где же парикмахер? — спросил он.
В ту же секунду начался артиллерийский обстрел.
Снаряды рвались в районе нашего блиндажа. Я слышал разрывы справа, слева, всюду, почти без промежутков, без пауз. Я чувствовал, как взрывная волна бьёт по стенкам. Пламя коптилки дрожало при каждом ударе. Грохот кругом не умолкал. Мне казалось, что всё смешалось. Был только грохот и дрожащий язычок пламени. Потом всё прекратилось. С последним разрывом погасла коптилка. Стало тихо. Люди тяжело дышали в темноте. Майор вынул спички и зажёг коптилку. Я спросил его, сколько накатов над нами. Начштаба поднял вверх один палец.
Все мы молчали. Кто-то храпел на нарах так сильно, что его не могла заглушить никакая артиллерия. Я сел на землю и прислонился к стене. Земля в блиндаже была влажная. Есть мне уже не хотелось, но очень хотелось спать. Я закрыл глаза и стал считать разрывы где-то вдалеке. Досчитал до восемнадцати. Одновременно с восемнадцатым раздался громкий голос радиста:
— «Роза», «Роза» говорит!
Я открыл глаза и подался вперёд. Полковник стоял у рации. Говорила «Роза» — рация командирского танка, одного из тех шести, что дрались в десяти километрах от нас. Командир докладывал, что положение танков критическое.
Радист лихорадочно раскодировал цифры радиограммы:
— «Несколько немецких пушек ведут стрельбу термитными снарядами. Из леса показалось около десятка немецких танков. Один наш танк горит, но экипаж не прекращает стрельбы. Боеприпасы на исходе. Будем драться, пока живы. Всё».
А затем снова начался дьявольский обстрел, от которого хотелось лечь на землю и врыться в неё так, чтобы совсем исчезнуть с её поверхности.
— Засекли нашу рацию, наверно, — сказал начштаба.
— И засекать не надо, — ответил кто-то с нар. — Сутки назад тут немцы сидели. Небось свои дома-то знают.
Рвануло дверь блиндажа, погасла коптилка, и с потолка посыпалась земля.
— Выключите рацию на десять минут! — приказал полковник. — Да где же наконец брадобрей?
— Парикмахер убит, товарищ полковник, — сказал кто-то у дверей. — Бежал с квасцами этими, а его осколком…
— У вас мыло на лице, Борис Григорьевич, — заметил начштаба.
Полковник вынул платок и вытер остатки мыла.
Потекли страшные минуты. Рация молчала. Люди там, в танках, которых, казалось, мы только что слышали, стали вдруг бесконечно далёкими от нас. Я шёпотом спросил майора, кто командир того танка, который горит, но не сдаётся. Я закрыл глаза, и мне показалось, будто я вижу перед собой горящий танк. Все молчали и смотрели на радиста. Он снял телефоны и дремал, откинувшись на спину. Он не спал вторые сутки. Было тихо, но мне казалось, что я слышу хруст гусениц.
— Я поеду, — внезапно произнёс старший лейтенант с забинтованной рукой и встал.
— Нет, Пашковский.
— Мне нужны две машины — и я прорвусь.
— Вы не поедете, — сказал полковник, чуть повышая голос. — Вы ранены.
— Я командир батальона. Мои машины там, а я здесь. Разве это правильно? — возразил Пашковский.
В это время в землянку вошёл капитан. Он наклонился к уху полковника и что-то шепнул ему.
— Пехота подошла, — проговорил полковник вполголоса, ни к кому не обращаясь. — Вы действительно в состоянии ехать? — спросил он вдруг Пашковского.
Пашковский вскочил.
— Я могу идти?
— Идите. Пехота сосредоточивается на танковой исходной. Там же получите боеприпасы.
Пашковский выбежал из блиндажа.
— Включите рацию, — приказал полковник.
Я вышел вслед за Пашковским. Он шёл быстро.
— Я корреспондент, — сказал я, настигая его. — Где стоят ваши танки?
Пашковский ничего не ответил, но показал рукой на опушку леса.
Мы шли молча. Я едва поспевал за ним. Подойдя к опушке, я увидел несколько замаскированных танков.
— Андрианов! — позвал Пашковский.
Голова в шлеме показалась над люком одной из машин.
— Давай заводи! — весело крикнул Пашковский и добавил, обращаясь ко мне: — Это мой орёл. Три танка немецких утром подбил. Вот вернёмся, вы о нём роман напишите.
Андрианов снова скрылся в люке. Из леса выбежали бойцы и стали рассаживаться на броне танка.
Пашковский тоже исчез в люке. Загрохотал мотор. Танк стал разворачиваться, вздымая снежную пыль.
…Я вернулся на КП, когда было уже светло. Кругом чернели воронки. Осколков было много, как листьев осенью. Но каким-то чудом уцелел наш блиндаж… Там жили ожиданием Пашковского. От него уже поступила радиограмма. Он прорвался через горловину. Он уже видит наши танки, ведущие бой. Он спешит к ним на выручку. Часть десанта он высадил на дороге, чтобы не дать соединиться разрубленной петле…
Снова началось ожидание. Вернётся или не вернётся? И снова начался обстрел.
— Он вернётся, — убеждённо заявил полковник.
— Конечно, вернётся, — подтвердил начштаба.
— Пашковский-то не вернётся? — непонятно кому возражая, проговорил из темноты нар человек. — Да он из-под земли вернётся!
— Узкая горловина, — заметил начштаба после молчания.
— И всё-таки пробьётся.
Голос с нар пробасил:
— Пашковский? Обязательно пробьётся. К чёрту в ад и обратно. Это Пашковский-то? Хо-хо!
Полковник молчал. Потом он сказал:
— Степана жаль… Парикмахера.
Снова стало тихо. Было слышно, как капает с потолка талая вода. Звук падающих капель казался громким, как удары молотка.
Полковник посмотрел на часы, большие карманные часы с ключиком, болтавшимся на цепочке.
— Ему пора бы уже возвратиться, — сказал полковник. — Наверно, он уже близко. Я уверен, что он сейчас появится.
— Передают! — крикнул радист.
Он стал записывать радиограмму, повторяя вполголоса цифры шифровки:
— Одиннадцать, сорок один, шестнадцать… — И подпись: — Пашковский.
Через минуту он расшифровал:
— «Задание выполнил. В тылу противник пытается вновь закрепиться на дороге. Возвращаюсь и одновременно ликвидирую заслон на дороге. Пашковский».
— Так, — сказал полковник и положил на стол перед собой свои большие часы.
Я вынул блокнот и попытался записывать всё, что вижу и слышу, но ничего не получалось. Нельзя было описать воздух, которым мы здесь дышали, звук артиллерийских разрывов, мысли людей…
Мы ждали Пашковского. Нам казалось, что нет ни ночи, ни дня. Два раза прерывалась радиосвязь. В третий раз мы сами выключили рацию во время сумасшедшего артналёта.
Пашковский явился утром. Его лицо было в копоти, а повязка на руке — чёрная, как сажа.
Я вышел из блиндажа. Взошло солнце. Всё кругом стало как-то радостней. Я снял шапку и подставил голову холодному ветру.
Я решил пройти на огневые позиции артиллеристов. Пушки стояли в полукилометре от КП танковой части, где я провёл ночь.
Но мне не пришлось дойти до опушек. И вот как это случилось. Сначала я шёл, опускаясь в воронки и вылезая из них. Ям было так много, что земля казалась одной сплошной воронкой. Когда начинался артиллерийский налёт, — а он «начинался» каждые четверть часа, — приходилось прижиматься ко дну очередной воронки. В первой же паузе я решил сменить моё «бомбоубежище» на более глубокое. Этого, конечно, не следовало делать. Я убедился в этом несколько позже, очнувшись в передовом пункте медпомощи. Я сидел на скамье, опустив голову на грудь девушки-медсестры, а она гладила меня по волосам.
Я смутно припоминал, что летел куда-то, или всё вокруг меня куда-то летело, или плыл по воздуху, причём — это я уж наверное помню — плыл как-то задом наперёд. Потом будто остановился от какого-то резкого толчка, и всё перед глазами стало медленно перемещаться. Ну вот и всё, больше уже ничего не помню.
Когда очнулся, то услышал, как медсестра говорила, очевидно, диктовала кому-то:
— Капитан Савин. Контузия. Ранений нет. Эвакуировать.
Затем мои зубы стукнулись обо что-то, я открыл глаза и увидел другую девушку. Она держала у моих губ кружку с жидкостью. Я хлебнул. Это был коньяк. Сделал большой глоток, затем второй, но тут же всё поплыло куда-то и девушка стала медленно перевёртываться вниз головой. Затем почувствовал тошноту и, уже совсем куда-то проваливаясь, услышал голос:
— Нельзя ему коньяк давать…
Второй раз очнулся в санях. Я лежал рядом с двумя ранеными. Ездовой сидел впереди и время от времени давил своим задом на наши головы.
Я откинул одеяло и посмотрел вокруг. Было уже темно. Мы ехали очень медленно.
Затем я услышал над собой голос:
— А этот куда ранен?
— Он контуженый, — ответил ездовой.
Говорили, видимо, обо мне. Я попробовал приподняться, но в голове тут же зашумело и тошнота подкатилась к самому горлу. Меня взяли под руки с обеих сторон санитары и помогли встать. В большой санитарной палатке, куда меня ввели, горело электричество. Во всю её длину, над землёй, были установлены горизонтальные шесты. На них стояло несколько десятков носилок. На носилках лежали люди. Они стонали, звали санитаров, ругались и плакали.
Врач, осмотрев меня, направил в стационар. Меня снова взяли под руки и вывели из палатки. Была тихая ночь. Звёзды ярко сияли. Пахло весной, хотя был январь, и не хотелось никуда идти, а лечь вот здесь, между ёлками, и смотреть на небо…
Мы подошли к палатке. Один из санитаров приподнял полог, другой помог мне войти. Влажный полог задел меня по лицу, когда я проходил в палатку.
По обе стороны палатки вплотную стояли длинные ряды носилок, превращённых в койки. Все носилки были заняты, кроме одних, у самого входа. В конце палатки стоял стол, заставленный сплошь пузырьками и банками с какими-то жидкостями. Над столом висела электрическая лампочка. Две девушки в белых халатах, надетых поверх шинелей, стояли у стола, когда меня ввели. В палатке было тепло. Топились две печки. Полная девушка со спокойным и широким лицом взяла у санитара мой листок.
— Уложите его на койку, — распорядилась она тихо, но так, что я всё слышал.
Санитар вернулся и начал было меня раздевать.
— Я сам могу, — сказал я и стал стягивать сапоги.
Левый сапог я снял легко, а когда стал снимать правый, стол и носилки поплыли перед моими глазами, и я услышал голос девушки:
— Вам сказали — раздеть, а вы что делаете?
Я не знал, который был час, когда открыл глаза. Горело электричество. Воздух в палатке был спёртый и жаркий. Вокруг стонали люди, но стоны эти как-то не доходили до моего сознания. Рядом со мной, на придвинутой вплотную койке, лежал человек, укрытый одеялом с головой. Он, видимо, спал. Его полусогнутая нога лежала на моей койке. Я осторожно попробовал отодвинуть ногу, но она упиралась в другую ногу, и я никак не мог её сдвинуть.
Подошла сестра, та самая, с широким полным лицом. Я спросил, как её зовут. Она улыбнулась спокойной улыбкой — такой, что не замечаешь, как она появляется и как исчезает, и ответила:
— Люба.
Она принесла мне яичницу из порошка и чай в белой кружке. Я попросил её помочь мне убрать ногу соседа с моей койки. Люба резко отодвинула ногу.
— Осторожно, ему же больно, — закричал я.
— Нет, — ответила Люба, — ему уже не больно.
Внезапно чай показался мне горьким. Я вернул Любе кружку и закрыл глаза. Я открыл их, потому что кто-то дотронулся до моих ног. Двое санитаров стояли около меня и явно смутились, когда я открыл глаза. Они потоптались на месте и, убедившись, что ошиблись, перешли к соседней койке. Один из них с трудом пролез к изголовью моего соседа и поднял его за плечи. Другой взял труп за ноги, и они вынесли его из палаты.
Рядом со мной оказалась пустая койка. Люба сменила на ней простыню и взбила подушку. Я попытался уснуть, но не мог.
Напротив меня лежал боец-татарин. Ему было лет сорок. Он был ранен в живот. У него было маленькое лицо и редкие усики. Иногда он начинал метаться на постели. Тогда к нему подходили санитар и Люба. Они брали его за плечи и за ноги и прижимали к постели. Татарин успокаивался и просил тонким, как писк комара, голоском: «Води, води!»…
Было, по-видимому, очень поздно. Но для меня это не имело никакого значения. С той минуты, как я очутился на этой койке, время потеряло всякий смысл. Мне захотелось допить тот сладкий чай, который я оставил в кружке. Люба принесла мне полкружки портвейна, хотя этого, кажется, не полагалось делать. Затем я начал изучать свою голову: кожа на правой стороне была чувствительной, но левая половина оставалась по-прежнему мертва.
Железная печь раскалилась докрасна. Жара стала нестерпимой, но приоткрыть полог у входа не удалось. Раненый рядом запротестовал, его знобило. Он был накрыт двумя шинелями поверх одеяла, но ему было холодно. Я сказал санитару, чтобы он покрыл его моим полушубком.
Раненого, лежащего через две койки от меня, всё время рвало. Кроме того, его мучила жажда. Он беспрестанно просил пить. Люба сказала мне, что у него началось воспаление брюшины.
…Утром палата, наполненная ярким светом, выглядела гораздо веселей, чем вечером. Место на койке рядом со мной было уже занято. На ней спал человек. Лица его не было видно, но слышалось тяжёлое дыхание.
Я лежал и думал о том, как скверно всё получилось. Я ни строчки не передал в газету. Танкиста Андрианова я уже, конечно, не увижу.
Мысль, что в редакции сидят без материала, не давала мне покоя. Вся надежда была на Венцеля.
Ко мне подошла Люба и спросила, как я спал.
— Отлично, — ответил я.
— Ну и хорошо, — улыбнулась она. — А это ваш новый сосед. Надеюсь, подружитесь. У него то же, что и у вас. Контузия, но более тяжёлая. Он только под утро пришёл в сознание.
— Где его контузило?
— Точно не знаю. Он танкист. Кажется, командир танка. Снаряд ударил в броню. Впрочем, я точно не знаю.
Люба ушла.
В маленьком окне в потолке виднелась еловая ветка. Освещённая солнцем, она казалась очень зелёной. Зелёный цвет действовал успокаивающе. Мне захотелось, чтобы всё вокруг было очень зелёное.
Человек на соседней койке застонал. В эту минуту вернулась Люба. Она подошла к койке, откинула одеяло, взяла руку больного и стала считать пульс, смотря на ручные часы. А я смотрел на лицо своего соседа. Мне казалось, что он улыбается во сне, а стонет за него кто-то другой.
— Шестьдесят два, — произнесла Люба вслух и закрыла раненого одеялом.
— Как его зовут? — спросил я.
Люба посмотрела в листок.
— Андрианов Николай Сергеевич. Лейтенант.
Я вздрогнул, услышав это имя. Вот где довелось нам встретиться! И тут же во мне заговорил журналист. «Если Андрианов чувствует себя мало-мальски прилично, — подумалось мне, — расспрошу его обо всём, здесь же, в госпитале, напишу о нём корреспонденцию, а затем попрошу любыми средствами передать её в газету».
В этот момент вошёл доктор. Он был без халата, в меховом жилете, перетянутом ремнями. Выслушав меня стетоскопом, он сказал: «Всё в порядке», — и хлопнул меня по спине ладонью. У доктора были холодные твёрдые руки.
— Отлично! — воскликнул он. — Ну-с, Люба, а как Андрианов?
— Он всё время спит, — ответила Люба. — Пульс шестьдесят два.
— Разбудим. — Доктор потормошил лейтенанта за плечо.
Андрианов открыл глаза. Я следил за выражением его лица. Сначала на нём отразилось удивление, потом он улыбнулся. Его нос стал ещё более курносым.
— Как дела, Андрианов? — громко спросил доктор.
Губы лейтенанта раскрылись, но все услышали только прерывистое мычание. Мне показалось, что для самого Андрианова это было неожиданностью. Улыбка исчезла с его лица. Он поднёс руку к глазам. Уголки его рта задрожали.
— Так, так… — протянул доктор и посмотрел на Любу.
— Ночью он разговаривал, — тихо сообщила Люба.
— Вы меня слышите, Андрианов? — громко спросил доктор.
Лейтенант быстро закивал головой. Доктор просунул руку под меховой жилет и вынул записную книжку с карандашом.
— Напишите, как вы себя чувствуете.
Андрианов схватил карандаш, книжку и что-то написал.
— Так, так, — вновь протянул доктор, — очень хорошо. А насчёт голоса — это не страшно, Андрианов. Это бывает часто при контузиях. Скоро всё будет в порядке.
Он улыбнулся. Андрианов тоже улыбнулся.
Доктор повернулся к Любе и что-то тихо сказал ей. Затем они пошли к столу.
Кто-то дотронулся до моего плеча. Это был Андрианов. Он промычал что-то и показал на рот.
— Ничего, — успокоил я его, — пройдёт. Это бывает очень часто. — Я заметил, что слово в слово повторяю доктора, и добавил: — Со мной то же было. А теперь вот прошло. И у тебя будет всё в порядке.
Андрианов растерянно пожал плечами, провёл пальцем по одеялу, будто пишет.
Люба подала карандаш и бумагу. Андрианов что-то написал и передал мне. Я прочёл:
— «Вот так штука у меня с голосом. Мычу, как корова. А вы из какой части?»
Я ответил и передал лейтенанту лист. Через минуту Андрианов вернул мне бумагу. Там было написано:
«А я из танковой части. Часть Горобца, слышали? Так я оттуда. Командир машины. Ещё вчера немцев утюжил. Ну и скука же тут! Ну ничего, пробьюсь».
Я рассмеялся. Андрианов смеялся вместе со мной, только беззвучно.
Подошёл доктор.
— Лежите спокойно, Андрианов, — приказал он. — Вам надо лежать спокойно.
Андрианов что-то написал и протянул лист доктору.
— Острить можете, — заметил доктор и улыбнулся, — но только тихо.
Лейтенант замычал и тоже улыбнулся. Потом я заснул. Когда я проснулся, в палате уже горело электричество. Люба разносила обед. Андрианов ел. Он посмотрел на меня, помахал ложкой и улыбнулся.
— Хорошо кормят? — спросил я.
Лейтенант замычал и тоже улыбнулся. Потом я заснул.
…Я проснулся ночью. Было тихо. Это были те редкие минуты, когда никто не стонал. Я увидел Любу. Она переходила от койки к койке, прислушиваясь к дыханию людей. Когда она подходила ко мне, я закрыл глаза. Потом я почувствовал, как её руки оправляют моё одеяло, взял её за руку и открыл глаза.
— А вы не спите, — тихо проговорила Люба и улыбнулась своей широкой улыбкой.
— Не сплю. А вы-то когда-нибудь спите?
Она тихонько высвободила свою руку.
— Моё дело такое. А вам положено спать. Спите!
— Не хочу, — ответил я. — Посидите немного со мной. Ведь вы уже всех обошли. Моя койка последняя.
Она послушно села.
— Трудно вам здесь? — спросил я.
— Всем трудно.
Она смотрела на меня своими спокойными полуприщуренными глазами.
— Сейчас бы в лес на лыжах, — сказал я, — а потом — к огню. Вы откуда сами?
— Из Луги я, — тихо ответила Люба.
— Что ж вы там делали, в Луге?
— Училась. В медицинском техникуме. Врачом думала быть.
— И муж есть?
— Был. Всё было. Ну, вам спать надо.
Она сделала движение, чтобы подняться, но я опять удержал её.
— Нет, вы посидите, — попросил я. — Значит, всё было: и муж и дом, а теперь — ничего… Так?
— Выходит, так.
— Трудная ваша жизнь. Живёте среди страданий и стонов… И покоя вам нет.
— А на что он мне нужен, покой? — возразила Люба, и ресницы её дрогнули.
— Как на что? Иначе не забудешь о том, что было.
— Нет, — покачала она головой, — тогда бы и жить не смогла. Они меня, раненые, в жизни поддерживают. Я вижу, как они за жизнь цепляются, и сама цепляюсь. Силы много надо, чтобы жить сейчас.
Она провела ладонью по одеялу. У неё были длинные, заострённые пальцы.
— Вот тут, на вашей койке, одна девушка лежала. Тоже с контузией. Только у неё потом шея не поворачивалась. Всё по палате бродила, медленно так, как ребёнок двухгодовалый. Ходила и всё песенку пела. Про патефончик.
— Знаю.
— А ночью кричала всё: «Раненого забыли!» Она санинструктором была. Ночами сильно буйствовала. А днём всё бродила… Потом зовёт как-то меня и говорит: «Дай карандаш с бумагой, Я стихи напишу». Я ей дала. Она и написала… Хотите, покажу?
Она подошла к своему столику и вернулась с листком бумаги.
— Вот прочитайте.
Я прочёл:
Страшная штука война, Можно сойти с ума. Но это не для меня — Я не сойду с ума. Страшная штука война, Но я поспорю с ней. Я буду жить для того, Чтобы спасать людей. Пусть мины свистят кругом, Пусть в ночь превратится день. Меня на испуг не возьмёшь, Я буду спасать людей…— Что ж, она вам подарила эти стихи? — спросил я.
— Нет. Умерла она. Паралич и всё такое. Я и взяла листок на память. Прочту стихи, и легче станет. Бывает ведь так.
Она посмотрела на меня, улыбнулась, и ресницы её снова дрогнули. Потом она погладила меня по руке и встала.
— Ну, вы спите, — сказала она, притворно-строго сдвинув брови, — спать надо. А то я доктору пожалуюсь.
Я лежал и старался припомнить стихи. В них была какая-то исступлённая настойчивость. Потом кто-то застонал… Я не помню, как я заснул.
…Когда я проснулся, Андрианов ещё спал. Люба перекинула полотенце через плечо и с тазиком в руках подошла к Андрианову.
— Будем умываться, — приветливо сказала Люба.
Но Андрианов продолжал спать. Тогда она тихонько потормошила его за плечи.
— Довольно спать, соня! — Люба протянула проснувшемуся Андрианову кусочек мыла.
Лейтенант не поднял руки.
— Держите же мыло, — сказала Люба.
Андрианов нерешительно поднял руку и пошевелил пальцами.
— Андрианов! — вскрикнула Люба, и голос её задрожал. — Вот же мыло!
Лейтенант растерянно улыбнулся и стал шарить руками по одеялу. Я видел, как дрожат руки Любы, держащие тазик, и как вода плещется через край.
— Вы… видите меня, Андрианов? — шёпотом спросила Люба.
Лейтенант отрицательно покачал головой и провёл рукой по глазам. Он ослеп.
Люба поставила тазик на пол и выбежала из палаты. Через несколько минут она вернулась с доктором.
— Вы меня видите, Андрианов? — деловито спросил доктор, подойдя к койке.
Лейтенант медленно покачал головой. Доктор наклонился и двумя пальцами приподнял веки Андрианова.
…Вечером у его постели был консилиум. А на другое утро Андрианов потерял слух. Теперь он лежал глухой, слепой и немой. Я наблюдал за ним часами. Чем больше ударов обрушивалось на него, тем шумливей и беспокойней он становился. Лейтенант кому-то улыбался, ёрзал на постели, показывал пальцами каких-то замысловатых зайчиков, что-то мычал, водил пальцами по ладони, изображая патефон; приставлял к глазам пальцы, сложенные в кружочки, — будто очки…
Под вечер он повернулся ко мне и промычал что-то, царапая пальцем по ладони. Я понял, что Андрианов хочет что-то написать, и вставил ему в пальцы правой руки карандаш, а в левую дал блокнот. Лейтенант черкнул что-то и протянул мне. Я прочёл. На листке было написано только одно слово: «Пробьюсь».
Я вырвал листок и положил себе под подушку.
На следующее утро, когда я проснулся и взглянул на Андрианова, мне показалось, что на его полуопущенных ресницах блестят слёзы. Я схватил руку Андрианова и крепко пожал её. Андрианов открыл свои невидящие глаза, задержал мою руку и поводил пальцами по ладони, будто пишет. Я понял, что это было то же самое слово, что и написанное им на листке.
Днём Андрианова разбил паралич. Теперь он лежал неподвижно, погружённый во мрак и тишину.
Мне было очень странно смотреть на его руки, на те самые руки, которые перед тем не знали ни минуты покоя, а теперь лежали беспомощно на толстом сером одеяле.
Пришёл доктор. Он потормошил Андрианова за плечо и спросил: «Ну как?» — хотя знал, что лейтенант глух.
К вечеру Андрианова эвакуировали.
Я посмотрел на его пустую кровать. Сейчас, когда Андрианова не было, он как бы стоял перед моими глазами. Немой, недвижимый, слепой, он всем обликом своим говорил мне больше, чем если бы имел дар речи, если бы смотрел на меня и жестикулировал. Я понял всё: и как он смог подбить три вражеских танка, и как он боролся со смертью.
Я вернулся из санбата в редакцию в воскресенье вечером. Шум «динамо» нашей электростанции был слышен ещё издалека, и мне стало приятно, что после долгих скитаний я возвращаюсь домой.
Я шагал по железнодорожному полотну и наблюдал, как серая стена нашего поезда с каждым шагом приближалась ко мне. Я влез на ступеньки вагона и открыл дверь.
В коридоре в полумраке тускло поблёскивало толстое стекло, прикрывающее юношу с поросёнком. Было тихо, если не считать шума «динамо»: в понедельник газета не выходила. Я прошёл по коридору и открыл дверь в своё купе. Оно было пустым. Полки Губина и Венцеля были застелены плащ-палатками. Очевидно, оба они уехали в командировку. Я снял ушанку, расстегнул полушубок и увидел письмо на столике у окна. Я хорошо знал этот почерк. Я не видел ничего, только эти буквы на конверте. Холодный, белый свет падал в окно. Мне показалось, что кто-то позвал меня оттуда, из пустоты. Я взял конверт в руки и прочёл адрес. На конверте было много адресов, перечёркнутых почтой. Письмо прошло большой путь. «Наконец-то! Наконец-то!» — стучало у меня в висках. Было страшно разорвать конверт. Я испытывал страх неизмеримо больший, чем тогда, в горловине или в блиндаже у танкистов. Я поднял голову, чтобы оторваться от этих букв на конверте и успокоиться.
Потом я разорвал конверт. На письме не было даты. Я начал читать. Письмо было ответом на одно из моих ранних бесчисленных писем.
Когда-то я спрашивал Лиду, не страшно ли ей в Ленинграде.
«…Я теперь как-то не совсем различаю, — писала она, — что страшно, а что не очень. Наверно, очень страшно было неделю жить один на один со своей умершей матерью, варить у её ног на буржуйке похлёбку из 30 граммов муки и с тупой жадностью тут же поедать её.
Наверно, страшно потерять единственного ребёнка…
Тогда мне страшно не было. А сейчас я просто уже не понимаю, что страшно, а что нет…»
Дальше она писала, что ещё живёт на старой квартире, совсем возле передовой, и что написала мне несколько писем и опустила их в ящик, но думает, что я их не получил, так как в городе почти нет почтальонов.
Я перечитал письмо два раза. Я сидел, как вошёл, в полушубке. На моих валенках таял снег, и в купе образовалась лужа. Мне казалось, что всё передо мной вытянулось в одну стремительную, куда-то уходящую линию. Я думал о том, что это письмо написано давно и что сейчас её, может быть, уже нет в живых. Может быть, сейчас, когда я читаю это письмо, она уже лежит мёртвая. А за городом взрывают землю для братской могилы. Мне показалось, что я слышу взрыв. Я прислушался. Это била тяжёлая артиллерия, и звуки выстрелов доносились до нашего поезда.
Я стал думать, что всё это неправда, что она жива и что я непременно увижу её. Почему она должна обязательно умереть? Не могут же там все умереть. Она выживет. Мне показалось, что я в Ленинграде и она рядом со мной. Мы любуемся городом в белую ночь и спорим, сколько же колонн у Исаакия. Мы всегда спорили об этом, когда смотрели в окно, и я всегда забывал сосчитать колонны, когда проходил мимо собора. Потом она стала исчезать, расплываться в белесом тумане, и я уже не мог представить себе её такой, какой знал всегда.
…Утром меня вызвал редактор.
— Здоров, Савин? — спросил он. — Тогда собирайся. Поедешь в Ленинград. Корреспондентом. Ясно?
В тот день я не мог писать, не мог говорить и только ходил взад и вперёд по узкому коридору вагона. Я нашагал, наверно, несколько километров. Я представлял себе, как войду в город, как сяду в трамвай и через каких-нибудь полчаса увижу Лиду. Я знал, что мне предстоит большая работа в Ленинграде. Но я знал, что выполню всё что угодно, если найду её.
— Ну вот видишь, как получилось, — сказал Венцель. — Я ж говорил, что будет письмо. Ты всегда меня слушай. Теперь ты с ней встретишься. А я вот своего Лёньку не скоро увижу…
На другой день я поехал в политуправление за командировкой и в поезд вернулся вечером.
Ночью мне предстояло выехать. Я стал укладывать вещи. Двигался точно в полусне. Неожиданность была слишком велика. Я всё ещё не мог прийти в себя. Весь вечер в поезд приходили люди. Многих из них я видел впервые. Каждый приносил свёртки и говорил, что у него в Ленинграде жена, мать или дочь. Я брал посылки и складывал их в углу дивана. Их скопилось очень много, но не хватало сил отказаться взять посылку в Ленинград.
Я должен был выехать в двенадцать часов ночи, доехать до Н-ской станции, оттуда добраться на попутной машине за сто километров, в район авиационного базирования, и там сесть на самолёт.
Вечером мы собрались в нашем купе. Губин достал водку. Но мне пить не хотелось. Это был первый случай, когда я отказался выпить на фронте. Мне хотелось сохранить ясность мыслей. Сейчас мне не нужна была водка. Я слушал, как булькает жидкость, наливаемая в жестяные кружки. Губин что-то говорил, и Венцель что-то отвечал ему, но я не улавливал, о чём они говорили.
— Ты смотри не забывай нас в Ленинграде, — сказал Венцель и дотронулся до моего колена.
— И узнай, пожалуйста, про моих друзей… И пишут ли там сейчас стихи, — добавил Губин.
Я ответил, что никого не забуду и напишу насчёт стихов.
— Вот ты и едешь! — проговорил Венцель.
— Да, — ответил я, — вот и еду…
Я встал, надел полушубок и стал поднимать свои мешки.
— Куда же ты пойдёшь за полтора часа? — удивился Венцель.
— Пусть идёт, — сказал Губин. — Я его понимаю, пусть он идёт.
Я пожал им руки, вышел из вагона и пошёл по железнодорожному полотну к станции.
Было очень странно идти к станции. Мы никогда не ходили туда. Мы обходили полуразбитое здание вокзала и сразу выходили на автотрассу. Поезда приходили и уходили обычно ночью. Я давно уже не видел настоящего поезда. Наша редакция перестала быть для нас поездом, то есть тем, что неразрывно связано с движением и станциями.
По путям сновали люди с фонарями, прикрывая свет полами полушубков. На платформах стояли орудия. Чехлы с них были сдёрнуты, и орудийные жерла смотрели в небо. Где-то в темноте тарахтел тягач. Гудели автомашины. Орудия одно за другим медленно съезжали с платформ по приставленным мосткам.
Комендант станции помещался в землянке. Когда я вошёл, он разговаривал по телефону. Я попросил разрешения отдохнуть немного — мешки были очень тяжёлые.
В землянку поминутно входили люди. Они спрашивали, кричали и требовали. Чувствовалось, что там, наверху, идёт лихорадочная работа. Комендант сказал мне:
— Так вот каждую ночь творится. Теперь для нас ночь — самый день. А к утру все утихомирятся. Тогда и поспать можно.
Я отдохнул немного, взял свои мешки и попрощался с комендантом.
— А куда это вы собрались? — спросил он, когда я жал ему руку.
— В Ленинград, — ответил я.
— В Ленинград… — протянул комендант не то удивлённо, не то восхищённо. — Ну, желаю вам, желаю… — И он потряс мою руку. — Вагоны уже на путях, вы прямо и садитесь.
Выбравшись из землянки, я пошёл вдоль линии отыскивать мои вагоны и нашёл их в тупике: три классных вагона дачного типа. Я залез в третий вагон. Там было уже полно народу. Сидели и лежали на нижних, верхних и багажных полках. Где-то в середине купе горел свет. Я протиснулся туда. На столике у окна лежал громадный кусок стеарина. Его прорезала нитка, и эта огромная свеча горела ровным, немигающим светом.
На скамье, с краю, сидел пожилой боец. Он держал между коленями котелок с водой и размешивал в нём какой-то концентрат. Над котелком вился пар. Боец подвинулся, и я присел рядом. Мешки с трудом засунул под скамейку.
— Ты что же с такими мешками путешествуешь? — спросил он меня.
— Своя ноша не тянет, — ответил я.
— Это так, — согласился пожилой боец, — а только солдату лишние вещи — обуза.
— Далеко еду, вот и вещей много, — отозвался я.
— Отвоевался, что ли? — спросил боец. — В тыл?
Я знал элементарное правило фронта — не говорить попусту, куда едешь, но всё же сказал:
— В Ленинград.
— В Ленинград! — Боец перестал мешать кашу, разжал ноги и поставил котелок на пол. — Н-нда-а…
— Как же туда ездят теперь, в Питер? — спросил кто-то с верхней полки.
— Самолётом или через Ладогу, — ответил я.
— Во куда немца допустили… — прозвучал голос сверху.
— Кто допустил? — оборвал его хриплый, простуженный бас тоже сверху. — Ты и допустил!
— Может, и я, — беззлобно согласился первый. — Я допустил, я и вышибать буду.
— Вышибало! — ответил ему тот, сверху.
— А я там жил… — мечтательно произнёс пожилой боец. — Цельных три года прожил… Какой город… Ленинград…
— А у меня жена там, — вздохнул боец, сидящий в углу у окна. — Более месяца ничего не имею. Последний раз писала, что кошку съели… Эх-х!..
Я молчал. Я думал о том, что сказал только одно слово — «Ленинград» — и не было около меня человека, который как-нибудь не отозвался бы на это слово.
Внезапно вагон толкнуло, — очевидно, прицепили паровоз. И мы поехали.
— Вы ложитесь, товарищ, — предложил боец, вставая, — дорога ваша дальняя. Отдохните.
Я поблагодарил, но спать мне не хотелось. Я протиснулся к окну. За окном была ночь, и снег казался сероватым. Я постоял немного у окна и вернулся на своё место. Только поздно ночью меня сморил сон, и я уснул, опустив голову на плечо пожилого бойца.
Под утро поезд остановился на вокзале маленького городка. Я там уже бывал однажды. Этот городок произвёл на меня впечатление чего-то далёкого и мирного. Его ни разу не бомбили. Я уже отвык от таких мест. Я шёл по тихим, занесённым снегом уличкам и смотрел на целые стёкла в окнах. Здесь не было разрушенных домов, не было труб, одиноко торчащих из кучи камня и чёрного, опалённого снега. Не было всего того, к чему я уже привык. На окнах висели занавески, и ребята катались на коньках по пруду, и по улице шла женщина с вёдрами на коромысле. На заборе висела афиша Театра оперетты. Рядом висела другая — о танцах после концерта в клубе маслозавода.
Хорошо, что я попал в этот городок утром: ночью затемнённые, слепые окна напоминали бы мне о войне. Сейчас городок казался оазисом в бескрайней пустыне…
Я медленно шёл по улице к тому перекрёстку, где был контрольно-пропускной пункт и где я должен был ловить попутную машину. Шёл, часто останавливаясь: было очень трудно тащить мешки.
Начальник КПП — старший лейтенант — долго проверял мои документы. Потом он улыбнулся и сказал:
— В разные места людей пропускал, а вот в Ленинград — давно не приходилось. Вы пойдите, товарищ командир, вон в тот дом, отдохните. А я вас на первую машину посажу.
Я пошёл в дом и только успел снять мешки и полушубок, как прибежал боец: попутная машина ждала меня.
Когда я забрался в кузов, на тюки с обмундированием, и машина тронулась, старший лейтенант крикнул мне:
— Привет там Ленинграду!
В район авиационного базирования я приехал к ночи. С трудом устроился на ночёвку. В деревне, где помещался штаб, всё было переполнено. Пришлось долго путешествовать со своими мешками от дома к дому. Обошёл домов восемь, прежде чем нашёл место для ночлега. Хозяева положили меня в маленькой кухоньке на короткой и узкой скамейке. Я так устал и промёрз, что заснул тотчас же, как лёг.
Утром пошёл к начальству. Майор встретил меня довольно приветливо, но сказал, что, к сожалению, мало что может сделать, так как самолёты, совершающие рейсы в Ленинград, находятся в ведении гражданской авиации. Правда, их штаб расположен на территории его района, но с непосредственным подчинением Москве. Словом, мне надо пойти поговорить в штабе, а если ничего из этого не выйдет, то тогда майор попробует помочь.
Я пошёл в штаб гражданской авиации, но и там меня ждало разочарование. Сказали, что самолёты в Ленинград идут из Москвы переполненными продовольствием и часто вообще не приземляются здесь.
Пожалуй, только журналисту знакомо то особое ощущение тревоги, нетерпения и сокрушённости, которое приходит тогда, когда тебе надо, необходимо попасть на место событий, а ты не можешь туда попасть. Тебе надо, надо, надо быть там, а ты стоишь на вокзале — и поездов нет, и ты стоишь у дороги, а попутных машин нет, и ты сидишь в машине, но она не может проехать, потому что дорога раскисла и по ней даже вездеходу не пройти… И тебе горько, очень горько. Тебе кажется, что ты уже опоздал, безнадёжно опоздал и тысячи, десятки, сотни тысяч людей не узнают о тех событиях только из-за тебя, из-за того, что ты опоздал. И хочется идти, бежать по шпалам или по дороге или месить непролазную грязь на трассе, но только двигаться, двигаться, приближаться к цели.
Сейчас я испытывал это чувство острее, чем когда бы то ни было, потому, что без самолёта не мог и на метр приблизиться к цели, и потому, что целью этой был Ленинград, сражающийся Ленинград, о котором так много хотели узнать бойцы моего фронта. И ещё потому, что там жила она…
Я снова пошёл к майору. Он посоветовал мне идти домой и позвонить ему утром из штаба.
Я вернулся «домой». В домике, кроме хозяев, жила семья, эвакуированная из Ленинграда: мать и дочь.
Когда я пил чай, в кухню вошла мать — женщина лет пятидесяти, с худым жёлтым лицом и седыми волосами.
— Вы извините, — сказала она, — я слышала, вы — в Ленинград? — Она села возле меня, положив на стол тонкие руки. — А я уже два месяца как оттуда. И всё места себе не нахожу… Так бы и пошла пешком обратно…
Потом пришла её дочь, маленькая женщина с кукольным, удивлённым лицом. Обе они наперебой рассказывали мне о пережитом.
Я спросил, почему же они тогда так рвутся в Ленинград.
— Ну, — ответила мать, — ведь это же наш город…
Потом я сидел у окна и смотрел на пролетающие самолёты. Мне казалось, что все они летят в Ленинград. Я думал о том, что мог бы быть в одном из них, и тогда через полтора часа я был бы уже в Ленинграде.
Я снова отправился в штаб гражданской авиации. Но там мне повторили то, что я уже слышал утром. Я бесцельно побродил по деревне, вернулся засветло и рано лёг спать.
Утром позвонил майору. Он ответил, что говорил обо мне в штабе, но там не знают, когда будет самолёт.
Я не пошёл больше в штаб, а направился прямо на аэродром, чтобы узнать, не ожидают ли самолёта.
На площадке аэродрома было пустынно, и, только приглядевшись, я увидел боевые машины, замаскированные хвоей.
Я спустился в землянку оперативного дежурного.
Он не сказал мне ничего утешительного. Вчера самолётов не было, а будут ли сегодня — неизвестно.
В это время я услышал нарастающий гул. Я выбежал из землянки и увидел три самолёта, снижающиеся над аэродромом. Через несколько минут самолёты сели, и три лётчика направились к землянке.
— Куда? — спросил я стартёра.
— На Питер, — ответил тот. — Вот подзаправятся и полетят.
Я спустился в землянку. Лётчики в меховых комбинезонах сидели на нарах и курили. Через каких-нибудь двадцать — тридцать минут они улетят. Я обратился к ближайшему лётчику, курившему папиросу. Но он замотал головой, как только узнал, в чём дело. Нет, нет. Он не может. Самолёты перегружены. Он не может взять ни одного человека. Второй лётчик также отрицательно покачал головой.
Третий, тот, что курил трубку, поднялся и вышел из землянки. Я пошёл за ним. Лётчик шёл большими шагами. На нём были собачьи унты. Я догнал его у самолёта.
— Послушайте, — попросил я его. — Я корреспондент, и у меня ответственное задание…
— Я это слышал, — произнёс лётчик, не вынимая трубки изо рта. Он сказал это так равнодушно, что я готов был его ударить.
— Но вы не слышали другого, — в отчаянии почти крикнул я. — У меня в Ленинграде… человек!.. жена… может быть, она уже умерла. — Я закусил губы. Мне было трудно говорить.
Лётчик вынул трубку изо рта и внимательно посмотрел на меня. Потом он сказал:
— Садитесь.
Я побежал к самолёту, но, уже ухватившись за поручни лесенки, вспомнил, что мои вещи и посылки в деревне. Всё рушилось. Я побежал к лётчику и рассказал ему, в чём дело.
— У вас есть тридцать минут, — предупредил он.
Я бросился в деревню. Задыхался. Знал, что не успею. Услышал сзади сигнал и обернулся — шла машина. Встав посреди дороги, остановил её. Вскочил в кабину, и мы поехали. Я сказал шофёру, что он должен отвезти меня обратно с вещами. Тот согласился. Если бы он не согласился, мне кажется, я заставил бы его любыми средствами…
Когда мы возвратились на аэродром, моторы «дугласов» уже ревели. Я бросился к крайнему самолёту. Лётчик с трубкой в зубах стоял у лестницы. Один «Дуглас» был уже в воздухе, а другой только что оторвался от земли. Шофёр помог мне втащить мешки. Когда я уже собрался шагнуть в кабину, лётчик наклонился к моему уху и сказал:
— Я ждал вас лишних две минуты.
Я пожал ему руку…
В кабине по обе стороны, на длинных скамьях, сидело человек пятнадцать военных. В проходе стояли ящики. В центре — лесенка, уходившая под слюдяной колпак. В колпаке был укреплён пулемёт и под ним сиденье для пулемётчика. По бокам, на скамьях, тоже стояло по пулемёту. Лётчик влез в самолёт следом за мной, на ходу выколачивая трубку, втянул лесенку, захлопнул дверь и прошёл в кабину. Затем моторы заревели сильнее, и самолёт покатился по полю. Пулемётчик полез в колпак и уселся на своём сиденье. Его ноги, обутые в унты, свешивались вниз. Я смотрел в окно и видел, как неслось мимо нас снежное поле и как мы отделялись от него, сначала едва-едва, а потом снег остался далеко внизу.
Я посмотрел на часы. Теперь каждая минута приближала меня к Ленинграду на три-четыре километра. Мне хотелось перевести стрелки часов сразу на полтора часа. Через полтора часа я должен приземлиться в Ленинграде, если всё будет благополучно. Я был уверен, что так и будет. Из окна кабины я видел, как из-за огромного крыла самолёта появляются иногда два истребителя. Мы шли под прикрытием четырёх «мигов».
Теперь мы летели над Ладогой — «дорогой жизни» Ленинграда. Небо было чистое. Облака виднелись только у горизонта. Мы шли так низко, что я ясно видел колонны автомашин внизу и зенитки, расставленные на трассе. Лёд был настолько близко, что мне казалось — мы не летим, а мчимся по льду.
В стороне от трассы я увидел внезапно взметнувшийся фонтан снежной пыли и снега, ставшего вдруг чёрным. Это била по трассе немецкая артиллерия. Через несколько минут мы миновали Ладогу, и самолёт поднялся выше. Мы пробыли в воздухе больше часа и теперь летели над деревянными строениями. Истребители уже не прикрывали нас, они повернули обратно. Я не заметил, когда самолёт пошёл на снижение. Посмотрел в окно, когда мы уже шли над аэродромом, и увидел стартера с флажком в руке.
Мы были в Ленинграде.
Я вышел из самолёта первым. Ещё не успели подставить лесенку, как я выпрыгнул. Кто-то бросил мне мешки. Я связал их, взвалил на плечо и пошёл по снежному полю аэродрома. Стартер махнул мне флажком, когда я проходил мимо, и крикнул:
— Ну, как там, на Большой земле?!
Я махнул ему рукой:
— Ничего, воюют.
— Подождите, — крикнул стартер, — сейчас в город пойдёт машина.
Вскоре я увидел машину. Она неслась по дороге, и я уже слышал, как позвякивают цепи на колёсах.
Это была полуторка. Она остановилась метрах в десяти от меня. Я не успел поднять даже рук, как шофёр, высунувшись в разбитое окно кабины, крикнул:
— Ну, давайте быстрее!
Я схватил мешки и, волоча их по снегу, побежал к машине. В кузове сидело несколько лётчиков в меховых комбинезонах. Один из них помог мне влезть. Мы ехали несколько километров по равнине, потом мимо нас промелькнули разбитые деревянные строения; в одном из них я с трудом узнал павильон автобусной станции. Мы проехали ещё несколько километров, и я увидел трамваи, стоящие на кругу. Я постучал по верху кабины, машина остановилась. Я вылез и пошёл к трамваям.
Уже темнело, и, только подойдя к вагонам, я понял, что напрасно торопился. Трамваи стояли здесь очень давно и совсем не собирались отправляться. Стёкла вагонов были выбиты, на ручках и на верёвке, прикреплённой к бугелю, серебрился иней, и рельсы были глубоко занесены снегом. Но я всё-таки рассмотрел, что это девятый номер. Когда-то он проходил через самую оживлённую часть города.
Я опустил мешки в снег, присел на трамвайную подножку и горько пожалел, что слишком рано вылез из машины. Быстро стемнело. До города оставалось километра два. Где-то била зенитная артиллерия, но звуки выстрелов были не такие, как в поле, а сливались в сплошной рокочущий гул.
Ленинград лежал передо мной холодный и суровый. Крыши домов и купола казались вылепленными из снега, и над ними медленно скользили лучи прожекторов.
Я встал, взвалил мешки на плечи и пошёл в город. Мне очень хотелось встретить кого-нибудь и спросить, далеко ли до центра. Так бывает на лесных фронтовых дорогах: идёшь и знаешь, что до части столько-то километров, а всё равно хочешь кого-нибудь встретить и спросить, чтобы просто услышать человеческий голос.
Стало совсем темно. Я долго шёл по безлюдным улицам. Зенитки умолкли, и послышался беспрерывный равномерный стук, будто в каждом доме сидел дятел. Потом выяснилось, что это метроном, включённый на радио. Наверно, это имело какое-то условное значение. Позже я узнал, что равномерный, медленный ритм метронома сменялся учащённым в моменты воздушных тревог или обстрелов.
Я долго шёл. С трудом узнавал улицы. Они все были пустынные, заснеженные, безмолвные… Я не заметил, когда кончился Литейный, и оказался на углу Невского.
Последний раз я был тут год назад. Ночью на этой улице было светло, как днём. Сияли два ряда молочно-белых фонарей, окна домов, фары машин, и можно было читать газету. Сейчас только яркие звёзды мерцали в далёком и холодном небе.
Я всматривался в дома, мне хотелось перекинуть хоть маленький мостик в прошлое, в светлый и шумный мир, потонувший сейчас в снегах и мраке. Я вспомнил, что здесь, на углу, стоял киоск справочного бюро, где мы с Лидой однажды заказывали справку.
Перешёл через дорогу. Киоск стоял, маленький и остроконечный, как часовня. Стёкла были выбиты, и окна напоминали пустые глазные впадины…
В редакцию фронтовой ленинградской газеты я пришёл, изнемогая от усталости.
Меня провели в кабинет редактора. В огромной, уставленной громоздкой мебелью комнате за большим столом сидел седой худощавый человек. На столе горела лампа-молния. В углу топилась железная печь.
Я представился и рассказал о своём поручении. Редактор спросил меня, где я устроился. Я ответил, что пришёл прямо с аэродрома.
— Идите-ка в «Асторию». Там хоть холодновато, но жить можно, — сказал он. — Прямо туда и валяйте. А утром приходите, поговорим подробно.
Я вышел в коридор вместе с редактором.
— Что это? — спросил он, увидя мои мешки.
— Посылки, — ответил я, — прямо не знаю, как их доставить.
— С посылками медлить нельзя, — заметил редактор, — здесь каждый час дорог. Оставьте-ка адреса, утром машина повезёт газеты и доставит ваши посылки.
Я отдал ему листок с адресами.
До гостиницы «Астория» было совсем близко. Огромное здание из серого камня выглядело мрачно. Витрины были доверху засыпаны песком и забиты досками. В темноте громоздился Исаакий. «Ну вот, — подумал я, — круг и замкнулся. Вот из этого окна мы смотрели на собор. Вот тут, на площади, сейчас заваленной сугробами, когда-то зеленел сквер…»
Я протиснулся в узкий проход, оставшийся от двери, забитой досками. На меня пахнуло холодом и сыростью. Я огляделся. Где-то вдали, как лампада, горела коптилка. Я подошёл к огню. В нише, за столом, сидела женщина. Она была в шубе с поднятым воротником и повязана платком так, что лица её не было видно. Мне показалось странным спросить обычное: «Есть ли номера?» — и я спросил, можно ли мне устроиться недельки на две. Женщина отвечала медленно и устало, и голос её, доносившийся из глубины шубы и платков, звучал тускло и глухо.
Мне дали комнату на втором этаже. В темноте, ощупью, пробрался на второй этаж. В дали коридора показалась красноватая точка, и я услышал гулкие шаги по каменному полу. Скоро я поравнялся с высоким человеком в шубе внакидку. Он помог найти мой номер и быстро пошёл по коридору, прикрывая огонь ладонью.
Я открыл дверь, чиркнул спичкой и зажёг коптилку. Язычок коптящего пламени почти не давал света. Всё же я различил, что стою в большой комнате, и увидел двуспальную деревянную кровать. Это было почти всё, что мне хотелось сейчас увидеть. Я сел в кресло, стоящее у столика, и вынул из кармана маленькую фотографию. Поставил карточку на стол, прислонив её к чернильнице. При свете коптилки родное лицо казалось чужим. Потом подошёл к кровати. Одеяло и подушки были холодные и сырые. Стал раздеваться, коченея от холода, залез под одеяло и сверху укрылся полушубком.
Но спать не мог. Лежал и думал о том, как медленно тянется ночь, и о том, что когда-нибудь настанет утро и я пойду туда, за Нарвскую заставу. Было совершенно тихо, и казалось, что только один я живу в этом здании, огромном, как собор, и холодном, как колодец.
Потом мне послышались звуки рояля. Я подумал, что это галлюцинация, но всё же приподнялся и прислушался. Сомнений быть не могло, это был рояль. Играли где-то далеко, и в абсолютной тишине звуки доносились до меня тихими и прозрачными, как кристалл. Это был лейтмотив Шестой симфонии Чайковского. Было страшно лежать в этом холодном здании, во мраке, тишине и холоде, и слушать самое трагичное, что когда-либо было создано композитором.
Эта симфония повергала меня в смятение и тогда, в те далёкие времена, когда горели огни и люди жили по-настоящему. Я попытался вспомнить, когда я слышал её в последний раз, и стал перебирать события моей предвоенной жизни, но потом всё это ушло куда-то вглубь, и только рояль звучал, и мне казалось, что это я сам играю; я ощущал холод от прикосновения пальцев к клавишам, и аккорды звучали у меня в ушах; а потом уже не стало ничего — ни звука, ни клавишей, а было ощущение чего-то огромного, громоздящегося в ночи, как Исаакий… Затем начали бить зенитки, сначала далеко и глухо, как морской прибой, а затем близко, как удары в барабан. Потом я заснул, а когда проснулся, мне захотелось снова услышать рояль, но было тихо, совсем тихо и холодно — так, как не бывает даже на улице, а только в больших и высоких домах, где много мрамора и металла.
Потом я подумал, что, перелетев Ладогу, я попал в грозный и пока ещё не понятный мне мир, где стреляют зенитки, медленно бродят люди и по ночам слышатся звуки Шестой симфонии. Впервые я ясно ощутил, что ни одна минута, проведённая мною в Ленинграде, не принадлежит мне лично. Ни одного впечатления, ни одного факта не смел я утаить от пославших меня людей, людей, от которых зависит судьба таких, как Лида.
В эти минуты я испытывал чувство гордости, такое сильное, острое, какого не испытывал никогда. Я был горд честью, которая выпала на мою долю, доверием, которое мне оказали люди, пославшие меня сюда, на один из важнейших участков великой битвы.
Я встал, зажёг коптилку, достал лист бумаги и карандаш из полевой сумки и написал заголовок моей первой корреспонденции:
«Самолёт приземлился в Ленинграде…»
Холодный зимний свет падал в окно. Я быстро оделся и вышел на улицу. Дул резкий ветер. Исаакий был покрыт огромной снеговой шапкой. Я решил до всяких дел пойти туда, за Нарвскую заставу. Пошёл по направлению к Невскому. Проходя по улице Гоголя, увидел мемориальную доску на стене одного из домов. Там было написано: «В этом доме жил и скончался Пётр Ильич Чайковский 25 октября 1893 года».
Навстречу мне двигалась женщина. Я не различал её шагов. Они были настолько мелки, что казалось, женщина медленно плывёт по снегу. Теперь я видел, что она что-то тащит за собой. Я не сразу понял, что это. Женщина тащила за собой доску, к которой был привязан длинный, похожий на спелёнатую мумию, свёрток. Я поравнялся с женщиной и пошёл медленнее. Она даже не взглянула на меня. Она смотрела вперёд — сквозь меня, сквозь дома. Казалось, что она видит что-то впереди, скрытое от меня. Я посмотрел ей вслед и пошёл вперёд, а когда обернулся, свёртка уже не было видно, и женщина, как серая тень, на фоне сугробов медленно плыла в предрассветную мглу.
Я вышел на Невский. Утром он выглядел ещё более безлюдным. Мне показалось, что я читаю какую-то фантастическую книгу о последнем дне мира, о том, как в результате космического похолодания прекратилась жизнь на земле и города стоят вымершие, заносимые снегом.
В центре следы разрушений не очень бросались в глаза. На Невском надо было присматриваться, чтобы увидеть разбитый дом. Но чем дальше удалялся я от центра, тем больше встречалось домов с развороченными стенами и зияющими провалами лестничных клеток. На улицах стояли троллейбусы. Занесённые снегом, они были похожи на суда, затёртые льдами.
Окна подвалов и полуподвалов были заколочены досками или заложены кирпичом с маленькой амбразурой посредине. Ко многим домам, как наросты, приросли неуклюжие сооружения, похожие на утюг, тоже с амбразурами посредине.
Изредка мне встречались люди. Они шли медленно, с трудом передвигая ноги. Я всматривался в их лица и у многих встречал тот же взгляд, который поразил меня при утренней встрече: устремлённые вперёд глаза, казалось проникающие сквозь снега и камень. Я несколько раз собирался остановить первого встречного и заговорить с ним. И в самую последнюю минуту язык мой прилипал к гортани. Мне почему-то казалось стыдным выводить этих людей из молчания, и я боялся, что мы не поймём друг друга.
Часа через два я добрался до Нарвской заставы. Занесённое снегом шоссе было перерезано шлагбаумом, и по обеим сторонам узкого прохода стояли часовые с автоматами на груди. Я предъявил документы и вышел за шлагбаум.
Раньше я хорошо знал этот пригородный район. В предвоенные годы он сильно разросся. Сейчас это была равнина с горбами занесённых снегом дзотов, с редкими трубами, чудом уцелевшими от снарядов, одиноко торчащими прямо из снега. Снег кругом был в чёрных пятнах — следах артиллерийских разрывов. Заиндевевшие трамвайные рельсы, выгнутые в скобы, торчали над снегом. Справа высилась баррикада из трамваев, изрешечённых осколками. Трамваи стояли, засыпанные песком, их окна были превращены в бойницы. По обеим сторонам дороги тянулись маскировочные сети.
Тот дом я увидел издалека. Он стоял среди таких же, похожих друг на друга, домов. Я не узнал его, но угадал, почувствовал. Его стены были разворочены снарядами, балконы снесены. В провалах виднелись лестничные пролёты. На крыше был сорван — очевидно, снарядом — большой лист железа, и он, перегнутый пополам, раскачивался на ветру, похожий на огромное воронье крыло.
Мне стало страшно. Страшно потому, что я только сейчас понял, насколько бессмысленно было пытаться отыскать её здесь, на поле боя…
И всё-таки я шёл и шёл и как будто бы ждал чуда, — но чуда не совершилось, и полуразбитый, обледенелый дом стоял передо мной, и воронье крыло билось на холодном ветру…
Я пошёл медленнее. Теперь мне хотелось, чтобы расстояние между мной и домом не сокращалось. Я шёл к дому, потому что не мог не идти, потому что он притягивал меня, но мне было страшно знать, что через несколько минут я вплотную подойду к этой могиле из холодного камня и снега.
Я стал думать о том, что, может быть, в доме ещё есть кто-нибудь из прежних жителей и я смогу разузнать о ней.
Минуя надолбы и баррикады, я подошёл к дому. Вблизи он казался огромным. Я различал трещины на кирпиче и видел край комода, высунувшийся из провала в стене. Вот тут была дверь, в которую я входил так часто. Тут был асфальт. Подходя к дому, Лида ускоряла шаг и шла впереди. Вот здесь она останавливалась и искала ключ в сумочке… Я вошёл в провал. На лестнице не хватало многих ступеней. Там, где не хватало нескольких ступеней подряд, их заменяла перекинутая доска. Я стал медленно подниматься.
Над лестницей тянулись провода. У окон на лестничных площадках сидели невидимые снаружи бойцы, припав к пулемётам. Внизу, в подвале, чуть слышно всхлипывала гармошка и высокий женский голос пел песню. Мне было приятно слышать женский голос и мирную песню. От этого становилось теплее. Я поднимался всё выше и выше. Наконец я дошёл до четвёртого этажа. На этой лестничной площадке мы обычно останавливались, чтобы взглянуть на Финский залив. Потом она открывала дверь…
Теперь двери не было. Я вошёл в комнату и осмотрелся. Я не мог обнаружить ни одной детали, напоминавшей мне о прошлом. Ничто не говорило мне о том, что вот здесь стоял низкий плюшевый диван с подушками, которые она сама вышивала, а здесь — письменный стол с моей фотографической карточкой… Потом я подумал, что вон там, у стены, лежала её умершая мать, и за дверью — ребёнок, и она ходила от одного трупа к другому и плакала, стоя на лестничной площадке, если ещё не разучилась плакать… Потом пеленала мать и привязывала к доске и шла так, как шла та женщина, — мелкими шажками, точно плыла…
У окна, замаскированного так, что снаружи оно совершенно сливалось со стеной, сидел спиной ко мне боец. Перед ним была стереотруба, справа висели телефон, таблицы и карты. Я очнулся от воспоминаний, услышав, как боец говорит в телефонную трубку:
— Послушайте, пожалуйста… Опять правее трубы стреляют… Те же данные, пожалуйста… Прошу дать огонь…
Он замолк и припал к окуляру. И через секунду я услышал пушечный выстрел, а затем разрыв. В это время вошёл второй боец и сменил первого у трубы. Тот нехотя оторвался от окуляра, повернулся, заметил меня и, взглянув на петлицы, отрапортовал:
— Гвардии старшина Каирбеков. Кто вы такой, прошу сказать.
Я улыбнулся его манере выражаться и предъявил документы. Воспоминания кончились. Начинался рабочий день.
— Военный корреспондент будете! Очень хорошо! Беседовать будете? — спросил он.
Но мне сейчас не хотелось ни о чём беседовать. Мне хотелось постоять ещё немного в этой комнате, в которой раньше заключалось для меня так много, и уйти, чтобы никогда больше не возвращаться.
Но Каирбеков уже отвечал за меня:
— Конечно, будете беседовать! Вот ящик, садитесь, пожалуйста… Только лучше не садитесь. Мы сейчас вниз пойдём. Там, в дзоте, мой друг сидит. Тоже нерусской национальности… Казах. Мухтар зовут. Очень интересный человек. Пойдём, пожалуйста.
Каирбеков уже вышел на лестницу, очевидно не представляя себе, что я могу не пойти за ним. И я действительно пошёл. Через несколько минут мы остановились у двери.
— Войдём, пожалуйста, — предложил Каирбеков, ныряя под мокрый полог.
Я полез за ним.
В маленькой кабине у амбразуры сидел спиной ко мне боец. Другой, зажав между ног котелок, хлебал деревянной ложкой дымящийся суп.
— Прошу познакомиться, — сказал Каирбеков, — мой друг Мухтар. — Он добавил несколько слов по-казахски и два по-русски: — Военный корреспондент.
Мухтар поставил котелок на стол и встал.
— Гвардии ефрейтор Тажибаев, — отрапортовал он по форме и, застенчиво улыбнувшись, спросил, не хочу ли я есть. Мне было стыдно признаться, но в этот момент я почувствовал, что здорово хочу есть. То, что я не ответил сразу, Каирбеков, видимо, принял за согласие, тут же вытащил из кармана ложку, обтёр её куском газеты и подал мне.
— Сначала будем есть, потом беседовать, — сказал Тажибаев.
Второй боец так ни разу и не обернулся. Он припал к амбразуре у пулемёта. Я видел только его широкую спину. На стене над амбразурой висел пёстрый женский шарф. Над ним крест-накрест были приклеены две еловые ветки.
Мне не хотелось спрашивать, как попал сюда этот шарф. Сейчас мне хотелось молчать и ни о чём не думать. Мне было хорошо, и я перестал чувствовать холод разбитого дома. Опять, как когда-то в поезде, мне показалось, что всё теряет глубину, плывёт, находится на поверхности, и голова не кружится от страха перед чёрным и холодным пространством. Я только боялся, что меня начнут расспрашивать и мне придётся отвечать, но меня никто ни о чём не спрашивал, будто мысли мои были видны всем.
— Послушайте, — спросил я неожиданно для самого себя, — что это за платок? — Я произнёс это, и мне стало обидно за вырвавшиеся помимо моей воли слова…
— Так… платок… — медленно и нехотя отозвался Мухтар, и я был ему благодарен.
Я сидел, опустив голову. А когда поднял её, то увидел, что Каирбеков уже ушёл, а Мухтар сидит по-прежнему, поджав под себя ноги, и слегка покачивает головой…
Уже стемнело, когда я вылез из дзота, унося с собой историю жизни Мухтара Тажибаева.
Над Финским заливом поднялся туман, и казалось, что всё кругом — и снег и туман — слилось в одно целое.
Я вернулся к дому и решил зайти в подвал, откуда недавно слышалась гармонь. Оказалось, что в подвале была кухня. Девушка-повар выслушала меня, покачала головой и сказала:
— Мы здесь не так давно стоим, а до нас были другие. А когда тут гражданские жили, я и не знаю. — Она вытерла ладонью пот со лба: в подвале было жарко.
…Я шёл в город и видел, как рассеивается туман и солнце, подчёркнутое двумя прямыми линиями облаков, спускается в Финский залив. Огромные аэростаты, точно диковинные рыбы, медленно поплыли в небо.
Дойдя до заставы, я обернулся. В полумраке покрытый маскировочной сеткой дом был виден мне только в своих очертаниях.
Я пришёл в гостиницу и зажёг коптилку. Понял, что не могу спать, и сел писать очерк о Мухтаре Тажибаеве. И, уже написав первые строчки, я понял, что это и есть то, что было необходимо делать.
Утром я отнёс на военный телеграф очерк о Тажибаеве и подумал: «Вот я узнал что-то ещё об одной жизни, но ничего не узнал о жизни той, которая была частью меня самого».
Было ещё рано, когда я пришёл в редакцию, но сотрудники уже работали: где-то стучали машинки, и я слышал голос, кричащий позывные в телефон.
Я подробно договорился с редактором о том, как буду работать и передавать корреспонденции в свою газету. Потом спросил, где сейчас помещается адресный стол. Редактор улыбнулся моей наивности и ответил, что никакого адресного стола нет, сотрудники на фронте, а сам «стол», наверно, сожгли на дрова. Тогда я спросил, какая же существует возможность разыскать человека.
— Возможность одна, — усмехнувшись, ответил редактор, — снять блокаду и выиграть войну.
Затем зазвонил телефон на столе, и он протянул одну руку к трубке, а другую — мне. Я ушёл.
Оставался ещё один путь: Лидины знакомые. Два адреса были записаны в моём блокноте. Отыскивая страницу, на которой были записаны адреса, я натолкнулся на аккуратно сложенный листок. Развернул его. Там было написано одно только слово: «Пробьюсь». Это написал лейтенант Андрианов перед тем, как его разбил паралич.
И снова шёл я по пустынным заснеженным улицам. Изредка встречались люди. С вёдрами, кофейниками, электрическими чайниками, самоварами и бутылками они двигались к Неве за водой.
Я видел, как женщина, идущая мне навстречу, остановилась, прислонилась к стене и медленно стала сползать в снег. Я подбежал, чтобы помочь ей подняться, но она была уже мертва. Чайник, который она несла, бесшумно зарылся в снег. Я обернулся, чтобы позвать кого-нибудь, но никого не было.
Стоял около трупа, не зная, что предпринять. Женщина лежала на снегу. У неё было совсем молодое лицо. Седая прядь волос, выбившаяся из-под платка, казалась заиндевевшей, нос заострился, и кожа на щеках была дряблой. У неё были большие ресницы, тонкие брови…
В конце улицы показалась полуторка. Я сошёл с тротуара, чтобы остановить машину. Поравнявшись со мной, шофёр затормозил. Из кузова медленно вылезли два человека. Я следил за тем, как они вылезали, как молча подошли к трупу, подняли его и положили в кузов. Затем забрались сами. Шофёр дал газ, и машина двинулась, поднимая снежную пыль. Скоро она скрылась за поворотом.
Начинался буран. Взрыхлённый снег у стены — там, где упала женщина, постепенно становился ровным и белым. Чайник был уже занесён снегом, и только блестящий металлический носик торчал наружу.
Я прошёл дальше, по направлению к штабу. По дороге мне встретилось несколько морских патрулей, небольшое подразделение пехоты и отряд всеобуча, занимающийся на площади. Немолодые люди, видимо, рабочие, в пиджаках и ватных куртках, подпоясанные верёвками и ремнями, изучали стрелковое дело. У одного из домов человек заделывал кирпич, выпавший из стенки дзота, пристроенного к дому. Он старательно обмазывал кирпич полузамёрзшей, крошащейся, не похожей на извёстку массой.
Потом я увидел женщину, выходившую из булочной. В руках она держала хлеб — маленький кусок, не более двухсот граммов. Она держала его в одной руке, а пальцем другой чертила на нём какие-то линии. Затем она остановилась, повернувшись лицом к стене. Я видел, как шевелятся её губы. Женщина шептала, обращаясь к хлебу:
— Тебя я съем, тебя оставлю Лене, а вот тебя я съем, а тебя вот тоже Лене… — И палец её делал на хлебе какие-то дольки.
Я быстро пошёл, стараясь убежать от этого шёпота.
Стучал метроном. В городе было спокойно, и метроном стучал строго размеренно. Надо мной висели обрывки трамвайных и троллейбусных проводов, и в них завывал ветер.
Было уже два часа, когда я подходил к Смольному. Не сразу узнал его: гигантское здание было сплошь прикрыто маскировочной сеткой. Засыпанная снегом, она делала его неразличимым даже вблизи. Здесь, в этом здании, знакомом каждому по бесчисленным описаниям и кинофильмам, был центр обороны Ленинграда.
В комендатуре у окошка бюро пропусков и телефонных будок толпились люди.
В коридорах штаба горело электричество. Я настолько успел отвыкнуть от электрического света, что даже тускло светящиеся лампочки резали глаза.
По коридорам торопливой походкой проходили люди. Чаще всего это были военные, но встречались и люди в гражданской одежде. Здесь был партийный, советский и военный центр обороны Ленинграда. Из этого исторического здания осуществлялась постоянная связь с Москвой. Сюда приходили директивы Ставки Верховного Главнокомандования, указания Центрального Комитета партии.
Я стоял у стены коридора и смотрел на проходящих людей. По их лицам, походке, одежде я старался определить, кто они, чем занимаются.
Вот поспешно прошёл полковник с папкой под мышкой, без шинели, несмотря на холод, — наверно, здешний, из штаба фронта. Вот идут двое, в полумраке не видно их лиц. Они в полушубках и тулупах, — наверняка только что с Ладоги, ехали на машинах, привезли продовольствие, которое послала Ленинграду страна. Вот эти, в унтах, в полушубках поверх шинелей, очевидно, только что прилетели, — наверное, привезли приказы из Ставки… Мимо меня прошли двое в ватных, туго перепоясанных куртках, с полевыми сумками в руках, которые теперь для всех заменили портфели. Когда они прошли под тускло горящей лампочкой, я разглядел их лица, исхудавшие, с ввалившимися, но пристальными, спокойными глазами. Я услышал обрывок разговора.
— Как приедешь, соберёшь народ, — говорил один из них, — надо рассказать людям…
Они прошли. Наверно, партработники…
А я всё стоял и смотрел. Мне не хотелось уходить отсюда. В эти минуты мне казалось, что я совсем близко от Москвы и от миллионов советских людей.
Наверно, я простоял бы так очень долго, но в эту минуту подошёл какой-то подполковник и, окинув меня быстрым и строгим взором, спросил:
— Вы что-нибудь ищете, товарищ капитан?
Я козырнул и ответил, что хотел бы пройти в отдел связи.
— По коридору пятая дверь направо, — ответил подполковник.
Я пошёл, чувствуя на спине его пристальный, строгий взгляд.
Быстро отыскав нужный мне отдел, я договорился о связи.
Теперь я был свободен до вечера и мог отправиться на розыски. Я решил идти по первому адресу. Это было в другом конце города, но я твёрдо решил сегодня хоть что-нибудь узнать о Лиде…
Уже темнело, когда я разыскал этот дом. Было очень трудно рассмотреть его номер. Я поднялся по тёмной каменной лестнице на четвёртый этаж. Пахло сыростью. Я зажёг спичку. Впереди был длинный коридор с множеством дверей. Я подошёл к первой двери. Она была закрыта на висячий замок, и под замком висела картонка с большой сургучной печатью. На чёрной табличке значилось «36». Это был именно тот номер, который я искал.
Я постоял несколько минут у двери, ожидая, что кто-нибудь выйдет в коридор и я расспрошу о хозяевах этой комнаты. Но никто не выходил, и за дверьми было так тихо, будто в этом доме никто не жил.
Я не смог заставить себя открыть одну из этих дверей. Что-то говорило мне, что не следует их открывать. Выйдя на улицу, увидел дворника, дежурившего в подъезде соседнего дома. Он проводил меня до квартиры управхоза.
Управхоз сказал мне, что Сидоровы из тридцать шестого номера ещё осенью эвакуировались.
Всё было ясно, и не к чему было продолжать разговор. Но я всё-таки спросил, не живёт ли в доме кто-нибудь из людей, близко знавших Сидоровых.
— Нет, не знаю, — покачал головой управхоз, — всех не упомнишь. Да и память сейчас не та стала.
Я ничего не ответил и вышел из комнаты. Дворник по-прежнему дремал в подъезде.
— Послушайте, товарищ, — сказал я, — вы давно здесь дворником?
— Лет пять.
— Вы Сидоровых помните? Тех, что в тридцать шестой квартире жили?
— Это что осенью эвакуировались? — спросил дворник. — Как же, помню! Дрова им всегда возил. И собака у них была такая. Пудель. Подохла…
Ему, видимо, доставляло удовольствие вспоминать прошлое.
— А не помните ли, к ним девушка ходила — Лида? Она часто к ним ходила. Лида. Невысокого роста. Не помните?
Дворник покачал головой:
— Разве всех упомнишь?! Оно конечно, может, и ходила, а только всех не упомнишь.
Где-то далеко били зенитки. Небо разрывалось голубыми вспышками, и снег в эти минуты казался прозрачным и чистым, точно собранный из отдельных кристаллов.
— Летает, проклятый! — тихо сказал дворник и добавил ещё тише: — Разве тут девушку найдёшь, товарищ военный? В такой-то заварухе? Семейства целые по всей земле рассыпались. Где уж тут найти!
— Да, — ответил я, — вы правы. Ну, прощайте. — Я пожал ему руку и пошёл, проваливаясь в сугробы.
Радио объявило, что начался артобстрел. Немецкие орудия били не умолкая, а в перерывах слышался лихорадочный стук метронома.
— Стойте! — услышал я позади себя женский голос.
Я обернулся. В двух шагах от меня за высоким сугробом стояла девушка. Она была очень мала ростом, почти невидимая из-за сугроба.
— Стойте! — повторила она, хотя я и не двигался с места.
Девушка с трудом перелезла через сугроб. На ней была шапка-ушанка и стёганая куртка, подпоясанная ремнём, на котором висела брезентовая кобура.
— Прошу предъявить документы, товарищ командир, — сказала девушка.
— Кто же вы такая? — спросил я.
— Пост комсомольской заставы, — сухо ответила она.
Девушка зажгла карманный фонарик и долго рассматривала моё удостоверение.
— Корреспондент? — спросила она, поднимая голову и вглядываясь в меня.
— Не похож? — отозвался я.
— Нет, отчего же, — сказала девушка, подавая мне удостоверение, и улыбнулась. — Можете идти!
Но теперь мне не хотелось уходить.
— Так вы тут и стоите одна за сугробом? — спросил я.
— Во-первых, я не одна, — ответила девушка, — а во-вторых, вовсе не за сугробом. Это я просто случайно здесь стала.
— А где же остальные?
— В доме.
— А зайти туда можно?
Девушка молчала. Она, видимо, колебалась.
— Вообще-то в караульное помещение посторонним нельзя, — сказала она наконец, — но вам, как корреспонденту, думаю, можно. Вот этот дом. — Она показала рукой на двухэтажный дом.
Я перелез через сугроб и вошёл в подъезд.
— Направо, как войдёте! — крикнула мне вслед девушка. — Голову там себе не сломайте!
Предупреждение последовало вовремя. Я чуть было не скатился на ледяные валуны в подъезде. Лёд был повсюду: он покрывал ступени и сосульками свисал с перил.
Где-то вдалеке маячила полоска света. Я пошёл на неё и скоро очутился перед дверью. В небольшой комнате, освещённой стоящей на столе коптилкой, на кровати сидела девушка. Она встала, когда я вошёл.
— Что вам, товарищ командир? — резко спросила она.
Я сказал, что мне, как военному корреспонденту, хотелось бы познакомиться с работой комсомольской заставы.
— Документы! — так же резко сказала девушка.
Я протянул ей удостоверение, и она, так же как и та девушка на улице, внимательно изучила его.
— Собственно, вам следовало бы зайти в штаб, получить разрешение, — сказала она, возвращая мне документы, — но сейчас обстрел… Ну, словом, садитесь. Я начальник заставы.
Она показала мне на кровать.
Девушка села рядом со мной. Теперь я разглядел её: она была высока, худа, одета в неизменную стёганую куртку, подпоясанную солдатским ремнём, в валенках.
— Не найдётся ли у вас закурить? — спросила девушка.
Я вынул пачку папирос. Девушка протянула руку, и я увидел её тонкие, обтянутые жёлтой кожей пальцы.
Не знаю, заметила ли она или почувствовала мой взгляд, но только поспешно отдёрнула руку, так и не взяв папиросу.
Я сделал вид, что не обратил внимания на этот жест, и поднёс коробку ближе к её руке.
Девушка неуверенно взяла папиросу, стараясь не высовывать руку из рукава. Я спросил её имя. Её звали Ксения Сергеева.
— Так и живёте здесь? — спросил я, зажигая спичку.
— Так и живу, — ответила девушка, жадно затягиваясь. — Я здесь восьмой год живу. Чему вы удивляетесь? — улыбнулась она. — Ну да, это моя комната. А теперь вот здесь пост комсомольской заставы. Всё ясно?
Я оглядел комнату. Мои глаза привыкли к полумраку, и я разглядел следы прежнего домашнего уюта: красивую настольную лампу, стоящую в углу, почерневший от копоти письменный прибор на столе, плетёное кресло, на котором лежало несколько стёганых курток, а на противоположной стене портрет какого-то мужчины с усиками.
— Кто это? — спросил я, показывая на портрет.
— Неужели не знаете?
Я встал и подошёл к портрету. Это был Чарли Чаплин.
— Чаплин? — спросил я удивлённо.
— Ну да, Чаплин! Мой любимый артист. — Ксения помолчала и добавила: — Я ведь тоже актриса. Играла в Нарвском доме культуры. Только это давно было…
В этот момент я услышал далёкие звуки музыки.
— Что это? — спросил я. — Радио?
— Радио. Значит, обстрел прекратился, — ответила Ксения. Она откинула голову, прислушиваясь к звукам музыки. Потом сказала: — Это в комнате наверху… Там уже никто не живёт, и комната запечатана. А радио всё играет, играет… Выключить забыли.
Орудия, умолкнувшие ненадолго, снова загрохотали.
— Вы знаете, — внезапно сказала Ксения, — я люблю, когда бьют наши орудия. В эти минуты ощущаешь силу. В те вот последние недели было тихо. Они не летали даже. Думали, что мы и так погибнем. Тихо так было… И страшно. А сейчас вот снова начали. Видят, что мы не хотим умирать…
Мы помолчали.
— В чём заключается ваша работа? — спросил я.
— Мы — пост комсомольской заставы. В помощь войскам по охране города. На нашем посту четыре девушки.
Она встала и медленно прошлась по комнате. У неё были плавные движения, длинные руки, худое заострённое лицо, светлые волосы.
— Вот мы живём тут, четыре девушки, в холодном и пустом доме, — проговорила Ксения, — и, знаете, может быть, это покажется вам наивным, но иной раз я думаю, что только нам, нашей четвёрке, поручено защищать Ленинград и вся ответственность лежит на нас… Вы не представляете себе, как обостряются здесь все чувства, все ощущения…
Ксения говорила задумчиво, медленно, и, хотя она обращалась ко мне, я чувствовал, что разговаривает сама с собой.
— Сначала надо было побороть самоё себя. Встаёшь — хочется есть… Надо умываться… нет воды… Холод… За дверью лёд… Надо что-нибудь выстирать… нет воды… Надо идти за километр, чтобы принести воду… В чайнике много не принесёшь… и хочется есть… Надо идти на пост… там ещё холоднее… Но надо, вы понимаете, надо побороть голод, надо умываться, обязательно умываться… надо стирать, всё надо, иначе плохо будет, иначе умрёшь… И на пост идти надо, обязательно надо… Мы следим друг за другом… Вы понимаете, что оттого, что ты следишь за собой, следишь поминутно, не распускаешься, — от этого зависит твоя жизнь…
— Да… — задумчиво произнёс я, — это, наверно, очень трудно, жить вот так на ледяном острове… А вокруг снег, тьма, враги…
— Кругом друзья, — резко оборвала меня Ксения.
Она не поняла меня. Я сказал:
— Конечно, вы правы. Но я имел в виду блокаду, немцев…
— А я имела в виду Ленинград, нет, больше, — страну, всю страну, — строго сказала Ксения. — Жить на таком острове, как вы говорите, было бы совсем трудно, невозможно, наверно… Силы черпать неоткуда. А сейчас…
Она умолкла и смотрела куда-то вдаль, поверх меня, точно видела сейчас то, о чём говорила: людей, страну нашу…
А я вспомнил Смольный и то чувство близости Москвы, которое охватило меня тогда, когда я стоял в полутёмном смольнинском коридоре.
Я подумал о том, что вижу уже второй дом, превращённый в крепость. Правда, этот дом был почти пуст, в нём не стояли пулемёты и не было амбразур, и он был весь опечатан, кроме этой комнаты, в которой бились недоступные холоду сердца. Но всё же и этот дом был крепостью, охраняющей Ленинград.
Ксения стояла у окна, спиной ко мне. Я взглянул на неё, мне вдруг почудилось, что это Лида моя стоит у окна. И невольно, не отдавая себе отчёта, я сделал шаг по направлению к ней.
Ксения обернулась, я увидел её лицо, сосредоточенное и суровое. И подумал, что нет, у моей Лиды лицо более мягкое и доброе.
Но тут же мне пришла в голову мысль, что ведь я помнил её лицо тогда, в далёкие счастливые дни. Кто знает, как выглядит оно теперь?
Зенитки замолкли, и снова стало слышно радио оттуда, сверху, из пустой запечатанной комнаты.
Потом послышались шаги за дверью, и вошла та самая девушка, что проверяла у меня документы.
Ксении надо было идти на пост. Мы вышли вместе. Я попрощался с ней, и она встала, прислонясь к стене большого гранитного дома, и стала незаметной, точно слилась со стеной.
…Было совсем поздно, когда я добрался до «Астории». Я ничего не чувствовал, кроме тупой боли во всём теле и усталости. Я не мог ни о чём думать. Я шёл, тяжело облокачиваясь на лестничные перила. Потом свернул в тёмный коридор и стал ощупью отыскивать свой номер. Нащупав дверь в нише, я толкнул её. При свете коптилки увидел на кровати какое-то высохшее, скелетообразное существо. Существо подняло руки и слегка подалось вперёд. Я отступил назад и захлопнул двери. Очевидно, ошибся номером. Я вернулся на лестничную площадку. По лестнице поднималась женщина со свечкой в руке. Я спросил её, какой это этаж.
— Вам, наверно, ниже, — сказала женщина. — Вам гостиницу, наверно. А здесь стационар для дистрофиков.
— Да, я ошибся, — пробормотал я, спустился этажом ниже и отыскал свой номер.
Не зажигая коптилку, лёг в постель. Было настолько холодно, что я лёг не раздеваясь, только снял валенки.
Долго не мог заснуть. Всё пережитое за последние сутки проходило перед моими глазами.
Вдруг мне пришла в голову мысль, что, может быть, я уже встретился с Лидой и, может быть, это она лежала на доске, спелёнатая, как мумия, или в машине, под штабелями окоченевших тел.
Я лежал в темноте и в тишине, точно на дне глубокого колодца.
Потом начали бить наши орудия, и я вспомнил слова Ксении о том, что этот далёкий, грохочущий вал приятнее мёртвой тишины, и мне захотелось, чтобы били ближе и громче…
Я чувствовал, что Ленинград нельзя наблюдать со стороны.
Трудно было и полчаса высидеть в «Астории» без дела. Каждую минуту, когда я не шёл на телеграф, не писал корреспонденцию, не спешил, чтобы что-нибудь увидеть, меня мучила мысль о бесполезно потраченном времени. Я часто вспоминал слова Ксении Сергеевой о том, что в Ленинграде у людей до предела обостряется чувство личной ответственности за судьбу города. Не раз вспоминал также её слова о том, что жить на «острове» было бы невозможно, и о связи блокированного Ленинграда с остальной страной.
Я понял, почувствовал, что об этом надо написать, что в этих словах, вернее, в том существе, что крылось за этими словами, заключён очень важный смысл — истоки ленинградского подвига.
И я принялся за работу над статьёй. Положил в её основу переписку ленинградцев с москвичами в первые месяцы войны. В течение нескольких часов я в редакции газеты «На страже Родины» читал и перечитывал письма трудящихся Выборгской стороны Ленинграда к трудящимся Москвы, ответ москвичей выборжцам, письмо рабочих Нарвской заставы московским рабочим, письмо коллектива завода «Большевик» — тоже москвичам, и обращение рабочих завода имени Ленина к героическим защитникам Ростова…
«…Дорогие товарищи! Друзья наши, москвичи! — читал я. — В тревожный час, когда над Красной Москвой нависла грозная опасность, мы всем своим сердцем, всеми помыслами и устремлениями своими с вами, защитники советской столицы.
Москва! Это слово с нежной любовью произносит каждый советский человек — русский и украинец, узбек и белорус, казах и грузин. Москва — мозг и сердце нашей родины. Отсюда по всем необъятным просторам нашей страны излучается свет новой жизни…»
Я читал и перечитывал эти строки, то пламенные и призывные, то гневные и горькие, и казалось, что они написаны кровью сердца.
Потом я начал писать. Это была статья о великом единстве нашего народа.
Отправив статью, я почувствовал радость от сознания исполненного долга. Но только на несколько часов. А потом меня снова стала мучить мысль, что я не написал и сотой доли того, что должен был написать.
Я помнил, что десятки тысяч бойцов Волховского фронта, задача которых — прорвать блокаду Ленинграда, могли узнать о положении в городе только из фронтовой газеты. А ленинградским корреспондентом этой газеты был я. Мне казалось, что мало суток, чтобы выполнить всё, что требовалось.
Но когда, потрясённый всем виденным за день, измученный большими переходами, я возвращался домой, я снова думал о Лиде. Я чувствовал, что ещё не сделал решающих шагов, чтобы отыскать её.
Что оставалось мне делать?
В моих руках была только одна соломинка: последний записанный в моём блокноте адрес. Если и там неудача — значит, концы обрублены, следы потеряны и, приехав в Ленинград, я оказался к Лиде не ближе, чем там, на Волховском фронте.
Я не мог решиться сразу пойти по этому адресу. Там жила Ирина Вахрушева, подруга Лиды.
Я знал эту девушку. Мы иногда проводили вечера втроём, во время моих приездов в Ленинград. Я не особенно симпатизировал Ирине. Она казалась мне слишком шумной, слишком смешливой, недаром Лида звала её «море по колено». Но Лида любила её, и я шёл на уступки. У меня был адрес хозяйки, у которой Ирина снимала комнату.
В этом адресе была для меня последняя надежда.
Я старался подготовить себя к неудаче. Когда я очутился перед большим серым зданием и увидел номер дома, который отыскивал, мне стало страшно. Я не знал, что найду за этими стенами: замок, сургучную печать или мёртвых людей.
Несколько раз прошёлся возле дома, не решаясь войти. Потом я взял себя в руки и, будто ныряя в холодную воду, бегом поднялся по лестнице. На втором этаже я постучал. Было тихо. Я постучал ещё раз, сильнее. За дверью послышались медленные шаркающие шаги, шум отодвигаемого засова, и дверь открылась. Передо мной стояла женщина лет пятидесяти, в шубе и в платке, накинутом на седые волосы.
— Мне нужно кого-нибудь из Вороновых.
— Я Воронова, — тихо ответила женщина.
— Вы Воронова? — переспросил я, чтобы собраться с мыслями.
Подошёл к ней ближе и сказал, что хочу поговорить. Она пригласила меня в комнату.
Я вошёл и остановился на пороге. Я почувствовал, что у меня дрожат колени. Я ничего не видел — ни комнаты, ни мебели, ни самой Вороновой, ничего, кроме большого портрета, висящего против двери над письменным столом.
Это был портрет Лиды. Она стояла, смеющаяся, откинув голову, в пёстром платье, облокотившись на железную решётку сада. Стояла такой, какой я её знал и помнил.
— Я вас слушаю, — проговорила Воронова.
Я вздрогнул и опустил глаза. Не мог больше выдержать и прямо спросил, показывая на портрет:
— Где сейчас эта девушка?
— Не знаю точно, — сказала Воронова. — Это подруга моей жилицы.
— Ирины Григорьевны? — снова спросил я.
— Да, — ответила Воронова. — А вы разве её знаете?
— Где Ирина Григорьевна? — повторил я вопрос.
— Она живёт на заводе. Там работает и живёт.
— Где же этот завод?
— Послушайте, товарищ военный, — сказала Воронова, — объясните же, что вы хотите.
Я подошёл почти вплотную к ней, показывая на портрет:
— Я разыскиваю эту женщину. Это мой близкий друг. Я написал ей сто писем и сейчас ищу её по всему городу. Когда-то она дала мне адрес Ирины Григорьевны, как своей лучшей подруги. Вот и всё. А теперь скажите скорее: где этот завод?
Воронова внимательно посмотрела на меня.
— Я понимаю, — тихо произнесла она. — Лидуша у нас часто бывала. Они с Ириной большие друзья. Давно, правда, не заходила она к нам. А только адрес завода я не знаю… Мы лучше вот как сделаем. Завтра Ирина придёт домой. Тут я ей постирала кое-что. Часов в пять обещала. Вот вы в это время и приходите.
— Хорошо, — сказал я, — спасибо. Приду.
Но я не уходил. Стоял и смотрел на портрет, и туман застилал мои глаза. Потом я опустил голову и понял, что надо уходить.
— Завтра в пять, — напомнил я и поспешно вышел из комнаты.
…На другой день я подошёл к дому в половине пятого. Уже стемнело, но дом, серый, гранитный, показался мне светлым и радостным. Я быстро взбежал по лестнице и постучал.
Мне опять открыла Воронова.
— Не повезло вам, — проговорила она, идя в комнату. — Уехала Ирина-то моя. На оборонные работы уехала… Только и успела записку прислать…
— Где эти работы? — спросил я.
— Да разве ж я знаю?! — воскликнула Воронова. — Теперь всюду работы. Через неделю, пишет, вернётся.
— Хорошо, — сказал я, не узнавая своего голоса, — я зайду через неделю.
17 января
Ночью мне позвонили из редакции «Ленинградской правды». Знакомый товарищ сообщил, что через два часа председатель исполкома Ленсовета Попков будет беседовать с корреспондентами газет. Через пятнадцать минут я уже шагал, утопая в сугробах, к Смольному.
По бесконечным, едва освещённым, холодным коридорам Смольного я добрался наконец до кабинета Попкова.
В центре небольшой комнаты за огромным низким столом, покрытым зелёным сукном, сидел Попков. У него было усталое, но свежевыбритое лицо, красные веки и синяки под глазами. Он показал нам на кресла и сказал хриплым голосом, без всяких предисловий:
— Мы пятый месяц в блокаде. Огромными усилиями мы растянули оставшиеся у нас запасы на эти пять месяцев. Завоз продуктов был связан с исключительными трудностями. Вы знаете об этом. Теперь, в связи с разгромом немцев под Тихвином, есть основания думать, что доставка продуктов облегчится…
Попков говорил монотонно и медленно, и казалось, что каждое слово стоит ему усилий. Он сказал, что сейчас главная задача — доставить в город продукты, скопившиеся на той стороне Ладоги, и организовать борьбу с ворами и мародёрами. Потом зазвонил один из многих телефонов на маленьком столике. Попков взял трубку, сказал «иду» и встал.
— Меня вызывают, товарищи, — сказал он. — Вы получите печатное изложение того, что я хотел сказать. — Он пожал нам руки и вышел из кабинета.
Секретарша раздала нам печатные листки.
Я возвращался из Смольного глубокой ночью. В небе горело бледное зарево, и на снегу плясали красноватые тени. Я шёл по направлению к «Астории». Зарево всё приближалось, и тени становились ярче. Наконец, завернув за угол, я увидел горящий дом. Дом был большой, каменный. Он горел неярко, и языки пламени изредка вырывались из-под крыши и из окон, лениво облизывая камень. У дома, прямо в сугробах, была расставлена мебель, кто-то спал на кушетке, а несколько женщин цепочкой стояли у парадной двери и деловито принимали вещи, которые им подавали сверху. Пожарных я не видел. Я подошёл к женщине, стоявшей в цепочке последней, но она, не оборачиваясь, сунула мне в руки какую-то вещь и сказала нетерпеливо:
— Держите! Держите!
Я взял вещь — это был обёрнутый в платок самовар, — поставил на снег и получил керосинку, которую тоже поставил на снег.
— Побыстрее там! — крикнула женщина в дверь, и я слышал, как по цепочке передали:
— Поскорее там!
Было очень тепло, даже жарко. Первый раз в Ленинграде я испытал чувство тепла.
— Куда ставите?! — раздражённо заметила мне женщина. — Вон к тем вещам несите. — Она пальцем показала на кушетку, где кто-то спал. — Перепутаем всё, потом разбирайся.
Я поднял самовар и керосинку, отнёс их к кушетке и вернулся на своё место.
Всё происходило очень медленно. Этот пожар не воспринимался как нечто чрезвычайное. Не было криков о помощи, плача пострадавших и снопов искр.
— Держите, держите! — сказала женщина и передала мне маленькую коляску. — Да осторожнее, там ребёнок. — Я стоял растерянный, с коляской в руках, и не знал, что с ней делать. На дне коляски лежал какой-то свёрток. Мне показалось невозможным поставить колясочку прямо так, в снег, под открытым небом. — Да о чём вы думаете, господи?! — воскликнула женщина. — Это же Ивановых ребёнок, туда, к их вещам, и несите.
Я понёс коляску туда, к самовару и керосинке, и поставил около кушетки. Человек на кушетке продолжал спать. Он был укрыт полушубком. Я почувствовал злобу к этому человеку, безмятежно спящему во время пожара под тёплым полушубком. Я стянул полушубок и стал запихивать его в коляску, чтобы укрыть ребёнка. В этот момент из окна вырвался большой язык пламени, и я рассмотрел лицо спящего человека. Это была женщина лет тридцати, совершенно седая. Её тонкие губы были плотно сжаты. Я вытащил из коляски полушубок и снова укрыл им женщину. Потом я стал искать, чем бы укрыть ребёнка, и среди сваленных в беспорядке вещей нашёл одеяло. Покончив с этим делом, я снова вернулся к цепочке.
— Где же вы пропадаете? — воскликнула женщина. — Прямо беда с этими мужчинами! В кои веки придут помочь, да и то как от козла молока.
Она сунула мне в руки швейную машину, и я быстро понёс её к кушетке.
— Не туда, не туда! — крикнула мне женщина. — Это Ферапонтовых машина, к их вещам и несите!
Я растерянно стоял на месте со швейной машиной в руках, озираясь по сторонам, соображая, какая же из сложенных здесь куч принадлежит Ферапонтовым.
— Да вот левее, где стол стоит! — снова крикнула женщина. — Ах ты наказание господне!
Я поставил машину на стол.
— Да вы из какого номера? — спросила меня женщина, когда я вернулся на своё место. Раньше она разговаривала, стоя спиной ко мне, только слегка поворачивала голову. Теперь она повернулась ко мне. — Да никак военный! — воскликнула она. — Вы, значит, не здесь живёте? Просто помогаете, значит? — сказала женщина. — Ну, спасибо. Я вот тоже помогаю. Это ведь ещё не мой этаж горит. А всё равно надо помочь. А вы по своим делам идите. Мы и сами управимся… Спасибо вам.
Я пошёл.
— Подождите! — окликнула меня женщина и, когда я вернулся, сунула мне в руки клочок бумаги. — Позвоните, пожалуйста, а то у меня телефона нет.
Я сказал, что позвоню, хотя не представлял себе, о чём идёт речь. В сторонке, при свете пожара, я прочёл записку. Там было написано:
«Позвонить 4—58—65, Петру Николаевичу Смирнову.
Пётр! Уже горит третий этаж, а мне к тебе на завод позвонить неоткуда. Завтра до нас дойдёт, приходи таскать вещи.
Надя».Я сунул записку в карман и пошёл искать телефон. Зарево теперь оставалось позади, но небо ещё было розовым.
18 января
Сегодня утром в редакции мне вручили телеграмму из моей газеты. Там было сказано: «Срочно передайте материал к Ленинским дням». Телеграмма была получена здесь вчера. Мне вручили её сегодня. Для того чтобы материал попал в номер вовремя, я должен был передать его не позже завтрашней ночи.
Я не знал, с чего мне начать. Сегодня я собирался пойти на пленум райкома партии и написать корреспонденцию о ленинградских большевиках — организаторах обороны города. Но теперь у меня было срочное, специальное задание. Надо было скорее идти в библиотеку, подобрать материалы о жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина в Петрограде.
Но, подумав, я решил начать всё же с пленума райкома. Ведь бессмертная память о Ленине живёт здесь, в Ленинграде, прежде всего в сердцах коммунистов, в душах питерских рабочих. И я пошёл на пленум райкома партии.
…В фойе давно уже не работающего кинотеатра собралось несколько сот активистов района. Я обратил внимание на то, что все собрались точно в назначенное время — к пяти часам вечера зал был уже переполнен. В зале было очень холодно. Горело несколько фонарей «летучая мышь» и несколько свечей на столе президиума. Глухо доносились разрывы снарядов.
Войдя в зал, я сразу же ощутил атмосферу сердечной близости и единства между собравшимися здесь людьми. Я знал, что каждый из присутствующих ощущал потребность собраться вместе, обменяться мыслями, посоветоваться, как лучше решить вставшие перед городом трудные задачи. Я сидел в последнем ряду зала и напряжённо слушал слова о том, как сохранить рабочую силу, как окружить в это трудное время заботой людей, как уберечь предприятия от разрушений…
Потом выступали политорганизаторы домохозяйств и руководители комсомольских групп взаимопомощи, тех самых, что ходили по домам, помогали больным людям принести дрова, растопить печь, прибрать квартиру или выкупить продукты в магазине.
В конце заседания старый рабочий-кировец зачитал приветствие Центральному Комитету партии. В этот момент произошло нечто совсем неожиданное. При первых же словах рабочего: «Москва, ЦК ВКП(б)…» — в зале вспыхнул электрический свет. Правда, зажглось всего лишь несколько лампочек и горели они неярким, мерцающим светом, но для нас, людей, уже успевших отвыкнуть от электричества, это казалось праздником, торжеством.
— Откуда свет? — шёпотом спросил я соседа.
— В подвале ребята качают, — ответил он мне также шёпотом.
И мне очень захотелось увидеть этих ребят. Осторожно, на носках, вышел я из зала и спустился в подвал. Там при свете обыкновенной коптилки несколько человек вручную «качали» рычаг небольшой блок-станции. Они не слышали слов, обращённых к партии, которые произносились сейчас там, наверху, но знали, что именно в эти минуты принимается приветствие ЦК. И на их лицах, едва освещённых дрожащим светом коптилки, я увидел спокойно-сосредоточенную торжественность.
И в эту минуту я вспомнил о редакционном задании и посмотрел на часы. Было уже шесть, до вечера оставалось совсем мало времени. Но я не жалел, что побывал на пленуме. Я ещё не знал, как использую то, что увидел и услышал, в корреспонденции о Ленинских днях, но понимал, чувствовал, что должен был всё это увидеть и услышать.
Потом на попутной машине я добрался до Смольного. Я ехал туда с определённой целью. Ведь в Смольном была комната-музей, где работал Ленин в великие дни установления Советской власти. Я бывал в этой комнате давно, в светлые, мирные дни, когда она была открыта для всеобщего обозрения. Но можно ли попасть в неё теперь?
Как я и ожидал, комната была закрыта, и доступ в неё посетителей был прекращён с первых же дней войны. Я не знал, что мне делать. Мне было надо, очень надо побывать в этой комнате, и одновременно я понимал, что нелепо требовать открыть её только для того, чтобы я там побывал.
И всё-таки я пошёл к полковнику, от которого, как мне сказали, зависело разрешение посетить комнату.
Вначале полковник категорически отказал.
— Что вы, капитан, — недовольно возразил он мне, — ведь Смольный сейчас — военный штаб, должны понимать… К Ленинским дням в городе будут организованы посещения многих ленинских мест, но это…
И всё же я уговорил его. Я сказал, что тысячи, десятки тысяч бойцов Волховского фронта никогда не бывали в ленинской комнате и что рассказать о ней по описаниям и даже по давнишним личным впечатлениям я просто не в состоянии. Я уговаривал, настаивал, доказывал, даже требовал.
И он открыл мне заветную комнату.
И снова, как в то далёкое время, я перешагнул порог, через который так часто переступал Ленин. Я увидел письменный стол и окно, у которого стоял когда-то Ильич.
Несколько минут прошло в молчаливом созерцании.
— Ну вот, — каким-то другим, потеплевшим голосом сказал стоявший за моей спиной полковник. — Теперь всё. Надо идти.
…На другой день я поехал в библиотеку Дома Красной Армии и много часов просматривал материалы, относящиеся к пребыванию Владимира Ильича в Петрограде. Под вечер с кучей выписок и без какого-либо определённого плана статьи я вышел из Дома Красной Армии, прошёл по Литейному, завернул на Невский и направился к себе в гостиницу.
Мне очень хотелось есть. В последние дни я всё чаще испытывал чувство голода.
Я шёл по Невскому, стараясь не думать о еде. Но старые магазинные вывески, поминутно напоминавшие мне о ней — «Бакалея», «Гастроном», «Всегда горячие сосиски», — дразнили меня.
Внезапно я увидел другую «вывеску», написанную карандашом на бумаге: «Здесь кипяток».
Я вошёл в тамбур маленького магазина. Девушка в ватнике продавала кипяток по гривеннику за стакан. Она объяснила мне, что Ленсовет организовал повсеместную продажу кипятка населению. Я выпил два стакана горячей воды и шёл, ощущая приятное тепло, погружённый в мысли, и незаметно дошёл до Дворцовой площади.
Вечерело. Сероватый туман висел над Невой. В этом тумане морские корабли, пришвартованные к гранитным берегам Невы и вмёрзшие в лёд, стояли, как бы прижавшись спинами к городу, который защищали. Огромная площадь была завалена снегом. Местами снег ещё чернел от недавних разрывов. Окна Зимнего дворца были выбиты. Странно было видеть такое огромное количество выбитых подряд окон. Весь дворец казался гигантским решетом.
Я стоял и думал о том, как много видело это огромное здание… И вдруг мне показалось, что площадь оживилась, десятки костров зажглись на ней, а у костров сидят бородатые люди, матросы, перепоясанные пулемётными лентами, солдаты с винтовками в руках, в папахах с нашитыми красными ленточками.
Где-то вспыхнул прожектор, но мне чудилось, что это луч «Авроры» прорезал небо и упал на площадь…
Мне казалось, что славные, давно минувшие дни Петрограда вновь проходят передо мной… Я пересёк площадь, прошёл на набережную и увидел здание университета. Я вспомнил недавно прочитанные строки о Ленине, о том, как пятьдесят лет назад ранним мартовским утром подходил к этому зданию Владимир Ильич…
Мне казалось, что я вижу, как проходит Ленин своей торопливой походкой в Публичную библиотеку… Как стоит на балконе дворца Кшесинской…
И вдруг всё слилось воедино. Я снова видел перед собой людей, собравшихся на районный партийный актив, и сурово-торжественные лица тех, что давали свет во время чтения письма Центральному Комитету, видел Ленина, стоящего у окна смольнинской комнаты и с надеждой глядевшего на питерских рабочих, идущих в бой со старым миром…
И тогда я всем существом, всем сердцем своим почувствовал, как бьётся в этом городе вечно живое сердце Ильича.
…Было уже поздно, когда я вернулся в «Асторию». Но я не чувствовал усталости. Я знал, о чём буду писать в газету.
22 января
Три дня я ничего не записывал и ничего не передавал в редакцию. Затем взял ленинградские газеты за неделю и прочёл их залпом.
На меня обрушились самые противоречивые, самые парадоксальные, с точки зрения «здравого» смысла, вещи. Я прочёл, что населению в этом месяце не выдаётся ничего, кроме двухсот граммов хлеба, что в оперетте идёт «Баядера», в Театре драмы — «Дворянское гнездо», а в театре Ленсовета — «Идеальный муж», что действуют четырнадцать кинотеатров, что военный трибунал приговорил к расстрелу шесть человек за ограбление продуктовых магазинов, что композитор Асафьев работает над музыкальным оформлением спектакля «Война и мир», что исполком Ленсовета рассмотрел план первоочередных восстановительных работ в городском хозяйстве и объявил выговор за срыв снабжения населения кипятком и что все детские сады и ясли переведены на круглосуточное обслуживание детей…
Я прочёл всё это и, только оторвавшись от газеты, вспомнил, что нахожусь в городе, окружённом плотным кольцом блокады, и мне показалось, что я стою перед чем-то огромным, очень сложным и очень простым и кристально чистым и что всех книг и всего виденного мною недостаточно, чтобы до конца понять это.
Потом я перечитал всё, что записал в эти дни, и, дойдя до последней даты, вспомнил, что прошла неделя.
И мне так захотелось увидеть Лиду, поцеловать её и посидеть с ней несколько минут молча, как сидят уставшие от долгих скитаний, а потом говорить с ней, говорить без конца.
Может быть, потому, что она была самым близким и самым понятным мне человеком, я верил, что она расскажет мне то, чего я не знал, и покажет то, чего без неё я не мог бы увидеть.
И она уже казалась мне неотделимой от города.
Мне не терпелось поскорее встретиться с Ириной Вахрушевой. Я не любил её раньше, потому что не любил людей, которые слишком много и слишком громко смеются. Мне была непонятна любовь Лиды к этой девушке. Я старался возможно реже встречаться с Ириной. Мне было известно, что она вышла замуж и ждёт ребёнка, но мужа её я никогда не видел. Сейчас я знал, что Ирина единственная, кто может помочь мне отыскать Лиду, и всё же где-то в глубине души мне была неприятна встреча с ней, — такие люди, как Ирина, редко меняются. Я боялся снова услышать её резкий смех и жаргонные словечки. Я думал обо всём этом, идя к Вороновой.
Я пришёл к Вороновой под вечер. Двери открыла мне сама Ирина, но было темно, и я не разглядел её.
— Давайте руку, Саша, здесь темно, — сказала она. У неё был хриплый, простуженный голос.
Она провела меня по коридору в комнату. Теперь мы стояли друг против друга. На ней была ватная стёганая куртка, валенки и шапка-ушанка.
— Здравствуйте, Саша! — Ирина протянула мне руку.
Она смотрела на меня в упор, не произнося ни слова. Я видел только её глаза. У неё всегда были большие глаза, сейчас же они стали какими-то неестественно огромными, занимая почти половину её маленького лица.
Она смотрела на меня не мигая, не произнося ни слова. Большой портрет Лиды висел над нами.
— Здравствуйте, Ирина, вот мы и встретились.
— Да, — коротко сказала Ирина своим хриплым голосом. — Но где сейчас Лида, я не знаю.
Я почувствовал комок в горле.
— Сядьте, — продолжала Ирина, опускаясь на диван. — Мы работали вместе на заводе, она кончила курсы сестёр. Потом она уехала в армию… Писем не пишет. Вот и всё, что я о ней знаю.
Она говорила спокойно и, мне показалось, жёстко.
— Скажите, Ирина, — спросил я, с трудом подыскивая слова, — может быть, вы знаете… какой военкомат?..
Ирина покачала головой.
— Военкомат-то я знаю, да вряд ли вы там что-нибудь выясните. Всё произошло так быстро… У неё ведь мать умерла и ребёнок, у Лидуши…
Мне казалось, что голос её дрогнул, когда она произнесла это имя…
— Я знаю, — сказал я. — Она писала. Это было единственное письмо, которое я получил.
— Она не знала, куда писать, — произнесла Ирина и посмотрела на её портрет.
Несколько минут мы сидели молча.
— Так. Ну, расскажите о себе, Ирина… Как ваша жизнь?
— Живу, — резко ответила Ирина.
— Ваш муж на фронте? — спросил я.
— У меня нет мужа.
— А ребёнок? Я помню, вы ждали ребёнка.
— Был. — Ирина опустила глаза.
Я молчал.
— Вы работаете на заводе? — спросил я.
— Да. В цеху. Помощником начальника.
— Так… — Я снова не знал, о чём говорить. — Вот мы и встретились.
— Вот и встретились, — повторила Ирина. — Только её не хватает. — Она снова посмотрела на портрет.
— Вы очень изменились, Ирина, — сказал я неожиданно для себя. Этого не надо было говорить. Это звучало бестактно.
— Изменилась? — переспросила Ирина, точно не понимая этого слова. — Да, наверно. — Она встала. — Ну, простите, пойду на завод.
Мне стало страшно. Я схватил её за руку.
— Подождите, Ирина, — просил я, — ведь мы не виделись так долго. Подождите! Ну, расскажите мне что-нибудь! А потом я пойду.
Мне показалось, что пальцы её дрогнули в моей руке.
— Рассказать? — переспросила Ирина. — Я не знаю, что рассказать вам. Да и что вы хотите знать?
— Всё. Всё, что относится к ней, к вам, к Ленинграду.
Ирина молчала. Своими большими немигающими глазами она смотрела на портрет Лиды, висящий на стене.
— Расскажите, — повторил я. — Ведь я новый человек в Ленинграде и почти ничего не знаю. Рассказывайте про всё: про войну, про блокаду, про себя, про Лиду…
Ирина медленно повернула голову, переводя взгляд с портрета на меня.
— Хорошо, — согласилась она, и мне показалось, что слово это было ответом не на мою просьбу, а на какие-то её собственные мысли. — Хорошо, — повторила Ирина, — слушайте.
Вот что рассказала мне Ирина
«Когда я пять лет тому назад приехала в Ленинград, поступила в институт и поселилась в этой квартире, моим соседом был Иван Иванович Иванов, старый мастер. Он жил вот за этой стеной с женой Пелагеей Григорьевной. У него было двое детей: Михаил, парень лет двадцати трёх, и дочь Лена. Михаила я почти не видела: он учился в институте за городом и приезжал домой поздно вечером; Лена работала на том же заводе, что и отец.
Мне почти не приходилось разговаривать с Ивановым, да я и не стремилась с ним встречаться. Он был высокий, чуть сутуловатый, глаза у него были маленькие и злые, а усы огромные, с опущенными концами.
Я уже привыкла к тому, что если за стенкой какой-нибудь шум, машина ли швейная стучит или что другое, — значит, Иванова нет дома. Как только он возвращался, наступала тишина. Из разговоров с моей хозяйкой и с Пелагеей Григорьевной я поняла, что Иванов был именно таким рабочим, о которых вы так любите писать в газетах: он проработал на заводе тридцать лет, и отец его тоже был рабочим и тоже проработал на этом заводе много лет.
Хотя я и не симпатизировала этому человеку, но он возбуждал во мне любопытство.
Постепенно я узнала, что Иванов всегда просыпался в пять утра и пил чай из большой кружки, что он заговаривал с женой первым и что она ждала, пока он с ней заговорит, что за чаем он читал газету и что она должна была быть аккуратно сложенной, что он шёл на завод пешком и что ему хотели подарить автомобиль, но он отказался, сказав, что для него это не нужно, а для детей — разврат.
Он возвращался домой вечером и читал технический журнал, в котором я однажды с удивлением обнаружила статью, подписанную: «И. Иванов, мастер». Как-то, зайдя к Пелагее Григорьевне за бельём, я застала Иванова. Сказать откровенно, я испугалась и хотела уйти, но Иванов посмотрел на меня своими колючими глазками и сказал:
— Чего же бежать-то, ведь за делом пришли, — и стал расспрашивать меня, кто я, откуда, и я чувствовала себя так, будто я в школе на экзамене.
Но ничего страшного не случилось; я поговорила с Ивановым минут пятнадцать, освоилась. Словом, всё шло хорошо до тех пор, пока он не спросил, нравится ли мне Ленинград. Я ответила, как обычно отвечала на этот вопрос: что, мол, много мостов, будто город не на земле стоит, а висит в воздухе.
Тут глаза Иванова сделались ещё меньше и злее. Он постучал по столику костяшками пальцев и сказал:
— Вон-на!.. Висит, значит! Ну, выдай ей, Пелагея, бельё.
Тогда я ушла, прижимая к груди ворох выстиранного белья, и никак не могла понять, чем я рассердила этого сумасбродного старика. Только потом я узнала от Пелагеи Григорьевны, что для старика не было развлечения большего, чем показывать приезжему город. Он водил его вдоль Лебяжьей канавки, и мимо Инженерного замка, и по набережной Невы. Иванов любил Ленинград и считал себя коренным ленинградцем.
После этого случая я старалась не встречаться с Ивановым. Он был какой-то степенный, медлительный, неразговорчивый и злой. Мне казалось, что и живёт он как-то медленно. А я… впрочем, вы помните, какая я была. Я решила просто не замечать Иванова.
Мне казалось тогда, что я очень весело и очень счастливо живу. В институте меня любили, подруг было много, я никогда не была одна, вечерами пропадала в театрах или на концертах, легко окончила первый курс института и перешла на второй. За мной ухаживало много студентов, но я терпеть не могла ухаживаний и в душе была уверена, что непременно влюблюсь в того, кто совершенно не будет за мной ухаживать.
И вот я познакомилась с одним врачом. Это было на вечеринке, на второй день ноябрьских праздников в тысяча девятьсот тридцать девятом году. Он был старше меня лет на десять, сидел, как бирюк, в углу комнаты, совсем не танцевал. Мы разговорились.
Это был Григорий, мой будущий муж. Мы поженились и жили вот в этой комнате… За месяцы нашего знакомства с Григорием я почувствовала, что мне стало как-то иначе житься, я всё время ощущала на себе внимательные глаза Григория… Постепенно у нас стало бывать всё меньше и меньше людей, и всё чаще мы проводили вечера втроём: Григорий, я и Лида… С каждым днём я всё более привязывалась к моему Григорию и скоро стала ощущать его как часть самой себя…
Наступил тысяча девятьсот сорок первый год. Почувствовав беременность, я выписала сюда маму. Затем началось ожидание ребёнка, хлопоты, хождение по врачам. Весной у меня родилась девочка. Григорий настоял, чтобы её тоже назвали Ириной. К этому времени я уже окончила институт, защитила проект и получила назначение на тот самый завод, где мастером был мой сосед Иван Иванович Иванов.
На заводе меня сделали сменным мастером, и я, кажется, неплохо работала, хотя у меня всегда было чувство, что главное в моей жизни не завод, а мой дом, мой муж, моя любовь…»
Ирина встала и медленно прошлась по комнате. Мне показалось, что она движется, как лунатик, ничего не видя, руководимая каким-то седьмым чувством.
«Когда радио передало весть о войне, — продолжала Ирина, — я сидела за столом и писала докладную записку директору завода о некоторых усовершенствованиях в конструкции нагревательных печей, Григорий сидел напротив и читал книгу. Я посмотрела на него, не говоря ни слова. Григорий встал и протянул ко мне руки, но я отстранила их и только сказала: «Не надо, не надо!»
В тот же вечер Григория призвали, и ночью он уехал на фронт, успев лишь на несколько минут забежать домой.
Помню, я на прощание долго смотрела в его глаза и потом долго ходила по комнате, как слепая, натыкаясь на вещи. Потом мне стало очень холодно, хотя стояла июньская ночь, я закрыла окно и, дрожа, забилась в угол кушетки. Потом проснулся и заплакал ребёнок, и я стала кормить его грудью, а когда ребёнок заснул, мне показалось очень трудным встать с кушетки, и я так и осталась до конца ночи сидеть со спящей девочкой на руках.
Теперь вся моя жизнь сосредоточилась в дочке. Я думала, что в ней заключена наша любовь, наше счастье, наше будущее…
Этим летом в городе было особенно много цветов, их продавали всюду — на площадях, перекрёстках и в скверах. Днём в городе было по-прежнему оживлённо и народу становилось всё больше. Это прибывали в город жители оккупированных районов. Но вечерами, в темноте, ощущалась тоска и гнетущая пустота.
Я по-прежнему работала на заводе и внешне будто бы была всё такая же, как всегда, только часто стала думать о том, не слишком ли уж легко я жила раньше.
С завода каждый день исчезали люди. Они уходили в армию или в народное ополчение. Прощаясь с человеком, я уже не знала, увижу ли его завтра. Места у станков пустели, а потом их занимали подростки.
Я видела, как затихает завод, и мне казалось, что кровь убегает куда-то из моих жил, что вокруг меня образуется какое-то мёртвое пространство.
Потом я узнала, что завод эвакуируется на восток и что в городе останется только два цеха. Директор завода спросил меня, хочу ли я уехать.
Вопрос этот показался мне бессмысленным главным образом потому, что я не представляла себе, как можно уехать, когда Григорий будет писать мне по ленинградскому адресу. Кроме того, я каждый день просыпалась с мыслью, что, может быть, сегодня приедет Григорий в отпуск на день или два.
Я ответила, что никуда не поеду, и через несколько дней получила назначение помощником начальника одного из остающихся цехов.
Как-то я провела на заводе почти круглые сутки, упаковывала и отправляла оборудование, потому что был приказ закончить эвакуацию в кратчайший срок.
Но вечером ко мне в цех пришёл Иванов и ворчливо сказал, что дочка моя заболела, что он даже привозил к ней врача.
Я помчалась домой. После бессонной ночи у меня кружилась голова и было горько во рту, а дневной свет резал глаза. Дома, у постельки Ирины, я застала врача, мать и Пелагею Григорьевну. Врач успокоил меня, сказав, что всё позади и никакой опасности уже нет.
Я села на кушетку и тут же заснула и проснулась только на другой день вечером. Меня знобило, и голова разламывалась от боли, но я встала и, узнав, что Ирочка спокойно спит, снова помчалась на завод. Войдя в цех, я почувствовала головокружение и упала, а когда очнулась, то поняла, что лежу на кровати в комнате Ивановых, и услышала голос Ивана Ивановича. Он сказал:
— Тебе бы надо тоже уезжать, Пелагея.
Она ответила тихо, но твёрдо:
— Я останусь пока, Иван Иванович.
Я лежала, не открывая глаз, и прислушивалась, но больше в комнате никто не сказал ни слова.
Я пролежала в постели несколько дней, а когда встала, то оказалось, что у меня пропало молоко и Ирочку пришлось перевести на искусственное питание.
Теперь мне всё чаще и чаще приходилось оставаться на ночь на заводе.
Я с ужасом вспоминаю сейчас, что, может быть, не дала Ирочке того, что должна была дать. Но кто пережил это сам, тот простит меня. Ребёнок был моей радостью, моим счастьем. Ирочка была для меня частью Григория. Когда я смотрела на неё, я радовалась, что она растёт, и думала, что с каждым пережитым днём она ближе к новым, счастливым временам. Но иногда мне казалось, что завод заслоняет от меня всё и я уже не вижу перед собой ничего, кроме заводских стен.
Правда, в глубине сознания я всё же жила надеждой, что эта страшная ночь кончится и снова настанет радостный день — и свет, и цветы, и Григорий.
Фактически я жила сейчас в двух мирах — мире воспоминаний, далёком, тёплом, уютном, и в сегодняшнем — холодном и тёмном.
Я устроилась в комнате в полуподвальном заводском помещении, и у меня там не было ничего, что напоминало бы мою прежнюю комнату, только моя любимая маленькая подушка и портрет Григория. Впрочем, я и бывала-то здесь редко. Всё время я проводила в конторке и по суткам не спускалась вниз. Я стала забывать, как выглядит город, потому что никуда не выходила с завода, и только часто звонила домой, справлялась о здоровье Ирочки.
Однажды меня вызвали к телефону. Говорила Иванова. Она сказала, что только что принесли письмо на моё имя, на нём адрес полевой почты… Я бросила трубку, не дождавшись конца фразы. Я только успела крикнуть начальнику цеха, что уеду часа на три. Я помню, стоял осенний вечер. Смеркалось. Город медленно погружался в темноту. Дул резкий ветер, деревья на заводском бульварчике стояли голые, и облака висели очень низко. Я вскочила в громыхающий трамвай и в первый раз почувствовала, что отвыкла от города, от трамваев и от неба над головой. У меня стучало в висках, когда я думала о письме. Трамвай шёл очень медленно, я стояла, стиснутая со всех сторон, и твердила про себя: «Чтоб только он был жив и здоров… Чтобы он был жив и здоров…»
Остановка была несколько дальше моего дома, но я соскочила на ходу, взбежала по лестнице, перескакивая через ступеньки, и стала звонить и стучать в дверь.
Мне открыла Иванова. Письмо было у неё в руке. Я схватила письмо, бросилась в комнату, на ходу разрывая конверт.
Там было всего несколько строк. Комиссар части извещал, что Григорий Александрович Лебедев, военврач второго ранга, геройски погиб в бою под Кингисеппом.
Я дважды прочитала эти строки, и мне показалось странным, что я продолжаю всё видеть и слышать и что все предметы вокруг приобрели какую-то назойливую осязаемость. Я сразу не отдала себе отчёта в том, что произошло, и поймала себя на мысли, что в эту минуту я думаю о чём-то другом. Потом воспоминание, что в такую минуту я подумала о чём-то другом, сводило меня с ума. Мне показалось, что потолок стал ниже, и стены обступили меня теснее, и все вещи в комнате жмутся ко мне, и мне стало страшно. Потом я посмотрела на кушетку, и мне показалось, что Григорий сидит там и протягивает ко мне руки. Я вскочила, стала отступать и, ударившись затылком о стену, закричала. Вбежала Пелагея Григорьевна. Ей ничего не надо было объяснять, она попыталась обнять меня, но я оттолкнула её руки и сказала голосом, который сама не узнала:
— Ну, я пойду.
Я медленно, натыкаясь на вещи, прошла мимо Ивановой, вышла в коридор и стала спускаться по лестнице, не захлопнув за собой дверь. Почему-то запомнила, что на стене лестничного пролёта огромными красными буквами было написано: «Будь готов к тушению зажигательных бомб».
На улице было уже темно, шёл дождь, и я несколько раз сталкивалась с прохожими. Теперь мне хотелось долго и громко плакать. Я мечтала поскорее прийти в свою комнату и зарыться лицом в подушку.
Я хотела пройти через цех в свою комнату, но в цехе ко мне подошёл мастер и сказал, что пришла группа новых рабочих и начальник цеха просил меня расставить их на места. В этот вечер так и не пришлось поплакать, и я уже никогда потом не плакала.
Иван Иванович Иванов должен был уехать с заводом. Но он не поехал. Он считал несолидным для человека своего возраста менять местожительство без каких-либо основательных причин. Он полагал, что раз в Ленинграде остаются гражданские люди и некоторые цехи тоже остаются, то для него нет исключительных причин уезжать из города. Так он и заявил при мне директору. Дочь его уехала с заводом, сын же его на второй день войны ушёл на фронт.
Иванова назначили старшим мастером в цех, где я была помощником начальника.
Это его, видимо, неприятно поразило сначала, но потом он смирился, решив, что, очевидно, он, Иванов, сам по себе, а я — сама по себе. Мне пришлось назначить его, привыкшего работать над тонким материалом, руководить группой молодых рабочих, которые делали проволочные колючки для заграждений. Весь цех делал колючки. Они загромождали помещение, круглые, как дикобразы. Иванов стал ещё более угрюмым. Я знала: он был влюблён в своё тонкое мастерское умение, дающееся прилежанием и годами. Для колючек не надо было умения. Наблюдая за ним, я видела, как он поднимал колючку и, прищурясь, смотрел на неё, точно прицеливаясь, куда бы приложить своё мастерство. Потом пожимал плечами и бросал колючку на пол.
После смерти Григория Иванов стал как-то добрее со мной. Я, кажется, начинала понимать этого угрюмого старика. Следуя своим раз навсегда установленным представлениям о человеке, Иванов считал, что каждый не хлебнувший горя и не боровшийся за своё место в жизни человек — ещё сырой материал, «сыроежка». Я слышала, он часто спорил по этому вопросу с сыном-студентом, который утверждал, что человек создан для радости и что в том-то и счастье нашей эпохи, что человека оберегают от горя.
«В том счастье, в том и несчастье», — пробурчал Иванов, и спор прекратился.
Теперь, узнав о моём горе, Иванов не пошёл ко мне с сочувствием, но стал первым здороваться со мной.
Первый артиллерийский снаряд попал в наш цех в середине ноября. Это было ночью, я спала у себя внизу, а когда прибежала в цех, то увидела облако красноватой пыли, воронку в цементном полу и куски окровавленной одежды, разбросанные по всему цеху.
На другой день в цехе был поднят каменный пол и вырыты блиндажи. Потом обстрелы стали всё чаще и чаще, и скоро к ним привыкли, как привыкли и к фугасным бомбам.
Потом пришла зима. Наступил голод. Теперь я чаще ездила домой: надо было отвозить часть пайка матери и дочке. Для меня было счастьем привезти Ирочке конфету, а потом стало счастьем привезти ей кусок хлеба. Заходя домой, я видела почти невесомую тень Пелагеи Григорьевны и высохшую, сгорбленную фигуру матери. В квартире было темно, и я ощупью пробиралась по лестнице, открывала дверь своим ключом, чтобы не заставлять мать делать лишние движения, проходила в комнату, положив на стол кусочек хлеба, уходила.
Однажды, придя домой, я никого не застала в комнате. Я подумала, что, очевидно, мама с Ирочкой ушла в магазин. Я присела на кушетку и услышала какой-то методический стук в соседней комнате. Он больно отзывался в моих висках. Я вышла в коридор на цыпочках и заглянула в соседнюю дверь.
Я увидела широкую спину Иванова. На столе горела коптилка. Мастер сбивал какие-то доски.
Я не могла больше оставаться одна в холодной и тёмной квартире. Я тихонько постучала в полуоткрытую дверь и вошла. Иванов обернулся, увидел меня, но ничего не сказал, а продолжал заколачивать гвозди. Он бил точными, тяжёлыми ударами.
— Что вы делаете, Иван Иванович? — спросила я.
Иванов повернулся и сказал:
— В цеху отпросился гроб сделать. Для неё. — Он кивнул головой в угол.
Я посмотрела туда, в тёмный угол. Там стояла кровать, и, только присмотревшись, я различила какое-то лёгкое возвышение.
— Иван Иванович! — воскликнула я и пошла к нему.
— Ну, ну… — сказал Иванов, отстраняясь от меня, точно в испуге, — все там будем…
Поздно вечером Иванов и я отвезли тело Пелагеи Григорьевны к братской могиле, взрытой динамитом в мёрзлой земле. Мы шли молча по безлюдным улицам под холодными звёздами. Гроб на санках легко катился по снегу, надо было только чуть-чуть тянуть за верёвку. Весь обратный путь мы не произнесли ни слова.
Немного позже произошло самое страшное. Однажды, подымаясь домой по лестнице, — я уже не взлетала по ней, как раньше, а шла медленно, отдыхая на каждой площадке, — я у самой двери наткнулась на что-то мягкое. Я очень испугалась и стала стучать в дверь, забыв, что у меня есть ключ. Потом я взяла себя в руки, отперла дверь, зажгла в коридоре коптилку и вышла на площадку. У двери, прислонившись к стене, на корточках сидела моя мать, и ветер шевелил на лбу прядь её седых волос. Я, кажется, закричала, бросилась к матери, — она была холодна. Очевидно, она обессилела, не смогла открыть дверь и замёрзла.
Я втащила тело матери в комнату и услышала плач ребёнка. Я была одна в квартире. В полутёмной комнате на кушетке лежала моя окоченевшая мать, а в постельке плакал голодный ребёнок. Я схватила девочку и попробовала согреть её, но это было уже бесполезно. Ребёнок заплакал сильнее. Я положила дочку обратно в постель и больно укусила себе руку, чтобы не потерять сознание.
Потом я услышала шум отпираемой двери и увидела на пороге высокую фигуру Иванова. Я вскрикнула, бросилась к нему и обняла.
— Ну, ну… Чего уж тут… — глухо сказал Иванов, так же, как в прошлый раз…
Ночью мы отвезли мать в гробу, сделанном из столовых досок. Иванов вёз санки, а я несла Ирочку. Мы шли молча, как и тогда…
Что Ирочка не дышит, я заметила, уже подымаясь по лестнице. Иванов шёл за мной, и я ему ничего не сказала. Вошла в квартиру, даже не удивившись, что дверь была не заперта, — я забыла её закрыть, уходя. Войдя в комнату, я увидела Лиду, которую не встречала уже месяца три. Она сказала, что похоронила мать и дочку, а теперь совсем одна и вот пришла сюда. Мы долго сидели молча, а потом Лида тихо сказала:
— Что же теперь нам делать?
Иванов помог мне похоронить и мою дочку. Как прошла потом ночь — я не помню.
Когда на следующий день, едва волоча ноги, мы с Лидой вышли на улицу, на морозный воздух, я увидела, что из руки, которую тогда укусила, почему-то опять идёт кровь. Я подняла какую-то бумажку, валявшуюся на снегу, и залепила руку. Придя на завод, я обнаружила, что эта бумажка — маленькая немецкая листовка и что в ней Ленинграду предлагается сдаться. Я, помню, внимательно, по складам прочла её и вдруг засмеялась в первый раз с начала войны…
— Что с тобой? — спросила Лида.
Не помню, что ответила ей. Кажется, ничего.
Лида осталась на заводе.
В течение трёх месяцев, что я её не видела, она окончила курсы медсестёр. Мы договорились, что она будет медиком в команде МПВО у нас на заводе. Я поселила её на моей койке, — сама я редко ночевала внизу.
Внешне Лида мало изменилась. Правда, она сильно похудела, но в привычках своих осталась такой же, как и была.
И всё же она казалась мне другой. Не знаю почему, но я считала её как бы своей совестью. Это трудно передать, но она влияла на меня своими поступками. И, — теперь мне кажется это странным, — мы с ней редко говорили о близких нам людях: я — о Григории, она — о вас. Может быть, она умышленно избегала этих разговоров, сознавая, что счастливее меня…
Я знала, что она пишет вам письма, и знала, что безответно. Я тоже писала письма туда, в пустоту, — я не могла иначе, — и они оставались у меня неотосланными…
Скажу прямо: это она помогла пережить мне тот страшный вечер.
Она делала всё спокойно и быстро, поэтому я никогда не знала, где предел её силам, её терпению.
Лиду очень любил Иванов. Сначала я не понимала почему, — такие разные люди, — но потом поняла: старик любит, точнее, уважает всё настоящее…
Как мы работали! Я не знала, откуда у меня бралась сила. Если бы мне раньше сказали, что я буду руководить цехом, я подумала бы, что надо мной смеются. А сейчас… Я отвоёвываю людей у смерти, я слежу за каждым: тверда ли сегодня его походка, не дрожат ли его руки, не подозрительно ли задремал он в перерыв? Я в курсе домашних дел каждого моего работника, я выкраиваю ослабевшим крохи дополнительного питания, отправляю в больницы тех, кто не выдержал борьбы, хороню погибших…»
Ирина замолчала. И странно, только теперь я почувствовал, услышал, как звучит её голос.
— Мне надо на завод, — проговорила Ирина. — Если хотите, поедем вместе. Мы там коммуной живём. Лида тоже была с нами…
— Поедем, — согласился я.
…«Поедем» осталось от мирного времени. Мы шли пешком через весь город. Было поздно, когда мы подошли к заводу.
— Вы подождите, я сейчас организую пропуск.
Она ушла, и я остался один у проходной будки.
Передо мной был огромный, неестественно тихий завод. Я не слышал обычных для металлургического производства шумов: ни визга вагонеток на подъездных путях, ни грохота в цехах, — было тихо, будто завод спал.
Вскоре с пропуском вернулась Ирина.
Мы вышли на заводской двор. Было так темно, что в двух шагах от себя я уже ничего не мог различить.
— Мы пройдём через цех, — сказала она из темноты. — Осторожнее, голову!
Сначала мы свернули в какой-то проход, где было совершенно темно, потом вышли в коридор, и я внезапно зажмурил глаза от яркого света. Прямо передо мной, в огромном высоком цехе, прокатывали сталь. Бело-красная лента металла ныряла под валки, появлялась с другого конца, где её клещами подхватывали человек десять рабочих, и снова ныряла обратно. Мне уже давно не приходилось бывать в прокатных цехах, и неожиданное зрелище расплавленного металла, фонтанов искр и двигающихся кранов ошеломило меня. В цехе, видимо, шла напряжённая работа, но рабочих было немного.
— Подождите минуту, — сказала Ирина.
Я видел, как она подошла к нагревательным печам и двое рабочих дотронулись до кепок при её приближении. Она что-то говорила им, показывая на печь. Затем она вернулась ко мне и сказала:
— Ну, пошли.
Проходя по цеху, я увидел в полу какие-то люки, прикрытые металлическими плитами.
— Что это? — спросил я Ирину.
— Блиндажи, — ответила она. — Я вам о них говорила.
Мы миновали цех и по узкому проходу спустились в подвальное помещение. В большой квадратной комнате вдоль стен стояли кровати. В дальнем углу висел противоипритный костюм. Рукава его были раскинуты. Он походил на распятого человека. Посредине стоял стол и топилась железная печь. Около неё на корточках сидела девушка в гимнастёрке с расстёгнутым воротом. Она смотрела на горящие поленья, и огоньки бегали в её зрачках. Она встала, когда мы вошли.
— Здравствуй, Лёля, — сказала Ирина, — мы сегодня ещё не виделись. Познакомься: это товарищ с Волховского фронта.
Лёля протянула мне руку и, когда я пожал её, тряхнула головой:
— Лёля.
…Мы сидели на кровати втроём: Лёля, Ирина и я, на других кроватях сидели девушки — бойцы противовоздушной обороны, пришедшие после своей смены. В котелке на печке кипел кофе — мутная бледно-коричневая жидкость. На столе были сложены порции хлеба — двенадцать маленьких ломтиков, и одна из девушек резала эти ломтики на ещё более маленькие и клала на раскалённую печь. Пахло горелым хлебом. Потом откуда-то появились табуретки, и все сели к столу. Девушка, которая поджаривала хлеб, разлила кофе в металлические кружки и раздала всем по ломтику. Я тоже получил кружку и кусочек обжигающего пальцы хлеба.
Ирина сидела рядом со мной. И мне почему-то вдруг захотелось, чтоб она улыбнулась. За всё время, проведённое вместе с ней, я не только не слышал её смеха, который так не любил раньше, — я не видел её улыбки. Мне хотелось, чтобы она улыбнулась именно сейчас, в этой комнате, когда топится печка, и дымятся горячие кружки, и хлеб обжигает пальцы. Я уже готов был сказать ей об этом, но в это время Ирина обратилась к девушкам:
— Ну вот, сейчас мы поужинаем, а потом расскажем товарищу о Лиде. Расскажем, как она жила здесь. Он очень хотел её увидеть, а вот не пришлось…
Мне стало не по себе. Я хотел было остановить Ирину, сказав, что не нужно устраивать «вечер воспоминаний», но в это время Лёля воскликнула:
— Я сплю сейчас на её постели!.. А раньше наши постели стояли рядом… Мы о многом с ней говорили. Было время, когда я хотела уехать из Ленинграда, уж очень тяжело было. А она меня отговорила. Я даже помню, как она сказала: «В жизни, говорит, один раз проходишь настоящую проверку: человек ты или ни то ни сё». Ух, как она меня в работу брала! «Главное, не распускайся», — говорит. Я знала, ей самой тяжело было. Мать у неё умерла и ребёнок… А всё-таки осталась в Ленинграде. И я вот осталась. А сейчас не жалею…
— Да… кажется, уж давно это было, — задумчиво сказала её соседка. — Это когда в цех два снаряда попало. Ночью это было. Помните? Лида тогда не дежурила, но она, как услышала разрыв, — прямо с кровати, ноги в валенки, куртку схватила и в цех. Я тоже за ней побежала. Что там было, помните, Ирина Григорьевна? Снаряд прямо в нагревательную печь угодил, разворотил всё, пятерых рабочих на месте убило, а одного болванкой придавило… Он лежит, хрипит, а Лидушка на коленях рядом с ним и говорит спокойно, спокойно: «Ты, говорит, потерпи, родной!..» И гладит, гладит его по волосам. И пока болванку снимали, всё ему твердила: «Терпи. Вытерпишь — жить будешь…» А потом пришла сюда, легла вот на эту кровать лицом вниз и плачет. Я подошла, помню, села рядом, обняла и говорю: «Что ж ты, других терпеть учишь, а сама?» А она как обернётся, глаза у неё сухие и красные, и говорит: «Учить-то легче, чем самой…»
Я всё время сидел, опустив голову. Всё плыло перед глазами, и мне казалось, что я вижу её здесь сейчас, вижу такой, какой не видел никогда, в стёганой куртке и шапке-ушанке. Я видел её пальцы на волосах хрипящего, придавленного железом человека и её вздрагивающие плечи вот на этой постели.
— Это точно, так было, — подтвердил чей-то глухой бас.
Я поднял голову. У дверей стоял старик. Он был очень высок. На нём была спецовка, надетая поверх ватника. Из бокового кармашка торчал блестящий инструмент. У него были седые, опущенные книзу усы. В полумраке я не мог рассмотреть его лица, и казалось, что усы свисают прямо из-под низко надвинутого козырька кепки.
Все смолкли, услышав его голос, и только Ирина произнесла спокойно и, как мне показалось, с какой-то теплотой:
— Это ты, Иваныч? Случилось что-нибудь?
Он молча подошёл к Ирине, медленно, высоко подняв голову и ни на кого не глядя. Так ходят люди, уверенные, что все уступят им дорогу. Уже миновав меня, он молча дотронулся до кепки, и я не понял, к кому относилось это приветствие, но невольно привстал и сказал:
— Здравствуйте.
Старик даже не обернулся. Подойдя к Ирине, он стал говорить с ней вполголоса, но так, что на другом конце комнаты было всё прекрасно слышно. Он говорил о каком-то Фёдорове, умершем утром у проходной будки.
— Гроб я сколочу, — проговорил Иваныч, — а насчёт досок ты постарайся.
Я видел, как он молча, так же высоко подняв голову, пошёл к двери. Поравнявшись со мной, он внезапно остановился и спросил:
— Лидией Фёдоровной интересуетесь?
Я вздрогнул. Неожиданным был и сам вопрос, и то, что он назвал её так, как я никогда не называл её ни в мыслях, ни вслух.
— Человек она хороший, — произнёс он, не дожидаясь моего ответа.
— Спасибо, — поблагодарил я, не зная, что ответить.
— Ей спасибо скажите.
Мне была непонятна его мысль, но расспрашивать показалось неудобным. А Иваныч уже шёл к дверям, и я видел его широкую, чуть сутуловатую спину.
— Наш мастер, — сказала Ирина.
…Мы сидели за большим квадратным столом. Потрескивали дрова в печурке. Кофе был выпит и хлеб съеден. А девушки всё говорили. Одна перебивала другую, и мне сначала было непонятно, почему они так горячо участвуют в этом «вечере воспоминаний». В конце концов Лида не могла быть одинаково близкой им всем. Но потом я понял внезапно, как бывает, когда разглядываешь «загадочную картинку» и не можешь сообразить, «где охотник», но вдруг ясно его увидишь, и потом, как ни перевёртывай картинку, охотник всегда будет перед твоими глазами, — так внезапно я понял, что, рассказывая о Лиде, они рассказывали о себе. Все двенадцать девушек жили в одной комнате. Они спали здесь, вместе ходили на дежурство, складывали вот на этом столе свои крохотные пайки, чтобы потом разделить их поровну. Им нечего было друг другу рассказывать. Жизнь каждой была на виду у остальных. Они просто сложили свои двенадцать жизней в одну. Жизнь Лиды была их жизнью. Её физическое отсутствие роли не играло. А я был для них новым человеком. И они, рассказывая мне о ней, рассказывали о себе.
Потом все девушки поднялись, как по команде, и ушли разгружать только что прибывший эшелон с дровами. Мы остались с Ириной вдвоём.
— Простите меня, Ирина, — сказал я.
Она подняла свои большие глаза.
— За что?
— Вы знаете, я не любил вас. Мне казалось, что вы слишком… — Мои мысли смешались, я замолчал.
Губы Ирины дрогнули.
— Послушайте, — спросила она внезапно, потупив глаза, — если бы вы сейчас нашли свою Лиду, вы были бы совершенно счастливы?
— Конечно! — вырвалось у меня.
— А я… — произнесла она, точно в полусне, — если бы он вернулся… конечно… нет. Этого мне было бы теперь мало… И Иванычу этого было бы мало.
Я не понял её. И, что самое важное, я боялся её расспрашивать. Она казалась мне комком обнажённых нервов.
— Ну, вам надо идти, — заторопилась Ирина. — А мне пора в цех. Я вас провожу.
У проходной будки мы остановились. Я протянул Ирине руку, она пожала её и задержала в своей руке.
— Я ничего не рассказывала вам об одном… — тихо проговорила она.
— О чём?
— О вас. О том, как она часто говорила о вас. И письма писала… — Голос Ирины стал мягким, и хрипота исчезла. — Только отправлять-то их было некуда… Эх, приехать бы вам на месяц раньше…
Я был рад, что на дворе темно и не видно моего лица.
— Ну, что поделаешь, — сказал я, — видно, не судьба… Прощайте!
Она ушла, бесшумно ступая валенками по снегу. Я, вспомнив о самом главном, крикнул:
— Какой же военкомат?
— Нашего района! — ответила Ирина из темноты.
…В военкомате, куда я пришёл на следующий день, было пусто, но я уже знал, что в большинстве учреждений обитаема лишь одна, наиболее тёплая комната. Я отыскал эту комнату и обратился к военкому, седоватому низенькому человеку, со своей просьбой.
— Э-э, — протянул военком, когда я попросил справиться по картотеке, куда направили Лиду. — Разве сейчас установишь? — В голосе его было раздражение. — Обстреляли нас недавно… Правда, хозяйство мы почти всё спасли. Вот теперь сидим день и ночь, разбираем…
Мне стало неловко. Я понимал, что моя просьба, изложенная, так сказать, официально, могла вызвать раздражение у человека, занятого большой работой. Тысячи подобных дел могли бы возникнуть у каждого ленинградца. Я сказал военкому возможно мягче, что сознаю всю несвоевременность моей просьбы, но пробуду в Ленинграде очень недолго, и если между делом он приказал бы…
— Хорошо, — сказал военком и повернулся к пожилому, с острой бородкой человеку, сидящему у двери.
— Вот, товарищ Козочкин, будете карточки разбирать, поищите. — Он записал на листке бумаги имя, отчество и фамилию и протянул Козочкину.
Теперь моя судьба была в руках этого человека.
25 января
Засвистели снаряды. Радио объявило о начале артиллерийского обстрела.
Было непривычно слышать выстрел и затем свист и ждать разрыва. И было страшно осознать, что через несколько секунд оборвётся чья-то жизнь.
На фронте это воспринималось по-другому. Там люди сидели в окопах и блиндажах с оружием в руках. Они знали, что воюют, то есть готовы убивать и принять смерть. Но здесь люди ходили по улицам или лежали в постелях, и было противоестественно думать о том, что вот сейчас, через секунду после этого свиста, с грохотом разлетится стена, взовьётся чёрный столб разбитого камня, дерева и снега и наступят разрушение и смерть.
Обстрел продолжался часа два.
…Ночью ко мне пришли два корреспондента центральных газет. Они жили этажом ниже и захватили свои коптилки. Мы зажгли сразу три коптилки, и стало относительно светло.
Один из корреспондентов был высокий, худой, с огромной чёрной шевелюрой и с бровями, расходившимися под углом, говорил глухим басом, — настоящий Мефистофель. Он только позавчера прилетел в Ленинград из Москвы. Другой был мал ростом, толст, несмотря на блокаду, и светел, и на лице его, казалось, никогда не было никакой растительности.
— Ну, как там, на Волхове? — спросил толстяк.
Я ответил, а потом попросил рассказать о Ленинграде, но только по порядку, месяц за месяцем: мне хотелось восстановить картину осады города. Толстяк был в городе с начала войны. Беседуя, мы засиделись далеко за полночь.
— Я уже тут два дня, — сказал Мефистофель, — а в газету не передал ни строчки. Уже две ругательные телеграммы получил. Хожу по городу и не знаю, с чего начать. Охватить не могу. И страшно и величественно. А как писать об этом, не знаю… Нельзя писать о голоде, не испытав его, — добавил Мефистофель, точно убеждая кого-то.
— Вы думаете, что дело только в голоде? — спросил я.
— А в чём же?
Я не стал выяснять. Это было ни к чему.
— Хочу поехать на Ладогу, — сказал Мефистофель. — Проехать по всей трассе и написать пару очерков. — Он так и сказал: «пару очерков». — Может, вместе двинем?
Я ответил, что у меня есть ещё дела в городе, но на Ладоге я побываю обязательно.
Мы распрощались, корреспонденты ушли и унесли свои коптилки. Стало темно. Я разделся, залез в кровать и укрылся матрацем поверх одеял. Матрац я выпросил днём наверху, в госпитале.
26 января
Сегодня, возвращаясь вечером с телеграфа, я увидел впереди невысокого, сутулого военного. Что-то показалось мне в нём знакомым, и я прибавил шагу, чтобы посмотреть на его лицо. Опередив его, я обернулся. Я увидел острую бородку. Это был Козочкин.
— Здравствуйте, товарищ Козочкин, — сказал я, останавливаясь.
Козочкин тоже остановился, бородка взлетела вверх, а глаза смотрели на меня растерянно и недоумённо. Всё лицо его было в инее: ресницы, брови, бородка, даже из носа торчали серебряные волоски. Он походил на какого-то блокадного деда-мороза, похудевшего и очень старого.
— Я был у вас вчера в военкомате, — напомнил я. — Насчёт девушки одной. Помните?
— А-а, да, да, помню, — закивал Козочкин. — Я искал вчера и сегодня, но пока ничего… Ничего, знаете, ещё не нашёл. Завтра начну разбирать второй ящик с картотеками.
Мы шли по улице, перелезая через сугробы. Козочкин явно замёрз. На нём была кургузая солдатская шинель, командирские знаки в петлицах выглядели как-то неуместно.
— Где вы живёте? — спросил я Козочкина.
— Далеко! — ответил тот. — Раньше жил близко, да снарядом дом разворотило… Сейчас к знакомому перебрался. На Подольскую.
Мы проходили мимо улицы Гоголя.
— Пойдёмте ночевать ко мне, — предложил я. — Мы почти у дома. Незачем вам тащиться на Подольскую.
Бородка приподнялась и застыла в размышлении.
— Нечего думать, пошли. Только предупреждаю, у меня холодно.
— Где теперь не холодно! — возразил Козочкин. — У приятеля тоже дров нет.
— Ну, тем более, — сказал я, — значит, идём.
Войдя в комнату, я с трудом зажёг коптилку закоченевшими пальцами.
— Устраивайтесь на диване, — предложил я Козочкину.
Он сел и стал дуть на руки. Потом он растопырил пальцы над пламенем коптилки, и они стали покрываться копотью.
— Вот холодина-то, — проговорил Козочкин. — Сейчас бы чайку горячего! — Он произнёс это таким тоном, будто мечтал о черноморском пляже.
Чайку. Это действительно было бы просто великолепно! То есть не чаю, конечно, — об этом нечего было и думать, — а просто несколько глотков воды, горячей-горячей, чтобы обжигала рот.
— Посидите, — попросил я Козочкина и вышел в коридор.
У меня была идея. Я поднялся наверх, в стационар для дистрофиков. В полутёмной «дежурке» светлело какое-то пятно. Я кашлянул, и пятно расплылось.
— Кто там? — спросила сестра.
На «дипломатические» переговоры ушло несколько минут. Затем я спустился по тёмной лестнице, держа в одной руке два стакана, а в другой драгоценный чайник с кипятком.
— Вот и чай, — сказал я Козочкину, входя в номер.
Я разлил кипяток в стаканы, и мы стали пить. Стакан обжигал пальцы, хотя вода успела немного остыть, пока я нёс чайник.
Козочкин пил, причмокивая. Его глаза были полузакрыты, он наслаждался. Мы выпили всё, что было в чайнике. Затем Козочкин расстегнул шинель и откинулся на спинку дивана.
— Хорошо! — воскликнул он умилённо.
Мне показалось, что он тотчас же задремал.
— Что вы делали до войны? — спросил я.
— До войны? — Козочкин открыл глаза, сделал паузу, словно припоминая: а что он, в самом деле, делал до войны? — Я настраивал рояли.
Это было неожиданно. Собственно, в самой профессии настройщика роялей не было ничего необычного. Но было странно слышать о ней в эти дни в Ленинграде и ещё более странно — видеть перед собой самого настройщика.
— Интересная профессия, — сказал я.
Козочкин молчал.
— За время войны вы, наверно, уже забыли её, — добавил я, чтобы что-нибудь сказать. — Наверно, вам показалось бы очень странным, если бы кто-нибудь пригласил вас сейчас настроить рояль.
Козочкин покачал головой.
— Нет, мне не показалось бы это странным, — тихо ответил он.
Я молчал, чувствуя, что это не всё, что хотел сказать Козочкин. Но Козочкин не раскрывал рта, и я интуитивно почувствовал его сомнение: стоит ли раскрывать душу перед малознакомым человеком?
— А чем вы занимались до войны? — неожиданно спросил он.
— А тем же, чем и теперь, — ответил я. — Писал.
— И читали?
— И читал, разумеется.
— Библию читали?
Разговор делал какой-то фантастический зигзаг.
— Приходилось, — ответил я. — И Библию и Евангелие.
— Евангелие неинтересно, — сказал Козочкин, — и читать его сейчас вредно, — добавил он менторски. — Оно о смерти больше. А Библия земная книга. Сказка, конечно, но земная.
Я промычал что-то неопределённое, не понимая, к чему он клонит.
— «Песню Песней» помните? — спросил Козочкин. — А обличения Иеремии?
Я ответил, что Соломона помню, а Иеремию — смутно.
— Перечитайте, — сказал Козочкин. — Это очень хорошо. Там большая радость жизни и большая страсть. А без этого в Ленинграде не проживёте. Вы вот говорите — профессия не оборонная. Это ошибка, что Ленинграду нужны профессии. Ему люди нужны. И вера и страсть… Впрочем, я и сейчас настройщик.
— Где-нибудь в воинской части? — спросил я.
— Нет. Рояль не походный инструмент. Я настраивал здесь. В «Астории».
Он наклонился ко мне и стал рассказывать медленно, как рассказывают сказку детям:
— Жил старик музыкант. Он тоже остался. У него был рояль, прекрасный инструмент. Квартиру разбило снарядом. Рояль — тоже. Старик перебрался к знакомым. Но там не было рояля. Откуда-то он узнал, что здесь, в «Астории», в одном из номеров сохранился прекрасный рояль. Раньше на нём упражнялись разные приезжие знаменитости. Теперь там никто не жил. Старик зашёл к директору. И ему разрешили. Рояль отсырел, струны спутались. Музыкант нашёл меня. Мы провозились с инструментом два дня…
— Подождите! — крикнул я и схватил Козочкина за руку. — Он там… наверху, этот музыкант?
Козочкин хитро улыбнулся:
— И вы его слышали? Значит, до сих пор играет?
Я ничего не ответил.
— Он и не умер-то из-за рояля, — сказал Козочкин. — Когда сильно любишь что-нибудь — не умрёшь.
Затем мы легли спать.
Я уже засыпал, когда услышал голос Козочкина:
— А где вы жили постоянно до войны?
Я ответил, что в Москве.
— Напрасно, — сказал Козочкин. — Каждый литератор должен стремиться в Ленинград. Вспомните-ка: даже такие корифеи, как Пушкин, Лермонтов, Белинский, Жуковский, устремлялись сюда.
Я не стал с ним спорить. Заснул, и в эту ночь мне приснился сон, что я вижу её, но подойти не могу, и чем ближе я подхожу, тем дальше оказываюсь, а потом она стала совсем неразличимой, точно растворилась в заснеженных ленинградских улицах. Потом мне приснилось, что по Невскому проходят войска, а впереди идёт барабанщик и бьёт в барабан. Не оркестр, а один барабанщик…
28 января
Сегодня с утра пошёл в военкомат. Козочкин вскочил, увидя меня.
— Нашёл, нашёл! — возбуждённо сказал он. — Вот и карточка её, вот смотрите! Направлена в санотряд по обслуживанию Ладожской трассы. Там её и ищите.
Мне хотелось обнять и расцеловать Козочкина. Но я только крепко пожал ему руку и побежал обратно в гостиницу. Я не пошёл в свою комнату, а постучал в номер к Мефистофелю. Дверь была не заперта. Корреспондент ещё спал, укрывшись с головой. Из-под полушубка торчали его длинные ноги. На столе стояла коптилка. Потолок был чёрен от копоти.
Я разбудил его и спросил, когда он собирается ехать на Ладогу.
Мефистофель сел на край кровати, поджав под себя ноги, поморгал и сказал, что едет завтра утром. У него была машина.
— Я поеду с вами, — сказал я.
— Прошу, — галантно ответил Мефистофель.
Мы расстались до утра.
…Мефистофеля звали Юрий Ольшанский. Мы выехали с ним в десять часов утра. Я сидел в кузове полуторки, а Ольшанский, как хозяин машины, в кабине. Километров за шесть до озера что-то случилось с мотором, и шофёр объявил, что тут работы часа на четыре. Мы решили двигаться на попутных.
Нам повезло: за нами шла трёхтонка. Мы «проголосовали», забрались на прикрытые брезентом кули с сухарями и через полчаса были у Ладоги. Но здесь наше «везение» кончилось: дальше машина не шла.
Мы стояли на берегу скованного льдом озера. Надо льдом висел туман. Гладкая, наезженная дорога спускалась с берега и исчезала в молочно-сером тумане. Эта дорога была единственной, связывающей блокированный Ленинград с Большой землёй. Недаром она называлась «дорогой жизни».
— Пойдём искать КП, — предложил Ольшанский. У него уже выработался «нюх» на блиндажи.
Мы побродили по берегу и скоро увидели занесённый снегом тамбур землянки. Мы вошли, а следом за нами ворвалось облако пара, и всё заволокло на миг.
Когда пар рассеялся, я увидел у столика лейтенанта в меховой безрукавке. Он вопросительно смотрел на нас. Мы представились, и Ольшанский сказал, что хотел бы написать «пару очерков» о трассе, да вот сломалась машина, и теперь неизвестно, как придётся добираться.
— А зачем вам машина? — сказал лейтенант. — Мало разве машин по трассе ходит? Идите себе по трассе и смотрите. Вот и всё. А устанете — попутная подвезёт.
Мы посовещались с Ольшанским и решили, что лейтенант, пожалуй, прав. Надо погреться немного и трогаться в путь.
— А где ваша санчасть? — спросил я.
Лейтенант улыбнулся.
— Ну вот, как корреспондент — так прежде всего в санбат. На льду наши медики, на льду все. Они у нас боевые.
— Как же их найти?
— А по указателям! У нас по всей трассе указатели расставлены, как на Невском. Только светофоров не хватает! А дорога одна: прямо да прямо.
Мы погрелись немного и вышли из землянки.
Дул сильный ветер, но туман не рассеивался. Он только «спрессовался», прижавшись ко льду. Выше воздух был прозрачен. Мы шли по озеру, по которому раньше, до войны, никто не ходил и почти не плавал: оно было капризным, штормящим, изобилующим большими глубинами и коварными мелями. Никто не мог предугадать его роль в судьбе осаждённого Ленинграда.
Мы шли молча. Навстречу нам, громыхая цепями, неслись тяжело гружённые автомашины, и брезент, прикрывавший груз, раздувался на ветру, как крылья.
Шли полуторки, трёхтонки, горы грузов на них громоздились выше шофёрской кабины. Цепь машин исчезала в тумане, и думалось, что она бесконечна.
— Посмотрите, — показал я Ольшанскому в сторону машин, — будто сплошная артерия, цепь, связывающая Ленинград с Москвой.
— Радио связывает надёжнее, — заметил Ольшанский, — и телеграф тоже. По дну Ладоги кабель проложен.
— Я не про то… Как вы не понимаете!
— Почему же это я не понимаю? — обиделся Ольшанский. — Вы говорите в фигуральном, так сказать, смысле.
Он начинал раздражать меня.
— Никакой фигуральности, — резко произнёс я. — Говорю в прямом смысле. Если бы не эта артерия, Ленинграду бы не выстоять, несмотря на весь его героизм. Впрочем, дело не только в трассе. Всё это надо понимать шире, гораздо шире…
Ветер становился всё сильнее, и вскоре по льду закружились маленькие снежные смерчи и замела позёмка. Мы подсели на попутную машину, проехали километров двенадцать и слезли, потому что сильно промёрзли. Побежали, чтобы согреться, но, когда снова захотели сесть в машину, как назло, на трассе ни одной не оказалось.
Я шёл, смотря на указатели, — их действительно было очень много, — пока не прочёл: «Санбат. 5 километров», и не увидел стрелку, указывающую на юг.
— Пойдём быстрее, — сказал я Ольшанскому.
Ветер дул всё сильнее. Он дул рывками, с короткими промежутками затишья. В один из таких промежутков мы услышали гул самолёта. Я обернулся и увидел «дуглас». Самолёт шёл совсем низко над озером. Над «Дугласом», на значительной высоте, шёл истребитель.
— Один только! — воскликнул Ольшанский, показывая на истребитель. — Обычно сопровождает больше.
Он проявлял чрезвычайную осведомлённость во всех делах. «Дуглас» пролетел над вашими головами, и в этот момент Ольшанский крикнул:
— Смотри! — и схватил меня за руку.
Я посмотрел в сторону, куда показывал Ольшанский. В молочной дымке облаков я увидел медленно плывущие серебристые точки.
— Это «мессеры»! — прошептал Ольшанский.
Я тоже не сомневался в том, что это немцы. Они плыли, то скрываясь в кашице облаков, то появляясь в просветах. Мы внимательно следили за их полётом.
— Они не видят! — воскликнул Ольшанский.
«Дуглас» был уже далеко от нас. Он быстро приближался к едва заметной вдали линии берега.
— Они не видят! — повторил Ольшанский.
В этот момент я заметил, как три плывущих в облаках самолёта резко изменили курс. Где-то захлопали зенитки, и в небе вспыхнули одуванчики разрывов. Но самолёты, круто развернувшись, устремились туда, где только что скрылись из нашего поля зрения «Дуглас» и истребитель. Скоро все они исчезли в туманной дымке.
— Вдогонку пошли, сволочи! — сказал Ольшанский. — Ну, над землёй они чёрта с два его различат. Он над самым лесом полетит. Только бы над озером не догнали. А истребителю достанется.
Мы стояли и смотрели туда, где скрылись самолёты. Вскоре оттуда послышался нарастающий звенящий гул моторов. Затем мы увидели четыре самолёта. Всё стало ясным: немцы атаковали наш истребитель.
Дальнейшее произошло молниеносно. Не было ни карусели воздушного боя с завыванием моторов, ни треска пулемётных очередей. Просто мы услышали резкий пушечный удар, и один из самолётов, в чёрном дыму, ринулся с небосклона. Мы видели, как с каждой секундой уменьшается расстояние между самолётом и льдом, услышали сильный треск взламываемого льда и увидели столб воды, взметнувшийся из провала.
— «Мессер», «мессер»! — уверенно закричал Ольшанский.
Затем самолёты в небе смешались, и я уже не мог отличить немецкий от нашего. Вдруг я увидел, как один из самолётов без дыма, без обычного языка пламени стал медленно планировать.
— Это наш, Ольшанский, наш! — шёпотом сказал я.
Очевидно, у самолёта был повреждён мотор. Немцы прижимали его к озеру, обстреливая из пушек и пулемётов.
Истребитель бесшумно, как планёр, скользнул над озером. Наконец его лыжи коснулись льда, и он замер, белый, почти неразличимый на снегу. Он сел не более чем в ста метрах от нас. Немцы пронеслись над ним с победным воем моторов. Я увидел, как из кабины истребителя выпрыгнул лётчик и бросился под мотор. Мы побежали к нему.
— Ложись! — крикнул Ольшанский.
Я бросился в снег и увидел, как два самолёта, развернувшись, пикировали на беспомощный истребитель. Они на бреющем полёте пронеслись над ним, я услышал пулемётную очередь, увидел столбики снежной пыли и ямки на снегу, похожие на заячий след.
— Они его будут расстреливать, — прошептал Ольшанский.
Самолёты развернулись и снова стали заходить на истребитель. Когда они вторично пронеслись над нами и снежная пыль взвилась совсем рядом, я крикнул:
— К самолёту! — вскочил и побежал.
Ольшанский бежал за мной. Надо было успеть добежать до самолёта, пока немцы не развернутся. Там всё-таки было укрытие. Мы успели. Я добежал первый и с размаху нырнул под мотор. Ольшанский повалился на меня. Лётчик лежал на спине и сжимал в руке наган.
— Полегче, ребята, — прохрипел он.
Мы прижались друг к другу. Пули ударили в металл над нашими головами.
Казалось, что этому не будет конца. Самолёты разворачивались, проносились над нами на бреющем полёте, палили из пулемётов и пушек и поднимали вокруг снежную бурю. И каждый раз, когда они проносились, лётчик произносил только два слова: «Ни черта!»
Потом они улетели. Мы вылезли из-под мотора. Не было ничего более приятного, чем видеть, как удаляются «мессершмитты». Лётчик вылез следом за нами. Меховой комбинезон висел на нём клочьями. Он встал, похлопал рукой по мотору и сказал:
— Ни черта! Выручил. Ленинградская вещь!
— Ранен? — спросил я.
— Ни черта! — хрипло ответил лётчик.
Но я увидел на снегу, там, где он лежал, красное пятно.
— Посмотри получше, — сказал я, — сгоряча не чувствуешь.
Лётчик похлопал себя по груди и по бёдрам.
— Руки есть, ноги тоже есть. И башка есть, — сказал он.
— А кровь откуда? — спросил я, показывая на снег.
— Кровь? — Лётчик посмотрел на снег и повторил растерян но: — Кровь?.. Да, кровь.
Но тут я сам увидел кровь на его валенке. Очевидно, он был ранен в левую ногу.
— Снимай валенок, — сказал я.
— Да ни черта! — махнул рукой лётчик.
— Сейчас — ни черта, а потом — без ноги! — крикнул я. — Садись!
Лётчик сел в снег, и я стал стягивать с него валенок.
— Больно? — спросил я. Мне важно было знать, задета ли кость.
— И ничего не больно, — буркнул лётчик.
В валенке скопилось много запёкшейся крови. Я завернул штанину. Рана была небольшой. Бинт оказался у лётчика в сумке. Я перевязал рану и укутал ногу.
— Теперь пойдём в санбат, — сказал я. — Вдвоём мы тебя доведём. Это рядом. Километра три.
— Никуда я не пойду, — ответил лётчик. — Что вы, в уме — машину бросить? Идите-ка лучше сами, пусть полуторку пришлют да бойцов, охрану поставить.
— Ладно, — сказал я. — Ольшанский останется здесь. — Мефистофель кивнул. — А за тобой приедут через полчаса.
Мы уложили лётчика на снегу под мотором, и я зашагал по направлению к санбату.
Холодный ветер крепчал с каждой минутой, и было трудно устоять на льду.
Я прошёл около километра и увидел полуторку, которая, громыхая цепями, неслась мне навстречу. Когда она была уже близко от меня, я рассмотрел красный крест на переднем стекле. Я поднял руку, и машина, поравнявшись со мной, замедлила ход.
— Там лётчик раненый! — крикнул я.
— Знаем! — ответил из кабины женский голос, и машина снова понеслась.
Идти было очень трудно. Поднялся штормовой, ледяной ветер. Трассу заносило снегом. Я шёл сквозь туман. Валенки мои проваливались в сугробы и снег набивался за голенища. За лётчика я был теперь спокоен. Через несколько минут машина будет у самолёта. Очевидно, в санбате видели, как он снизился, и выслали машину.
Теперь я уже не думал о лётчике. Я думал о Лиде. Уже не сдерживал себя, а шёл и повторял: «К ней, к ней…» — и мне было легче идти.
Наконец я увидел большую санитарную палатку. Она стояла в стороне от трассы. Было уже темно. У входа лежали на снегу розовые отблески, — очевидно, в палатке топилась печь. Я приподнял мокрый от снега полог и вошёл.
У входа действительно топилась печурка, а дальше в полумраке я увидел людей, сидящих на топчане.
Я поздоровался и для проверки прежде всего сказал о лётчике.
— Знаем, знаем, — ответил мне кто-то из полумрака, — уже машина пошла.
Значит, всё было в порядке.
Теперь я различал сидящих на топчане людей. Их было двое: военврач третьего ранга и военфельдшер. Они пили чай. Я представился, и военврач налил мне кружку чаю.
— Согревайтесь, — сказал он. — Ну, как там, на Большой земле?
Я пил, обжигаясь, горячий чай и рассказывал о Большой земле. Они, сидящие здесь, на льду, были «буфером» между Большой землёй и Ленинградом. Для них было одинаково интересно и то, что происходит в Питере, и то, что происходит там, за Ладогой.
А потом я спросил, стараясь говорить как можно спокойнее, не знают ли они, где работает… я назвал фамилию.
— Как же, — спокойно ответил военврач, — у нас работает.
Мне показалось, что это сказал не он. Мне показалось, что я слышу свой собственный голос.
— У вас? — повторил я.
— Именно, — ответил военврач. — Вернее, работала. Сегодня уехала в распоряжение фронта. Да вы говорите, что встретили санитарную машину? Вот она на ней и поехала.
Я вскочил.
— Но ведь машина вернётся?
— Зачем же ей возвращаться? Лётчика повезут прямо в Питер, в госпиталь.
Я выбежал из палатки. Завывал холодный, штормовой ветер, и острый снег бил в лицо. Где-то на трассе буксовала машина, и издали слышались артиллерийские разрывы, и было темно, совершенно темно…
— Куда это вы сорвались? — спросил врач, когда я вернулся в палатку.
— У самолёта остался товарищ, — ответил я. — Хотел посмотреть, не идёт ли он.
— Ну, сейчас нас отыскать трудно, — сказал врач. — Мы — как папанинцы на льдине. Он, наверно, вернулся с машиной в Ленинград.
— Да, — согласился я, — наверно, он вернулся.
Было мучительно думать, что Ольшанский сейчас вместе с ней в машине… Если бы они хоть разговорились и Ольшанский сказал, с кем он ходил по Ладоге… Но на это было мало надежды. Она, наверно, останется в кабине, а он сядет в кузов. Доехав до города, он постучит шофёру и выпрыгнет. Вот и всё. Но, может быть, в кабину посадили раненого лётчика? Конечно, они посадили его в кабину, если он ещё в состоянии сидеть. И тогда она с Ольшанским едет в кузове. Ольшанский — общительный тип…
Я сидел и думал: «Если бы он с ней заговорил! Ну вот, они сидят в кузове, и он закрывает ей ноги плащ-палаткой, — разве это не повод для разговора? Или он просто спрашивает, до какого места пойдёт машина. Наконец, надо же ему написать о Ладоге свою «пару очерков». Неужели он не затеет разговора о трассе? «О людях» — как принято выражаться…»
Отчаяние охватило меня. Мне казалось, что я слышу их разговор, десятки вопросов, которые задаёт Ольшанский, и её ответы, тогда как ему нужно сказать всего два слова…
Завывал ветер. Полотнища палатки колыхались, и верёвки, привязанные к колышкам, вбитым в деревянный настил, натягивались, как струны. Были минуты, когда казалось, что порыв ветра опрокинет палатку, раскидает по льду людей, топчаны, горящие в печке дрова, исхлещет всё острым, колющим снегом.
— Даёт жизни! — сказал военфельдшер.
— Теперь до утра, — подтвердил врач.
— Что «до утра»? — спросил я.
Мне показалось, что я пропустил начало разговора.
— Ветер до утра, — сказал врач. — Ну, ужинать будем?
Он встал с топчана и потянулся, широко раскинув руки. Он был очень высок. У него была чёрная, неровно подстриженная борода. Трудно было определить, сколько ему лет, хотя мне показалось, что он молод.
Никто не ответил. Только ветер свистел. Врач подошёл к печке, опустился на корточки и стал помешивать угли.
— Я думаю, надо поужинать, — сказал врач. — А вы как?
Это относилось ко мне. Я заявил, что есть не хочу.
— Бросьте, бросьте, — ворчливо отозвался врач. — Корреспонденты всегда хотят есть. Я ведь и на Большой земле работал. Будем кашу варить. Орёл! — крикнул он фельдшеру.
Но с нар раздавалось тихое сопение.
— Спит, — заметил врач. — Ну и пусть спит. Сейчас приготовим воду.
Он взял котелок и нырнул под мокрый полог, прикрывавший вход. Через минуту он вернулся с котелком, наполненным снегом.
— Во как живём! Как на льдине! — Ему, видно, нравилось это сравнение. — Чтобы получить полкотелка воды, — деловито пояснил врач, ставя котелок на печь, — надо три раза наполнить его снегом. Вода будет препаршивая, предупреждаю, но другой нет.
Он поднял с пола лучинку и стал помешивать ею снег в котелке.
— Гигиена! — улыбнулся я.
— Такого слова не существует, — убеждённо ответил врач.
Он начинал мне нравиться. У него были деловитость и какое-то благодушно-ироническое отношение к тому, что он делал. Он производил впечатление «лёгкого» человека.
— Есть много способов приготовления пшённой каши из концентрата, — рассуждал он, помешивая снег лучинкой. — Можно дождаться, пока закипит вода, можно заранее положить концентрат в воду. Но, откровенно говоря, это дела не меняет. Существенные изменения в анамнезе наступают лишь в результате прибавления к каше масла и поджаренного лука. К сожалению, мы не располагаем сейчас ни тем, ни другим.
Я смотрел в котелок. Внезапно жидкая кашица снега подёрнулась корочкой и тут же превратилась в воду.
— Ну вот, — сказал врач, снимая с печки котелок, — теперь его надо снова наполнить снегом. — И врач опять нырнул под полог.
Это было очень смешно и напоминало старую сказку о том, как ели кисель и бегали в погреб за молоком. Ложка киселя, ложка молока. Почему было не принести снег в ведре и потом постепенно подкладывать его в котелок?..
— Не унимается! — сказал врач, пролезая в палатку. От котелка шёл пар. Он снова поставил его на печку. — Так и хлещет! Ну, дела сегодня будут.
Он опустился на корточки и стал помешивать в котелке. Его волосы были запорошены снегом.
— Ещё один раз, — сообщил врач, — и воды будет достаточно.
Я посоветовал ему насчёт ведра. Врач посмотрел на ведро, висящее на крюке, потом на меня и ответил:
— Пожалуй.
Потом он встал и подсел на топчан, рядом со мной.
— Скажите, — спросил врач, — лётчику тому здорово досталось?
— В ногу, — ответил я. — Он сначала не почувствовал. А потом я заметил кровь; он говорит, что не больно.
— Так всегда сгоряча бывает, — объяснил врач. — Но, видно, счастливо отделался.
— «Мессеров» было три, — вспомнил я, — а он один. По-моему, он напрасно полез в драку.
— Как напрасно? — удивился врач. — А самолёт с людьми и грузом?
— Он был уже над лесом. Цель была достигнута. Лётчику надо было уходить.
— Ну, это вы бросьте, — недовольно проговорил врач. — А вдруг они погнались бы за самолётом? Нет, ни один советский лётчик так не поступит. Ну вот, теперь последний заход. — Он схватил котелок и нырнул под полог.
Фельдшер на топчане мирно посапывал. Я посмотрел на часы. Час ночи. Через шесть часов наступит утро, и я смогу двинуться обратно.
— Прямо невозможно держать в руках металлическое, — заметил врач, появляясь. — Вмиг пальцы отморозишь. Вот холодина-то! — Он рывком поставил котелок на огонь. — Теперь всё. Закипит — и можно класть.
Я почувствовал, что хочу спать. Врач подошёл к полочке и взял оттуда концентрат. Потом подумал и взял второй.
— Сварим два, — обратился он ко мне. — Кутить так кутить!
— Давайте я тоже буду что-нибудь делать, — предложил я.
— Вы будете есть, — ответил он. — Вот смотрите за водой. Скажите, когда закипит.
Глупо было приставать к нему. Как будто требовался штат поваров, чтобы сварить кашу. Но мне было неприятно сидеть сложа руки. Врач высыпал из мешка несколько сухарей и крошки.
— Это вместо хлеба. Надеюсь, у вас зубы не вставные?
Он стал ломать куски. Я видел, что они твёрже камня.
— Замёрзли, — пояснил врач. — Впрочем, предпочитаю сухари мёрзлому хлебу.
Я не разбирался в этих тонкостях. К тому же вода закипела. Размельчив концентрат, я высыпал его в котелок. Вода кипела, и пшено немедленно стало подниматься на поверхность. Вода была мутной.
— Теперь надо потерпеть минут пятнадцать, — сказал врач. — Есть сильно хотите?
Я ответил, что хочу.
— Правильно. Раз корреспондент, — значит, хотите. Орла будем будить? — спросил он, кивая на нары. — Пожалуй, не будем. Собственно, ему повезло больше, чем нам. Лучше хорошо выспаться, чем быть сытым.
Я сомневался в правильности этого афоризма. В палатке запахло варёным пшеном. Это был очень приятный запах. Я никогда не замечал раньше, что пшено пахнет.
— Поедим и заляжем, — объявил врач, потягиваясь. — Сказать вам откровенно, я уже третьи сутки не могу выспаться.
Мне было непонятно, что это за работа у медиков на льду, из-за которой нужно не спать по суткам. Я сказал ему об этом.
— Ну, работа разная бывает, — ответил он и, зачерпнув лучинкой кашу, попробовал.
— Готово? — спросил я. Мне очень хотелось есть.
— Готово, — ответил он. — Масло и жареный лук подразумеваются. Возьмите котелок и слейте воду.
Я вышел из палатки. Буран едва не сшиб меня с ног. У меня захватило дыхание, и в лицо врезались сотни игл. Я стал осторожно сливать воду. Где-то неподалёку я снова услышал звук буксующей машины и подумал, что шофёру сейчас несладко.
Затем я вернулся в палатку. Мокрый полог хлестнул меня по лицу, когда я пролезал. Врач поставил на топчан две жестяные тарелки. Он потирал руки и, видимо, был доволен.
— Ну вот, и всё в порядке, — объявил врач.
— У кого-то неподалёку не всё в порядке, — ответил я.
— А что такое?
— Где-то машина буксует. Вот, видно, достаётся шофёру!
— Машина? — переспросил врач. Мне показалось, что он помрачнел. — Ну, давайте быстрее.
— Куда торопиться? — спросил я.
Врач ничего не ответил и стал накладывать кашу на тарелки. Когда я приготовился опустить ложку в дымящуюся кашу, снаружи послышался скрип шагов.
— Так, — сказал врач и отложил ложку.
Полог откинулся, и в палатку пролез человек. На нём был промасленный, когда-то белый полушубок, подпоясанный ремнём. Пот грязными струйками стекал с его лба на лицо. Ушанка была сдвинута на затылок, и виднелись слежавшиеся на лбу волосы.
Он стоял у входа в палатку, и возле его валенок от тающего снега сейчас же образовалась лужа. Он смотрел своими воспалёнными глазами на нас и, как мне казалось, никого не видел.
Наконец он спросил хрипло и невнятно:
— Здесь… чего?
Я сразу понял, что это шофёр с той машины.
— Санчасть, — ответил врач.
— Медики… — хрипло сказал шофёр. — А мне бы толкнуть… машину толкнуть… Самую малость. — Он говорил, ни к кому не обращаясь.
Он всё ещё стоял у входа, но я видел, как под влиянием света и тепла его взгляд проясняется. Потом шофёр сделал шаг к печке и протянул над ней руки. Я вздрогнул, увидя их. Кисти были ало-фиолетовые, распухшие, как бочки. Волдыри на них были видны даже издалека.
— Опустите руки и идите сюда, — резко сказал врач.
Затем он повернулся и потормошил спящего на нарах фельдшера.
— Подъём! — скомандовал он.
Шофёр стоял у печки, не двигаясь и не опуская рук.
— Вы что, оглохли, что ли? — закричал врач. — Опустите руки! — Он подошёл к шофёру и оттащил его от печки. — Вы что, не видите, что у вас с руками?
Шофёр поднёс руки к глазам.
— Малость поморозил, — ответил он.
— Снимайте полушубок, — приказал врач.
— Да ничего я не буду снимать, — с внезапной злобой сказал шофёр и упрямо мотнул головой. — У меня машина там, гружёная. И человек у груза. Мне толкнуть надо.
— Снимите полушубок! — закричал врач. — Смирнов, помоги ему снять полушубок.
Фельдшер подошёл к шофёру и взялся за его ремень. Но шофёр резко повернулся и хотел нырнуть под полог.
— Держите его, дурака! — закричал врач, и Смирнов ухватил шофёра за полу полушубка. — Ты же без рук останешься! Понимаешь ты это? Гангрену хочешь?
Шофёр больше не сопротивлялся. Смирнов стал расстёгивать на нём полушубок.
— Вот что, — буркнул шофёр, — если смазать или перевязать, то давайте, только побыстрее. Мне ещё людей надо найти, машину толкнуть.
— Ты никуда не поедешь, — сказал врач, перебирая на полке какие-то склянки. — Тебя сейчас положат в постель.
— А машина? — спросил шофёр. В его голосе звучали растерянность и испуг.
— У машины выставят часового. Потом поедет другой шофёр.
— Да вы что? — рванулся к выходу шофёр. — Вы что, смеётесь, что ли, товарищ военврач? Машину бросить на полдороге — и в постель? — Он схватился за полушубок.
— Ты не дури, — прикрикнул врач, — у тебя обморожение второй степени. Ты понимаешь, что это такое? С культяпками жить хочешь?
Шофёр растерянно смотрел на свои руки.
— Да и не больно совсем, — сказал он внезапно осевшим голосом.
Врач посмотрел на меня.
— Видите? — воскликнул он. — Этому тоже не больно. Всем им сначала не больно.
Он подошёл и налил что-то из бутылки в жестяную кружку.
— Выпей, — протянул врач кружку шофёру.
Тот взял, понюхал и улыбнулся.
— Это, конечно, можно. — Шофёр выпил. — Сильна, чёрт! — воскликнул он восхищённо.
— Теперь давай сюда руки, — приказал врач.
Вдвоём с фельдшером они стали чем-то смазывать ало-фиолетовые кисти рук. Шофёр не стонал и не морщился.
— Сколько в ей градусов? — спросил он. — Наверно, коньяк?
— Коньяком ещё тебя поить, — проворчал Смирнов.
— Ну, довольно болтать, — сказал врач, бинтуя правую руку. — Сейчас — в постель.
Но шофёр вырвал руки и сделал шаг к выходу. Лицо его снова стало злым.
— Сказал, что не пойду никуда, товарищ воендоктор. — Он схватил забинтованной рукой полушубок, лежавший на топчане. — У меня там груз продовольственный. Для Ленинграда!
— Ты у меня поагитируешь! — закричал врач.
Я смотрел на него с удивлением. В начале знакомства он показался мне флегматичным и уравновешенным человеком. Было странно, что он двух слов не мог сказать спокойно.
— За бинты спасибо, — поблагодарил шофёр. — А только я пойду!
В его голосе было столько решимости, что, попробуй мы его задержать, он полез бы в драку.
— Где тут ещё палатки есть? — спросил шофёр, надевая полушубок. — Пойду людей собирать.
— Далеко твоя машина? — спросил врач.
— Да вот, недалече, метров пятьдесят от вас.
Врач сорвал свой полушубок с крюка.
— Одевайся, Смирнов! — приказал он.
Я стал тоже натягивать полушубок.
Один за другим мы вышли из палатки. У меня тут же захватило дыхание. Мне показалось, что ветер стал дуть ещё сильнее. Казалось, что он пронизывает насквозь, а острые иглы снега впиваются в тело. С первых же шагов я залез в какой-то сугроб и зачерпнул полные валенки снега.
— Левее держите! — крикнул врач из темноты.
Я повернул на его голос. Идти было очень трудно. Приходилось преодолевать сплошную стену из ветра и снега. Я не мог себе представить, как можно ехать в такую погоду на машине.
Шофёр шёл где-то впереди и время от времени окликал нас.
— Идём, идём, — ворчал врач, — чтоб тебе пусто было!
Мы шли очень долго. Мне показалось, что тут не пятьдесят метров, а целый километр. Очевидно, это так и было: у шофёров своя манера определять расстояние.
Наконец мы пришли к машине. Полуторка стояла, увязнув передними колёсами в сугробе.
— Федюшов, вылазь! — весело крикнул шофёр. — Подмога пришла.
В ответ я услышал голос откуда-то сверху: «Ого-го!» Потом спрыгнул человек.
— Теперь нас пятеро, — сказал шофёр. — Неужто не сдвинем?
— Подкопать надо малость, — предложил Федюшов.
Он вытянул откуда-то из темноты две лопаты и сунул одну мне.
Мы подошли к передним колёсам и стали освобождать их от снега. Моя лопата была маленькой и неудобной, вроде игрушечной.
— Попробую мотор разогреть, — услышал я из темноты голос шофёра.
Я работал без устали. Мне стало до того жарко, что я снял полушубок. Я уже не чувствовал, как снежные иглы вонзаются в лицо.
— Идёт дело! — услышал я голос фельдшера; он откапывал другое колесо.
— Не берёт стартер! — крикнул шофёр. — Крутануть надо!
— Давай ручку, — крикнул врач. Потом я услышал рывки от заводной ручки и отчаянную ругань. — Да она у тебя промёрзла вся! — кричал врач.
— Ещё раз крутаните, — умоляюще отвечал шофёр. — Ну, ещё разок, товарищ военврач!
Затем раздалось ровное тарахтение мотора.
Теперь оставалось главное: вытолкнуть машину на трассу.
Мы остервенело толкали машину, но она не двигалась. Я чувствовал, что с меня катится пот. Я ощущал его липкие струйки под рубашкой. Мы толкали машину и под команду и вразброд, но она будто примёрзла ко льду.
— К чертям! — закричал врач, подходя к кабине. — Иди ложись в постель, а у машины поставим часового. Так до утра без толку пробьёмся.
Шофёр выскочил из кабины.
— Да нет же, товарищ военврач, — сказал он, и мне послышались слёзы в его голосе, — сдвинем мы её, честное слово, сдвинем! Вот погодите, я под колёса постелю. — Он быстро снял полушубок и подпихнул его под правое колесо. — Ну, ещё разок двинем!
Снова хлопнула дверца кабины и затарахтел мотор. Мы снова стали толкать машину. Мне казалось, что мы упираемся в борт с такой силой, что ноги проломят лёд. Внезапно я почувствовал, как борт машины медленно уходит из-под наших рук.
— Пошла! — закричали все. — Пошла!
Машина двигалась. Мы шли за ней, подпирая борт руками. Так мы выкатили машину на трассу.
— Ну, спасибо вам! — крикнул из кабины шофёр. — Я уже не вылезу, боюсь, мотор сдаст. Спасибо вам!
Он дал газ, мотор затарахтел сильнее, и машина, гремя цепями, провалилась в темноту.
— Стой, стой! — неистово закричал врач. — Полушубок оставил, дурья башка!
Он схватил лежащий на снегу полушубок и побежал в темноту.
— Как приедешь — в госпиталь немедленно! — услышал я его голос. Затем загремели цепи.
Он вернулся.
— Ну, пошли, — сказал он усталым, упавшим голосом.
Мы шли молча. Обратный путь показался мне более коротким. В палатке было очень холодно. Печка погасла. Каша в тарелках покрылась тонкой ледяной коркой. Врач устало опустился на топчан.
— Это преступление, что я его отпустил, — вздохнул он. — Каждую ночь я совершаю такое преступление и говорю себе: это в последний раз. И опять то же самое. Я кричу и ругаюсь — не помогает. Нечего тут делать медику! — выкрикнул он злобно. — Смирнов! Растопить печку!
Смирнов кубарем скатился с топчана, на который только что забрался. Видимо, он знал характер своего начальника.
— Агитирует меня, сукин сын! — бормотал врач в бороду. — Ленинградский груз! Агитатор! — Потом он повернулся ко мне. — А вот если этого гаврика посадить на тот самолёт, а того лётчика на полуторку… Что будет?
Я молчал.
— То же самое будет, вот что! Все они такие! — Врач взял тарелку с кашей и раздавил ложкой ледяную корку. — Сейчас будем разогревать кашу, — спокойно объявил он.
Я посмотрел на часы. Было четыре часа утра. Я предложил просто лечь спать.
— Мы будем есть кашу, — повторил врач.
Он лёг на спину, раскинув руки, свесив ноги вниз.
— Дурацкая профессия: медик на льду, — сказал он. — Приходится больше ругаться и толкать машины, чем лечить.
— Никто вас не заставляет толкать машины, — возразил я. — Этот шофёр вас и не просил толкать машину.
— Вас он тоже не просил, — возразил врач. К нему уже вернулось его благодушно-ироническое настроение. — Верно? Теперь вспомните, что вы здесь только несколько часов, а я уже два месяца.
Смирнов раздувал печку. Маленький огонёк уже облизывал обуглившиеся поленья.
— Кашу будешь есть, Смирнов? — спросил врач. — Нет? Тогда ложись.
Я подсел к печке на место фельдшера. Поленья весело потрескивали, печь нагревалась быстро.
— Вы какой-то странный корреспондент, — лениво заметил врач. — Сидите и молчите. Почему вы не просите показать вам лучших людей, орденоносцев и медаленосцев? Что вы, устали, что ли? Или, может быть, больны? Тогда мы вас вылечим.
Я ответил, что здоров.
— Врёте вы всё, — сказал врач. — Я знаю, зачем вы приехали. Вам Лиду надо было. Так ведь?
Я вздрогнул и выпрямился. Это было слишком неожиданно.
— Вы ошибаетесь, — пробормотал я, приходя в себя. — Я, конечно, хотел бы её увидеть. Мы не виделись очень давно. Но я и написать что-нибудь хотел бы… — Я чуть не сказал: «Пару очерков».
Он подошёл ко мне, опустил руки на мои плечи и посмотрел прямо в глаза.
— Так вот, — сказал он, — она служила здесь у меня фельдшерицей… Она пришла добровольно, — не знаю, известно ли вам об этом. Когда она пришла, трассу только ещё прокладывали. Лёд был тонкий, «дышал», когда по нему ходили. Эта женщина чем-то напоминала мою жену. — Он говорил сухо и бесстрастно, будто диктовал историю болезни. — Мы жили втроём: я, Смирнов и она. Спали вот на этих нарах. Она работала хорошо: из неё вышел бы отличный врач. Вам, может быть, кажется, что наша работа здесь — мелочь, чепуха? — спросил он внезапно резко.
— Нет, мне это не кажется, — возразил я.
— Мы здесь у пульса стоим, понимаете, у пульса!.. По этой ладожской жиле страна кровь в Ленинград вливает… свежую кровь… Только вы знаете, каково медикам на льду. Приходилось делать всё. И она делала всё. Она была упрямая! Лезла всегда куда не надо. Один раз попала в прорубь. Я думал, что схватит воспаление лёгких, но ничего, обошлось. В самом начале она ходила с изыскательскими партиями. Теперь, когда всё более или менее пришло в норму, она захотела перейти в армию. Я не мог её отговорить. Вы сможете узнать о ней в санупре. Мне очень не хотелось расставаться. В ней было много теплоты. — Он снял руки с моих плеч, отвернулся и опустился у печки. — Есть вопросы? — спросил он.
У меня не было вопросов. Мы сидели, не глядя друг на друга. Он говорил о ней так, как никто не говорил. Дело было даже не в словах, дело было в голосе, которым эти слова произносились.
— Могу добавить ещё, — сказал врач. — Она мне многое говорила, но о многом и умалчивала. Я знал, что она кого-то ждёт. Этого она мне, правда, не говорила, но я догадывался. Она знала, что я никого не жду. На льду надо быть снисходительными друг к другу. — Он усмехнулся. — Когда вы спросили о ней, я понял, что вы тот самый…
Я сидел, слушал и старался не пропустить ни одного слова.
— Сколько времени она пробыла здесь?
— Больше месяца.
— Она жила здесь?
— Да. Я уже сказал. Спала на этих нарах.
— Как её здоровье?
— Ничего. Для ленинградки — ничего.
— Почему она не осталась здесь?
— Я же вам сказал. — Я почувствовал, что врач волнуется. — Когда всё пришло в норму, она захотела перейти в действующую часть.
— У неё не было других причин? — жёстко спросил я.
— Вы хотите спросить, не приходилось ли ей… избегать меня?
— Да, — сказал я.
Врач встал.
— А по какому праву вы меня об этом спрашиваете? — тихо спросил он. — Вы не видели её с начала войны. Вы не были с ней, когда у неё умерли мать и ребёнок…
Он замолчал. Молчал и я.
Так бывает. Ты сидишь в комнате и долго беседуешь с человеком. Тебе кажется, что ты его уже давно знаешь, и ты привык ко всему: к окружающим вещам, к свету и к тому, как звучит в этой комнате его голос. Но вот произнесено одно какое-то слово, и всё обжитое пропадает: выступают острые углы у вещей, свет режет глаза, и тебе кажется, что ты на вокзале и поезд вот-вот отойдёт…
— Что же вы молчите? Злитесь? — внезапно спросил врач своим прежним иронически-благодушным тоном.
— Нет, — ответил я. — Во всяком случае, вы здесь ни при чём.
— Гордость? — пожал он плечами.
Внезапно всё показалось мне каким-то новым. Во всякое другое время я стремился бы поставить все точки над «ї». Сейчас это мне уже не казалось важным.
Я подошёл к нему почти вплотную.
— У вас была жена? — спросил я жёстко, как следователь. — Вы сказали, что Лида напоминала вам жену.
Мне показалось, что он испугался чего-то на секунду, но тут же взял себя в руки.
— Ну вот, теперь говорит корреспондент, — пошутил он.
— Перестаньте иронизировать! — сказал я. — Расскажите лучше всё о себе. Вы обязаны рассказать. Ну? У вас была жена? Она погибла? От голода? От бомбёжки? Бросила вас?
— Нет. Она тоже была врачом. Её убили немцы, — ответил каким-то чужим голосом врач. — Так много горя сейчас, что если кто-нибудь находит счастье, он обязан им поделиться.
Мне захотелось плакать. Я подошёл к врачу и протянул ему руку.
— Я рад, что мы встретились.
— Это правда? — спросил он и посмотрел мне в глаза. И только сейчас я заметил, что он совсем не молод: на его лице внезапно резко обозначилась каждая морщинка.
— Разве можно сейчас говорить неправду? — воскликнул я.
Он схватил мою руку и придвинулся к печке.
— Ну… ну вот… каша пригорела, — пробормотал он.
…В ту ночь мы так и не легли спать. Было уже утро, когда я вылез из палатки, чтобы отчистить снегом тарелки. Буран утих, и воздух был прозрачен. Всюду, насколько охватывал взгляд, была ровная и спокойная ледяная поверхность.
Всё кругом было бело. Но снег не резал глаза, потому что солнце ещё не взошло. По трассе, громыхая цепями, уже неслись машины. Они шли в одиночку и целыми колоннами.
Я вернулся в палатку. Смирнов всё ещё спал, а врач сидел на корточках перед печью и смотрел на огонь.
— Ну, всё в порядке, — сказал я, ставя тарелки на полку. — Я, пожалуй, поеду.
— Да, вам пора ехать… Обещайте мне, — тихо проговорил он, — что вы вспомните обо мне, когда будете вдвоём.
Мне показалось, что он с трудом ворочает языком. Я повернулся к нему.
— Да, обещаю вам.
Он протянул мне руку. Я молча пожал её.
Приехав в Ленинград, я зашёл в редакцию фронтовой газеты, написал корреспонденцию о Ладожской трассе и отнёс её на телеграф. Затем отправился в санитарное управление.
Санупр помещался в другом конце города, и был уже день, когда я добрался туда.
В маленькой комнатке отдела кадров сидела девушка — младший лейтенант. Я назвал фамилию Лиды и попросил навести справку, приходила ли она за назначением.
Я ожидал, что девушка будет долго копаться в бумагах, но она ответила тотчас же, заглянув в лежащую на столе папку.
— Да, была, — сказала девушка. — Назначена в Н-скую армию…
Светило солнце. Снежные холмы сверкали тысячью искр. У меня было радостно на душе. Я знал, что наконец нашёл её. Теперь это было вопросом дней, даже часов. Я стоял на огромной, занесённой снегом площади. Серые гранитные здания окружали меня. Вон там раньше возвышался Медный всадник. «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?..» Сейчас всадника не было видно. Он был укрыт от снарядов.
Всё вокруг уже не казалось мне чужим. Я по-прежнему чувствовал, что нахожусь в крепости, но я знал теперь, чем она живёт, и знал тех, кто в ней живёт. Спокойно стучал метроном — сердце города…
Я знал, где расположена армия, куда Лида получила назначение. Решил ехать и на месте ждать её приезда. Здесь мы опять могли бы разминуться. Туда же она обязательно приедет — не сегодня, так завтра.
Я отправился на Финляндский вокзал. Площадь была пустынна. Знаменитого памятника — Ленин на броневике — не было видно.
Зал ожидания был переполнен военными. Билетов никто не брал, да и кассы, кажется, не работали. Скоро все устремились на перрон: подали состав.
Я влез в холодный, дачного типа, вагон и внезапно почувствовал, что смертельно хочу спать… Проснулся от толчка. Было темно. Кто-то тормошил меня за локоть и говорил:
— Всё, всё! Приехали, дальше некуда.
Я встал, всё ещё в полусне. Не помню, чтобы когда-нибудь мне так хотелось спать. Я вышел из вагона и очутился на маленькой дачной станции. В полумраке разглядел кокетливый киоск и платформу. Киоск был забит, как бы перечёркнут двумя досками крест-накрест. Я увидел протоптанную тропинку, уходящую в лес. По тропинке пошло большинство сошедших с поезда военных. Я пошёл за ними.
Вскоре я заметил, что иду по просеке один. Люди, шедшие впереди и позади меня, разошлись по боковым тропинкам.
Я угадывал блиндажи и срубы среди запорошённых снегом елей и, свернув на уходящую в лес тропинку, постучал в первый встретившийся мне блиндаж. Там помещался комендантский взвод. Я стал расспрашивать, как пройти в санотдел, и мне дали связного.
Мы долго шли по лесным тропинкам. Наконец связной привёл меня в блиндаж к начальнику санотдела. Я отворил дверь и вошёл.
…Через полчаса мы пили чай, и я рассказывал начальнику санотдела Николаю Фёдоровичу Корнышеву, что привело меня к нему.
— Так, — сказал Корнышев, когда я кончил рассказ. — Она, очевидно, завтра явится. Тогда повидаетесь. Вы можете пожить у меня или вернуться в город на два-три дня.
Мне казалось, что после всех испытаний я просто не переживу такого счастья. По доброму лицу Корнышева я видел, что и он не меньше, чем я, счастлив, что может оказать эту услугу.
— Я думаю, вам лучше остаться у меня, — предложил он, — здесь лес прекрасный, хвойный… Побродите здесь, отдохнёте, а там и она приедет… Рад буду познакомиться.
У меня слипались глаза. Запах хвои опьянял. Я уже дремал, когда услышал голос Корнышева:
— Располагайтесь вот на этом топчане. Мой заместитель в командировке.
Я улёгся на топчан.
В блиндаже было тепло и пахло лесом. Уже засыпая, я почувствовал, что Корнышев укрывает меня полушубком.
…Я хорошо помню время, проведённое в Ленинграде. Но эти дни останутся в моей памяти навсегда. Я помню всё, до мельчайших подробностей. Думаю, что пройдёт год, два и десять лет, и всё будет казаться мне таким же, как тогда, в январе.
В тот день я встал рано. Корнышева уже не было, но на столе лежала записка, написанная аккуратным, совсем не «докторским» почерком:
«Вставайте, умойтесь, завтрак вам принесёт связной, погуляйте по лесу. Я зайду около двенадцати.
Корнышев».«Есть же добрые люди на свете!» — подумал я и сделал всё, как говорилось в записке.
Затем связной принёс охапку дров и хотел растопить печку, но я сказал, что сделаю это сам.
На войне зимой возможность растопить печь и посидеть у огня, конечно, роскошь, и я умел ценить её. Я сидел на корточках и не спеша обдирал поленья. Время от времени я посматривал на дверь и ждал, что она раскроется, но потом вспомнил, что поезд приходит только вечером и что раньше восьми часов её ждать нельзя. Внезапно я передумал, оставил печку и пошёл побродить.
Было яркое, солнечное, очень тихое утро. Неподвижные ели обступали меня со всех сторон, и только изредка с верхушек сыпался снег: должно быть, птица садилась на ветки или прыгала белка.
Меня поражало величавое спокойствие, царившее здесь; просто не верилось, что я на фронте. Я был рад, что встречу её в такой тишине.
Я шёл всё глубже и глубже в лес по узенькой тропинке и незаметно дошёл до обрыва.
Было тепло, и я расстегнул полушубок. Вдали, на той стороне обрыва, лес спускался уступами, и казалось, что земля там покрыта не снегом, а высокой зелёной травой. Небо было голубым и очень глубоким, каким бывает летом или ранним весенним утром.
Я сидел на поваленной ёлке, не думая ни о чём. И память и сознание моё были чистыми, лишёнными всяких воспоминаний, как этот ровный белый снег.
Но если я начинал думать, то думал о Лиде. В моём сознании жили две Лиды: одна — привычная, такая родная и близкая, когда знаешь всё наперёд и забываешь, что ты и она не одно и то же, а другая — знакомая по рассказам, стоящая за спиною Ирины Вахрушевой, так много пережившая и понявшая, строгая, как весь этот город.
И, думая о ней, я тут же подумал о себе и о том, поймёт ли она меня теперь.
Но мысли эти шли от разума, а не от сердца. Я знал, что час, проведённый вместе, сотрёт отчуждённость и если я чего-нибудь не пойму, то она научит меня.
Я подумал о тех, других. Вспомнил мечтателя Козочкина, суровую Ирину и врача, толкающего машины во вьюжные ночи… Кто поделится с ними своим счастьем?
Ведь никогда ещё любовь не значила так много для людей, как в это жестокое время.
Я сидел на еловых ветках и вдыхал пьянящий запах хвои. Никогда раньше не думал, что хвоя может так пахнуть. Это был пряный, проникающий во все поры запах.
Посмотрел на часы. Было всего лишь одиннадцать часов утра. А вдруг она приедет не на поезде, а на попутной машине? Ведь из санупра, наверно, ходят сюда машины? Она может приехать, а меня нет, и из санотдела её тут же направят в дивизию. Я подумал об этом и чуть не рассмеялся. До чего глупым делает человека любовь! Но я всё-таки встал и пошёл на дорогу, внушая себе, что иду просто так, прогуляться…
Как хорошо было бы сейчас встретить её! Идёт себе с солдатским мешком за плечами.
Ей тяжело, бедной, тащить мешок. Она увидит меня и вскрикнет, наверно. Остановится или побежит ко мне? Ведь для неё эта встреча будет чудом, настоящим чудом…
Я шёл по дороге и всматривался в даль. Никто не шёл мне навстречу. Дошёл до станции и повернул обратно…
Корнышева ещё не было, когда я вернулся в блиндаж и принялся растапливать печку. Потом подошёл к полке, на которой лежала куча книг. «Интересно, что читает доктор?» Я стал перебирать книги. Сверху лежало несколько книг по терапии, стихи Маяковского, «Анна Каренина» и «Записки врача» Вересаева. «Странные бывают встречи на книжной полке», — подумал я.
Снаружи захрустел снег, и вошёл Корнышев.
— Ну-с, предписание выполнили? — добродушно спросил он. У него были розовые щёки и блестели глаза. — Гостью, полагаю, раньше вечера ждать напрасно?
Я кивнул головой.
— Ну и отлично, — сказал Корнышев. — Назначения те же: гуляйте, мечтайте! А я побежал. Обедать будем вместе.
Он ушёл.
Я сидел у печки и смотрел на огонь. В блиндаже стало нестерпимо жарко, и я опять ушёл в лес.
Солнце светило по-прежнему, ели были высоки и величественны, снег был таким же ослепительно белым, но мне вдруг мучительно захотелось вернуться туда, на ленинградские улицы. Когда я был в Ленинграде, мне казалось, что я буду рад убежать от этих занесённых сугробами улиц и обледенелых, израненных домов. Мне казалось, что я буду счастлив, очутившись в тишине, где не стреляют зенитки, не свистят снаряды и не стучит метроном.
Но оказалось, что я ошибся. Я уже не замечал вокруг всего того, чем так восхищался утром. Я не был суеверным, но мне пришло в голову, что буду наказан за то, что хотел встретиться с ней не в Ленинграде, а здесь, на этом тихом островке… Я вернулся в блиндаж и начал снова растапливать печь.
Корнышев пришёл в шестом часу. Он был ещё более розовощёк, и глаза его блестели совсем по-молодому. Следом за ним вошёл связной с тарелками и котелком.
— Ну, как вам у нас понравилось? — спросил Корнышев. — Благодатный край! Раньше ведь тут сплошь курортные места были. После Питера-то, наверно, раем кажется?
Я не хотел обижать его и сказал, что здесь действительно замечательно.
— Ну вот, то-то же! — Корнышев вынул часы и хитро улыбнулся. — Пожалуй, уже скоро, а?
— Да, уже скоро.
Я с трудом ел. С каждой минутой напряжение моё возрастало. Мне казалось, что, если она будет идти сюда, я почувствую её шаги ещё на дороге.
После обеда Корнышев лёг спать.
— Надеюсь, проснувшись, застать вас обоих вместе, — сказал он, засыпая.
Я вышел из блиндажа и сел на бревно. Иногда по дороге между елями мелькал полушубок, и я вставал и делал несколько шагов вперёд. Потом я медленно возвращался обратно. Я уже не прятал часы в гимнастёрку, а держал их в кармане полушубка наготове. До прихода поезда оставался час… Если считать секунды, время пойдёт незаметно. Я стал считать. Но, досчитав до пятисот, посмотрел на часы и увидел, что считаю гораздо быстрее, чем проходят секунды…
Стало уже темно. Потом я услышал шум поезда, подходившего к станции… Вот он остановился. Сейчас она выходит из вагона… Осматривается. Не знает, куда идти. К тому же темно. Она спросит. Наверно, сейчас спрашивает… Может быть, побежать на станцию? Нет, надо сидеть здесь, она может прийти одной из боковых тропинок. Вот она приближается сюда… Я уже не кладу часы в карман…
Проходит десять минут, пятнадцать, двадцать. Её нет. Её могло что-нибудь задержать по дороге. Она могла сбиться с пути… Ведь темно… Тридцать минут. Сорок. Её нет…
Я выбежал на дорогу. Мне никто не встретился. В темноте дошёл до станции и вернулся в блиндаж. Печка погасла… Слегка похрапывал Корнышев. Она не приехала…
Я резко захлопнул дверь, и Корнышев проснулся.
— Вы не один? — вежливо спросил он.
— Она не приехала, — тихо ответил я.
— Да ну? — протянул Корнышев.
Связной принёс лампу и зажёг её.
— Вот досада-то! — сказал Корнышев с искренним огорчением. — Значит, в санупре задержали. Что-нибудь с оформлением… Ведь вам точно сказали, что она в нашу армию назначена?
— Николай Фёдорович, — сказал я, — как мне попасть в Ленинград?
— В Ленинград? Сейчас? Но поезд пойдёт только в десять утра. Да и что вам делать ночью в Ленинграде? Подождите до завтра. С вечерним поездом она, наверно, приедет.
— Нет, нет! — вырвалось у меня. Даже мысль о том, чтобы остаться здесь ещё сутки, казалась мне невыносимой.
Корнышев внимательно посмотрел на меня.
— Если уж обязательно хотите ехать, придётся потерпеть до утра. — И он подошёл ближе ко мне. — Возьмите себя в руки. Я вот уйду, а вы почитайте что-нибудь. Вот хотя бы «Записки врача». Книга отличная. Читали, конечно?
Он взял с полки книгу и протянул мне. Я взял её.
— Ну, до скорого… — сказал ласково Корнышев и вышел.
Я перелистал книжку и отложил её в сторону. Наступило полное бездумье. Мне было почти физически больно думать о чем-нибудь. Я не помню, сколько времени просидел так. Из оцепенения меня вывел голос Корнышева:
— Скорее, скорее, сейчас машина идёт в Ленинград! Идёмте, я вас провожу.
Николай Фёдорович стоял в дверях.
Я вскочил и схватил полушубок. Мы прошли по тропке, и я увидел тёмное очертание полуторки. Я залез в кузов.
— Ну, прощайте, — сказал Корнышев, тепло пожимая мне руку.
— До свидания, — ответил я, — сердечное вам спасибо.
…Мы въехали в Ленинград ночью, но на улицах было светло.
Взошла луна. И странное дело: как только я увидел серый ленинградский гранит, услышал мерный стук метронома, у меня стало спокойнее на душе.
Я вылез из машины на Дворцовой площади и через десять минут поднимался по лестнице «Астории». Навстречу мне с коптилкой в руках шёл Ольшанский.
— Где это вы пропадаете, синьор? — спросил Мефистофель.
Я ответил, что ездил в часть, и уже прошёл мимо, когда Ольшанский сказал:
— А тогда, в машине, девушка одна вами интересовалась.
Я обернулся к Ольшанскому. Он стоял, прикрывая огонь ладонью, и хитро улыбался.
— Я, правда, особенно не откровенничал насчёт вас, — продолжал он. — Кто вас знает, заинтересованы вы во встрече или нет?..
Я схватил его за полушубок.
— Ольшанский! — закричал я. — Прекратите эту болтовню! Где она? Что с ней?
Он испуганно посмотрел на меня.
— Она очень просила ваш адрес. Я уж думал, не наглупил ли, что упомянул вашу фамилию. Вы извините… но… кажется, она с утра сидит в вашем номере…
Я стоял на лестнице, прислонившись к перилам. Ольшанский что-то говорил, но я уже ничего не слышал. У меня стучало в висках и пересохло во рту. Мне казалось, что если я оторвусь от перил и сделаю шаг, то упаду тут же.
Тысячу раз рисовал себе нашу встречу, но никогда не думал, что потрясение будет так велико.
Потом я стал медленно подниматься по лестнице. Откуда-то проникал свет, и я не сразу понял, что это Ольшанский с коптилкой провожает меня. У моей комнаты я остановился, чтобы перевести дыхание. Потом тихонько толкнул дверь.
Лида сидела на подоконнике, вполоборота к двери, и смотрела в окно. Луна светила так ярко, что в комнате было светло, как в белые ночи.
— Лида! — произнёс я шёпотом. — Лида!
Она соскочила и стала, прижавшись спиной к окну.
— Ты?! — сказала она. — Наконец-то!..
…Я рассказывал Лиде о своих поисках, но она внезапно прервала меня:
— Какой ты… смешной в военной форме. Просто на себя не похож!
Мы стояли друг против друга у окна, и лунный свет падал на её лицо. Она казалась мне маленькой и хрупкой, и было видно каждую морщинку на её лице.
За окном на покрытой снегом площади высился Исаакий.
— Помнишь, как мы любили смотреть из окна на собор? — спросил я.
— Да. В белые ночи.
— Сейчас совсем как в белую ночь. Даже окно не замёрзло.
Мы стояли у окна и смотрели на площадь. Я обнял её и поцеловал. Мне хотелось стоять так всегда и не разжимать рук. Она смотрела мне прямо в глаза, и я смотрел в её глаза. Это и было счастье. Потом мы сели на диван. Говорили о чём-то совсем неважном: мы привыкали друг к другу.
— Ты была у Ирины? — спросил я.
— Нет. Я весь день прождала тебя в номере. Как я благодарна этому долговязому корреспонденту. Ведь это он сказал мне о тебе. Но, бог мой, как он перетрусил, когда я сказала, чтобы он немедленно повёл меня в твою комнату! — Она рассмеялась. У неё был глухой и немного печальный смех.
Я снова поцеловал её. У неё были холодные губы.
— Тебе холодно? — спросил я. Потом снял с неё валенки и закутал ноги одеялом.
— Здесь очень холодно, — ответила она и закрыла глаза. — И знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что я плыву в тёплой реке и попала в водоворот, такой медленный, и он так приятно кружит меня, и всё ясно, и дальше не надо плыть.
— Ты устала, дорогая? — спросил я.
Она открыла глаза.
— Нет. — Она улыбнулась. — Отчего мне устать, когда я весь день сижу и жду тебя?
— Голодная?
— Нет, почему же. Я получила паёк на два дня.
— Подумать только, — сказал я, — как много надо мне у тебя узнать. Ты столько пережила!..
— Не сегодня, милый. Поговорим завтра. Сегодня пусть будет так, будто мы никогда не расставались.
— Хорошо, — ответил я. — Это нетрудно. Ведь на самом деле мы никогда не расставались.
Я был счастлив, но думал о другом безмерном счастье. Мне хотелось, чтобы эта наша разлука была последней и чтобы мы никогда больше не расставались. С этой женщиной я чувствовал себя готовым на любой труд и любой подвиг. Раньше она была моим сердцем, моей любовью. Сейчас она стала источником моего мужества.
— О чём ты думаешь, милый? — спросила она.
— О том, какое было бы счастье больше не расставаться.
— Это же невозможно! Послезавтра я должна ехать в часть. Два дня я выпросила в санупре. День уже прошёл.
— Ты получишь ещё три, — ответил я и рассказал о встрече с Корнышевым.
— Целых три дня? — Она внезапно захлопала в ладоши, как ребёнок. — Целых три дня вместе?
Я стал целовать её холодные пальцы.
— Постараюсь приехать к тебе в часть, — сказал я. — Очевидно, я ещё некоторое время пробуду в Ленинграде.
— Ты был у меня, за Нарвской?
— Был. Дом почти разрушен. Я с трудом отыскал твою комнату. У окна, где мы с тобой пили чай, сидит артиллерийский наблюдатель Мухтар Тажибаев. Я тебе как-нибудь расскажу о нём.
— Ты, наверно, решил, что я пропала. Трудно было меня отыскивать?
— Сейчас кажется, что нетрудно. Сейчас мне кажется, что я отыскал бы тебя где угодно.
Она нагнулась и поцеловала меня в затылок.
— Как ты думаешь, — сказала она, — когда кончится война?
— Не знаю. Думаю, что через год. Или полтора.
— Какой это будет чудный день!.. Просто не верится. Что ты будешь делать в первый день после войны?
— Поеду в Ленинград.
— Ты же живёшь в Москве!
— Мы будем жить в Ленинграде. Я думаю, что теперь нигде не смогу жить, кроме Ленинграда.
Мы молчали. Внезапно она рассмеялась.
— Что ты смеёшься?
— Нет, просто так. Я вспомнила, какой растерянный вид был у твоего корреспондента. Как его фамилия?
— Ольшанский.
— Ей-богу, он почему-то не хотел допустить мысли, что я твоя жена.
— Дурак!
— Но ведь он прав. Я ведь и правда не твоя жена.
— Ты мне больше чем жена.
— И ты мне больше чем муж. Поэтому мне и смешно.
Она положила руку мне на лоб. Рука была по-прежнему холодной.
— Тебе всё-таки холодно, Лидуша, — сказал я. — Ложись в постель. Раздевайся и ложись.
Я встал и отошёл к окну. Когда обернулся, она сидела по-прежнему, обхватив колени руками.
— Я… я не хочу спать, — сказала она тихо. — Лучше посидим вдвоём.
Она смотрела на меня, и я заметил испуг в её глазах. Потом она резко встала и стала расстёгивать пуговки на гимнастёрке. Подошла ко мне.
— Ты был… на Ладоге? — тихо спросила она.
— Да, — твёрдо ответил я. — Я был в палатке, где ты жила. И разговаривал с ним.
— Ты… ни о чём не хочешь спросить меня?
— Нет, — уверенно сказал я и поцеловал её. Я увидел слёзы на её ресницах и вытер их губами.
…Было тихо и светло, как в белую ночь. Мы лежали в постели. Потом я услыхал звуки рояля. Лида тоже услышала их.
— Что это? — спросила она. — Рояль?
— Да, — сказал я. — Это Чайковский. Старик один играет. Музыкант. Я услышал его в первую ночь, когда приехал.
— Я уже не помню, когда слышала музыку… Какие торжественные звуки!
— Мне они казались страшными. А теперь кажутся радостными.
— И мне тоже. Интересно, который теперь час?
— Не знаю. Мне вообще кажется, что времени нет.
— И мне тоже. Теперь мне хочется спать, но я боюсь.
— Боишься?
— Да, я боюсь, что усну и перестану чувствовать счастье.
Я обнял её.
— Спи, Лидуша, — сказал я, — спи и не бойся. Ничего не бойся, когда мы вместе.
— Я хочу ничего не бояться. И всё же немного страшно.
— Но чего же?
— Слишком много счастья… Почему мы получили его раньше других? Кругом столько горя.
— Мы ничего не отнимаем у других. Спи, Лидуша! Не будем сейчас думать об этом. Спи, родная, спокойной ночи.
Через несколько минут она заснула.
…Меня разбудил стук в дверь. Я соскочил с постели. Было уже утро. За дверью стоял боец и протягивал мне записку.
Я прочёл. Секретарь редакции фронтовой газеты сообщал, что через полтора часа мой редактор вызовет меня к проводу.
— Кто это? — спросила Лида, когда я подошёл к постели.
Я посмотрел на неё, и мне показалось, что морщинки на её лице разгладились. Я сказал ей о записке.
— Это далеко? — спросила она.
— Час ходьбы. Мы сделаем вот что. Я пойду на телеграф, а ты в санупр. Оттуда ты по телефону вызовешь Корнышева, и он даст тебе отпуск на три дня. Как только освободишься, ты вернёшься сюда. А вечером… На вечер у меня есть сюрприз. Только это пока секрет. Хорошо?
…Когда я уходил, она ещё лежала в постели. Мне показалось, что я быстро дошёл до телеграфа. Но всё же я опоздал.
— Вас уже вызывали, — сказал дежурный и принёс мне ленту.
Я прочёл: «Выезжайте немедленно обратно».
Сначала у меня словно оборвалось что-то внутри. Потом я стал думать, как счастливо всё же получилось: ведь телеграмма могла прийти и неделю, и два дня, и, наконец, день тому назад, и я должен был бы уехать, не отыскав Лиду. Теперь я нашёл её, и на душе всё же было радостно.
Я хотел преподнести Лиде «сюрприз»: получить на три дня сухой паёк, пригласить Ирину, Козочкина и Мефистофеля и устроить вечером ужин.
Я был так счастлив, что мне хотелось, чтобы весь Ленинград знал о нашем счастье. Мне казалось, что чем больше людей будет радоваться вместе с нами, тем сильнее будем мы чувствовать наше счастье.
Теперь всё это рушилось: вечером я должен был уехать из Ленинграда.
Я шёл по городу и думал, что мне тяжело будет расстаться с ним. Я ощущал его теперь как живое существо.
Я смотрел на израненные стены его домов и думал о том, как радостно будет потом жить в этом городе, и видеть, как обновляются его дома, и бродить по этим улицам, и вспоминать всё, что было.
…Лида стояла у окна, на том же месте, где я застал её вчера.
— Как ты долго! — сказала она, идя мне навстречу.
— Я получил телеграмму с вызовом, — сообщил я ей, чтобы разом покончить с этим.
— Да? — тихо сказала она, и голос её дрогнул. — Я знала, что это не может быть долгим… наше счастье… слишком раннее счастье.
Я ничего не ответил.
— Когда ты едешь? — спросила Лида.
— Сегодня вечером.
— Уже? — Она помолчала и добавила, слегка улыбнувшись: — Я говорю так, будто бы война только что началась и ты уезжаешь, а я остаюсь дома. Мне ведь тоже надо ехать сегодня.
— Не будем пока говорить об отъезде, — сказал я. — Посидим немного.
Я чувствовал Лидин локоть в своей руке и знал, что невозможно отнять её у меня. Я всегда любил её так, как никого в жизни. Но только теперь я понял, что моя любовь к ней нечто большее, чем просто любовь.
Есть чувства, не подверженные ни сомнениям, ни колебаниям. Они рождаются тогда, когда человек остаётся наедине со своей совестью. Они выкристаллизовываются из великих страданий и великой стойкости.
— Это очень странно, — сказал я. — Вот когда я шёл сюда с телеграфа, уже зная, что вечером мы расстанемся, мне казалось, что нам о многом надо поговорить… А вот пришёл, сел — и ни о чём говорить не хочется… Хочется сидеть рядом — и всё… Но я скажу всё-таки… Вот ты говоришь — раннее счастье. Конечно, не расставаться было бы высшим счастьем. Но есть и другое, не меньшее…
— Какое? — спросила она.
— Мне трудно выразить это. Счастье высшей любви. Любви, данной испытанием. Любви, захватившей не какую-то часть души, а всего человека. Ты понимаешь, бывает так: человек живёт всесторонне, и любовь захватывает лишь какую-то часть его существования. А у нас иначе. Мы стремились друг к другу не просто… Ведь если бы завтра Ленинград победил и с блокадой было бы по кончено, мы без труда нашли бы друг друга. И ещё: если хотя бы один из нас не научился понимать Ленинграда, не стал бы ленинградцем, то, встретившись, мы оказались бы чужими друг другу… Вот почему мы не можем изменить друг другу, пока верим в победу. Это всё очень трудно выразить, но я знаю, что это так. И больше того. Я знаю теперь: пусть мы снова расстанемся, пусть снова будут месяцы разлуки, — наше чувство будет таким же. Ведь оно не только в вере друг в друга, не только в воспоминаниях о прежних солнечных днях, — оно во всём пережитом, во всей нашей жизни, во всём, что есть в ней святого.
Лида молчала. Я видел, что затуманенные глаза её пристально смотрели в одну точку. Потом она сказала:
— Я помню, это было на Ладоге… Вьюга была… холодно… Я сопровождала колонну с продуктами для госпиталей. Переехали через озеро, погрузили продукты в вагоны. Я замёрзла и забралась на паровоз, к машинисту. Машинист — молодой парень, а лицо как у старика… Это я после узнала, что он молодой… Проехали километров десять, кончилось топливо. И вот мы вылезли все: и машинист, и я, и вся бригада… Стали кустарник ломать, пилить деревья, чтобы как-нибудь доехать до станции. Ветер руки жжёт… Помню, я за пилу схватилась — кожа пристала. Доехали кое-как… На станцию прибыли, машинист стал со мной прощаться и спрашивает: «Муж-то у вас, девушка, есть?» — «Есть», — говорю. «На фронте? Ну, говорит, он чувствует, как вы тут дрова с нами пилили».
Она замолчала, и я ничего не ответил. Я знал: она понимала меня.
…Потом мы пошли бродить по городу. Мы ни о чём не договаривались, но точно по уговору стремились к местам, столь памятным нам…
Вечером мы прощались. Было очень мало слов и только один долгий поцелуй. Мы расстались у Пороховых заводов. Я вскочил на попутную машину.




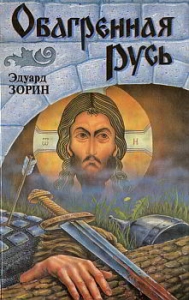



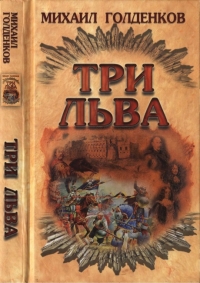
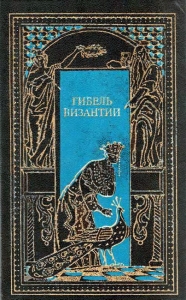
Комментарии к книге «Военный корреспондент», Александр Борисович Чаковский
Всего 0 комментариев