Александр Грановский
Двойник полуночника
Настоящая правда
всегда неправдоподобна.
Ф. М. Достоевский
1.
Он уже давно не видел себя в зеркало и невольно вздрогнул, словно натолкнулся на этот взгляд, который посмел рассматривать его в упор с непозволительного расстояния прицела. Но, как всегда, оказался начеку, на миг позабыв, где сейчас находится и кто с ним. Главное, подчинить противника глазами. Особенно в первые секунды, когда тот еще растерян и не знает, с какой стороны последует удар. Чтобы даже не понял, что удар уже последовал...
Неуловимое движение глаз и губ, и он, Coco, уже другой. Глубокие морщины устало перечеркивают лицо, будто кто-то поспешил поставить на нем крест. С тем, портретным, конечно, не сравнить - там художники, лучшие спецы - вся страна, можно сказать, создавала образ, чтобы он вошел в историю на века. Наверное, сейчас его не узнала бы и родная... Он подумал о матери... хотел подумать... А увидел, как бы припорошенное снегом, лицо своей первой жены Кето, которая так мечтала стать матерью, но Бог прибрал ее совсем юной, и когда они свидятся снова, он будет уже стариком, беспомощным и дряхлым.
Наверное, это и есть плата за его грехи - жить долго.
Последняя папироса, последняя капля горечи в иссохшем горле - и можно наконец уснуть. Потерянно забыться в тревожном сне. Так и уснуть, не раздеваясь, чтобы в любой момент быть готовым ко всему. Чтобы, если Они придут (а Они придут... не могут не прийти) - встретить их во всеоружии: глаза в глаза!
Где-то в глубине ночи проснулись часы и начали сонно отбивать удары. На последнем он вздрогнул, отложил погасшую трубку и, словно о чем-то вспомнив, а на самом деле, боясь потерять пока еще смутную и не до конца осознанную мысль, прихрамывая, направился к столу.
Это был большой, зеленого сукна, стол для заседаний. Раньше он принадлежал самому генералу Адрианову - градоначальнику Москвы, потом Троцкий великодушно подарил его Ленину, который просто обожал такие добротные и веские вещи, с их ни с чем не сравнимым запахом порядка и... тайны.
Легкое нажатие на едва заметный выступ, и из стола бесшумно выехал хитроумно встроенный тайник. Здесь хранился архив, где на каждого приближенного имелась своя карточка. Некоторые были пожелтевшими от времени, другие совсем новыми. Много лет он, Coco, собирал эту картотеку власти и сейчас, возможно, в последний раз взирал на главный труд своей жизни. Выхватил наугад несколько убористо исписанных карточек, каждую из которых знал почти наизусть: Зиновьев-Апфельбаум, Гершель Ааронович... Бронштейн-Троцкий, Лейба Давидович... Лаврентий Берия... Ульянов-Ленин... и о каждом из них он знал все, даже самое тайное, о чем те предпочли бы забыть, вычеркнуть из памяти навсегда... Мало ли у кого какие были грешки...
Рыться в этих карточках, а особенно вписывать в них что-нибудь подноготное (которое в департаменте Берии добывать умеют), было его любимым занятием. Мог проводить за ним долгие часы, забывая обо всем на свете. Будто играл в одному ему понятную игру и всегда выигрывал. Кто-то коллекционировал бабочек, а он - людей, во всем разнообразии их пороков и слабостей. Жаль только, что этим нельзя обмениваться с другими коллекционерами (хотя бы с тем же, например, Рузвельтом или с хитрым лисом Черчиллем). Но кому нужен старый развратник К или потомственный алкоголик Б?
В небольшом отделении архива находились несколько пачек денег и подписанные конверты с документами, которые уже давно не имели никакого значения, но он зачем-то продолжал их хранить, как хранят старые фотографии, чтобы на склоне лет вспоминать молодость, когда, казалось, праздник только начинается... Впрочем, какая молодость? Разве она была у него - молодость? У революционеров не бывает молодости. Все они, словно меченые смертью, незаметно привыкают презирать жизнь с ее мелочными заботами и радостями, которые только отвлекают от борьбы... А когда вдруг оказывается, что все жертвы были напрасны, приходят другие революционеры.
...Взял хромированный пистолет-зажигалку, навскидку прицелился в темноту окна. В последний миг успел загадать желание и все-таки вздрогнул, когда вместо выстрела из дула выплеснул голубоватый огонек. Секунду, другую смотрел на него, как завороженный, и только потом позволил себе улыбнуться.
Маленькая элегантная игрушка была с секретом (сколько ни пытался разгадать его Берия) и легко превращалась в пистолет, который мог стрелять такими же элегантными хромированными пульками. Он не помнил, в каком положении оставил в последний раз таинственный предохранитель, но, к счастью, выстрела не последовало, и это был уже хороший знак.
Не зря Абакумов утверждал, что игрушка - единственный и неповторимый в своем роде экземпляр. Небось, ради этой неповторимости и пустил замечательного мастера в расход. Словно лишний раз доказывая свое, Сталинское, как-то брошенное в запале политической борьбы, что незаменимых людей нет. Нет-то оно, конечно, нет... Надо только поставить человека в условия, чтобы захотел... чтобы очень захотел... Но и мастера другого такого нет.
Блестит, переливается хромированная поверхность. Приятная тяжесть уютно покоится в руке. Все исполнено точно по ладони. Каким-то образом измерили, учли. Иногда ему, Сталину, кажется, что Они знают о нем все и уже давно научились предвидеть каждый его шаг, каждое слово, даже желание. Одного Они не учли - времени, которое первым начнет отсчитывать он.
Из денег, поколебавшись, взял всего пачку. Много это или мало представлял смутно. "Деньги - это дерьмо, но дерьмо - это не деньги", некстати вспомнил Ницше, которого когда-то боготворил, пока не понял, что и этот "сверхчеловек" был такой же, как и все - мечтатель и неудачник, раздираемый страстями и слабостями. Вдобавок ко всему панически боялся женщин, постичь которых не помогала никакая философия. Наверное, и рога ему наставляли с тем особым наслаждением, какое испытывают ничтожества перед гениями.
Почему-то все гении несчастны и в каждом их несчастье замешана женщина.
Только сейчас вспомнил, зачем полез в тайник (интересно, что скрывал в этом ящичке Ленин?). Впрочем, нет - с первой минуты знал и помнил. Словно давно хотел и боялся этой встречи - со своей юностью, с Кето...
Маленькая пожелтевшая фотография словно излучала свет, но лицо было какое-то чужое, и чем больше он, Coco, его рассматривал, тем больше закрадывалась мысль, что, может, и не было никакого прошлого, а все это он придумал себе вместо снов, бессонными ночами утраченных надежд?
2.
Тяжелая дубовая панель со скрипом повернулась. Из черного проема пахнуло сыростью и спертым воздухом подземелья. Секунду-другую пребывал в нерешительности, словно к чему-то прислушивался или чего-то ждал, и лишь потом, пригнув голову, нырнул в настороженную темноту.
Он и сам не знал, кто и когда построил этот ход - царь Иван Грозный или еще его бабка, византийская принцесса Софья Палеолог - знал только, что существует, чтобы понадобиться в случае чего. Еще подумал, что потому и понадобится, что существует. Воистину, все связано со всем. Не будь этого хода, и он не включил бы его в свой план. Не будь хода, и самого бы плана не было. А так, благодаря ходу, а значит, и Ивану Грозному, история повторяется. И человек повторяется. Иногда ему и в самом деле казалось, что все уже было, и сейчас он, Coco, просто повторяет одну из своих жизней. Возможно, того же Ивана Грозного или жестокого (но справедливого) Тамерлана (то-то он всегда чувствовал между ними почти мистическую связь). А значит, человечеству повелители необходимы. Чтобы ускорить замирающий ход жизни, подтолкнуть колесо истории, которое рано или поздно почему-то начинает пробуксовывать, и тогда человечество охватывает тоска и скука, словно долгой зимой в заброшенном Туруханске на краю Земли. И великие всегда повторяют великих... Что даже укладывается в диалектический и исторический материализмы, в которые, при желании, можно уложить все. Вот только страх... Потаенная печаль всех великих - этот облепляющий страх ночи, когда на пороге вечности вдруг открывается истина, что все достижения такой же тлен, как и сама жизнь. "Все проходит..." Время не различает ни рабов, ни героев, и тогда начинает закрадываться... еще не страх, а некое предощущение страха (которое порой сильнее) - страха за будущее... И настоящее. Которое уже тебе не принадлежит. И тогда ход - последняя надежда. Чтобы в который раз испытать судьбу.
И, как всегда, это знакомое до дрожи... что в темноте кто-то есть... Или может быть... Подстерегать... только ждет момента, чтобы сомкнуть холодные пальцы на хрипящем горле и тем самым исполнить приговор. Но секунды, словно стекали по шее капельками пота, а того, главного страха, не было. Он уверен, что распознал бы его сразу. Лишь мучительно перебирал: кто? И заглядывал в глаза, в самую душу заглядывал, в самые потемки, но там уже давно поселилась пустота, а того, главного, страха до сих пор не было. Во всяком случае пока. Он уверен, что распознал бы его сразу. А так, слишком легкая получалась смерть. Слишком европейская. В Азии всегда было по-другому. Как с Гришкой Распутиным, и концы в воду. Или как с Николаем вторым... До такого не додумался даже он, Coco, - единственный азиат, среди этих европейцев. А вождь и учитель стоял рядом, наблюдал... И эта его ухмылочка, которую потом назовут отеческой... И вздернутая, как у беса, бороденка...
"Ну, как? - наконец не выдержал, за рукав тронул. А он нарочно принялся раскуривать трубку, чтобы унять в пальцах дрожь. И, не дождавшись ответа, вождь сам же и ответил одобрительно: - Тонкая работа! Но ггязная. Спасибо, товарищ Свердлов постарался. А как вы, голубчик, думали? Геволюция - это ггязь, но геволюция это и искусство. И, как всякое искусство, она тгебует жегтв и еще раз жегтв...".
...Лишь однажды он сорвался, выхватил пистолет (с которым теперь никогда не расставался) и выпустил в темноту всю обойму. Но это был всего лишь раз - больше он себе такого не позволял. А глупого телохранителя, который сразу выскочил совершить подвиг, но на свою беду заметившего ход, на другой день уже не было. Жаль. Верный был человек. Глупый, но верный. Почему-то всегда так: чем глупее, тем вернее.
3.
Мокрые ступеньки круто уводили вниз. Здесь ход расширялся и можно было выпрямиться во весь рост. В свете фонарика поблескивали камни свода. С этой минуты его сердце стало часами и начало свой отсчет времени. Десять минут до развилки, еще восемь до прикованного к стене скелета, затем поворот налево и через каких-то несколько минут он окажется в темном переулке, где его всегда ждут. Серая обыкновенная "Победа". Другая машина в это же самое время будет на Мясницкой, третья - возле Красных ворот, четвертая на Герцена, если он надумает от развилки взять вправо, и так далее еще в десятке точек.
Впрочем, раньше у него была карта - старинная такая карта, с готическими обозначениями на немецком, которого он не знал, - пришлось самому покорпеть со словарем... Эту карту при тайном обыске удалось обнаружить в кабинете вождя. Сразу понял, что она и есть главное. Ленин был уже смертельно больным - мучительно доживал последние дни в Горках, даже у него, Coco, просил яду, чтобы прекратить свои мучения: почти полностью отказала речь, лепетал какие-то слова, словно вывернутые наизнанку, бессвязные обрывки фраз. Словом, полный распад личности. И вот в таком состоянии вождь заставил везти себя в Москву, в Кремль, в свой кабинет, где он зачем-то рылся в столе (возможно, карта хранилась в тайнике, куда он ее переложил, чтобы легче было найти... а потом забыл), в библиотеке, делал вид, что нужны книги, брал Плеханова, Троцкого, Гегеля (которого в свое время так и не смог одолеть) и чем-то расстроенный уезжал... чтобы умереть. Если искал карту, то зачем, кому хотел передать ее, какая за всем этим скрывалась цель?
А легенда уже творилась: "Ленин - жив, Ленин жил, Ленин - будет жить". И в этой легенде место для карты совсем не предусмотрено. Последняя вспышка ясности в его к тому времени наполовину разрушенном мозгу (он, Coco, видел потом этот заспиртованный в сосуде мозг: одно полушарие обычное, а вместо другого что-то сморщенное на веревочке величиной с орех). Или каким-то непостижимым образом выяснил для себя главное: был обыск, и, понятно, ее нашли, поэтому и уничтожать не имело смысла. Лучше дать ему, Сталину, понять, что не намерен ничего менять и даже готов передать ему эстафету своего рода карт-бланш на любые полномочия, только чтобы не разрушали его легенду, не свергали с пьедестала истории, в конце концов, они были людьми одного ордена, одного ранга, одного призыва... "Сталин - это Ленин сегодня", - как будет написано потом на всех заборах. А уж он, Coco, постарается. Он станет таким Лениным, что при имени его одном будут замирать птицы.
А еще была ярость. Упоительная ярость мести. Сами, значит, подземным ходом собирались уйти за Москву, а там аэроплан - маленький немецкий "Роланд", который рассчитан на троих - Ленин и еще двое: в первую очередь Свердлов (главный хранитель алмазного фонда), ну и, конечно, Троцкий, без которого Ленин - особенно в последнее время - был как без рук (а точнее, как без мозга). Для него, Сталина, места не оставалось, о нем попросту забыли, не учли (в горячке революции), не успели посвятить в Планы...
Но и об этом он задумается уже потом, а тогда, словно переживал мучительную болезнь, пока не наступил кризис и с глаз не спала последняя пелена. Что это было, и чего он лишился - отживших иллюзий, веры? И хорошо это или плохо - не успел подумать и не знал - не мог смириться лишь с одним: неужели и он, этот баловень судьбы, Ленин, такой во всем уверенный и непогрешимый, со своей карманной революцией, а на самом деле, бурей в стакане воды, взлелеянной в лучших уголках Европы (на партийные, между прочим, деньги, которые с риском для жизни добывал ему он, Coco), чтобы в нужный (опять же вопрос - кому?) исторический момент (но уже на немецкие деньги) всколыхнуть всю эту гремучую смесь народов, весь этот "беременный революцией" Вавилон, который был уже, казалось, обречен даже в имени своем РОССИЯ, неужели и он, Ленин, после стольких усилий и жертв мог бросить все и податься к своим бородатым лавочникам в Европу? А то, что кому-то казалось непоколебимой верой и тонким расчетом гения - всего лишь спокойная готовность к бегству? Может, потому и спокойная, что не должно оставаться никаких улик? Потому что только несколько посвященных могли понимать, догадываться, какую они затеяли игру? И уж совсем никто не представлял, что масштабы этого самого грандиозного в истории блефа еще долго будут потрясать унылое воображение потомков.
Для него, Coco, это была не просто карта, а улика - бесценное сокровище и документ, который он использовал еще раз - чтобы сбить спесь с рвущегося к власти Троцкого. И хотя Троцкий еще какое-то время трепыхался, пробовал даже шантажировать его своими документами (что-то из архива царской охранки) для большой политики Троцкий был уже труп.
В те (хорошие в сущности) годы он, Coco, и успел изучить эту карту вдоль и поперек. Любил инкогнито выбираться в город, и, смешавшись с толпой, бродить по улицам, слушать, о чем говорят, чтобы из обрывков фраз и слов уловить обшее настроение, первые симптомы... еще не болезни, а чего-то смутного, что время от времени охватывает общество, если в том или ином вопросе перегнуть палку.
Народ любит стабильность, но, как всегда, мечтает о чем-то лучшем, хоть, правда, потом и оказывается, что "лучшее" уже было. На то и вождь, чтобы знать правду из первых уст и оправдывать их мечты - чтобы не угасала животворящая иллюзия борьбы и перемен. Чтобы на горизонте возникали все новые и новые надежды. И чтобы для самых отъявленных (которых кто-то придумал называть революционерами) всегда оставалось место подвигу. Маленькому человеку нужны герои. А народ - это всего лишь много маленьких человеков.
Немного грима (старая школа конспирации, хотя были у него и маски, неузнаваемо менявшие лицо), - и он уже прохожий, один из множества других, таких в чем-то одинаковых и разных, с объединяющим желанием быть, как все. В этом "как все" и заключена главная энергия любого преобразования, любой революции.
4.
Он, конечно, отдает себе отчет о всей мнимости принятых мер предосторожности. Да и сам подземный ход, созданный когда-то для спасения, с такой же легкостью мог бы привести прямо к нему в кабинет. Охраны нет. Она есть, но снаружи. Согласно же заведенному правилу, без предварительного звонка к нему войти никто не посмеет. Дверь запирается изнутри. Приходи подземным ходом, бери его тепленького. Чтобы тем же путем уйти без помех. Пока остолопы охраны очухаются, сообразят... Хотя, может, кто-то из них и догадывается? Не все же кругом сплошные дураки? Но он слишком часто менял людей, а потом понял, что подобной сменой лишь увеличивал возможности того, единственного... который все учтет и сделает в лучшем виде и, возможно, только ждет приказа. Но Они или осторожничают, или боятся... (все еще боятся!)... Слишком долго он приучал их бояться, чтобы в считанные минуты Они рискнули бросить на карту все. Иногда ничтожная случайность может изменить ход истории и судьбы. Впрочем, он уже давно подозревал, что случайность правит миром, но человеку кажется, что он способен выискать закономерность для оправдания своих надежд.
И почему-то сразу подумал о двойнике, о котором предпочел на время забыть, вычеркнуть из памяти, но который слишком долго был вторым Сталиным, чтобы в какой-то момент у него не возникло искушения стать первым. Случайная мысль, случайное желание, особенно когда нечего терять. Или все это задумали Они, а двойник еще ни о чем не догадывается, хотя внутренне готов... Никто даже и не заметит подмены. Все так же будут звенеть по утрам будильники, чтобы поднимать его народ на новые свершения и борьбу. Все так же будет звучать музыка и все так же будут любить...
А пока Они ждут. Ждут от него каких-то действий. Может, даже подталкивают к каким-то действиям, чтобы он совершил ошибку и потерял бдительность. Или ждут какого-то сигнала... Но там, за границей, тоже привыкли ждать, и первыми, конечно, не начнут. Для них он был и остается страхом, к которому привыкнуть невозможно, а значит... что-то должно было случиться здесь и сейчас, но он своей непредсказуемостью постоянно все срывал, и в Его Величество План приходилось вносить все новые и новые коррективы. Они даже не заметили, что План уже давно принадлежит Ему, Coco, - так бывает, не замечают, что любимая женщина принадлежит другому. Или предпочитают не замечать? Чтобы как можно дольше все оставалось, как есть. Пусть лучше зыбкое равновесие, чем угроза потерять все. Впрочем, угроза и была его любимой женщиной.
Он и сам не знал, кого подразумевал под этим мистическим Они. Но сколько ни пытался представить какие-нибудь лица, все они, не задерживаясь, ускользали в никуда, и лишь на пределе усталости и отчаяния перед его глазами проступило что-то жутковато знакомое. У лица был патологически огромный лоб Троцкого, раскосые, с азиатчинкой, глаза Ленина, тонкий аристократический нос Феликса и толстые плотоядные губы Макиавелли.
И сразу за спиной холодком шевельнулся страх. Словно искал его затылок. Но он успел резко повернуться, и страх сразу съежился до размера пули, которая где-то затерялась в темноте. Возможно, в эту минуту она уже нашла другого. И он на долю секунды успел увидеть этого, другого... Неужели и его двойник, которого в сущности он любил и, казалось, за эти годы успел изучить, как себя самого, способен на предательство, как Иуда?
5.
Минуту подождал, чтобы к темноте привыкли глаза. Машина была на месте. Еще не видел, а уже знал - на месте; большая тень дома затаила маленькую. Даже успел заметить мелькнувший в кабине огонек - кто-то курил, стараясь спрятать папиросу в кулак (фронтовая привычка... грубейшее нарушение инструкции, за которое надо наказывать).
Его ждали. Его ждали здесь вчера... А значит и неделю, и месяц назад. Они ждут его всегда. Можно сказать, успели привыкнуть ждать, а когда человек к чему-либо привыкает, он теряет бдительность.
Хотел было отделиться от стены, чтобы вынырнуть из темноты внезапно и застать этого "курца" врасплох. Раньше он такие эффекты любил... Видеть, как на глазах глупеет физиономия какого-нибудь функционера... вождя... Как с благородного портрета непреклонного борца предательски сползает маска. А под ней в сущности мурло... То самое неистребимое мурло мещанина, которое живет и скрывается в каждом. Видеть, как трясущимися пальцами тянут к огню папиросы. Некоторые даже курить начинают только потому, чтобы если Он предложит, не сказать случайно "нет". "Мне всегда были подозрительны те товарищи, которые не пьют и не курят," - эти слова кто-то приписывает ему, хотя он так еще не сказал, но он не отказывается - хорошие слова, о чем-то таком он, без сомнения, когда-то думал или мог думать, а значит, мог и сказать. В остальном, они все - рабы... И руки у них всех постоянно липкие и влажные, как у рабов. Поэтому он не любит здороваться - сразу хочется смыть их прикосновения или хотя бы вытереть руки платком. Потом, конечно, те, с липкими руками, незаметно исчезали, но все уже происходило без его участия, словно само собой.
Особенно любил наблюдать за человеком незаметно. Для этого всюду имелись потайные глазки. Даже в спальнях. Мог часами смотреть такое ни с чем не сравнимое - живое кино. Вот где каждый раскрывается в своей сути. Когда еще вчерашнего героя или вождя в считанные минуты обращают в бабу, готовую на все. Когда лишают дара речи.
Холодный ветер покачнул тени. Где-то на той стороне улицы тоскливо скрипнула фрамуга. Все было, как всегда, если не считать одной малости - его не ждали! Только сейчас понял, откуда взялась эта нелепая, на первый взгляд, мысль. В машине кто-то курил, а значит, его не боялся. Если учесть, что он выполнял чье-то задание, значит, его не боялся и еще кто-то... Так сколько же их, которые осмелились не бояться его в ночи? Три, пять, десять?..
Тусклая полоска света (раньше ее как будто не было?) падала откуда-то сверху и наискосок, словно перечеркивала улицу. Каких-то несколько шагов - и он оказался бы прямо в центре... Лучшей мишени не придумать... И тут он вспомнил, что рядом была или должна была быть какая-то дверь. Мертвый подъезд мертвого дома, который спит или делает вид, что спит, а в каждой щели его - Их люди. Вся улица оцеплена. Они ждут... Они ждут его следующего шага, дальше должны действовать по инструкции... И потому спокойны... Им кажется, что все предусмотрели, все учли... Но в этой инструкции его шанс! Возможно, единственный. Пока будут в который раз все согласовывать, он успеет, выиграет какое-то время. Но для этого нужно совершить что-то непредсказуемое... Что-то настолько из ряда вон...
И, подняв воротник своего еще довоенного пальто (только сейчас почувствовал, какой на дворе мороз и какая должна быть на него злость у тех, кто изо дня в день стоял здесь в оцеплении, чтобы обеспечить Его безопасность, и в любой момент был готов на все), двинулся от машины в обратную сторону.
Он шел не быстро и не медленно, с той неотразимой уверенностью, от которой у иных цепенеет взгляд. Он шел тяжелой поступью командора по узкому тоннелю улочки и чувствовал, как во всем огромном людском муравейнике замерла, приостановилась жизнь. Лишь настораживающе сухо поскрипывал под ногами снег...
Еще несколько шагов - и он окажется на проспекте. Уже можно различить знакомый шум машин. Значит, кроме муравейника, есть и еще кто-то, кто умудряется существовать ни на что, и от этого случайного открытия стало как-то легче дышать, словно что-то расправилось внутри и отпустило, захотелось выругаться и рассмеяться, и чтобы все вокруг услышали его ругань и хрипловатый смех. Смех победителя.
6.
БЕРИЯ
От курева язык казался деревянным, во рту было гадко, как с похмелья (раньше он не курил, а тут вдруг почему-то начал, словно примеривал на себя новый образ в новой роли), и с каждой выкуренной папиросой "Герцеговины Флор" как бы отщелкивалась еще одна минута времени, которое теперь уже неумолимо приближало его к заветной цели. И тогда рука снова тянулась за папиросой, огонек зажигалки, одна-две затяжки и тут же гасил, давил омерзительный окурок, расплющивал его, как червяка, чтобы сразу затеять все сначала. Нарочно не хотел ничего менять, пока не зазвонит телефон. Этого звонка он ждал вот уже несколько часов и суеверно боялся посмотреть время.
Но черный телефон молчал, молчал телефон белый и остальные, словно с ними сговорились. И от этого слепого ожидания он впадал в бешенство и тогда начинал ходить кругами, опасливо обходя телефоны стороной, даже пряча за спиной руки, чтобы нечаянно не сорваться и не размозжить какой-нибудь из них о глухую стену бункера. Лучше бы, конечно, сделать это о голову виновника всех его переживаний, но о подобном удовольствии боялся и подумать. Боялся мысли собственной, чтобы не дай Бог не прочитал ее Он. Скоро Его ученые научатся читать мысли каждого (если еще не научились) и надо спешить, пока...
Наконец, черный телефон расколол тишину, а следом зазвонили разом все остальные. Оставалось только протянуть руку, которая успела стать холодной и влажной.
- Да-да, слушаю! - хватал он одну за другой трубки.
- Он ушел.., - неслось поочередно из каждой.
- Что значит ушел?.. Как ушел? Куда?
- Сел в такси на проспекте Маркса... Наша машина, как всегда, пристроилась за "Победой", а он в это время... Но город уже перекрыт. Блокированы все дороги. Все такси взяты под наблюдение. Какие будут указания?
- Ах, болваны!.. - и еще долго потом, по затухающей, ругался матом, но оттого, что все как-то стронулось и пришло в движение, почувствовал не то чтобы облегчение, скорее азарт... Охота началась. А в каждой охоте охотник остается охотником, а зверь - зверем. И уже по инерции доругивался в остальные телефонные трубки, запоздало радуясь тому, что кругом одни болваны. С болванами трудно, - за все надо платить, - но с ними и спокойнее.
А зверь обложен и далеко ему не уйти.
Потягиваясь и похрустывая в суставах, подошел к стенке с академическими изданиями томов классиков революции. За книгами Ленина скрывался роскошный бар, забитый бутылками всех времен и народов. Коллекционные вина и коньяки из подвалов Европы, неисповедимыми путями оказавшиеся здесь, в его, Лаврентия Берии, кабинете-бункере, привычно, как и сотни лет до этого, в темноте веков ждали своего часа, своего праздника. И вот этот праздник наступил, но почему нет радости? Будто время выпило всю радость, бессмысленное время ожиданий и надежд, когда кажется, что все еще впереди, пока в какой-то момент не приходит понимание, что это ожидание и было жизнью. У времени не бывает ни прошлого, ни будущего, а есть только настоящее. И нужна, видимо, какая-то глубинная мудрость, чтобы просто жить. Сегодня и сейчас. Несмотря ни на что. Пусть даже на пределе сил человеческих. Словно передавая невидимую эстафету духа, над которым не властно время. Но он, Лаврентий, свой выбор уже сделал.
Щедро плеснул в хрустальный бокал французского коньяка столетней выдержки. Пил по-женски: мелкими глотками, отставив мизинец с перстнем, возможно, принадлежавшим самому Одиссею или Агамемнону - из бесценной коллекции Шлимана, вывезенной из Германии и упрятанной в тайники Лубянки, с глаз долой. Об этой коллекции не догадывался даже Сталин. И если раньше он, Берия, только ждал случая преподнести такой подарок своему Coco, то в последнее время с этим уже не торопился - будто золото постепенно брало над ним власть, и эта власть оказывалась сильнее власти желтоватых глаз старого уставшего от жизни вождя. А еще он верил, что жук-скарабей, выбитый на древнем перстне, принесет счастье.
7.
В такси было уютно и тепло. Зеленовато фосфоресцировали циферблаты приборов. Привычно пахло бензином и табаком, кожей сидений, витал дух хорошего вина и дорогах духов... Их любила женщина, которую любил он. И сейчас этот запах всколыхнул в нем волну угасших снов.
Впрочем, это было так давно, что уже не имело никакого значения. Словно в другой жизни, которая, как он считал, давно кончилась, а она не только продолжалась, но и осмелилась напомнить о себе. Он даже вспомнил имя женщины... и бархатистую нежность загоревшей кожи; морской ветер развевал ее волосы, и волосы больно хлестали по его глазам, и сквозь слезы он готов был молить ветер, чтобы эта боль никогда не кончалась...
На секунды мелькнувший свет дважды выхватывал невозмутимый профиль водителя и его отражение в зеркальце, каждый раз почему-то разное. То виделся какой-то господин с усталыми печальными глазами, то подгулявший начальник, виновато спешащий домой и придумывающий, что сказать жене по поводу ночных бдений, то ученый муж - допоздна задержавшийся в институте, в поте лица потрудившийся в своей лаборатории. И не в молоденькой лаборантке дело (ведь гении неспроста притягивают к себе женщин). Хотелось доказать, что и он что-то значит, что и он личность - неповторимая и незаменимая... А это уже плохо - плохо, когда несознательное Я берет верх, незаметно подкрадывается коварная гордыня, вызывающая то самое, разрушительное, головокружение от успехов, когда чувствуешь себя не таким, как все... Сперва чувствуешь, а потом действуешь... Теперь в зеркальце заднего вида мелькнул знаменитый режиссер М. Еще вчера ему рукоплескала вся Москва, было море цветов и... выстрелы шампанского, от которых он вздрагивал... а сегодня М. выдернули из теплой постели по доносу лучшего друга, который станет режиссером завтра. Но люди приходят и уходят, а высшая справедливость остается: "Кто был никем, тот станет всем..."
- Куда?.. - не оборачиваясь, подал голос таксист. На секунду глаза их встретились в зеркальце и холодок... нет, не страха - привычной осторожности заставил сузиться его глаза, чтобы никто не смог заглянуть в них.
- Туда... - сказал слегка заплетающимся языком человека, которому слишком трудно контролировать себя.
- Сегодня уже отвозил одного туда, - с готовностью подхватил таксист, словно только этого от него и ждал. - На Ваганьковское... кладбище, я имею в виду. Подозрительный такой тип. Ночью, с чемоданом, на Ваганьковское!.. Проездом через Москву на Магадан. Сережку Есенина, понимаешь, надумал помянуть. А у самого в чемодане...
- В Кунцево, - уточнил глухо. Словно хотел оборвать бессмысленный поток слов, который мешал ему думать, а все мысли так или иначе возвращали его в Кунцево, на "Ближнюю дачу" в Кунцево, где в последние годы, в основном, и был его дом, его крепость, которая в любой момент может стать ловушкой. И об этом он думал тоже.
И было искушение - последнее искушение на закате лет. О такой женщине он мечтал, наверное, всю жизнь, но Берия все эти годы слишком старательно подсовывал ему других, словно нарочно отвлекал внимание... И когда, наконец, он, Coco, ее увидел, то сразу понял... что обманут. Это была Его женщина. Его женщина по праву. По неписаному праву гор. Наверное, и она что-то такое почувствовала. Один взгляд, которым все сказано. Один взгляд, а словно заглянула в такие бездны... откуда уже не возвращаются. Ее имя - Нино Берия.
Машина свернула с главной улицы и погнала по каким-то закоулкам, будто нарочно хотела его запутать, сбить с толку, чтобы заставить беспокоиться и возмущаться, а значит, невольно приоткрыться - старый испытанный прием, которым хорошо владели еще в Охранке. Своего рода ожиданный эффект неожиданности, которым владеет как опытный сыщик, так и бывалый подследственный. И пока машина, поскуливая тормозами, металась в темных переулках города, он уже начинал догадываться, что у Них что-то сорвалось, что-то разладилось в сложнейшем механизме еще там, в центре, и теперь приходилось тянуть время. Охрана вела его до какого-то момента, а потом как-то бездарно потеряла, сгинула и сейчас он свободен. Свободен как, наверное, никогда последние много лет, свободен, как вырвавшийся из клетки волк. И пока новое кольцо организуется и захлопнется, у него есть еще немного времени, чтобы придумать очередной ход.
А водитель гнал машину с какой-то мстительной лихостью, бросал ее на поворотах то в одну, то в другую стороны, точно ждал от него просьбы о пощаде или хотя бы малейших проявлений страха, но он молчал. Лишь судорожно упирался руками и ногами на поворотах. И только мертвенная бледность выдавала, как ему плохо, видно, разыгралась печень, и от каждого толчка боли на губах едва заметно подрагивала улыбка, но в случайных бликах света лицо казалось маской, бесчувственной и пустой.
Он сказал Кунцево ("Ближняя дача"), хотя с таким же успехом мог бы назвать десятки других мест, где его ждали (раньше он даже иногда проверял бдительность, но служба Власика, а потом Берии, как всегда, оказывались на высоте), словно так и не вышел когда-то из подполья, хорошо усвоив, что чем больше явочных квартир, тем меньше вероятность провала.
Он сказал Кунцево, и водитель словно сошел с ума... Словно отказывался доверять себе... Словно все его закостенелое от многолетних правил и инструкций Я вдруг рассыпалось на множество "да" и "нет", которые никак не могли между собой договориться. Дороги уже перекрыты, должна сработать система оповещения, а что-то не сработало, и он нарочно тянет время, чтобы не брать ответственность на себя.
Он сказал Кунцево, и только сейчас вспомнил, что там наверняка запретная зона, куда машину просто не пропустят (то-то водитель задергался и начал колесить), возможно, именно этого от Него не ожидали - чтобы мышка сама искала свою мышеловку. И это в который раз сбило их с толку.
Обычно до Кунцево он добирался на скоростном метро прямо из Кремля. Что было и быстрее и удобнее. Даже несколько раз на спор выигрывал пари у Ворошилова и Буденного, которые славились своими водителями и добирались на лимузинах по земле.
- Что-то, Клим, твоя кобыла подкачала, - посмеиваясь в усы, встречал у входа поскрипывающего портупеями и сапогами, озадаченного военачальника. - А Семен - хитрый!.. Думал всех на тачанке обскакать. Думал, у Ворошилова одна лошадиная сила, а у него будет целых три. Наверное, по пути пришлось от беляков отстреливаться.
- ...Почему стоим? - только сейчас заметил, что машина уперлась в какой-то переезд, который, судя по всему, и не думал открываться.
- Спят, наверное. Будем ждать или поедем в объезд? - виновато заюлил таксист, который понял, что его хитрость раскусили (таких мнимых переездов в Москве было несколько десятков) и готов был наилучшим образом исправить положение. Сейчас оглянется и включит свет, чтобы получше рассмотреть, с кем приходится иметь дело... Осторожно нащупал в кармане пистолет. Холодный металл призывал к действию. Короткое движение - и одним дураком станет меньше. Воистину, есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблем. Даже представил, как судорожно дернется и будет хватать руками воздух, а потом с глухим стуком откинется на руль. Наутро таксиста обнаружат, но он уже никогда не сможет никому рассказать. Не глядя, выдернул из пачки несколько банкнот.
- Жди меня здесь! - последовало, как приказ. И, как в каком-то трофейном фильме, небрежно бросил деньги на сиденье.
- Хозяин - барин, - уважительно заегозил, засуетился таксист, словно новенькие и хрустящие красненькие обжигали руки.
Неподалеку темнели какие-то постройки. Поскрипывали от мороза деревья. Бездумно, наугад направился по припорошенной дорожке в сторону жилья. А зеленый огонек еще долго мерцал вслед, пока окончательно не растворился в серебряном рассвете утра.
С ним было так уже не раз - когда заходил в тупик, отпускал вожжи, действовал не думая, без колебаний, словно передоверял себя всего кому-то более умному, более опытному, который, как всегда, знал, что делать дальше.
У русских это называется - полагаться на авось. Наверное, за столько лет он тоже стал немного русским, а значит и евреем, и татарином, и бог весть кем еще из десятков окружающих его народов. С кем поведешься, от того и наберешься. Потому его и называют отцом народов, что для каждого он немного свой. В сущности, все люди одинаковы. Они и вели себя одинаково, когда перед каждым рано или поздно вставал извечно главный, решающий вопрос: быть или не быть. Всем, как правило, хочется быть.
Вот и сейчас он действовал бездумно, на авось. Зачем-то приказал таксисту высадить его здесь, у переезда, зачем-то направился (сам не зная куда) в сторону темнеющих строений. Ведь, если даже он не знает, что сделает в следующий момент, тем более, не могут знать этого Они.
Тропа вела мимо домов, которые казались вымершими. Даже собаки затаились, словно проглотили языки... А может, и вовсе не было собак? Может, и домов не было, и всей этой ночи не было - просто померещилось в кошмарном сне. Стоит черкануть спичкой - и он снова очутится в своем рабочем кабинете, на черном диване с высокой спинкой (сделанной по спецзаказу, чтобы прикрывала затылок), пропитанном запахом одиночества и тлена. Наверное, так пахнет власть. И чем выше власть, тем ощутимее, а значит невыносимее одиночество. Вот почему одинок Бог. Потому и сотворил себе человека по образу своему и подобию, но явно не ожидал, что получится такое дерьмо. Значит и Бог способен ошибаться и мучиться бессонницей от дел своих. И сожалеть... и искать спасения... и грешить. И от этой, такой простой, но кощунственной мысли ему стало и страшно, и легко. Словно сам Господь Бог распростер над ним свои руки, чтобы, разметав на тысячи огней ночь, напомнить о себе совсем рядом, за деревьями.
Это был ночной поезд. Значит, где-то в том направлении и платформа.
8.
ДВОЙНИК
Сперва их было восемь. Восемь человек за зеленым забором этой затерянной в лесу "точки". Восемь номеров в одинаковых одеждах, в одинаковых комнатах, с одинаковым видом из окна. С этого дня они все должны стать одинаковыми - одинаково говорить, одинаково двигаться, одинаково смеяться, одинаково прищуривать глаза. Даже курить все они теперь должны были одинаково - только трубки, с одинаковой неторопливостью набивая их табаком папирос "Герцоговина Флор". Это умение они осваивали две недели. Разговаривать между собой строжайше запрещалось.
Весь день был расписан по минутам. С утра история, экономика, изучение трудов классиков, лекции и кинофильмы по различным темам: военное дело, литература и искусство, актерское мастерство и языки. Затем поздний обед, самоподготовка и отбой.
На занятиях к ним обращались обычно по номерам. У каждого на рукаве был нашит такой номер. Вели занятия, как правило, одни и те же. А вот лекции каждый раз читали другие. Себя они не представляли, но ему казалось, что где-то они уже виделись. Одного он даже потом вспомнил. Видел когда-то портрет в учебнике. Потом, правда, учительница приказала заклеить этот портрет бумажкой (потому, видать, и запомнился), и сейчас этот ученый читал им лекции. Словно и не было никакой революции, а перед ним по-прежнему сидели "господа студенты", только под номерами. "Господин Седьмой... Ваш вопрос, господин Шестой, делает вам честь...". Не сказал, а мог бы сказать с высоты своего прошлого, которое теперь ему казалось сном. Но выдавали руки. Будто ими давно не пользовались или пользовались, но не по назначению, и они не слушались и дрожали.
Другой инструктор ставил им пластинку с записью голоса, которому они должны научиться подражать. Сперва ему, Евсею, даже показалось, что это голос какого-то иностранца, а потом узнал, вспомнил, и холодок недобрых предчувствий закрался в душу. Что-то должно было случиться. И случилось. И этот последний, прощальный взгляд Третьего... Такая в нем сквозила безысходность и тоска. Больше они Третьего не видели. Все продолжалось, как обычно, никто ничего не знал или делал вид, что ничего не знает, но по каким-то неуловимым признакам и он и остальные поняли: с Третьим все кончено.
Потом наступила очередь Восьмого. Сперва шел на равных со всеми, а потом, видно, сдали нервы. В самом неподходящем месте начинал заикаться и чем больше заикался, тем непослушнее делался язык. Приходил даже какой-то врач, но с врачом у Восьмого все получалось без сучка и задоринки. За последним обедом лишь успел сообщить, что не сегодня-завтра за ними будет наблюдать Сам (и глазами выразительно показал наверх). Больше они восьмого не видели.
В какой-то из дней жизнь двойников резко изменилась. Подъем в семь, новая одежда, новые костюмы. "Ваша фамилия - Беляев Вадим Петрович", сказал-приказал суровый инструктор, провожая Седьмого в машину с опушенными шторками...
Беляев так Беляев, - только и оставалось молча согласиться. Он уже давно привык, что сказанное инструктором обсуждению не подлежит. Даже не успели покормить завтраком. Рядом сидел человек в штатском. Тупое, ничего не выражающее лицо.
Наверное и у него, Вадима Петровича Беляева, сейчас точно такое же лицо, а лицо, вестимо, - зеркало души, которая сейчас пуста, как душа младенца. Да и та уже ему, Вадиму Петровичу, с некоторых пор совсем не принадлежит. Он и сам себе уже больше не принадлежит. С каким-то удивлением вдруг вспомнил, что были в его жизни и другие имя и фамилия. Свое село вспомнил и свой добротный, украшенный резными наличниками, дом. Он стоял над самой рекой, огородом спадая к речке, где на утренней зорьке они с сыном любили рыбачить. Была еще дочь, Верка, такая смешливая и конопатая, - она только что закончила четвертый класс и ей сшили первое нарядное платье белое, в мелкий черный горошек. Помнится, кто-то пустил в деревне слух, что в округе орудует банда, и каждого в таком платье должны обязательно убить, потому что проиграли в карты, поэтому Верка надевала его только дома, часами крутилась перед зеркалом... И уже совсем будто чем-то приснившимся или словно из другой жизни, вспомнилась жена Настя. И как ладно в то время они жили, особенно летом... в конце лета, когда поспевал сад... Потом в одночасье все пошло прахом. Как снег на голову свалился уполномоченный ("болт заточенный", - как дразнили его в деревне бабы) Васька Кожухов и суровым от перегара голосом приказал собираться. Потом, в райотделе уже, его осматривал какой-то чин... Как лошадь осматривал, даже зачем-то заглянул в рот, приказал спустить трусы, нагнуться и показать ему гудок. Оставшись довольным осмотром, нервно ходил, потирая руки, затем от избытка чувств рассмеялся и похлопал его по плечу. "Ну, Евсей, далеко пойдешь!.. Видно, и в самом деле дуракам везет. Значит, не знал, говоришь, не замечал?..". "Чего не знал?.. Чего... Да, объясните же, люди добрые!.." - наконец, не выдержал, взмолился он, от чего уполномоченный с этим хмырем в штатском достал из папочки несколько фотографий разных лет... И на всех был он, Евсей... И не он!!... Разве что на одной он был в какой-то гимнастерке и фуражке... На другой - с трубкой в руке и в кителе... Ах, ну это... Кто ж не знает народного вождя Сталина... И то, что он, Евсей, на него похож, поди, каждый во всей округе знает. Знают, да помалкивают. Не то теперь время. Даже если спьяну что-нибудь такое брякнешь. А первым это сходство заметил еще кум Кузьма. За что и поплатился вскоре. Приехал из райцентра "воронок" и увез кума в неизвестность. Ни слуху с тех пор о куме, ни духу. А от него, Евсея, все как-то стали отворачиваться. Словно он и в самом деле собственного кума упек... Зато в колхозе уважение. Сам председатель беседовал. Для начала комбикорм выписал, оцинкованное железо - крышу перекрыть. Еще костюм и обувку новые, в которых он и в партию вступил. Но председатель сказал, что так надо, раз новый костюм и обувка. А месяц спустя в хате эту штуковину установили: что-то вроде радио, с небольшим окошком-линзой, очень похожим на глаз, в котором живые человечки двигаются, разговаривают и... подсматривают... Тогда-то он, Евсей, и увидел вождя Сталина совсем рядом. Стоит на трибуне, говорит слова и в подкрепление своей ручкой вот так взмахивает... Словно поднимает эти слова на недосягаемую высоту. И хотя он, Евсей, стал уже не тот, многое научился знать и понимать, одного он не мог тогда понять: зачем этому большому человеку вдруг понадобился он, Евсей, человек маленький? Какая ему, Сталину, от него, Евсея, может быть польза?
Машина ехала долго. Он даже успел вздремнуть, нечаянно привалившись плечом к сидящему рядом конвоиру. Но вот наконец остановились. Звук отпираемой сзади дверцы, и истукан первым выпрыгнул на землю. Вошли в большое здание, где на него, Седьмого, накинули белый халат и повели по длинному пустому коридору. В просторной комнате его сразу окружили врачи и какие-то люди в штатском. Они спорили и совещались, рассматривали какие-то фотографии и заглядывали в глаза, один даже попросил открыть рот... Из их разговоров Седьмой понял, что назавтра назначена операция. Какая операция и зачем - он не знал, знал только, что в его положении не принято задавать вопросы.
В палате была всего одна койка, стул и тумбочка с телефоном. Седьмой подошел к двери и потрогал ручку - заперто. Выглянул в окно. Зарешеченное узорными прутьями, оно выходило в глубокий колодец двора. Осторожно поднял трубку телефона. "Вас слушают", - ответил строгий мужской голос, и Седьмой, он же Евсей, он же Беляев Вадим Петрович, так же осторожно опустил трубку.
9.
Тропа упиралась в ступеньки, которые вели наверх. Больше всего ему сейчас хотелось сбросить пальто, тяжелое, как панцирь, сковывающее каждый шаг. Собрав с поручней немного снега, приложил ко лбу, секунду-другую утихомиривал в себе жар, затем начал медленно подниматься, как на эшафот. Платформа была пуста. Маленький домик с навесом, две скамейки, телефон. Зачем-то зашел в пропахшую мочой телефонную будку, снял прикованную цепью трубку и, лишь услышав длинный гудок, понял, что сделает в следующий момент. После нескольких попыток наконец набрал несколько заветных цифр. Это была аварийная связь.
Только сейчас начинал осознавать, какая выстраивалась игра. Его ждали везде и когда уже, казалось, потеряли след, он тут как тут - на "Ближней даче" в Кунцево. Пока разберутся... Еще одна отсрочка времени, еще одна попытка вырваться за пределы возможного... И невозможного. А значит, победить.
С этой минуты его уже нет. В действие вступают безликие цифры. Семь, пять, шесть, два - и где-то на том конце провода исполнится приказ. Таинственный код, который знают двое - он, Coco, и его двойник Седьмой. Пять - срочно. Шесть - "Ближняя дача". Два - Берия. Из сообщения следовало, что двойнику Седьмому необходимо срочно быть в Кунцево по делу, связанному с Берией.
Несколько смутных теней в дальнем конце платформы, не торопясь, двинулись в его сторону, а он, словно окаменел в телефонной будке... Мелькнула даже мысль (которую так никто никогда не узнает - "последняя мысль Великого Диктатора"): как просто и буднично все произойдет... может произойти в темноте ночной... Неужели он искал такую смерть!.. Или это смерть искала Его?.. И странное облегчение от ясности конца, который успел увидеть за секунду до...
Когда из-за поворота огромной косой полоснул свет, задрожала земля, словно из леса вырвался железный зверь, который с грохотом спешил ему на помощь и сейчас, сверкая огнями и тяжело дыша, остановился совсем рядом. Двери электрички распахнулись... Несколько нахохлившихся пассажиров сидели в кислом тепле трясущегося вагона, летящего в ночь. Пассажиров от усталости сморил сон, они даже не подозревали, что ночь на самом деле и есть жизнь. Но рано или поздно в несущийся вагон бесцеремонно ввалятся другие, десятируко потянутся к притихшему в углу пальто... Словно с каждым ударом, капля по капле, выдавливали из себя застарелую боль приказа. Но он уже давно дух, которому все равно. И это ни с чем не сравнимое чувство полета в никуда, пока с головокружительной высоты ("Большое видится на расстоянии") не покажется сперва огонек, который по мере приближения будет превращаться в огромную, составленную из множества огней, а потому сияющую - звезду самого главного города Земли...
Потом что-то заставило его прийти в себя. Электричка уже давно стояла у платформы. В вагоне было пусто. За окном большими красными буквами (словно предупреждение) светилось и подмигивало: "Москва".
10.
В вокзал заходить было нельзя. Что-то подсказывало, что нельзя, но для него этого слова уже давно не существовало. Там, за заветными желтыми окнами - свет, тепло...
Когда-то в его жизни было много таких вокзалов, но из всех почему-то больше всего запомнился этот, последний. Даже не столько вокзал, сколько ресторан - маленький, уютный, с развесистой в кадушке пальмой, за которой, еще не остывшие, Они - четверо молодых людей с гулко стучащими сердцами, молодое вино и их горящие в отблесках свеч глаза...
Полчаса назад Они совершили очередной "экс" или, попросту говоря, грабанули банк - партийной кассе срочно понадобились деньги. Этих четверых уже искали по всем дорогам от Тифлиса до Баку. В то время как Они с вызывающей дерзостью кутили на виду почтенной провинциальной публики, подкупленные филеры старательно охраняли их покой. Вот, что значит деньги, много денег! На деньги можно купить все - любого человека со всеми его принципами, самую прекрасную из женщин, самого неподкупного судью, самого хитрого политика - пусть только назовут цену. Деньги дают власть, предел которой ограничен количеством самих денег. Но еще большую власть дает тайная организация - партия, своего рода орден, пронизывающий все и вся, эдакое государство в государстве, цель которого... весь мир.
На вокзале легко затеряться. Он как слепок самой страны с ее неистребимым хаосом свободы, где сотни и тысячи людей разных национальностей и вер каким-то образом умудряются сосуществовать... Даже передернуло от неудобоваримости гнусного словца, запушенного в обиход новыми космополитами (со старыми он покончил еще в тридцатых годах, но как любил говаривать Ленин: "Болезнь любви неизлечима"), которым снова тесно в этой стране. Снова спят и видят возрождение своего интернационала, а там недалеко и до мировой революции с ее "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Сегодня лучший товар - власть, которая оправдывает все средства. Но почему-то в "капитале" их учителя Маркса об этом товаре ни слова.
В сущности, как ни верти, а миром уже давно правят Они. Они везде - в культуре, в политике, в финансах, в науке, и если раньше еще стремились к власти напрямую, то в последнее время коренным образом изменили тактику. Научились торговать этой властью оптом и в розницу. В какой-то момент им понадобился Гитлер, который был лишь пешкой в большой игре, теперь на очереди он, Coco. Просто кожей чувствует, как сомкнулось невидимое кольцо и затягивает свою удавку. Сперва вокруг страны, а сейчас уже вокруг Москвы... Кремля и его кабинета.
11.
Высокие дубовые двери то и дело выхлопывали клубы пара, в который, как в парную, ныряли люди. По перрону, поблескивая инструментами, протопали музыканты - целый духовой оркестр. Встречать какого-нибудь припухшего со сна вождя. Значит, скоро литерный, вокзал, как всегда, оцеплен, и каждого подозрительного... От самой этой мысли разволновался чрезвычайно, а от волнения до глупости один шаг. Во что бы то ни стало хотелось оглянуться, проверить след... и сразу посадить себе на хвост "наружника", который только и ждет любой зацепки, чтобы вцепиться мертвой хваткой. Но устоял, сдержался - главное, не терять над собой контроль. По опыту знал: нужно побыстрее войти в какую-нибудь роль. У каждого человека своя роль. Этот солдат, этот колхозник, а вот инженер... Обращают внимание лишь на несоответствие. В таком случае он - учитель, старый сутулый учитель истории, который сам эту историю и делал столько лет - и вот сейчас на пенсии, но мог бы многое порассказать, как было все на самом деле и в Брест-Литовске, или, например, в Польше. Когда-нибудь он напишет настоящую историю побед, ту самую сокровенную правду, которая всегда неправдоподобна.
Где-то далеко минорно всхлипнул духовой оркестр - музыканты привычно настраивали инструменты. От мороза пальцы казались бесчувственными, и звуки получались с привизгом. Ему даже на какой-то миг показалось, что тут собираются встречать Его, только побежали не к тем дверям, и когда Он появится перед ними во всем своем величии, сразу забудут и про мороз, и про липнущие к металлу пальцы - заиграют, как никогда (лучшее вдохновение страх) возвышенно и неповторимо, словно последний раз.
Огромный брюхатый вокзал спал-дышал, ворочался, всхрапывал, под бдительным оком огромной колхозницы со снопом, которая взирала за всем этим великим переселением народов с потолка. Иногда в ее по-женски всепонимающих глазах проступали недоумение и тоска, словно начинала догадываться, что это не кошмарный сон разума, а ее собственные дети, которые все едут и едут, зачастую сами не зная куда и зачем, но металлический голос диктора то и дело напоминал колхознице ее место, и она снова окаменевала на своем посту.
Через забитый до предела зал ожидания направился к большим буквам "кассы". От тяжелого духа толпы он почувствовал, что задыхается. Сразу вспомнил Царицын и тысячи людей - вот так же брошенных на произвол судьбы, но тогда была все-таки гражданская война, с ее накалом необузданных страстей, а сейчас мир, порядок, люди сами строят свое будущее. Откуда же в нем взялось это щемящее чувство вины?
Даже почему-то навернулись слезы. Впрочем, подобная чувствительность отличала всех великих - от его кумира Ивана Грозного до пресловутого Гитлера. И перед каждым из них вставала великая задача - из гнетущего хаоса родить танцующую звезду. Но лишь он один, Сталин, смог из мусора войны и революций построить целый мир (со своими звездами), чтобы все увидели и онемели. И восхитились. И поняли его величие сегодня. Ибо сегодня - это и есть завтра.
Честно говоря, он и сам не ожидал, что такое получится детище, которое кто-то по чиновничьи метко назовет "Системой". Но все большое видится на расстоянии, и еще долго Его Системе не будет равных. Что ж, он всегда был великим практиком.
...Когда-то еще в детстве их утку задрала лиса, и ему самому пришлось выхаживать выводок. Через несколько дней утята уже принимали его за своего родителя (кто кормит, тот и родитель) и ходили за ним, как на веревочке. Их преданность не знала страха. Бросались на его защиту, не раздумывая. Точно так же с не меньшим успехом можно стать отцом змеи или тигра. Главное начинать с детства. И чем раньше, тем лучше. Срабатывает биологический закон жизни, хорошо известный еще в глубокой древности. Так воспитывали на Востоке смертников. Их отнимали у матерей младенцами и содержали при дворе своего повелителя, за которого они, не раздумывая, потом отдавали жизни. Пример тому Тамерлан... Но он, Coco, пошел дальше - сумел стать отцом для всего народа. А народ - это прежде всего дети, о которых он и заботился, не покладая рук. "Все лучшее у нас - детям!" Для самых маленьких - ясли, садики. А подрастут - пионерская и комсомольская организации.
Так постепенно и незаметно происходит отлучение от родителей. И только главный вождь всегда оставался рядом, добродушно поглядывая со всех портретов в каждой комнате, в каждой точке такой необъятной страны.
Правда, в свое время "великий гуманист и педагог" Надежда Константиновна Крупская даже предлагала изымать детей у родителей сразу после рождения (не зря ей Бог не дал своих), но другой "великий гуманист" Ленин мудро сказал "нет", наверное, подумал, как на этот акт гуманизма отреагирует чадолюбивая Европа.
Оставался другой выход - изолировать от детей родителей. Желательно навсегда или по крайней мере достаточно надолго, чтобы хватило времени вылепить ("выковать") из детей миллионы послушных исполнителей, готовых на все... Во имя, конечно, новой жизни, ради новых надежд и новых детей. Чтобы когда понадобятся новые смертники, они были готовы на все "за Родину, за Сталина - у-рр-а!"
Так постепенно выстраивалась Система. И если на первых порах формировали ее другие, то наступил момент, когда Система стала достраивать себя Сама. К тому времени ее структура уже пронизывала все и вся. А с некоторых пор даже начала развиваться по ей одной понятной логике, которой не понимал даже Он, ее Создатель. И вот сейчас, в этом огромном вокзале, кажется, наступило прозрение... Ведь для Системы Он - отец, а от отцов она приучена избавляться. В этом, в сущности, и заключен главный принцип любого развития. Тот самый закон отрицания отрицания, сформулированный еще в Библии. Буржуазия породила пролетариат, который стал могильщиком буржуазии. Пролетариат породил Систему, которая стала могильщиком пролетариата, а значит и Его, Отца. Круг замкнулся.
12.
КОБА
Люди лежали вповалку: женщины с детьми, храпящие мужики и старики с провалами беззубых ртов, какие-то солдаты с котомками, метками, самодельными фанерными чемоданами, и над всем этим витал тяжелый дух портянок и кирзы, пота и... войны, хотя последняя война давно кончилась, а новую Он еще не начал.
Навстречу попалась цыганка, которая почему-то выделила из толпы именно его. Наверное, хотела погадать, но Он рассеянно прошел мимо, и лишь одно слово запоздало шевельнуло память. Это было слово - князь.
Когда-то очень давно, еще в молодости, он и в самом деле считал себя князем, а точнее - побочным сыном князя, с которым скорее всего согрешила или могла, должна была согрешить его мать. Впрочем, в последнем Он и не сомневался. Значит, и он - князь. И не просто князь, а князь Эгнатошвили прекрасный древний род (в то время его мать, Кэкэ, служила у них экономкой), своими корнями уходящий в седое прошлое, когда каждый мужчина рождался для войны, а звон оружия казался колыбельной. Возможно, потому она и устроилась в имение к князю, чтобы родить его, Coco... Так поступали женщины во все века, чтобы сохранить род, и лично он ее за это не осуждал. Ему даже нравилось носить в себе тайну, ореол которой порой действовал более неотразимо, чем сама тайна. Особенно в молодости, заставляя неистово биться пылкие сердца провинциалок, начитавшихся всех этих графов Амори и душещипательных французских романов. Потом, правда, одна тайна сменила собой другую, когда слово "революционер" стало, как признание в любви...
Но и здесь бедный сапожник Виссарион сумел позаботиться о Его пролетарском происхождении. Хотя, конечно, слухи ходили разные... Был даже слух, что Он сын знаменитого путешественника Николая Михайловича Пржевальского (спору нет - похожи, достаточно их фотографии поставить рядом), который и в самом деле гостил в то время в имении князя в Гори, но сколько Он ни выспрашивал мать, Кэкэ - старая развратница лишь загадочно смеялась, задумчиво щурила глаза, словно старалась что-то рассмотреть за туманом времени... И не могла. Или не хотела, как всякая женщина, предпочитая тайну, которую так и унесла с собой.
Лишь потом, после революции. Его люди обнаружили дневник Пржевальского, который, как истинный ученый, имел обыкновение записывать все самые значимые в своей жизни факты и события, и где рождению сына посвящено немало страниц. А разве не факт, что целых два года ежемесячно, вплоть до самой смерти, Он посылал Кэкэ деньги на содержание Сына, которого считал своим?
Была во всей этой истории еще какая-то недосказанность, совсем непростительная для вождя его ранга, но он в конечном итоге оставил все как есть. Уж лучше, чтобы у кормила государства стоял железный грузин Сталин, чем какой-то сомнительного происхождения Пржевальский, от которого за версту попахивает жидовствуюшей ересью. Хватит и того, что кто-то на западе распространяет порочащие его слухи. И что фамилия Джугашвили - по-грузински означает "сын израилита", так как "джута" - это "израилит", а "швили" "сын". Что семья Джугашвили, христианского вероисповедания, происходит от горских евреев Кавказа, обращенных в христианство в начале 19 века. Что отец Като (его матери) был евреем-старьевщиком в горах Кутаиси. Что Он, Коба, окружил себя евреями, с помощью которых истребляет народ. Чтобы потом на них же, евреев, свалить всю ответственность за свои столь чудовищные преступления. Да и сам Берия - еврей или в лучшем случае - полуеврей, а слово "Берия" - грузинская версия фамилии Берман или Берсон и так далее... И, конечно, вся эта кампания идет с Запада неспроста. Что-то готовится, значит, есть какой-то План. Значит, есть хранитель Плана, к которому тянутся все нити. Возможно, даже из Его страны. Значит, есть организация со своими целями, но кто за всем этим стоит?
13.
В большом холле по стенам висели указатели: "буфет"... "Камера хранения"... "Парикмахерская"... Сразу представил кресло, запах свежего белья и тепло мягких рук, ее рук, которым он, закрыв глаза, без оглядки доверит свое лицо. Хотя бы на какое-то время расслабиться и забыться. Обычно в это время суток он ложился спать, и вся огромная страна чутко оберегала его покой, но сегодня эта страна уже, наверное, объявила на него охоту. Сотни и тысячи людей уже, наверное, образовали цепь, которая рано или поздно должна замкнуться, и его, как какого-то волка... накроет черная тень брызгающих слюной псов. И на ослепительно белом снегу закрутится смертельная карусель. Ему даже на миг показалось, что на месте волка был Он. В предсмертных судорогах корчился на белом, загребая окровавленными лапами снег, как будто все еще продолжал бежать. Но в огромных, почти человеческих, глазах уже стремительно угасала жизнь.
И все же, как практически его искать? Раздадут фотографии, объявив преступником или выжившим из ума стариком?.. Да и какие фотографии - Его парадного, где за слоем ретуши уже давно скрывается другой, или Его сегодняшнего, над которым успело изрядно потрудиться время?
- Раздевайтесь, - позевывая сказала толстая и вся какая-то мужеподобная парикмахерша. На внутренней стороне предплечья у нее были вытатуированы цифры 442785. Еще подумал, как много о человеке могли бы сказать цифры. Для посвященного, конечно. Надо только хорошенько продумать код. Первую цифру сразу после рождения... Вторую - после окончания школы... И чтобы каждая цифра в сочетании с другой сообщала о каждом человеке какую-нибудь особенную информацию. Например, насколько он опасен или еще какие-то склонности, которые проявляются уже в детстве и которые можно отслеживать и упреждать. Чтобы достаточно было посмотреть на цифры, и знать о человеке все - даже то, что он и сам о себе пока еще не знает... знает... не знает...
В каком-то уже полусне наблюдал, как с каждым мазком неузнаваемо меняется его лицо, пока не остались только глаза, которые, словно у того волка, выглядывали из снега и которые нестерпимо хотелось закрыть... Закрыть... и, покачиваясь на теплых волнах, все дальше и дальше уноситься в море... Навстречу солнцу. Но вспышка боли заставила вздрогнуть...
- Вы что, сюда спать пришли? - жестикулируя опасной бритвой у самого горла, завозмущалась парикмахерша. - Сами дернулись, а у меня бритва... Ничего, я сейчас ляписом прижгу, - и он вдруг с отчаянной мудростью обреченного успел подумать, что если эта с номером опознает в нем Сталина... Короткий, как приказ, росчерк бритвы - и мировая история надолго ляжет в дрейф... - Да, как насчет головы? Справка от врача есть? Ну, что не заразный... А то у вас какой-то тут лишай...
- Это псориаз, - сказал, будто оправдываясь. - Считается не заразный.
- А по мне хоть сифилис. Справка от врача есть, что незаразный постригу. У нас с этим делом строго. Без бумажки - ты букашка, а с бумажкой - человек.
Но он ее уже не слушал. Выключил из сознания как какой-нибудь граммофон.
Раньше его лечил ("пользовал") знаменитый профессор Виноградов, но болезнь упорно не хотела уступать, а одно пятно на животе даже стало увеличиваться. Для изучения загадочного пятна пришлось создавать целый институт. Потом, правда, выяснилось, что профессор Виноградов хорошо замаскированный японский шпион, но от этого ему, Coco, не стало легче. С тех пор уже никого к себе не подпускал, мазался какой-то дрянью, запах которой, казалось, пропитал всю его жизнь. Даже перестал ездить на море, чтобы никто, не дай Бог, не вызнал его тайны - постыдной тайны любви. И если сын, как сказал Ницше, есть обнаженная тайна отца, то кто же тогда его отец? Что такое он совершил, какой неисповедимый грех? Или отец отца? И это мучительное проклятие рода тянется через столько жизней - чтобы уберечь его или уничтожить (на всякий случай, Тамерлан таких просто истреблял)?
...Хрустящая красная бумажка с Лениным сразу заткнула парикмахерше болтливый рот, но он успел запомнить ее номер 448725. Теперь это был просто номер смерти.
14.
Шел быстро - уходил. Полы расстегнутого пальто хлестали по ногам и разлетались в стороны. Парикмахерская была ошибкой. И вокзал был ошибкой. Он засветился - и теперь на поводу у своей глупости.
Странная тяжесть в боковом кармане уже давно пыталась напомнить о себе, и только сейчас вспышкой высветилось: пистолет!.. Нелепая улика, которую он все это время зачем-то носил с собой. Игрушечное оружие, в котором больше зажигалки, чем пистолета. Но там, где надо, разберутся и сделают правильные выводы. Можно, конечно, выбросить, но в его ситуации это все равно, что бросить собаке кость. В любом случае, если к нему успел приклеиться наружник... Говорят, опытный наружник, как собака, способен нюхом почувствовать, чей ему брать след. Еще не успев понять, кто это и зачем, начинает слежку... Такие асы были и в царской охранке, и в департаменте Берии. Наверное, в минуты опасности у человека и в самом деле начинают выделяться какие-то вещества (вещества страха), которые способен уловить такой "нюхач".
В этом смысле он и сам не сознавал еще, волнуется ли сейчас. Просто шел, спешил, ускользал от своей тени. Откуда-то взялась и начала отстукивать в голове детская считалочка "Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три...", в которую когда-то играли его дети и которая сейчас приводила мысли в порядок.
По ходу заметил светящуюся букву "М". Общественный туалет вокзала. Место, где хоть на несколько минут каждый человек имеет право побыть один. Сейчас главное - стереть отпечатки пальцев (неужели у них могут быть Его отпечатки?!). А уж от самого пистолета он как-нибудь сумеет избавиться.
Миновав скрипучий турникет, прошел в комнату с кабинками. Двое грязных и заспанных мужиков терпеливо дожидались своей очереди. Дверцы, похоже, не запирались. Они словно разделяли человека на две части, оставляя сверху на виду голову, снизу - ноги. Еще вчера одна только мысль, что ради каких-то отпечатков придется вот так, под взглядами чужих людей, превращать себя в курицу - показалась бы ему дичайшим бредом. А сегодня встретил ее спокойно, как солдат, которому выбирать не приходится. В сущности, он и есть старый солдат войны, имя которой - время. Но для времени не бывает ни победителей, ни побежденных.
Теперь и спешить не имело смысла. На вокзале его не возьмут. Слишком много свидетелей. Пока удостоверятся и согласуют... Что-то иное у них задумано... В любом случае живым он им не нужен...
По радио объявили посадку, и народ хлынул на перрон. В одном из залов ожидания освободилось место, и он обрадовался этому, как ребенок. Сразу стало спокойно и легко, словно именно это место он искал. Здесь его не возьмут. Не посмеют. Среди своего народа он в безопасности.
От усталости и тепла слипались веки. Но время уже остановилось...
Потом откуда-то издалека стала наплывать песня. Старая застольная грузинская песня. Ее пели в минуты настроения, когда на душе бывает особенно хорошо. Голоса то рассыпались, то выстраивались друг за другом в один, непередаваемо красивый и сильный. Будто пели сами горы.
Это была песня мужчин - старинная и печальная песня, от которой начинало сперва сладко пощипывать в груди, а потом саднить и раздирать ее до крика, пока на глазах не выступали слезы. Но слез этих никто не стыдился, потому что это были слезы очищения и любви.
Возможно, так пел его отец, такой маленький и тщедушный в жизни, с впалой чахоточной грудью мастерового-сапожника, который в песне словно вырастал в исполина в черной бурке с газырями и кинжалом. Наверное, именно в такие минуты его и полюбила мать... чтобы все оставшиеся минуты с такой же силой презирать и ненавидеть, пока эта жгучая ненависть не превратилась в смерть.
Однажды, незадолго до кончины (он и смерть выбрал, как мужчина - от ножа, в драке за свою и ее, матери, поруганную честь) он повел его, маленького Coco, в горы, где показал тайник. Потом жизнь закружила, он забыл, а может, и просто не придал значения этому факту, посчитав за пьяный лепет вконец опустившегося человека... А может, уже тогда предчувствовал, что это может быть за тайна. Та самая "обнаженная тайна отца", которой ему, Coco, лучше всего не знать.
Как сейчас, он видит этот камень, схваченный пожелтевшим лишайником, в стене старого разрушенного монастыря. Словно эта тайна уже успела разрушить монастырь и теперь на очереди он, Coco. А камень тот как немой укор. Затерянное надгробие в пустыне снов.
Что-то заставило его вздрогнуть. Кажется, он уснул, и то, что еще минуту назад казалось сном, никак не хотело его отпускать. Так бы и остался навечно у этого древнего монастыря. Но кто-то все мешал и тормошил: "нельзя... спать нельзя... спать..." и все назойливее тряс его за плечо. Но ему все равно. Голова уже давно стала легкой и пустой. Она болталась на пожухлом стебле, как перезревший початок кукурузы и сморщенный от старости (и мудрости) до величины вульгарного ореха мозг (точь-в-точь, как у его наставника и учителя Владимира Ильича, - теперь он знал, что у каждого революционера именно такой сконцентрированный до размеров ореха мозг) уже начинал из хаоса ночи выстраивать какой-то ритм - до боли знакомую и печальную песню гор. Словно откуда-то, постукивая, один за другим скатывались камушки, которые на поверку оказывались все теми же орехами с прошлогодними мозгами революционеров-ленинцев.
От этого кошмара, наверное, и проснулся, но, открыв глаза, будто опрокинулся в другой кошмар - ночной яви.
- Спать нельзя, - не переставал тормошить его перетянутый портупеями милиционер. - Куда едем?.. Папрашу билет.., - и, видя его сонный испуг, добавил со всей строгостью закона: - Ваши документы!
Только сейчас до него начал доходить весь ужас положения. Документов нет... Да и зачем ему документы, если всегда и везде главным документом был прежде всего он сам.
- Ваши документы! - повторил милиционер, и от этого его "ваши документы" между ними словно начала натягиваться невидимая струна.
- Пройдемте со мной! - сказал, выразительно поправляя на боку кобуру, и пошел между рядами, не оглядываясь, будто не сомневался, что он не посмеет не последовать за ним, таким решительным и непоколебимым. И он пошел... Не хотел, но пошел... Под перекрестными лучами потревоженных пассажиров вчерашнего дня.
15.
СЕДЬМОЙ
Без стука вошла горничная, принесла ужин. Хотела тут же уйти, но он знакомым жестом попросил ее остаться. Послушно присела на край стула. Ее прекрасные голубые глаза ничего не выражали, а если и смотрели, то куда-то сквозь него. Словно видели что-то свое, ей одной доступное и знакомое, где и продолжалась ее настоящая жизнь, а то, что происходило с ней сейчас... или произойдет - не имело и не могло иметь никакого значения.
Впрочем, и он, и она хорошо знали, что должно произойти в следующий момент, если он попросил остаться.
Иногда ему и в самом деле казалось, что она слепая. Даже хотелось взять ее за руку и, осторожно придерживая, вывести из этого... что называется застенка туда, где больше солнца и света, где развеется ее бледность, а в бездонно голубых глазах затеплится усталая надежда жизни. Но тут же вспомнил, что ни ему, ни ей при свете дня на прогулку выходить нельзя. Только ночью. Тем более нельзя, чтобы кто-то видел их вместе. Недремлющее око есть везде, а Кремль всегда умел хранить свои тайны.
Лишь один раз, в самом своем начале, он нарушил инструкцию - перепутал дверь и попал во внутренний дворик, чем-то похожий на оранжерею, с пальмами, цветами и фруктами. Где-то высоко под стекляным куполом по-летнему звонко щебетали птицы. Словно чудесным образом из зимы перенесся в рай, и вот-вот из-за куста благоухающих цветов появится первый человек Адам и скажет что-нибудь ветхозаветное: "Аз есмь..." Но из-за кустов, широко улыбаясь и вытирая на лбу испарину, вышел сам господь Бог, только на сей раз в образе Сталина:
- Заходи-заходи, дарагой, гостем будешь.
Он отставил в сторону лопату и с фырканьем умылся в журчащем между камней источнике. Его желтоватые, как у тигра, глаза смотрели весело и молодо. Понравилось, видать, что кто-то посторонний и в то же время свой застал его за простым крестьянским трудом.
- У нас в горах старики говорят: "хочешь быть богатым - копай землю, хочешь быть мудрым - копай землю, хочешь быть здоровым - копай землю." Или как сказал мой друг Мао: "Никогда не поздно посадить дерево, даже если его плоды достанутся другим".
Он, Седьмой, потом даже повторил эти слова на встрече с интеллигенцией, которая особенно жадно ловила каждое его слово, стараясь отыскать в них нераспознанный еще никем смысл. И отыскивала, и распознавала. На то она и интеллигенция, чтобы распознавать. И за всем этим, невозмутимо покуривая трубку, наблюдал сам господь Бог. Ему нравилась смышленость Седьмого, его неторопливая мудрость старых аксакалов, которые знают больше, чем говорят.
И, пошарив по карманам уже видавшего виды кителя, который использовал для работы, нашел трубку, продул мундштук и сказал:
-На, раскури...
И пока он, Седьмой, привычно набивал трубку табаком папиросы, а потом раскуривал, попыхивая дымком в слегка пожелтевшие усы, Бог-Сталин с каким-то странным выражением наблюдал за всеми его движениями. Даже непроизвольно пошевелил пальцами, словно хотел удостовериться, что это именно Его пальцы, и лишь тогда взял трубку. На какой-то миг их руки соединила трубка, и не понять было со стороны - кто двойник, а кто настоящий.
О Н А
...Однажды все-таки не выдержал, взял ее за руку и увлек в спальню, где все и произошло так буднично и просто, что не знал потом, куда девать от стыда глаза, а она как ни в чем не бывало уже собирала со стола посуду. Все тот же чистый и ясный взгляд, словно продолжала отсутствовать, и все это произошло не здесь и не с ней... А если и произошло, значит, и должно было произойти, согласно все той же инструкции, которая теперь определяла каждый его шаг. И ее...
И чем больше он над всем этим думал, тем больше начинал понимать, что для того, кто эту инструкцию составил, он, Седьмой, уже давно не был человеком. Так, нехитрый набор функций, необходимых для обеспечения главной функции. В данном случае - двойника.
Особенно хорошо ему удавались встречи с писателями и генералами, которые иногда тоже были писателями и наоборот ("Генералы человеческих душ", - как когда-то остроумно заметил его хозяин). И те и другие обыкновенно быстро напивались, чтобы выглядеть получше дураками и не нести ответственности за свои слова. Несколько фраз, которые он успевал сказать еще на их трезвую голову, сразу разносились на весь мир. Их цитировали вожди и политики, их анализировали на сокрытый смысл, из них составляли лозунги. Но это уже совсем для простого народа, которому некогда читать - надо работать. А попался на глаза лозунг, и он сразу становился руководством к действию. Звал к новым трудовым свершениям.
Потом начиналась главная часть (жен предусмотрительно отправляли по домам), чтобы уже в сугубо мужской компании гулять, не оглядываясь. Что будет, как правило, никто не знал и это еще больше будоражило и заводило. В прошлый раз, например, на огромном блюде внесли шоколадную девушку и Хозяин дал команду ее облизывать. Генералы-писатели, конечно, с радостью, а когда облизали - оказалось, что под слоем шоколада и сливок скрывалась всеми известная и любимая актриса Б. Которую то ли напоили, то ли загипнотизировали...
Иногда ему, Седьмому, даже закрадывалась мысль, что еще немного, и он смог бы управлять всей этой огромной и безалаберной страной. Достаточно в каком-то месте смолчать или, значительно насупив брови (чтобы привычно увеличить постыдно узкую полоску лба), задумчиво набивать табаком трубку или вставлять ничего не значащие слова, и те, кому полагается, все равно отыщут в них необходимый кому-то смысл. И чем туманнее и замысловатее порой оказывались слова, тем больше в них отыскивали смыслов.
О Н А
Он уже знал, как пахнут ее волосы. Он помнил солоноватую прохладу ее губ, таких податливых и бесчувственных, что всякий раз вскипало желание сделать им больно, чтобы вскрикнула, стала вырываться, и в этой борьбе вспомнила в себе женщину, но то ли догадываясь о его мыслях, то ли вослед каким-то своим, особенным, уже ускользала, вытекала из его рук, словно между пальцами струился шелк. И все это в полном молчании, как во сне. В конце концов она тоже человек подневольный и требовать от нее большего... И тогда в который раз (это стало уже привычкой) подумал о Нем, как бы Он повел себя на его месте, и знала ли она, догадывалась... Внешнее сходство еще не все, и если она когда-то была с Ним... Может, потому и спешила, и сейчас где-то в глубине ночи этот старый сморщенный паук бесцеремонно затащил ее в свое логово, чтобы жадно присосавшись, долго и упоительно пить ее кровь, пока мертвенная бледность не расползется по ее губам и лицу... Потому она и такая бледная... остывшая, словно уже давно выпита другим, чье незримое присутствие он чувствовал всегда. Даже сейчас...
О чем она думает и думает ли вообще? Несколько раз он пытался заговорить, пока наконец не открылось главное: девушка и в самом деле была немой!
16.
В прокуренной без окон комнате находились двое. Один, в штатском, сидел за столом, что-то писал. Другой, затянутый в портупеи, дремал в кресле. Его лысая макушка поблескивала, как отполированная.
- Вот, пожалуйста... - с неожиданной злостью подтолкнул его к столу провожатый. - Где живет не знает, куда едет не знает, даже паспорта у него нет.
- Фамилия? - устало спросил тот, что в штатском, и только потом поднял тяжелый взгляд. Его глубоко упрятанные глаза были какие-то сухие, с темными подпалинами вокруг. - Ну, что - так и будем молчать? - потянулся к папиросам, чиркнул спичкой, сладковатый дымок сонно пополз над столом. От острого желания закурить невольно сглотнул слюну, что конечно же не ускользнуло от внимания "сухих глаз". - Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь. В ногах правды нет. Я вижу, разговор у нас будет долгим. Закурить?..
Дрожащими пальцами извлек из пододвинутой коробки папиросу. Его любимая "Герцеговина Флор", которую он когда-то великодушно позволил любить другим, и вот сейчас крупица этой позабытой любви возвращалась к нему сторицей.
Привычно размял хорошо спрессованный табак, еще немного и так же привычно разорвал бы папиросную бумагу, чтобы начать набивать трубку, которую, к счастью, забыл; и все это время за каждым его движением неотступно следил хозяин "сухих глаз", будто от того, как он будет сейчас раскуривать, может зависеть вся его дальнейшая судьба.
- Что-то мне ваше лицо... Мы с вами раньше не встречались? - с какой-то даже задушевностью спросил, терзая пожелтевшими зубами успевшую погаснуть папиросу. - Ну, на нет и суда нет, - сам же и ответил, ухмыльнувшись. Итак, снова начнем с самого начала, а вначале было что? слово. Так как же ваша фамилия, голубчик?
И от этого его "голубчик" (одно из любимых словечек Ленина) невыносимо захотелось плюнуть ему в физиономию, а потом волоком вниз, вниз - в подземные казематы Кремля, где со времен Ивана Грозного мало что изменилось - все тот же неистребимый запах сырости и крови, где, словно сошедшие с картин средневековья, заплечных дел мастера в считанные минуты превратят его в животное, позабывшее и имя свое, и родной язык. Но только судорожно сглотнул слюну. Впрочем, нет, он не удостоит его даже плевка. Просто с этой минуты он будет наблюдать за ним, как... за смертником с отсроченной датой смерти. Изысканное удовольствие, доступное для немногих, когда жертва еще ничего не подозревает... и кажется себе такой умной и проницательной, а по сути дела уже труп, который еще какое-то время будет по инерции открывать и закрывать рот, застегивать папиросой извивы губ, и вот этому живому трупу зачем-то понадобилась Его фамилия. Словно пропуск на тот свет.
А что касается фамилии... Он и сам когда-то хотел знать свою фамилию, но в том-то и закавыка, что этого не знала даже его родная мать. Ведь фамилия Джугашвили - словно бурка с чужого плеча, которая до поры до времени укрывала Его от холода и ветра, и которую он сбросил при первом же удобном случае. И если раньше ему казалось, что фамилия - всего лишь слово, случайное слово в ряду таких же случайных слов, то теперь, на исходе жизни, ему будто приоткрылась истина, в которой все было связано со всем и имело свой, пусть и не сразу понятный кому-то смысл. Из, казалось бы, ничего не значащих букв сами выстраивались слова, из слов - ряды замысловатых фраз и предложений, каждое из которых могло оказаться судьбой... Судьбой человека или всей страны.
Была во всем этом какая-то магия, непостижимая и прекрасная, которая делала его и властелином мира... и рабом. Все зависело от ничтожного росчерка пера, и та фамилия, которую он составил себе из случайно-неслучайных букв, незаметно стала символом страны, а символы обладают, порой, страшной силой...
Он знал и изучал символику Востока. Он был великим мистиком и неспроста, конечно, украсил башни Кремля пятиконечной звездой, которая считалась символом жизни и ключом к бессмертию. Никто и никогда не сможет разрушить Русскую империю, пока не уничтожит звезду. Случайностей не бывает. Еще древние знали, что имя - это код, это энергия сущности, это Слово, вибрация высших сфер, влияющая на формы и на исток. Зная имя, человек получает власть даже над областью сверхъестественного. Имена богов запретны или открыты немногим. "Да святится имя твое". Вот почему и его мать до конца дней своих свято хранила свою (и его) тайну, чтобы заключенная в ней энергия вознесла его, маленького мальчика из горного села, на вершину жизни... И смерти. Потому что нигде так остро не чувствуешь дыхание смерти, как на вершине. На этом крохотном пятачке свободы, когда выше уже только один Бог, а по краям - зияющая бездна ночи...
- Фамилия!.. - не выдержав паузы, взвизгнул офицер.
Казалось, еще секунда и вцепится в его, Coco, лицо... Но так же быстро выдохся, иссяк. Обессиленно откинулся назад. Даже закрыл глаза, словно хотел показать, что не может его больше видеть. Тут же сбоку подлетел милиционер, заученным движением сбил его на пол. Видно, дальше хотел отделать ногами, но что-то в последний момент его остановило. Хлопнула дверь, послышались шаги, и прямо перед ним, Coco, остановились до блеска начищенные сапоги. Отрывистые фразы, слова, смысла которых он не понимал, но всеми силами пытался встать, сперва на четвереньки... на колени... Будто от того, насколько ему удастся справиться с этой задачей, будет зависеть и все остальное... И уже поднимая голову, все-таки успел увидеть главное - того, кто выходил. Это был Надорая - начальник личной гвардии Берии, преданный, как собака, Надорая, преданный и ради своего хозяина готовый на все. И только сейчас, сквозь оглушенность и шум в ушах, до него, Coco, начал доходить не совсем еще до конца понятный смысл услышанного:
"Во исполнение приказа Х задерживать всех подозрительных и до особого распоряжения не выпускать..."
- Увести! - даже с каким-то сожалением процедил человек в штатском.
- Руки! - прикрикнул милиционер, добавляя кулаком в спину.
И снова в который раз до боли знакомое: (все это уже было) и это хриплое "увести", и унтер... милиционер с его неизменным "руки", и этот в меру рассчитанный толчок в спину, и не просто в спину, а в точно отведенное место, где боль еще не была болью, а как бы предупреждением. И сейчас он мог бы, наверное, предсказать, что последует в дальнейшем. Но что-то из происходящего или произошедшего было уже нарушено, и только когда уже проходил по узкому коридору в камеру, он с запоздалым удивлением припомнил главное: его не обыскали! Не сочли нужным обыскать. Словно он для них уже перестал существовать.
17.
БЕРИЯ
Это была не просто тишина, а осязаемая плоть времени, у которой не бывает ни начала, ни конца. Не хотелось ни двигаться, ни думать, ни принимать решения.
В какой-то миг он почувствовал себя оторванным от всего мира навсегда, но, видно, здесь, глубоко под землей, в этом недосягаемом для смерти бункере (построенном для высшего руководства на случай ядерной войны) и сами чувства становятся другими. Время словно начинает разматываться вспять до какой-то одному ему (времени) известной точки, дальше которой будущее становится прошлым. И можно наблюдать за этим прошлым, не вмешиваясь и не существуя.
А где-то там, высоко на поверхности, все так же будут продолжать цвести цветы и томительно жужжать пчелы, будет поблескивать гладь реки и сиять солнце, или нечаянно сорвется ветерок, сил которого не хватит даже на то, чтобы шевельнуть траву, но он принесет первый запах дождя, и вот уже робкие капли то там, то сям украдкой шевельнут лист, как бы предупреждая... И застучит, зазвенит, заструится дождь под грозовые перекаты грома где-то пока еще далеко, но тревожно...
Из него получился бы замечательный писатель. Уж кто как не он смог бы поведать человечеству такое, что померкли бы самые буйные фантазии потомков. А своим эпиграфом он сделал бы когда-то в шутку оброненное Сталиным: "Здесь покоится человек, который слишком много знал, чтобы жить долго".
И странное предощущение беды, которое каким-то образом сумело просочиться даже сюда, под стометровую толщину земли и бетона...
Возможно, в эти самые минуты там, наверху, решается его судьба, а значит, и судьба целого легиона преданных ему людей, которые ради него, Берии, готовы на все. Легкое нажатие кнопки - и вступает в действие программа "Карфаген". Серия взрывов в Москве, хаос, паника, огонь, дым, миллионы людей, ищущих спасения сами не зная от чего. Вот он - конец света... война?.. ядерный удар?..
И лишь один человек знает, что происходит и зачем, но он к тому времени далеко, а точнее глубоко... Уже взорвана главная штольня и две запасных. Этот бункер строился тридцать лет. Примерно столько же понадобится, чтобы пробиться в главную штольню, которая всего лишь ложный ход. А сколько еще неожиданностей подстерегает на пути! И когда всем уже покажется, что они у цели... Но это еще одна неожиданность и, конечно, не последняя. Строительство велось по проектам древних пирамид. И когда к нему в конце концов доберутся, это просто потеряет всякий смысл...
На хромированном пульте настороженно вспыхнул красный огонек.
- Объект прибыл, - голосом полковника Саркисова отозвался невидимый динамик.
- Хорошо, выезжаю. Без меня ничего не предпринимать, - проговорил быстро и хлестко то, что и надо было проговорить, слова словно автоматически включали его в действие, которое уже давно вышло из-под контроля и развивалось без его участия.
Он даже подумал, а вдруг ловушка, Саркисов его предал и сейчас выманивает наверх... Как паука выманивает, чтобы десятками сапог тут же на месте забить и втоптать в грязь, а на подошвах у них такие маленькие кованные подковки с кабалистическими знаками "Гулаг", а потом с брезгливым выражением столкнуть бесформенное тело в штольню, и затаив дыхание, считать: раз... два... три... тринадцать... до бесконечности считать, пока где-то в отдаленной глубине не послышится скорбный плеск. Это подземная река Стикс, она принесет его в царство мертвых, которое (как он собственно и предполагал) в сущности почти ничем не отличается от царства живых. Только вместо пресловутого "Гулаг" всюду его зеркальное отображение - "Галуг", а вместо леденящей фамилии - Берия - что-то непристойно похабное: "Я-ир-еб..." В любом случае, ампула с ядом у него, как всегда, с собой (под коронкой зуба), и он, скорее всего, успеет умереть раньше...
Еще попробовал представить не менее похабную физиономию полковника Саркисова, своего адьютанта и родственника, его немигающе черные глаза, от взгляда которых некоторые женщины впадают в оцепенение и становятся готовы на все... Но не смог. Словно мешала разделяющая толща земли. Мешала и успокаивала, давила и возвращала уверенность, и снова он мысленно возвращался к своему плану, единственно о чем, может быть, и сожалея - что никто никогда так и не узнает всей пленительной красоты замысла.
Последние мысли последней ночи, которая выжала его как лимон. Руки были холодными и липкими. Струйка пота между лопатками скользнула вниз. Тонкая ткань рубашки прилипла к телу, а главное - запах... До чего все-таки у него вонючий пот, от нервов, наверное, такой вонючий и чужой, а "старик" реагирует на запахи, как собака; еще чего доброго что-нибудь заподозрит...
Сквозь неприметную дверь в стене прошел в комнату с бассейном, быстро разделся, с омерзением отбросив от себя несвежее белье. Грузно, как баба, плюхнулся в воду. В зеркальном дне отразилось немного искаженное и оттого незнакомо волнующее тело, и он сразу вспомнил что-то очень важное, что все это время откладывал как бы на потом, а сейчас вспомнил... И первая волна желания скользнула к животу и ногам... Но несколько коротких взмахов - и снова он один, но уже другой... Он еще и сам не знал, какой именно, но другой... Ни один человек не знает себя до конца, до пределов запретных возможностей, а ему только предстоит узнать, и "быть или не быть" спросит сама жизнь.
Неуклюже выпластался на мраморный край бассейна, стыдливо проскользнул мимо зеркала, огромного во всю стену зеркала, в котором отражалась бездонная чернота кафеля, и сейчас в эту черноту, белесо потряхивая бабьим задом, убегал какой-то юркий тип.
В голом виде он был противен сам себе, смутно подозревая, что уже давно начал превращаться во что-то аморфное и расплывшееся, но так, видно, было надо, чтобы стать другим. Чтобы новая форма могла лучше соответствовать новому содержанию. А сейчас он находился как бы в стадии гадкого утенка, которой не избежать и которая в каком-то смысле служила маскировкой, чтобы выявить своих врагов.
В великолепном английском костюме, в хрустящей белоснежной рубашке с галстуком, сколотым холодно поблескивающим бриллиантом (из фамильной коллекции Гиммлера), он почувствовал себя вполне сносно, если не считать, что где-то глубоко внутри уже знакомо начал распрямляться страх. Но по опыту знал: даже у страха есть предел, за которым он уже перестает быть страхом, и человек делается способным на все.
Скоростной лифт в считанные секунды вынес его наверх, прямо в кабинет дома-крепости, охраняемой Надорая и его людьми. Здесь, как всегда, горел свет, чтобы те, кому полагалось, знали: хозяин не спит, на месте (работает), причем именно на этом месте, а значит, по самой простой логике в данную минуту не может быть ни в каком другом. Старая, удобная уловка, которой уже никто не придавал значения.
С лифтом обычно приезжал сейф, замаскированный под панель аварийного обеспечения. Осторожно набрал ему одному известный код восьмизначной комбинации и, убедившись в правильности набора, нажал контрольную кнопку-ключ (при неправильном наборе сейф проваливался в колодец штольни с последующим уничтожением). Открылась освещенная ниша с полочками и ящичками, обозначенными буквами латинского алфавита. Привычно извлек знакомую папку на букву "с". Это было личное дело самого Сталина, которое перекочевало к нему из архивов царской охранки и которое он, Берия, знал почти наизусть, старательно пополняя все новыми и новыми, поступавшими из самых неожиданных источников, документами. Словно знал, предчувствовал, что рано или поздно они смогут пригодиться. Знал, что наступит тот решающий момент, когда на карту будет поставлено все...
Но надо слишком хорошо знать Сталина, чтобы так легко поверить, что старый лис наконец угомонился. Выжидает свою очередную жертву. Его, Лаврентия, выжидает. Скорее всего, что-то уже надумал и готовит... Хорошо понимая, что вырваться из-под контроля ему просто не дадут... Что будет известен каждый его шаг (за последнее время удалось сменить почти всю охрану, даже самого Власика).
Или нарочно провоцирует, отвлекая внимание на себя, чтобы кому-то развязать руки?.. В этом весь Сталин... Даже из гроба будет плести свои сети. На последнем тайном совете "Каган" его о чем-то подобном предупреждал. Тогда - кто? Кого еще он смог вовлечь в свою смертельную игру? Кажется, учтены все варианты... Жуков сейчас далеко и незамеченными свои дивизии с Урала не перебросит. Тогда к чему все - и это нелепое "дело врачей", которые, конечно же, ни при чем, и эти постоянные угрозы Западу, который и без того готов бояться, и эти хорошо знакомые поиски "врага"? Что это очередной блеф, точно рассчитанный удар по нервам или демонстрация своей силы, которой уже нет? На этот раз он даже не скрывает своих целей - нанести сокрушительный удар по "окопавшимся" в Москве (и в других крупных городах) евреям. Они уже давно раздражали Сталина, но на открытую конфронтацию до недавнего времени не решался. А тут, словно головой в омут... Сразу вынес на заседание Президиума вопрос о суде над "врачами-убийцами". Даже подробно разработанный (интересно только кем и с кем?) план дальнейших действий. Сперва мероприятие - казнь на Лобном месте. Причем, некоторых преступников казнить сразу, других предоставить разъяренной толпе, которая должна их просто растерзать. После чего по всей стране последуют погромы, особенно в Москве и Ленинграде - этих общеизвестных центрах сионистского заговора. И тогда уже он, Сталин, должен будет выступить в роли спасителя (от, разумеется, справедливого гнева народов СССР), изолировав спасенных в специально оборудованные пункты концентрации. А далее эшелонами в Сибирь... "Доехать до места должно не более половины", - на этом моменте Сталин остановился особо. Здесь и убийства, и нападения на эшелоны... и другие проявления народного гнева, о котором позаботятся заинтересованные службы. Уцелевшая часть депортированных дала бы Сибири не менее трех миллионов человек дармовой рабочей силы, включая большой процент интеллигенции. А в европейской части страны, и без того густо населенной, освободились бы рабочие места, ресурсы, квартиры. После выселения евреев должна была начаться непримиримая борьба с антисемитизмом, и число наказанных антисемитов планировалось вдвое большее, чем самих евреев, так как в осуждении обычно выступало от двух до десяти человек. Но за всем этим планом просматривалась и другая цель...
Сталин уже давно составлял "генеалогические таблицы" своих приближенных. Ему мерещились евреи, которые оказывались всюду. У Молотова и Калинина - еврейки жены. У Хрущева - внучка от еврейской матери. У Маленкова - дочь замужем за евреем. У Микояна - еврейка жена. Но хуже всего у него, Лаврентия, - он родился в Абхазии от отца-грузина и матери-еврейки Моисеева завета. И хотя он когда-то лично уничтожил все следы, Сталин об этом не только знал, но даже не скрывал своей осведомленности. Словно хотел дать понять, что он, Берия, был и остается пешкой в большой игре. Игре, которая, похоже, вот-вот должна вступить в завершающую стадию, игре - на победителя... и побежденного.., каждый из которых не получает ничего. А значит, над всем этим непременно должен быть некто третий, у которого свой План и своя Цель, и конечно, Средство. И когда слишком поздно приходит понимание, что все эти годы борьбы и достижений были лишь иллюзией побед, а на самом деле тебя просто использовали - использовали, как последнюю шлюху из притона революции, чтобы в итоге выбросить на помойку истории... И хочется напоследок крепко хлопнуть дверью. По все тому же испытанному принципу: " Бей своих, чтоб чужие боялись"... Или на этот раз Сталин решил пойти дальше... Ведь теперь у него в руках атомная бомба, которая не выбирает ни друзей, ни врагов, но, как всегда, нужен только повод. А лучшего повода, чем евреи, просто не придумать. И, наконец, главный вопрос, ответа на который уже не избежать: а кому это выгодно? Кого-то, видимо, очень беспокоит, что евреи посмели возродиться из пепла и слишком быстро набирают силу. Появилось даже свое государство, по прообразу того же гетто, в котором сперва "концентрируют", чтобы потом... Знакомый почерк, знакомые дела. Особенно если учесть, что за всем этим стоит Сталин. Но тогда кто же стоит за Сталиным? Кто еще так последовательно и непримиримо делал из евреев врагов, чтобы мечтать одним махом разделаться с ними навсегда? Чтобы не препятствовали Великой цели, которая оправдывает все средства... Ну конечно же - иезуиты - самая таинственная и могущественная организация всех времен и народов, которая правит миром из глубины веков. Это она развязывает войны, готовит заговоры, смещает монархов и совершает революции, вовремя вмешиваясь в ход истории, если она делает не тот зигзаг. Возможно даже, что существует что-то вроде мирового правительства, которое решает судьбы народов и отдельных государств через своих преданных на крови наместников. И иезуит Сталин занял свое достойное место. Можно даже предсказать с точностью до года, когда это могло случиться. 1916 - когда взял себе дерзкий псевдоним Сталин. Еще со школы иезуитов, видимо, запало в память, как восхищенно называли иезуитов язычники - людьми, сделанными из стали...
Но почему-то обо всем этом в папке, заведенной на Сталина Берией, ни слова. Словно уже тогда он предчувствовал, с какой придется столкнуться тайной, и вовремя сделал задний ход. Были, правда, в этой папочке и документы очень даже интересные. Что, например, отец Като (матери Сталина) похоронен на еврейском кладбище возле Кутаиси. Что Сталин начал сотрудничать с Охранкой еще в 1903 г. Имеется даже подлинник телеграммы, посланной в жандармское управление из Баку: "Провокатор Джугашвили выезжает к вам для продолжения работы". Возможно, подобными документами Троцкий и держал Сталина до поры до времени на расстоянии. Не исключено, у Троцкого могло оказаться и еще что-то, о чем знали только двое, в конечном счете и погубившее Троцкого? Чего стоит, например, документ за 1918 год, когда, по представлению видных меньшевиков Мартова и Светлова Сталина предали партийному суду по обвинению в анархических и корыстных "эксах", проводившихся в Закавказье. Тогда ничего не удалось доказать - он всегда хорошо умел прятать концы в воду, беспощадно убирая всех свидетелей. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитое Тифлисское ограбление, когда бесследно исчезли 50000 царских рублей серебром, а в живых остался только он - Coco. Но его, Берии, люди провели свое независимое расследование и нашли одного свидетеля, который видел, как один абрек, прикончив двоих, ускакал по горной тропинке на Батум. К счастью, не заметив при этом мальчишку-пастушка... Были и другие документы - от сокровенных признаний многочисленных любовниц до подслушанных разговоров с Жуковым и Рокоссовским. На всякий случай копии самых важных документов находятся в надежном месте, за границей, но что такое надежное место, если в подвалах Лубянки заставляют говорить даже камни. На днях он, Берия, туманно намекнул ему на некоторые документы (якобы поступившие от его людей из Европы через Польшу), но хитрый Балабуст сделал вид, что не расслышал или не понял, а вчера вдруг изъявил желание ознакомиться с ними лично. "Вот свою Нино и пришлешь... - отозвался он мрачной шуткой, - с документами". И его желтоватые глаза колюче сузились, словно в эту минуту он читал чужие мысли.
Сталин уже давно подбирался к его Нино, о красоте которой был наслышан от Ворошилова и Хрущева. И если до последнего времени ему, Берии, еще как-то удавалось прятать от него свое сокровище - ускользать, изворачиваться, то вчера он понял - дальше некуда, это приказ... И уже больше не раздумывая, достал из глубины сейфа заветную коробку. На черном бархате, поблескивая бриллиантовой спинкой, лежала золотая заколка для волос, исполненная в форме ящерицы с зелеными изумрудными глазками. Защелкнув крышку, осторожно опустил эту изящную вещицу себе в карман.
Личный телохранитель Надорая уже дожидался в вестибюле.
- Люди на местах? - спросил на ходу по-менгрельски.
- Ждут дальнейших указаний, - вскинулся с готовностью Надорая.
"Принял стойку", - как заметил бы острый на язык полковник Саркисов, но уж кто-кто, а он Надорая знал: на менгрельский хозяин переходил только в одном случае - если предстояло дело исключительной важности.
У дверей он, как всегда, оказался первым. Доведенный до автоматизма рефлекс телохранителя. Сначала действие, потом мысль. Даже самое нелепое действие может в нужный момент кому-то помешать расстроить чей-то план (так учил его японский инструктор Мацумото, который готовил телохранителей для императоров).
У подъезда уже бормотали прогретыми моторами две машины. Одна - марки "Паккард", новенькая черная, сверкающая как начищенный ботинок, другая сероватый мышиного цвета "Опель-капитан". Выбрал испытанный "Паккард", который не так бросался в глаза на московских улицах. Еще была примета: этот "Паккард" ему всегда приносил удачу.
Несколько поворотов - и Садовое кольцо. Желтые столбы света вертикально рассекали ночь. Машин было мало, но все они, казалось, словно сговорились, двигались навстречу, в одно место. Но там его уже нет. Его сейчас нет нигде. И можно кружить до бесконечности по циферблату Садового кольца, пока в невидимых часах ночи не кончится завод, и тогда случится что-то непоправимое... Настолько непоправимое, что леденеет кровь... Но ты уже не в силах ничего изменить.
Н И Н О
Своим ключом бесшумно отпер дверь. И сразу руки, губы... торопливые и нежные, чуть влажноватые от ожидания... и смелые... В которых он бы хотел раствориться навсегда... С закрытыми глазами... на пределе чувств... пока солоноватый привкус вчерашнего дня не вернет его на землю.
Но, как всегда, наступал момент, когда головокружительно начинал терять над собой контроль и, как всегда, панически боялся и ждал этого момента с предвкушением. До чего оказывается сладко - не принадлежать себе! Когда кажется, что ты ничто, и самое странное, что большего тебе не надо. Возвыситься, чтобы опуститься... Достигнуть, чтобы потерять... Вот она, высшая радость высшей власти - не принадлежать себе! Надо только закрыть глаза, зарыться в ее волосы и вдыхать пьянящий аромат кожи... и верить в Бога, который придумал это чудо, одним прикосновением способное превратить тебя в раба, в жалкое ничтожество со слюнявыми и липкими руками, готовое на все... И тогда, в знак высочайшей милости, ему могли уступить... Но, видно, все-таки сказалось напряжение последней ночи... и предпоследней, и еще многих томительных ночей до - в самый ответственный момент не выдержал какой-то нерв и, не успев добраться до вершины, вспыхнул жалкой паутинкой по всему телу, которое сразу стало невесомым и пустым.
- У, противный! - простонала она, с досадой отталкивая его, такого обмякшего и пустого в ночь.
Какое-то время лежали в темноте, как чужие. Но холодок безысходности заставил их соединиться снова...
- Сегодня ты увидишь его, - произнес глухо.
- Сегодня... - беззвучно повторили губы.
По ее животу и бедрам пробежала дрожь, словно в последней судороге изгоняла из себя озноб ожидания, который еще не стал страхом.
- Да, - сказал безжалостно и отстранено, - он ждет, - и уже вдогонку какой-то своей мысли: - Это случится сегодня... Сейчас.
Из кресла ему было видно, как она одевается. Он всегда любил смотреть, как одеваются женщины. Некоторые первыми натягивают чулки (особенно его волновали черные), а потом все остальное. Другие - начинают с лифчика, причем, каждая, как правило, думает, что это главное... что в первую очередь и надо скрыть... И еще несколько минут назад такое упоительное желанное тело начинало прямо на глазах прятаться и исчезать, словно уже ему не принадлежало. И был момент - тот самый неуловимый момент истины, когда в этом еще не остывшем и таком, казалось, знакомом теле, короткой вспышкой зарождалась тайна - пленительная тайна новизны.
И, как всякая женщина, Нино кожей чувствовала на себе его взгляд и старалась расправить крылья. В такие минуты у него обычно что-нибудь просили и этим все портили. Но сейчас, видимо, придется просить ему - ему, который больше привык приказывать.
На миг ему показалось, что забыл слова и сейчас до боли сжал виски похолодевшими пальцами, слова, которые и выговорить (хотя они уже давно подразумевались) - не смог бы даже на менгрельском. Главное, чтобы она поверила... и пошла за ним до конца. Хотя после таких слов обратного хода не предусмотрено даже для нее. Ни для него, ни для нее. Он специально решил сказать их в последний момент, чтоб на раздумья не оставалось времени. А значит, и на колебания. Чтобы все затмила собой цель, которая оправдывает все средства.
18.
В холодном коридоре был сквозняк, а руки положено держать за спиной, нельзя даже поправить шарф, а в памяти застряло и кружилось, словно надломленное в крике лицо следователя, которое он теперь запомнит... И этого мордатого милиционера запомнит. С этой минуты его главное оружие - память.
Стражник зазвенел ключами и его, Coco, втолкнули в какую-то дверь. Металлический щелчок словно поставил точку в бессмыслице происходящего, и сейчас хотелось, пожалуй, одного: чтобы его оставили наконец в покое, дали возможность собраться с мыслями, подумать, разложить все случившееся по полочкам. Во всем ведь должна быть своя логика. Даже в хаосе. Но не каждому дано ее увидеть, а тем более выстроить. В конечном счете это тоже дар суметь из гнетущего "хаоса родить танцующую звезду", - как когда-то потрясающе тонко заметил его кумир и учитель Ницше. Что ж, свою звезду он, Coco, уже родил, и она затмит все звезды на небосводе. Ведь, что такое в сущности революция или гражданская война - все тот же хаос, который кому-то надо было логически выстроить и привести в систему, что он и делал, не жалея сил, бессонными ночами составляя свою картотеку на всех и каждого. А Эти недоумки (Ленин, Троцкий, Каменев) над ним еще смеялись. Даже кличку ему придумали: "Товарищ Картотеков", - но время безжалостно показало, кто на самом деле оказался прав. Они уже тогда были слепыми со всей своей образованностью и террорами, потому-то, как и следовало ожидать, и утратили контроль над ситуацией. А он, как паук, терпеливо и до поры до времени неприметно плел свои сети. Всеми теми же бессонными ночами... Лишь однажды в каком-то запале вырвалось неосторожное: "Кадры решают все!" Кажется, в полемике с начавшим уже о кое-чем догадываться Троцким. Но поздно, поздно... Это потом кто-то откроет, что информация - это все. Кто владеет информацией, тому принадлежит власть. А он провидчески почувствовал это уже тогда, вечно униженный и закопавшийся в свои бумаги "товарищ Картотеков", а в итоге господин Власть.
Что ж, история сама рассудит, кто из них на самом деле был гений, а кто просто баловень судьбы, случайно или неслучайно вовлеченный в горнило революции.
19.
И уже перед самым выходом он обнял ее, как в последний раз. Затем, о чем-то вспомнив, извлек из кармана золотую заколку-яшерицу и показал, как, от нажатия на спинку, из головы выстреливает крохотная игла. Дрожащими руками помог сколоть ее роскошные волосы.
Черный "Паккард" вынырнул из тени домов на широкую улицу и стал набирать скорость, словно разбегаясь перед прыжком.
- Который час? - спросил сидящего за рулем Надорая.
- Без четверти четыре, - услышал ответ и почти до боли сжал руки Нино, которые уже не отпускал.
Несколько раз машину кто-то останавливал: быстрый росчерк фонарика - и снова ночь, ускользающие в темноту тени, морозный хруст припорошенной лесной дороги. Даже стал немного успокаиваться. Пока все идет по плану. Любые случайности исключены. Повсюду его люди. Дача окружена двойным кольцом. Сейчас она как мышеловка, в которую можно попасть по единственному ходу подземному метро, прямо из Кремля. Потом и эта лазейка будет перекрыта. Или в действие вступает приказ "X": группа захвата, бросок... взрыв, который ликвидирует и саму группу захвата. Но Паук слишком осторожен. Особенно в последнее время. Так и не дал никого сменить внутри. И усыпить его бдительность будет не так-то просто. Но он, Лаврентий, кое-что придумал и сейчас все будет зависеть от Нино. Единственная наживка, перед которой эта тварь не устоит. Последняя возможность проникнуть в его логово. Чтобы достать и обезвредить.
Машина замерла перед железными воротами. Зажглась красная лампочка. Надорая выскочил к переговорному устройству и доложил о прибытии. Теперь ждать, пока не поступит распоряжение - впустить. Или не впустить. Хотя об этом стало бы известно еще на первом кордоне. Обычно без приглашения никто не приезжал. Просто не посмел бы. Но и с приглашением следовали еще десятки уточнений и согласований. Неоднократно переназначался день и час. Даже для него, Берии, не делалось исключений. Наконец вернулся заиндевевший с мороза Надорая.
- Впустят к хозяину только ее... С документами.
Хотел что-то сказать, но не нашел слов ни на русском, ни на грузинском. Силы словно покинули его. Не смог даже из машины выйти.
С грохотом отъехали тяжелые ворота, пропуская Нино в предбанник, за которым следовала еще одна дверь и еще... Сейчас досмотр, его Нино будут обыскивать... грубо лапать, нахально заглядывая в глаза... Могут, при желании, заставить и раздеться... В бессильной ярости даже заскрежетал зубами. Какое-то время ждал... Чего?.. Что его соизволят пригласить следом? Или что весь этот гадючник поднимется по тревоге... которой просто не может быть. Сигнализация отключена. Телефон прослушивается. Люди начеку. Остается ждать, пока где-то в глубине логова не свершится приговор и надежный человек не подаст условный знак. Тогда вступает в действие вторая часть приказа "X", смысл которой: "Король умер! Да здравствует король!"
20.
СЕДЬМОЙ
"Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны: она отворила кладезь бездны и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы..."
Взволнованно отложил Библию и какое-то время вслушивался в тишину. Пока где-то за пределами его Я... Нет, скорее всего показалось. С ним уже такое бывало, когда от напряженной работы мысли начинаешь слышать какие-то шорохи и звуки, а порой даже голоса.
Уже давно была ночь - глубокая и безмолвная, которая для него, Седьмого, так и не стала сном, когда в какой-то миг начинает казаться, что тихо сходишь с ума или уже давно сошел, но этого еще никто не знает (и скорее всего так никогда и не узнает), но почему-то надо во что бы то ни стало прикидываться нормальным, чтобы не дай бог не испортить Великую Игру. Пока во всяком случае всевидящий глаз Великого Инквизитора тебя не удосужился разоблачить... Но что, если и сам Великий Инквизитор... возможно, потому когда-то и стал великим, что сошел с ума раньше других, вовремя это понял и бежал... на недосягаемую высоту своего величия, где в сущности оказалось безопаснее всего...
Даже Лев Николаевич Толстой в своем дневнике когда-то записал, что безумцы правят миром... Возможно, за этим скрывается какой-то непознанный еще закон природы. Спасающий безумцев на недосягаемой высоте своей... Безумец Цезарь и безумец Ленин... И над всем этим великий Инквизитор, такой таинственный и незримый, а оттого и еще более великий, который умудряется быть везде, с печальной грустью наблюдая за всем этим муравейником жизни. Почему с грустью? Потому что наперед знает, что последует дальше (Книга Жизни давно уже написана), а это самое мучительное наказание - молча знать...
Осторожно, стараясь не дышать, стянул растоптанные сапоги и, балансируя на цыпочках, сделал несколько шагов к стене. Паркетный скрип заставил замереть, съежиться. Всё в этих комнатах было против него, даже паркет (одно время он пробовал особенно скрипучие паркетины помечать крестиками). Но на смену одному скрипу сразу же приходил другой. Словно все вещи в комнате сговорились по очереди нести свою скрипучую вахту. То скрипел диван, то подавал звуки стол, то начинали дружно потрескивать стулья или визжать дверцы шкафа, в котором он хранил весь свой нехитрый скарб.
С некоторых пор Хозяин не любил ковров и людей с бесшумными ногами, от которых, по опыту знал, можно ожидать всего. Он уже давно терял слух, но, как все упрямые старики, не хотел в этом признаваться даже себе, не говоря уже о врачах, от которых, как выяснилось, можно ожидать всего, если посмели отравить даже Горького. Наверное, будь на то его, Сталина, воля, отдал бы приказ ходить с колокольчиками... В зависимости от ранга и положения. Членам политбюро - с золотыми, генералам - с серебряными, что касается остальных... Обязать скрипеть сапогами и штиблетами, чтобы зряшно не расходовать металл.
Короткая перебежка - и он припал повлажневшим лбом к обшитой полированным под дуб деревом стене. Где-то здесь была дверь, которая могла в любой момент открыться... И было невыносимо это ожидание, которое не имело ни начала, ни конца и какое-то неизбывное ожидание беды, от которого можно сойти с ума, или он и в самом деле уже давно сошел, но этого еще никто не знает и надо прикидываться, пока всевидящий глаз не распознает его преступного раздвоения.
Иногда ему, Седьмому, начинало казаться, что они с Хозяином, как сиамские близнецы, соединенные одной жизнью, одними чувствами, одними мыслями, и что в данную минуту делает или думает один - то же самое делает (чувствует) и другой... который, возможно, именно сейчас, в эти томительные минуты ночи решает его судьбу. А значит, и свою.
Осторожно, на цыпочках, пересек комнату. Какое-то время напряженно вслушивался в тишину... Нет, скорее всего, показалось. От волнения закурил, жадно затягиваясь сладковатым дымом, от которого и мысли становятся такими же сладковатыми и... в ту же минуту где-то в глубине... и совсем рядом, кто-то вот так чиркнул спичкой, с каким-то, возможно, даже недоумением разглядывая огонек, словно забыл или не знал, что с ним делать дальше.
Он пробовал лечь и закрыть глаза, но наперед знал, что не уснет - снова явится эта мысль, от которой он раньше пришел бы в содрогание, а сейчас ничего - встретит, как старую знакомую, с интересом и ожиданием.
Ему даже начинало казаться, что мысль существует сама по себе, вне его участия, развиваясь и обрастая подробностями, и от него, Седьмого, лишь зависит - впустить ее или невозможно, кто-то и в самом деле готов использовать его в своих целях... И этот странный взгляд Берии, глаза которого под выпуклыми стеклами очков, словно прицеливались далеко вперед, и который, возможно, знал о нем все... И заискивающе-развязный шепоток Кагановича, который тоже, конечно, знал и прощупывал его и так, и эдак... Внешне ничего не значащие слова, а откуда-то взялась мысль... Ведь и в самом деле случись что с главным... Вдруг, болезнь... мучительная и безнадежная... А тут под рукой он, Седьмой... И никаких случайностей. Зачем рисковать... будоражить народ... Который постепенно даже начнет свыкаться, что их Coco вечен, как Господь Бог. Не то, что некоторые вожди... Вонючие трупы, выставленные на обозрение таких же смертных, чтобы могли смотреть и делать выводы. А настоящий бог был, есть и всегда будет здесь, совсем рядом, за внушительными стенами Кремля, где в высоком окошке не гаснет свет, где в звенящей тишине ночей решаются судьбы всей земли и ее народов, чтобы каждому маленькому человечку в его Великой стране жить стало еще лучше, еще веселей.
Стремительно вскочил, пересек комнату, извлек из шкафа початую бутылку водки (предусмотрительно похищенную в последнее застолье), дрожащими руками наполнил стакан. Выпил залпом, как стакан воды. Словно утолял сжигающую изнутри жажду. С минуту подождал, пока не начало отпускать. Еще немного - и все его такое расслабленное от глупых мыслей тело начнет собираться в решительный комок. Тогда он нажмет кнопку и потребует себе женщину, просто женщину, потому что он мужчина и продолжал все эти годы оставаться мужчиной, а значит продолжал и думать, и чувствовать, как мужчина... и желать. И на его зов снова придет она, безмолвная и безнадежная... Или сегодня ему пришлют другую... Из неисчислимого гарема бога, каждая из которых сочтет за счастье... Но, словно исключая саму возможность счастья, тишину расколол телефон, и голос Хозяина по аварийной связи отчетливо произнес: "Срочно в Кунцево! Примешь от жены Берии документы...".
21.
От смрада камеры закружилась голова. Тусклый свет размывал детали. Какое-то время ждал, пока за спиной не захлопнется глазок. За ним наблюдали... должны были наблюдать, по неписаным правилам игры, которые не менялись веками и которые он когда-то слишком хорошо знал, а потом забыл, и теперь одно тянуло за собой другое: раз есть глазок - должен быть и соглядатай... чтоб не пропустить в заключенном первой ломки, когда его охватит отчаянная жалость к себе. Потом ему станет все равно, но это будет уже вторая ломка, после которой с человека словно сползает человеческое...
Наконец, в коридоре послышались шаги.
Побежал докладывать своему... Как он растерялся... панически наложил в штаны. Что в итоге и требовалось доказать. Значит, не зря старались, обработка прошла успешно. Подследственный думает, что все закончилось... оставили в покое и можно перевести дух. А его сразу на допрос. Только теперь уже следователь будет сменять следователя, и закрутится изнуряющая вертушка пытки, пока самого стойкого не превратит в дерьмо, согласное поставить свою закорючку под чем угодно. Лишь бы все поскорее кончилось и его оставили в покое. Конвейера не выдерживал никто. Самое гениальное изобретение советской охранки и ее крестного отца Феликса, до которого не додумались ни в казематах инквизиции с ее пресловутым "испанским сапогом", ни в прекрасно оборудованных лабораториях гестапо. Но не зря говорят - голь на выдумки хитра, и даже немцы перед войной приезжали перенимать опыт. А с помощью конвейера можно доказать любую вину. "Был бы человек, а статья на него найдется," - как любил говаривать, поблескивая своим стеклянным глазом, советский Гимлер-Берия. Без этого монокля-глаза он сразу делался импотентом (последняя шутка последнего шутника Радека). Вот и таскал всюду за собой полковника Саркисова, который словно пес рыскал по Москве, выслеживая очередную "дичь" - молоденьких девушек с высокой грудью и "очаровательно" развитыми икрами для своего гурмана-хозяина.
На соседних нарах кто-то спал, болезненно постанывая во сне. С наслаждением вытянул одеревеневшие от усталости ноги, накинул сверху пальто, которое даже в штатском исполнении было чем-то похоже на шинель, как у какого-нибудь отставного офицера. Что ж, военную форму он, Coco, любил с детства. Если бы не мать... которая, будто уже тогда знала, что военным ему не быть, и отвезла в семинарию, где их воспитывали, как волчат, безжалостно вытравливая из детских душ зачатки доброты и любви, чтобы потом эти пустоты заполнил Бог, пока однажды в бане не заметили его уродства - два сросшихся пальца стопы. "Дьявольская метка!.. Дьявольская метка!.. Наш Coco черт!.." кричала и улюлюкала, готовая его растерзать, толпа. Никто и не подозревал, сколько скрывалось в нем ярости, даже он сам. С ним теперь боялись связываться, а ореол тайны придавал сил. Впрочем, он и раньше что-то такое чувствовал... предчувствовал, что не такой как все. Но вот хорошо это или плохо, пока не знал. Тут еще эта "метка", кто ее только сделал и зачем?
На каторге в Туруханске Яшка Свердлов, правда, говорил, что сросшиеся пальцы - явный признак кровосмесительства. У него самого, Яшки, вроде даже был в роду подобный предок... и вообще, ничего так просто не бывает, и, возможно, это некий высший знак, о значении которого он, Coco, должен будет узнать в свое время.
И чем больше он потом над всем этим размышлял, тем больше находил, казалось бы, неопровержимых доказательств. И эта подозрительная рыжеватость, будто нарочно выделяющая его из толпы. Выделяющая и выдающая... И приметно изрытое оспинами лицо. И сложный, как горная река, характер, который с детства умел приноравливаться к жизни. Просто он, Иосиф, умел быть разным.
Но, видно, кровь всегда чувствует кровь, чтобы распознавать своих, если даже инстинкт Якова безошибочно определил, что он, Coco, свой... По каким уж там неопровержимым признакам... И рыжеватый Ленин свой... Даже люто ненавистный Троцкий. Все они как одна семья, один род и делают одно общее дело по заветам Моисеевым из глубины веков. Его словно приняли в высший орден, вход в который должен оплачиваться кровью - этим священным напитком веры... и ненависти. Ибо какая-то часть его Я все-таки продолжала оставаться чужой и бунтовала, иногда прорываясь такой яростью, что самому казалось, еще немного, и он сойдет с ума. И только снег, обжигающий снег в лицо, постепенно охлаждал кровь, возможно, ту самую - горячую и кипящую кровь аравийских предков, которая и делала его не таким, как все, с неистощимым терпением возвышая и приближая к какой-то своей цели.
Сперва он думал, что эта цель - Бог, и сколько ни вопрошал Всевышнего, до головокружения заглядывая в суровые лики святых (и, конечно, мучеников) под куполом пропитанного многовековой скорбью храма, где на фоне неба и звезд сиял сам господь Бог, всевидящий и всезнающий и, конечно, добрый, будто срисованный с его, Coco, дядюшки Автандила, который один-единственный любил его больше всех, - но так и не получил тогда ответа. А земной бог дядюшка Автандил, жил в горах и обещал взять его на летние каникулы к себе: ловить серебристую форель, ставить силки на зайцев и забираться по горным тропам высоко-высоко.., чтобы увидеть сказочный город Каджети... "Там скала стоит до неба, вся оцепленная стражей, и внутри скалы той чудной проведен подземный ход (совсем как потом у него, в Кремле) - он ведет на самую вершину, в башню пленницы. Стерегут проход подземный десять тысяч самых лучших юных витязей отважных и воителей могучих, и у трех ворот стоят там по три тысячи людей. Горе мне с тобою, сердце! Нет зашиты от цепей."
О Каджети дядюшка Автандил мог рассказывать часами, пока не затухал охотничий костер, а холод ночи все дальше и дальше не забирался под пропахшую потом и временем овчину, и тогда из-за наклоненного мрачного утеса появлялся он - печальный витязь в барсовой шкуре и заботливо укрывал маленького Coco своим барсом, который почему-то при свете утра превращался в ветхую от времени и испытаний дядюшкину бурку.
Но на этот раз, вместо гор, мать решила отвезти его в имение князя Эгнатошвили, где она служила экономкой и куда намерена была отправить его на воспитание вместе с детьми князя, научить хорошим манерам и приобщить к благородной жизни. Уже готов был шелковый голубой бешмет и белая черкеска с газырями, обшитая галуном; ко всему - наборной пояс с настоящим кинжалом и висящий на спине башлык с кистью на капюшоне и тоже обшитый галуном. Ну и, конечно, лайковые, сшитые точно по ноге сапожки. Как здорово, наверное, скользить в таких сапожках по паркету князя, начищенному до блеска, но снова его будут наказывать за проделки, лишая одежды и сапог, и тогда все увидят его "метку", а главное заметит ее самая младшая дочь князя черноглазая Асмат, которой он даже написал стихи, но не прочтет их... потому что никогда больше не увидит ни Асмат, ни ее братьев, ни свою мать, которая, наверное, целый год копила деньги, чтобы пошить ему такую чудесную черкеску и бешмет: к тому времени он будет так далеко... Сперва навестит своего дядюшку Автандила, которому хотел задать один вопрос и, в зависимости от его уже ответа, решить для себя, что делать дальше: жить отшельником в горах, где его никто не найдет, или отправиться странствовать, как витязь в барсовой шкуре Тариэль в поисках своей Нестан (которая даже чем-то похожа на Асмат), но тогда придется взять с собой и дядюшку Автандила, который самый лучший его друг... И будут они идти много дней и ночей, а следом за ними будет терпеливо красться барс. Потом они найдут заветную пещеру с волшебным оружием и убьют барса. Автандил снимет с него шкуру и сделает ему, Сосело, замечательную накидку!.. Замерший в оскале зверь приготовился к прыжку. В таком виде он и явится к своей возлюбленной Асмат, которая поклялась его ждать, что бы ни случилось. Но беглеца догнали и вернули в имение князя Эгнатошвили, где сперва высекли, а потом голышом засадили в каменный мешок, и все дворовые видели его позор. От ярости он совсем не чувствовал боли, а потом хоть и чувствовал, но все равно молчал, пока главный экзекутор, мокрый и вонючий от пота конюх не отбросил плеть: "Забить мальчишку дело нехитрое..." - и отправился заливать свой грех вином. "Ох, не к добру все это", - уже теряя сознание, услышал он сквозь вату в ушах и, пытаясь хоть как-то еще удержаться на поверхности сна и яви, отчаянно цеплялся за слова, словно за островки спасения: Автандил... Асмат... Автандил... Асмат... Какого-то слова не хватало - последнего слова, чтобы поставить точку, и он даже вздрогнул, когда на исходе вздоха почему-то вспомнилось: Адам!.. И сразу все встало на свои места, словно память начала раскручиваться вспять.
Адам... Он позвонил ему, Седьмому, по аварийной связи и приказал ехать на Ближнюю дачу в Кунцево, и уйма времени успела пройти с тех пор как Адам там, а ничего не случилось... Потому что и не могло случиться в этом самом рабском государстве из рабов, которыми так легко управлять и которых так легко сделать героями. Сорок лет он вытравливал из них память. Сорок лет, как пророк Моисей, водил свой народ по пустыне страха, чтобы очистились от скверны отцов. В конечном итоге он дал им веру, а вера - это уже бог, и этот бог для них по-прежнему он, Coco. И бог, и дьявол в одном лице. Иногда больше дьявол, но, Бог свидетель - он, Coco, хотел как лучше. Он учил их ценить саму жизнь и радоваться этой жизни, как подарку. И теперь они счастливы уже оттого, что просто живут.
22.
СЕДЬМОЙ
Странный это был ночной звонок. Обычно "хозяин" приходил к нему сам или присылал "инструктора", который детально посвящал в очередной вопрос, к примеру, встретиться с участниками декады работников культурного фронта, поприсутствовать на просмотре нового фильма "Последний маскарад" (все знают, какое значение товарищ вождь придает развитию самого важного из искусств кино). Но чтобы вот так - по телефону аварийной связи... Лично он, Адам, что-то такого не припомнит. Да и откуда он смог бы сейчас позвонить? За окном ночь, Москва спит, словно затаилась. Лишь "черный воронок" - этот бессменный призрак ночи - крадется вдоль настороженных домов в поисках очередной жертвы или жертв, которые, казалось, только и ждут, когда за ними придут. Словно уже давно вынесли сами себе приговор и покорно ждали "гостей". Они даже знают, как все произойдет или должно будет произойти. Сперва где-то далеко, на самом дне двора-колодца (усиленное многократным эхом) захлопают дверцы машин, взметнутся под крыши гортанные голоса команд, и грохот кованых сапог всколыхнет ночь, чтобы с каждым новым пролетом этажа разрастаться, как обвал, пока у какой-нибудь двери не угомонится выдохом: "Здесь!".
Из всего ясно пока одно: в самом Кремле "хозяина" нет, нет его и на ближней даче в Кунцево. Правда, в последнее время Хозяин нигде больше и не бывал... С некоторых пор просто панически боялся самолетов и машин, а в бронированном лимузине (сделанном по спецзаказу всего в единственном экземпляре) пусть пока поездит толстозадый Каганович. За темными стеклами все равно не видно. А в Кунцево лучше всего добираться под землей, на метро, прямо из Кремля. И безопаснее, и быстрее...
Видимо, что-то произошло... или вот-вот должно было произойти, что-то из ряда вон выходящее, вынудившее Хозяина воспользоваться аварийной связью, и это "что-то" так или иначе имеет отношение к Берии, которого он, Адам, боялся даже больше самого Хозяина. Его непредсказуемости боялся, этой мертвящей пустоты за рыбьими стеклами очков, которые делали его похожим на доброго учителя мертвых языков или каких-то тайных наук. Все эти годы Берия подбирался к нему, словно терпеливый лис, но до некоторых пор что-то его сдерживало, и вот сейчас на Ближней даче в Кунцево придется встретиться с ним лицом к лицу. И с каждой минутой, приближающей эту встречу, Адама охватывало все большее и большее беспокойство. Снова и снова на разные лады прокручивал услышанное по аварийной связи, пытаясь разгадать, какая его подстерегает опасность. Ясно одно: Берия - враг, и он, Адам, что-то должен сделать, чтобы помешать врагу осуществить задуманное. И уже в скоростном метро вспомнил все: последние застолья, больше похожие на поминки, где пьют много, но не для радости, а чтобы скорее забыться, и это постоянное, словно повисшее в воздухе, ожидание - кто следующий? И то, что следующим оказался Берия, сам всесильный Берия, можно сказать, его, Сталина, правая рука, могло означать лишь одно: мир рушится - и как бы под его обломками не потерять головы. Но даже он, Адам, не смог бы сейчас сказать (хотя и думал над этим неустанно), какую цель преследовал Сталин, раз за разом провоцируя Берию: желание показать, кто действительный в Кремле хозяин? Или предчувствие конца, который уже известен и хочется в последний раз поиграть со своей жертвой? Вопрос только в том, кто жертва?
23.
"Черный Паккард" еще хранил ее тепло, но холод ночи постепенно брал свое, замедляя даже мысли. А Нино ушла... словно это ушел он... шаг за шагом проделал ее путь и, возможно, в эту самую минуту...
Невольно вздрогнул, шевельнув пальцами, будто искал кнопку, чтобы остановить время. Но светящиеся стрелки часов неумолимо приближались к пяти, впереди смутно застыла тень Надорая, который уже давно научился, как собака, по каким-то одному ему понятным флюидам угадывать малейшие перемены в настроении хозяина и сейчас облегченно вздохнул.
Наверное, отдай он, Лаврентий, ему приказ - смёл бы все на своем пути: и этот с виду неприступный забор с его задвигающимися тюремными воротами, и похожую на блиндаж каптерку с молодцеватым офицером, в обязанности которого входило следить за кнопкой вызова и открывать ворота. Даже он, Берия, был ему не указ. Во всяком случае, пока. Подчинялся только Хозяину. Последний островок, в который, как шагреневая кожа, ужалась теперь вся его власть. Последний оплот последнего императора... диктатора и тирана. Последняя ночь.
Но, как всегда, кто-то бывает и даже должен быть первым, и так уж получилось, что эта роль выпала его, Берии, Нино, его несравненной Нино, которую он, можно сказать, собственными руками отправил в логово дракона, пожирающего своих детей. Единственный шанс, последняя возможность доказать верноподданность, чтобы уцелеть. Через это прошли все: Молотов, Калинин, Буденный... И теперь на очереди он, Лаврентий. А ведь думал, надеялся пронесет... Сталин не осмелится... не допустит... Но вчера за ужином Сталин вдруг сказал: "Ты вот, Лаврентий, человек хороший, а жену свою Нино до сих пор скрывал. Совсем обычаи забыл? Или слишком гордый стал, голова закружилась от успехов, думаешь, что незаменимый, а у партии незаменимых людей нет...", - и его желтоватые глаза стали совсем узкими. Совсем, как у змеи перед решающим броском.
И вот уже скоро час, как его Нино там, а он вынужден чего-то ждать, и хотя подобный вариант тоже прорабатывался, до конца не верилось, что "усатый" клюнет... В итоге его, Берию, не пустили даже за порог. Скорее всего потому и пригласили, чтобы не пустить. Напомнить ему его место. Знакомая школа иезуитов и их методы. Приблизить, чтобы уничтожить. Доверить, чтобы обвинить. Непредсказуемость абсурда, которая уже давно стала нормой жизни. Теперь умные не нужны. Они только все путают. Умные - это всегда проблемы. А глупые умеют хорошо исполнять приказы. Это для них жить стало лучше, жить стало веселее, потому что еще из глубины, можно сказать, веков тихой поступью неумолимо наступает и приближается "эра светлых годов" - эра посредственностей, идиотов, и вся история готовится повториться с начала, с того самого момента и места, когда первым словом было слово - Бог, и этим Богом должен стать, разумеется, "человек из стали" - Иосиф Сталин.
24.
Но в следующую минуту что-то вздрогнуло и покатилось, словно снежная лавина набирала силу. Сзади одна за другой начали подъезжать тяжелые военные машины. Из них высыпали люди. В белых маскхалатах двумя цепочками разбегались в стороны. Это подоспел полковник Саркисов. Значит, произошло, свершилось! Его Нино удалось задуманное...
К "Паккарду", похрустывая снегом, подбежал какой-то человек. О чем-то негромко доложил Надораю, который сразу пришел в движение:
- Сигнализация отключена, охрана обезврежена. Сейчас откроют ворота...
Но он уже и сам все понял. Впереди сиреневато забрезжил просвет. "Паккард", как подстегнутый кахетинец, лихо взял с места и устремился по аллее, ведущей к дому. В темноте деревья казались часовыми, вытянувшимися по команде "смирно" для встречи высокого гостя. Короткий разворот - и машина замерла у знакомого подъезда. Сколько раз он, Лаврентий, бывал здесь! Только тогда встречала музыка, горел свет в окнах, сверкала кавалькада автомобилей, согласно строгой иерархии, в которой он был сперва последним, но постепенно опередил всех. Но главный хозяин всегда был один - с блуждающей улыбкой, скрипуче покачиваясь на носках (старая привычка казаться выше) он взирал на мельтешащих внизу (точно навозные жуки) всех этих генералов и членов... таинственной организации Политбюро, на которых он мог бы сейчас плюнуть или справить нужду и все бы сделали вид, что ничего не случилось, не произошло (похожую сцену он видел в каком-то трофейном фильме: черные шляпы, черные лимузины, могущественная организация, которая фактически правила миром и жила по своим законам - жестоким, но справедливым. Что-то вроде таинственного ордена иезуитов, только на современный лад и всемирнее, не то что его партия, безмерно разросшаяся свора разжиревших боровов, которых пора отстреливать и оскоплять, чтобы не успели дать дурное свое потомство). Некоторым из гостей радушно пожимал руки, других не удостаивал даже кивком, а потом за столом вспоминал о них, будто видел впервые.
Обычно веселье сразу набирало силу, и чем громче произносились тосты, чем развязнее становились голоса, тем сильнее под шкуры забирался страх, который не могла задушить даже водка.
А игра еще только начиналась. Еще не выбрана жертва и не намечены загонщики. Да и сами "стрельцы" в любой момент могли стать жертвами (что в общем-то даже демократично уравнивало всех в правах). И, как всегда, случайность правила бал: случайный взгляд (который, как правило, первым и выдавал жертву), случайное слово (что у трезвого на уме, то у пьяного на языке), случайная глупость, случайный ум.
Самое, конечно, главное было в том, чтобы никто до самого конца не знал (порою даже сам хозяин), что будет с намеченной жертвой. Все зависело от того, как она поведет себя в игре. Тут решал все только Он - ни с чем не сравнимый томительный момент выстрела, а точнее, его ожидание... после которого или все бросались поздравлять жертву, или... никто уже не подавал ей руки, чтобы, не дай бог, не заразиться ее опущенностью. Почти как в тюрьме и по ее законам. "Наметить жертву, все подготовить, беспощадно отомстить, а потом пойти спать," - как когда-то сформулировал сам Coco.
Но сперва сама охота. Гон начинался с первого тоста. Некоторые предпочитали напиться сразу, чтобы естественно выпасть из игры и оказаться потом ни при чем. Но Хозяина не провести - ему известны все уловки наперед, а значит, и наказание последует неотвратимо. Можно просто занять место жертвы.
Были и такие, которые, поняв, что не отвертеться, сами вызывали огонь на себя, чем ломали всю игру (ибо хорошая жертва должна созреть), настроение у Хозяина тут же портилось - и праздник окрашивался трауром по еще живому покойнику.
Зато и награждал по-царски, если какая-нибудь жертва - несмотря ни на что - добегала до финиша, не замолив пощады.
Но, как водится, бывает, что жертва жертве рознь, - и знаменитый мастер по гопаку Хрущев так же отличался от хитрована Микояна, как лихой рубака Семка Буденный от старика Калинина, любителя полногрудых пионерок и мускулистых балерин. Даже сам личный секретарь Сталина Поскребышев, перед которым вытягивались в струнку генералы и маршалы, стал однажды такой жертвой... Ему, Берии, докладывали... Как, сидя за столом, Сталин сворачивал бумажки в маленькие трубочки и надевал их на пальцы Поскребышева. Потом зажигал бумажки, подобно новогодним свечам. Поскребышев весь извивался, корчась от боли, но не смел эти трубочки сбросить... потому что бог смеялся, а когда смеются боги, кто-то по обыкновению должен лить слезы. Он, Берия, даже представил на месте Поскребышева себя..: объятые огнем и смешно подпрыгивающие, словно на пианино, пальцы, его, Берии, пальцы, такие чуткие и нежные... как у девушек, которых ему отлавливал по всей Москве полковник Саркисов и которые еще не успели узнать, что такое боль.
Потом настала очередь жены Поскребышева. В НКВД она призналась, что была троцкисткой, а также немецкой шпионкой, и ордер на ее арест Поскребышев должен был лично передать на подпись самому Сталину.
- Ты что, и в самом деле бабу жалеешь? - даже рассмеялся тогда Сталин. - Не горюй! Найдем тебе бабу! - и в тот же день прислал ему молодую женщину вместо старой жены. А сейчас и Поскребышева уже нет и лишь ему, Берии, странным образом все это время удавалось ускользать, словно все эти годы его приберегали для чего главного - для чего-то чудовищно главного, при мысли о котором начинала колотить дрожь. Наверное, он смог бы ускользнуть и сейчас, но чисто звериное чутье ему подсказывало, что наступил некий предел, за которым уже нет пределов. У него просто нет выбора, а это и есть самый лучший выбор. Неспроста сам Coco называл его, Берию, не иначе как: "Человек с головой змеи".
25.
Какое-то время он сидел не двигаясь. Огромный дом был темен - ни музыки, ни роскошных машин. Даже собаки из расположенной за речушкой псарни (которых на ночь обыкновенно выпускали во двор) не подавали признаков жизни.
В сопровождении Надорая и двух автоматчиков прошли в просторный вестибюль. Здесь было несколько дверей и вела лестница наверх.
- Где прислуга? - спросил, когда включили свет.
- Заперта до дальнейших распоряжений.
У массивной бронированной двери, ведущей в кабинет и спальни, все остановились. Надорая осторожно снял пистолет с предохранителя и краем дула попробовал открыть запертую изнутри дверцу окошка, в которое прислуга по сигналу подавала вождю пишу. Не получилось.
По знаку Надорая, кто-то уже начал прилаживать к двери небольшое взрывное устройство.
- Стой, не надо, - представил вдруг, как сможет перепугаться от взрыва его Нино. Возможно, в эту самую минуту она пробует открыть дверь, но ключи у хозяина в кармане, а сам хозяин... Его даже бросило в жар...
- Зачем взрывать, если можно снять, - услышал сзади спокойный голос полковника Саркисова, который тут же пригласил несколько солдат, и, поддев монтировкой, дверь легко сняли.
Он лежал ничком посреди ковра, неловко подвернув под себя руку. Другая скрюченными пальцами тянулась к столу, который был накрыт на двоих. Запотевшая бутылка шампанского в серебряном ведерке со льдом, его любимое "Кинзмараули", горка черной икры, шоколад, фрукты, а над этим всем сладковатый запах "Герцеговины Флор", словно запах самой смерти, которая затаилась где-то здесь, в голубоватых сумерках рассвета.
На какой-то миг всех сковал ужас. Бледное, как мел, лицо Саркисова и пронзительно голубые глаза Надорая... Но надо было продолжать жить, придумывать слова и принимать решения.
Первым пришел в себя Надорая... Осторожно, на цыпочках, будто опасаясь кого-то разбудить, сделал несколько шагов. Опустившись на колени, приложил ухо к спине...
- Еще жив, - шепотом сказал по-менгрельски, пропуская его, Берию, вперед, и это "еще" почему-то резануло слух. Неужели Надорая догадывается... А там, где о тайне знают двое, она перестает быть тайной.
Вместе с Надорая осторожно перевернули лежащего лицом кверху. Подслеповато склонился над судорожно западающим кадыком, словно до последней минуты не верил в торжество замысла. Но глаза умирающего уже смотрели куда-то сквозь... Он слишком хорошо знал, что может значить такой взгляд.
Саркисов брезгливо отвернулся. Казалось, его сейчас стошнит, а он, Берия, все смотрел и смотрел... будто сантиметр за сантиметром восстанавливал до боли знакомый, но кем-то испорченный портрет, который тут же рассыпался и ускользал... И эта розоватая пенка в уголках рта... И начавшие уже проступать багровые пятна на лбу и шее... И почти стертые временем следы оспин на потемневших щеках. Пока, наконец, не понял главное: это не Coco... не Коба... не Рябой - совсем другой человек распростерся сейчас на полу, совсем другой человек посмел выдавать себя за Coco... Но от него, Берии, не бывает тайн, а о двойнике он просто не хотел знать, как о живой игрушке, которая радовала старика и которую он просто не мешал ему любить. Кто мог предполагать, что эта "игрушка" в самый ответственный момент посмеет смешать все карты? Кто знал... С такой бездарностью проиграть.., совсем съезжая в знакомую картавость он чуть было не произнес: "геволюцию", словно с некоторых пор одно слово цепляло за собой другое. Словно где-то в глубине его "Я" проснулся и нетерпеливо шевельнулся еще один преждевременно похороненный двойник (для чего собственно подобные двойники и существуют), который при любых обстоятельствах хватался за трибуну политической борьбы, но как сказал самый важный вождь и учитель всех народов и его, Берии, личный друг Coco: "Нам не надо политиков. У нас их достаточно, даже много лишних. Нам нужны исполнители...". А он, Лаврентий, самый лучший исполнитель... исполнителя.
Зачем-то начал стаскивать с него сапоги. Руки не слушались, липкий пот застилал глаза. Внутри холод, а снаружи пот, липкий и вонючий до отвращения, словно кто-то из них двоих уже начал разлагаться. Только сейчас понял, зачем он стаскивал с него сапоги: чтобы развеять последнее сомнение. У настоящего Coco на ноге было шесть пальцев! Эта особая примета, отмеченная полковником Шабельским еще в 1902 году. Но где-то в глубине души уже знал, что лишь напрасно теряет время. Пальцы были как пальцы - обычные узловатые пальцы старика с пожелтевшими от времени ногтями.
В каком-то лихорадочном амоке отдавал приказы в слепой попытке спрятаться за маской слов: "Дверь на место!", "Умирающего не диван!", "Со стола все убрать!", "Вызвать врачей!", "Оповестить родственников!", "Поставить в известность членов политбюро!", "Внутренние войска привести в готовность...", "Прислугу допросить и изолировать..."
И чем больше было слов, тем ближе становилось главное... О котором он забыл... Нет, все это время помнил... А еще он помнил страх, и сейчас два этих слова как бы воссоединились в одном, имя которому - Нино! А он, вместо того, чтобы броситься ее искать и прижать к своей груди, тратит время на какое-то дерьмо, у которого нет даже имени, а всего лишь номер, и который посмел умереть не в тот час и не в том месте... Значит, его Нино где-то здесь, возможно, в соседней комнате, в какой-то из трех совершенно одинаковых спален, с одинаково подрезанными шторами (чтобы никто не мог за ними спрятаться), с одинаковыми коврами и зеркалами, которые раньше спасали от одиночества, но в последнее время приказали снять, чтобы не мерещились призраки...
Даже свет в этих спальнях включался и выключался одновременно (как в тюрьме), чтобы никто не догадался, в какой из них Он.
26.
Свою Нино он нашел в ванной. На ней не было лица. Казалось, она вот-вот потеряет сознание. Трясущимися губами пыталась что-то выговорить, но он смог лишь разобрать: "Я убила... Я убила... Я..."
На розовом мраморе раковины он заметил отброшенную заколку - золотую ящерку. Острая игла предупреждающе торчала вверх. С предельной осторожностью ввернул ее в безопасное ложе и спрятал в карман подальше с глаз. Главная улика. Теперь он сам главная улика. Нино уже ни при чем. Вывел ее, как больную, в спальню, усадил в кресло. Бросился искать что-то выпить. Но дверцы массивного буфета-шкафа резной работы были по-хозяйски заперты. Вспомнил о ключах - целая связка больших и маленьких ключиков, с которыми "старик" не расставался. Какая-то мысль заставила метнуться в кабинет и, не обращая внимания на Саркисова и Надорая, он обыскал у лежащего карманы. Ключей не было. Чего, впрочем, и следовало ожидать. "Старик" не доверял никому, даже своему двойнику. Снова вернулся в спальню и с помощью ножа вскрыл одну дверцу. Извлек похожую на старинный кувшин, оплетенную серебром, бутылку. Попробовал тут же ее открыть и только сейчас заметил маленький серебряный замочек. От бешенства чуть было не запустил бутылкой в шкаф. Грязно выругался, путая русские слова с менгрельскими. Сорвал ножом замочек вместе с петлей. Понюхав, плеснул в стакан золотистой жидкости. Чуть ли не насильно влил ей несколько капель коньяка. Зубы Нино стучали о стекло. Словно с судорогой кашля выталкивала из себя весь этот кошмар бесконечной ночи, пока взгляд ее принимал осмысленное выражение, чтобы сказать что-то очень важное, настолько важное, что ее охватил страх - панический страх - не вспомнить. Потому что боялась и не хотела вспоминать. Ее память отказывалась вспоминать, стирала холодом, как смертельную угрозу. И только уже в дверях (прошло много времени и он спешил) все-таки успела: "Это был не он... Я убила... но это был не он!.."
И сразу люди, люди, все эти черные одежды, натянутые маски лиц, среди которых лишь два светлых пятнышка - небесно голубые глаза Надорая... Надорая друг, он ее любил, но было что-то в этих глазах... словно заглянула в такие бездны, что лучше уже не жить. А вот и полковник Саркисов, которого она боялась, но который был друг ее друга... мокрые руки, мышиный взгляд. Там, за черными фигурами, несколько человек в белом, наверное, врачи - что-то делают с человеком на диване. Она, Нино, тоже знает... знала... этого человека... и не знает. Как знает и не знает всех этих людей, каждый из которых похож на кого-то из дрессированных животных, притворно замерших на задних лапках ("служи, мышка, служи... служи, кролик, служи... а это крыса... в ожидании подачки"). Еще жив, - прочла во взглядах, которыми обменялись крыса и кролик... "Члены политбюро уже выехали... прибудут с минуты на минуту," - доложил Надорая. Он, Лаврентий, еще хотел отправить с ним Нино, которую не должны... никто не должен видеть ее здесь, хотя впрочем почему? Даже само присутствие Нино, ее измученное... горем, да-да, горем лицо, которое все еще оставалось бледным... и таким прекрасным. И то, что Нино в эту, можно сказать, трагическую для всей страны и ее народа минуту оказалась рядом с ним, сразу снимало все вопросы... Все, кроме, конечно, главного: на живца поймался совсем не тот. А настоящий... снова выкрутился, хитроумно подставив вместо себя другого, и теперь этот другой почти мертв, а его хозяин... возможно именно в эту минуту готовится нанести удар.
27.
Где-то на улице послышались шум и крики. В комнату, расталкивая охранников, вся в слезах влетела дочь Хозяина Светлана:
- Они убили его!.. Убили... и.., - не обращая ни на кого внимания, она кричала и заламывала руки. Растрепанные волосы делали ее похожей на безумную.
Следом, пошатываясь, с красными от перепоя глазами, в новеньком с иголочки генеральском мундире прошел сын Хозяина Василий. С каким-то даже недоумением с высоты своего величия взирал на происходящее, словно не понимал, что все это значит.
Врач накапал им успокаивающего, но Светлана выбила стакан из рук: "Убийцы!.. Вы убили его... Вы ответите...", - вцепилась в перепуганного и без того академика, пока ее не оттащили в сторону.
Василий же принял успокоительное, как должное. С какой-то офицерской лихостью тут же опрокинул рюмку. Мутными глазами медленно обвел всех присутствующих и взгляд его замер на Нино... В заторможенных мозгах Василия несколько секунд происходила мучительная работа, пока наконец там что-то не замкнулось. Тогда с кривой всепонимающей улыбкой он направился к Нино со словами: "Мерси, мадам!" - и поцеловал ей руку.
Все это было настолько жутко, словно его пьяными устами проговорил сам дух Сталина, что Нино почувствовала, как земля уплывает из-под ее ног, пошатнулась, но, вовремя подхваченная Надораем, все-таки устояла.
- А, и ты, Брут, здесь? - заметил его Василий. - И как всякий Брут приносишь смерть.., - попробовал вытащить из кармана пистолет, но два дюжих гвардейца успели его опередить и, как у шаловливого ребенка, отобрали игрушку.
От греха подальше, сделал Надораю знак, чтобы тот исчез и не дразнил наследного принца, который тут же принялся искать себе новую жертву. Но в комнату уже один за другим входили нахохленные члены политбюро.
Первым, как всегда, Молотов, за ним "Каган" - Каганович, Маленков... Просторный кабинет сразу показался тесным.
- Пойдем отсюда, сестричка.., - на глазах начинал трезветь Василий, - а то здесь уже начинает смердеть смертью.
От его слов Светлана словно очнулась и заголосила с новой силой: "Убили!.. Убили... Нашего папочку убили!..".
Но их уже оттеснили, оттерли толстые зады, чтобы незаметно увести к машинам, которых к дому прибывало все больше. Среди барашковых папах каких-то генералов вынырнул ничем не приметный "пирожок" Хрущева, но из чиновничей толпы выделил именно его, Берия, и уже протискивался навстречу, чтобы заглянуть в глаза и пожать руку. И было в этом рукопожатии нечто большее... Мелькнули поникшие усы Буденного и сморщенное личико всесоюзного старичка-пионера Калинина, который так и пронес через всю свою потрепанную жизнь неувядающую любовь к полногрудым пионеркам с задорными ямочками на щеках.
Прибыли еще какие-то врачи-академики. По очереди долго и внимательно осматривали пациента. Будто к чему-то принюхивались своими вызывающе троцкистскими бородками-клинышками, потом, покачивая породистыми головами, удалились в одну из спален на консилиум.
Все происходило как бы само собой, уже без его, Берии, участия. Словно огромный маховик сантиметр за сантиметром набирал скорость, его, кажется, уже не остановить... И от этой такой простой и неопровержимой мысли волна ликования наполнила его всего. Только сейчас понял, что обратного пути нет и не будет. В конечном счете никого не волнует, кто окажется на алтаре смерти в нужный час, в минуту, нужную всем, а значит, и Истории (потому-то и выбран такой яд, чтобы умирал долго и в борьбе, как и приличествует вождю подобного ранга, чтобы не возникало вопросов и сомнений... которых в любом случае не избежать).
Главное, это свершилось или вот-вот должно свершиться, несмотря на безуспешные старания врачей (процесс по делу которых намечался на понедельник), которым никогда не узнать, каким ядом он был отравлен. Через несколько часов яд растворится без следа, а настоящий Coco к тому времени станет живым трупом - не понадобится даже его искать. Разве последний раз посмотреть в его глаза, чтобы ползал и лизал ноги кровавым отверстием беззубого рта, который он, Берия, (если захочет) зальет свинцом, а еще лучше золотом, чтобы подарить этот застывший и причудливый цветок-слепок его Нино...
Но, нет. Он великодушен. Даже не станет его искать. Хотя какая могла бы получиться охота - охота на охотника! Он уже придумал ему другую месть. В лучших традициях своего учителя. Он будет хоронить его живого на глазах планеты всей, а главное - на глазах его, Coco. От одного предвкушения такой мести он, Лаврентий, готов оставить ему жизнь. Это тебе, Коба, не то же, что палить из револьвера по яйцам на плоских головах своих рабов, или подкладывать под задницу подлипалы Микояна торт, или тайком подглядывать, как Саркисов будет укрощать молоденьких балерин для его, императора, ненасытных утех.
И только тогда подумал о двойнике, который остался лежать на глазах у всех и, может, даже понимал, что делалось вокруг, но не мог ничего сказать. Этот яд из глубин Африки доставляли по эстафете десять курьеров и каждый из них умирал точно такой же смертью, и нигде, в лучших госпиталях Европы, лучшие специалисты не могли объяснить причину. Называли только следствие, но их слова к тому времени уже не имели никакого значения. Смерть стирала все следы.
28.
О нем забыли. Словно вычеркнули. Ни допросов, ни изматывающих душу и тело показаний, которые почему-то стали никому не нужны. Он и сам теперь никому не нужен со всеми своими страхами и мыслями, точно его уже нет. Вот уже третьи сутки, как он валяется на нарах этой привокзальной камеры, забитой отбросами большого города, которые даже в таких условиях умудрялись жить, существовать. А главное - что его особенно поразило - они не боялись! Они не боялись ни бога, ни черта, ни ночи, ни утра, словно уже достигли той абсолютной степени свободы, за которой все позволено и даже смерть не смерть, а что-то вроде закономерного перехода в другое качество, возможно, не лучшее и не худшее, а просто - другое. Совсем как у Ницше - свободны от мук, именуемых совестью, которая всего на всего - химера, чтобы из века в век дурачить простодушных христиан.
Странное дело, ему было хорошо с этими ворами и убийцами (каждый человек по природе своей убийца, даже если еще не убил), которые почему-то с первого взгляда приняли его за своего, безоговорочно уступив лучшее на нарах место. И он лежал, по-стариковски прикрыв глаза, будто покачивался на волнах неторопливой реки времени, которая уносила его все дальше и дальше в никуда.
Иногда это было прошлое... и тогда из золотистых сумерек рассвета начинали проступать лица... Бледный, с чахоточным румянцем и виноватой улыбкой Яшка Свердлов, который чувствовал себя постоянно виноватым от собственной интеллигентности... Крупноголовый и тонко ироничный Каменев, иронию которого почему-то могли понимать два человека - Ленин... да Троцкий, который к тому времени уже стал как бы частью угасающего на глазах Ленина, заменяющей тому недостающее полушарие мозга, выжатого и выпитого революцией.
А вот и еще лица, и другие... и третьи... с придурковатыми ужимками спасителей народов. Сосредоточенно слушают одного из спасителей, горлана, главаря Троцкого, и хотя большей частью ничего не понимают - все равно его слушают, зачарованные картавым голосом облаченной во все кожаное фигуры, которая в любой момент может вскинуть в порыве то картуз, то маузер, то просто палец, а за увеличительными стеклами очков словно прицелились мушки глаз, и только ему, Кобе, известно, сколько за Ними таилось ярости и страха. А из желтоватых сумерек проступали все новые и новые лица. Некоторые он узнавал сразу, других приходилось вспоминать, но именно они оказывались потом на посмертных снимках истории, будто и в самом деле были соперниками по борьбе. Мордастые и задастые, все они хотели славы - этого пьянящего и дразнящего напитка любви, но вместо этого каждый получал свой маленький кусочек тени.
Ему, Coco, уже давно открылась истина, что настоящая История была другой. В конечном счете придумывают ее повелители, а записывают исполнители, то есть рабы. Он и сам столько раз переписывал ее набело, что начинал потом верить красиво поставленным словам. Но есть еще время, которое делает свой выбор, стирая цивилизации и города. Остаются только пирамиды да несколько имен... Главное из которых - Бог, который почему-то выбрал Его... Такого жалкого и ничтожного из целой свиты фаворитов судьбы. А это может означать только одно - что-то в нем от Бога, а что-то в Боге от... Него!..
Донесся какой-то шум. Звеня ключами, в дверях появился вертухай. Наверное, принесли ужин, а может, это еще только завтрак? Он уже давно потерял счет времени и сейчас, пожалуй, впервые за много лет был счастлив: время оставило его в покое. Вот так бы и лежать с закрытыми глазами, пока тонкий ручеек мыслей не сойдет на нет. Словно и не было никаких мыслей. Словно и его самого никогда не было... А слова, что слова - красивая упаковка лжи, чтобы не так больно и скучно воспринималась жизнь, которая на самом деле всего лишь сон... усталый причудливый сон разума, чтобы придумывать для человека все новых и новых чудовищ, без которых он как-то сразу утрачивает волю к борьбе. А значит, и к победе.
... И тогда восходит солнце. Огромное, в полнеба солнце с непривычки слепит глаза. Потом они начинают привыкать. Оказывается, это вода - журчит, играет, переливается всеми цветами радуги, сквозь мшистые камни продираясь в свету, срываясь поющими водопадами, и снова в мерцающей запруде набирая силу.
И нужно иметь бесконечное терпение горного ручья, чтобы со своего наблюдательного поста за кустом орешника дождаться, пока в запруде блеснет и шевельнется тень... Пока хитроумная форель потеряет свою осторожность.
Короткий взмах, расчетливый бросок - и вот еще одна умная и сильная рыба отчаянно бьется на траве, смешно, как Троцкий, выпучивая глаза, но он, Coco, должен быть безжалостен, как горный орел, и хладнокровно добивает ее ударом головы о камень.
"Молодец, Coco, говорит дядюшка Резо. - Из тебя большой охотник будет".
А вот и сам дядюшка Резо - бесшумно, как ворон в своей овечьей бурке, появляется на тропе и зовет обедать.
Жаль, что все хорошее так быстро кончается. И всегда оказывается, что это и было лучшее, которое не возвратить. Даже дядюшка Резо, хоть и прожил немалую жизнь, а так и не научился ловить хитрую форель. Он всегда спешил, этот дядюшка Резо, но почему-то дальше своей родной деревни так и не оказался...
- Эй, отец!.. Собирайся с вещами на выход.., - оглядываясь на вертухая, наконец пробился к нему вор по кличке Шнырь, который все эти дни заботился о нем, как о родном.
Они сразу чем-то приглянулись друг другу, словно встретились два старых каторжанина, которым достаточно полувзгляда, чтобы узнать друг о друге главное, и это главное было как приказ. Уж на что Шнырь был сам авторитет, но не только признал его за своего, а в какой-то одному ему ведомой иерархии поставил выше.
- А ну, выметайтесь, выродки! - нетерпеливо прикрикнул еще придурковатый со сна вертухай. - А то я это дело враз ускорю, - и он лениво замахнулся прикладом. Но Шнырь даже ухом не повел.
- Ты бы лучше, гражданин начальник, кипяточку сподобился. Не видишь, человек совсем замерз.
- Может, ему еще и бабу сюда... погреться... Из "Метро-поля...", загоготал сержант, и его без того узкие щелки глаз, казалось, совсем слиплись. - А вот это, лысый, гони сюда! - метнулся к нарам и вытащил у лысого мужичка по кличке Кашель заначку чая. - Или мне тотальный шмон устроить!? Чтобы кой-кому задницы здесь согреть...
- Зря вы так, гражданин начальник, - примирительно, но со скрытой угрозой заговорил Шнырь. - У нас даже в зоне было написано, что человек человеку друг, товарищ и брат.
- Тамбовский волк, таким как ты, товарищ, - с чувством морального удовлетворения сплюнул вертухай, отступая к двери.
По гулкому коридору без окон и дверей их вывели на какие-то задворки и, пока остальные спускались по ступенькам к мусорным ящикам, сержант успел сообщить Шнырю что-то напоследок. От этого сообщения Шнырь словно получил удар под дых, но, пошатнувшись, устоял. Медленно, ох как медленно, до него доходил ошеломительный смысл услышанного. Надрывая грудь кашлем, кое-как доковылял до поджидавших, чтобы сквозь спазму кашля выдавить:
- Гуталин гепнулся... Гу-та-лин...
- Не может быть!.. - даже отшатнулся от него Кашель.
- Вот тебе крест! - побожился, а потом изменившимся голосом запричитал Шнырь: - Нет нашего пахана уже... Не стало нашего хозяина-а...
И от сложности переполнявших его чувств, в которых слышалось все: горечь с яростью и какая-то еще непонятная тоска на исходе боли, и запоздалая радость, и... страх, что все рушится и вот-вот должен наступить конец света, а значит, и их жизням, которые все-таки были их жизнями, и надо это событие отметить, чтобы не было мучительно больно от сознания невозвратимости потери. Он даже подпрыгнул, словно попробовал взлететь. Необъяснимая легкость охватила все его тело, но сил хватило лишь, чтобы спикировать в сугроб...
На щеках и ресницах Шныря беспомощно таяли снежинки. Они собирались в подозрительные капли, которые цеплялись за поседевшую щетину и не хотели скатываться...
- А я-то думаю, и что это нас вдруг решили выпустить!? - только сейчас окончательно понял Шнырь. - Сколько лет живу, что-то такого не припомню. Не до нас им, брат, сейчас - не до собственной оскомины.
С О С О
Странное им овладело ощущение: будто наконец после долгих и мучительных усилий в нем наступило раздвоение, и в данную минуту одно его Я с каким-то даже неприличным интересом наблюдало за другим, которое в силу необъяснимых причин оказалось посреди улицы и недоуменно озиралось, хлопало себя по оттопыренным карманам, а вокруг безучастно проносились машины, обдавая его в морозном воздухе паром и всхлипами гудков, из которых, если вслушаться, начинала возникать музыка. Потом в эту музыку ворвались новые звуки недовольные скрипы тормозов, тоскливая ругань клаксонов, нетерпеливо акающий матерок шоферов, а он стоял посреди всей этой симфонии и не знал, что делать - то ли продолжать слушать музыку, то ли, очертя голову, прыгнуть в похожий на горную реку поток машин...
- Тебе, отец, куда? - прощально заглядывая в глаза спросил Шнырь. Но он только неопределенно пожал плечами. И в самом деле, куда? Кто ждал его в этом огромном городе, который был когда-то его домом, а теперь тюрьмой? Почему-то вспомнил Ольгу, единственную женщину, которая сумела понять его сразу и навсегда, став и любовницей и матерью в одном лице. Но Ольги уже давно нет, а сколько их было после (его гарему мог позавидовать сам Тамерлан). Или, может быть, дети? Которых он тоже когда-то любил, но в последнее время как-то потерял из виду, будто вычеркнул из списка утраченных надежд... - А то давай с нами. В малине оклемаешься, а завтра из Москвы надо делать ноги, пока снова не замели.
Нет, он пойдет своим путем и досмотрит спектакль до конца. Чтобы узнать имена героев и исполнителей. И, конечно, имя главного... исполнителя, который еще ничего не понял, не догадывается, и сегодня, возможно, займет его место - место главного узника Великой страны.
Движимый каким-то неосознанным порывом, с блуждающей улыбкой на потрескавшихся губах, извлек из кармана пальто самое ценное, что у него с собой было - хромированную зажигалку-пистолет и, не найдя слов, вложил Шнырю в ладонь. Словно передал эстафету смерти, которую в какой-то миг прочитал в измученных глазах этого бандита-человека. Его потом и в самом деле заметут со всей "малиной", и ошалевший от свободы и вкуса жизни Шнырь будет отстреливаться из его "игрушки" до последнего...
Последнюю же пулю он пошлет себе в рот, чтобы остаться свободным навсегда.
29.
Какое-то время шел наугад, жадно впитывая в себя приметы новой жизни, о которой по обыкновению узнавал из газет.
Еще утром в нем, казалось, не оставалось сил, а сейчас шел легко, словно открылось второе дыхание, шел как охотник в ожидании зверя, которого даже лучше не спешить пока убивать, чтобы как можно дольше длилось это ни с чем не сравнимое ощущение - Охоты.
Он шел, и огромные серые дома выстраивались в коридоры улиц, названия которых он пробовал читать, но все они, как на подбор, назывались именами мертвых, словно это был не город, а кладбище.
В какой-то момент ему остро захотелось закурить. Уже предвкушал, как до головокружения затянется горьковатым дымком, как все мысли отодвинутся на дальний план, станут немного прошлым и можно будет посмотреть на них со стороны или даже с разных сторон и увидеть все достоинства и недостатки.
Года полтора назад он заставил себя бросить курить и, Бог свидетель, дорогого ему это стоило. В первые дни просто бросался на всех и вся. Особенно на тех, которые, он знал, курили и будут курить, но уже без его участия. Точно заговорщики, которых давно подозревал, а сейчас получал неопровержимые доказательства.
В те дни его красный карандаш не знал пощады.
Знакомый запах "Герцеговины Флор" заставил сразу взять след. Наверное, смог бы распознать его из тысячи других. Упоительный запах власти и... смерти, которая почти всегда незримо присутствует рядом и так будоражит кровь.
А вот и он, ни о чем еще не подозревающий, обладатель запаха. Думает, что затерялся и потому спокоен... Даже позволил себе закурить... Но есть во всем его облике еще что-то... И это кургузое пальтецо... и поднятый воротник... и видавшая виды шапка... И то, как он держит руку, затягиваясь папиросой в кулаке... А за всем этим искусная маскировка... Профессионал...
"Да! Из тебя, Coco, получился бы замечательный наружник. Ты всегда отличался этой способностью - сразу взять след и вести... вести до изнеможения. Чтобы у ведомого не осталось сил даже на чувство самосохранения. Когда наступает момент, что уже не знаешь, кто из двоих кто. Словно связаны одним поводком пули, которая еще не выпушена (раздел инструкции для наружника № 8), но в самом крайнем случае... эту ситуацию можно создать. И сразу из хорошего наружника превращаешься в ничем не примечательного убийцу, каких много. Убийцу, который с каждым новым выстрелом убивает немного и себя. Ведь хороший наружник даже привязывается к своему ведомому (как, собственно, и ведомый). Они оба затратили столько сил, успели так изучить друг друга, что стали как одно целое, которое уже не разделить..."
Так или примерно так вдохновенно рассказывал ему полковник Рачковский Петр Иванович Рачковский, этот гений фальсификации и сыска, когда после очередного ареста предложил работать на Охранку. Предложил как профессионал профессионалу. В конце концов преступник и следователь оба совершают тот же путь, только преступник успевает преступить, а следователь нет. Уж кто-кто, а полковник Рачковский это умел понимать как никто другой. Ведь когда-то и сам был революционером-террористом, но после ареста тайной полицией перешел на сторону полиции и сделал себе головокружительную карьеру. Это он объяснил ему, Coco, что такое власть, и кто в действительности правит миром. Есть власть видимая, со всеми своими правителями, министрами, генералами и партиями, и есть власть тайная, которая в нужный момент дергает все эти мундиры за веревочки, убирая неугодных и выдвигая новых...
Так он, Coco, стал агентом № 7, самым секретным из секретных, самым талантливым. Самые сложные задания доверял ему полковник, став на какое-то время учителем и отцом. Научил балансировать на лезвии ножа и даже получать удовольствие от близости опасности. Это он, Рачковский, первым делом почувствовал начало великих перемен и опытной рукой мастера ввел его в большую игру, имя которой революция. А потом исчез, чтобы расчистить ему, Coco, путь. Обожженное до неузнаваемости тело полковника нашли при пожаре архива Охранки. Теперь о прошлом никаких улик. Он был единственный, кто знал его, Coco, в лицо. И лишь много лет спустя Рачковский снова напомнил о себе. Тогда это стоило жизни Ягоде.
30.
Он почти догнал его у входа в метро, приблизившись недопустимо, захотелось во что бы то ни стало заглянуть в лицо, в настороженно затаившиеся зрачки, в которых, как всегда, страх, отчаянное безумие страха, готового на все.
Сперва он шел за ним просто так: случайный прохожий, случайная игра. Но постепенно все больше и больше втягивался. И уже показалось что-то знакомое в этой мелькающей за спинами фигуре, в поношенной шапке... С приманкой "Герцеговины Флор", на которую он купился, как мальчишка. На самом же деле это не он вел, а его вели, или точнее, уводили - старый испытанный прием, разработанный еще гением французской Охранки, Фуше, чтобы отвлечь от чего-то более главного и важного, что должно было произойти... И пока наружник разберется что к чему - будет уже поздно.
Вот что такое грамотный наружник. На них держится любая власть. Уроки полковника Рачковского не пропали даром. Поэтому у него, Coco, сейчас лучший в мире департамент "О" (как в старые времена называли Охранку), а значит, и лучшая в мире власть. И разве не насмешка судьбы, что вот уже который день самые лучшие ищейки мира не могут взять его след. Не могут или не хотят?!
31.
Уже на эскалаторе догнал его и остановился ступенькой ниже. Отсюда было удобно смотреть на проплывающие мимо лица, отлавливая в случайном взгляде, возможно, не случайный интерес. Минутная передышка, когда наружник может расслабиться и думать о себе хорошо. Для него сейчас очень важно - думать о себе хорошо. Думать и чувствовать, как распрямляются натянутые от напряжения складки лица, как постепенно начинает отпускать внутри и хочется вздохнуть... Еще минута - и ты уже другой... Другой разворот плеч, другая стать. Даже другое лицо. Некоторым и в самом деле удавалось настолько измениться, что их переставали узнавать...
Вот что значит думать о себе хорошо. Для этого достаточно закрыть глаза и вызвать в памяти картинку прошлого... Осенний лес, охота, визгливый лай распаренных от гона собак и резкий запах пота и прелых листьев... который издает его ведомый (в особых состояниях каждый человек издает свой запах). Словно на время гона и сам стал немного собакой со всеми ее повадками и чувствами. Особенно на запахи.
Еще один урок Рачковского - начальника ужасной Охранки, тайной царской полиции - самого загадочного человека из всех, кого он, Coco, знал. Казалось, даже революция не слишком повлияла на их давно сложившиеся отношения учителя и ученика. Правда, теперь Рачковский появлялся на горизонте значительно реже, но его незримое присутствие он, Coco, привык чувствовать всегда, словно уже не мог обойтись без своего ангела-хранителя ни минуты.
Кем он был на самом деле и какие силы представлял - оставалось только догадываться. В любом случае, эти силы не зависели от границ и государств, они даже не зависели от политических устройств и вероисповеданий. Иногда ему, Coco, казалось, что они не зависели даже от времени... и людей, которые их в данный момент представляли, и которые всего лишь исполнители... некоей верховной воли...
И всегда Рачковский появлялся именно тогда, когда он, Coco, заходил в тупик, когда, казалось, нет выхода и все повисало на волоске... Первый раз это случилось в мае 1924, когда умер Ленин и нужно было взять власть, к которой уже тянулись руки, но блестяще разыгранный сценарий - и он, Coco, обошел всех. Троцкий не хотел видеть на этой должности Бухарина, Бухарин Зиновьева, Зиновьев - Троцкого, а в итоге оказался он, Coco.
Последний раз они виделись с Рачковским в самом конце войны, когда решались вопросы нового мироустройства, в котором нашлось место и новому государству - Израилю. Но к тому времени он, Coco, уже понимал многое. Слишком знакомым показался почерк, слишком знакомая игра. "Если вы опасаетесь заговора, организуйте его сами, и таким образом все, кто мог бы к нему примкнуть, попадут под ваш контроль."
Собрать всех евреев в одном государстве... чтобы в любой момент иметь возможность покончить с ними навсегда.., а пока держать в заложниках.., чтобы диктовать свою волю... и контролировать...
Это, конечно же, иезуиты... Самая древняя из всех тайных организаций на земле, на побегушках у которой были даже Наполеон и Гитлер... А тем более Рачковский, который когда-то сумел привязать его, Сталина, к себе, и которому он, Coco, привык доверять больше, чем отцу родному... И вот сейчас Рачковскому ничего другого не остается, как оставить его в покое... Теперь уже навсегда.
...Другое дело ситуация замкнутых пространств (например, как сейчас), когда ведомому некуда бежать и даже самый опытный из них может потерять над собой контроль и начать нервничать. Не оттого нервничать, что кто-то беспардонно рассматривает его в упор и может узнать, а от внезапно нахлынувшего чувства обреченности, когда вдруг охватывает беспричинный страх, что конец близок...
Иногда, правда, такие ситуации подстраиваются нарочно, чтобы заставить ведомого запаниковать и, как следствие, совершать глупости. Но здесь сразу видно - профессионал. Отгородился газеткой - и был таков. Старый испытанный прием, и хотя действует больше психологически, но инициатива по-прежнему у него в руках. И ему, Coco, ничего другого не остается, как разглядывать газету с обратной стороны. Разглядывать, чтобы прочитать: "Умер вождь народов товарищ Сталин..."
32.
Эскалатор вытолкнул его на подземную станцию метро. Сотни и тысячи людей бессмысленно кружили в переходах, словно искали выход, но не находили. Они растерялись от навалившегося на них горя и не знали, как жить дальше. Казалось, погасло светило - умер Бог! Но боги не умирают, не должны умирать, иначе все рушится и превращается в песок - целые океаны зыбучего песка, под которым кладбище... А над всем этим снова ночь и звезды... И с ревом несущийся вагон. И черные пропалины тоннеля, который тянется к центру земли. И замерзшие в последнем оцепенении люди. И, конечно, страх, панический выплеск страха, холодным щупальцем скользнувший к горлу - страх потери... И удивительная ясность ума, которая порой бывает перед самым концом, и понимание высокой цели... Почему выбрали именно его?.. Ведь неспроста послано столько испытаний... А значит, и все приписываемые ему жертвы (которые на поверку всего лишь пресловутые жертвы жертв), но главная истина, как всегда, одна (а может, и нет никакой истины?)... И следует приближаться к ней до бесконечности... Быть близко и не дойти. И по обыкновению просто устать, растерять силы. Наверное и он устал, утратил все желания. И оттого спокоен. Спокоен, как может быть спокоен смертник, который месяц за месяцем и год за годом ждет своей пули и незаметно сходит с ума. Или привыкает... что уже мертв. Он и в самом деле давно мертв. Возможно, он и родился мертвым, но этого просто никто не замечал... не хотел замечать... Ведь мертвому все позволено. Почти как богу... Который своею смертью смерть поправ, видно, неспроста поспешил убить в себе человека. Убил, чтобы показать, какая это дрянь - человек... человеки... Мерзкие копошащиеся муравьи, на которых нет управы! С каждым годом их муравейников все больше и больше. Даже на его даче посмели они строить свои гнусные города. Сколько раз он обливал их керосином и жег, с мрачным удовлетворением наблюдая, как корчатся в огне, потрескивают и подпрыгивают сотни и тысячи маленьких черных человечков...
...Одного из которых он в последний момент все-таки успел узнать, но к тому времени это уже не имело никакого значения.
ЭПИЛОГ
С О С Е Л О
До какого-то момента он помнил все в мельчайших подробностях. Вот подхваченный обезумевшей толпой - очутился на улице Грановского, где за суровыми фасадами домов затаилась жизнь. Даже представил свое появление, например, в квартире Кагановича... Смертельно бледное одутловатое лицо... А главное - представил его дочь, Розу, которая, конечно, сразу потеряет сознание... Или Молотова... который отстоял в почетном карауле у гроба, а сейчас к нему явился сам труп... чтобы попросить пропуск на собственные похороны...
Потом он ехал сперва в вагоне метро... а оказалось, поезда ... словно во сне... Но почему-то правильно. Мелькали какие-то люди, которых он не знал, дремучие старики, с окладистыми бородами, вперемешку с похожими на воронов членами политбюро, грудастые пионерки в кроваво-красных галстуках, с лихорадочным блеском в глазах, какие-то генералы-лилипуты, которые всю дорогу обсуждали, нужно или не нужно было Кутузову сдавать Москву французам в 1812 году и почему масон Наполеон так и не смог договориться с масоном Александром полюбовно, хотя оба состояли членами одной партии... Потом они начали спорить с Климом Ворошиловым, как повернулась бы тогдашняя война, когда бы армия Кутузова была обеспечена десятком тачанок с пулеметами или на худой конец хотя бы одним танком Т-34, даже без боевого комплекта... Несколько раз под видом то крестьянина, то проводника к нему пробовал пробиться полковник Рачковский, но к тому времени Ворошилов уже поставил возле него, Coco, охрану из ворошиловских стрелков, которые пропускали только по специальному мандату, заверенному начальником охраны Кремля генералом Власиком...
Он не знал, сколько уже прошло времени, но в одно прекрасное утро вдруг со всей очевидностью понял, что почти дома.
В свою горную деревню он добрался на каком-то ослике к обеду. На горных склонах еще лежал снег, а у дома дедушки Резо уже вовсю расцветал горький миндаль.
Странное дело, но за годы отсутствия вокруг почти ничего не изменилось. Только старая чинара дала еще одну трещину, которую дедушка Резо заботливо замазал глиной. Все так же кудахтали куры и нетерпеливо блеяли в загоне овцы. Они, словно первые почувствовали весну и просились на свободу.
Несколько длинномордых свиней блаженно нежились в грязи на солнышке.
- Сосело! - с охапкой дров, как ни в чем не бывало, встретил его дедушка Резо, словно внук вернулся с охоты или рыбалки. - Лишь старая Асмат со слезами прижалась к его широкой мужской груди.
А в дом уже потянулись гости - столетние аксакалы в черных бурках, с георгиевскими крестами и медалями на застиранных добела гимнастерках, позванивая газырями и кинжалами. Многие из них помнили Coco еще совсем мальчишкой и сейчас, как водится, пришли посмотреть, что сделала с ним жизнь. Но сперва, по обычаям, по глотку терпкого вина... Из большого праздничного рога в серебряном окладе и с цепочкой.
- А скажи-ка нам, Сосело, кто там внизу сейчас царь? - наморщив похожий на орлиный клюв нос, с хитрецой в глазах спросил самый старый аксакал Вахтанг. - А то у нас тут спор зашел. Батоно Самсон говорит, что правит сейчас Николай третий, а я говорю...
Но дедушка Резо уже затягивал песню. Старую грузинскую песню гор, которую мужчины исполняют стоя, откинув назад бурки, руки на плечи, чтобы чувствовать, как по кругу пробегает дрожь.
И он, Сосело, запел вместе с ними. Словно и не было всех этих революций и войн, самых грандиозных достижений и побед. А праздник продолжался и набирал силу. И прекрасные девушки, поигрывая черными, как ночь, глазами, все чаше и чаше наполняли кувшин вином. И уже, казалось, пели горы, бесчисленным многоголосым эхом мертвых, которые когда-то ушли и не вернулись, а он, Сосело, вернулся... вернулся, не смотря ни на что, вернулся, как возвращается по утрам солнце или приходит весна... и это было сейчас главной его победой.
Но на то они и праздники, чтобы сменяться буднями. И вот уже под развесистой чинарой собрался совет старейшин. Законы гор суровы. Сама жизнь когда-то написала эти законы, чтобы уцелеть. Своего рода - диктатура гор. Когда каждый человек должен делать свое дело, а все вместе они, как один, сжатый до онемения, кулак, который, казалось, не разъединить никакими силами.
После недолгих прений совет постановил послать его, Сосело, пасти отару. Обычно это делали в деревне мальчишки, но старейшины почему-то выбрали его, наверное, как самого из них молодого. А что касается мальчишек... Дедушка Резо рассказывал, что все они когда-то давно спустились вниз, будто бы посмотреть, как там, внизу, стригут баранов, но почему-то так до сих пор назад никто и не вернулся. И дедушка Резо в задумчивости затянулся трубкой, из которой вдруг пахнуло таким знакомым запахом самосада "Герцеговины Флор".., что он, Сосело, поспешил тотчас отправиться к своим баранам.
Молодой пружинистой походкой он пересек двор и сбежал с пригорка к сараям.
Яркое солнце до слез слепило глаза. Весна стремительно наступала по всем фронтам. Еще немного, и потянутся первые птицы. А значит, дедушка Резо снова возьмет его, Сосело, с собой на охоту.
Крым, Керчь-Симферополь
1994-1996 гг.



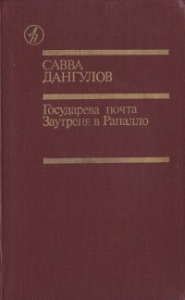


Комментарии к книге «Двойник полуночника», Александр Грановский
Всего 0 комментариев