Отрок Варфоломей и старец-пресвитер в доме боярина Кирилла.
Ориг. рис. С. И. Панова.
Л. А. Чарская ОДИН ЗА ВСЕХ ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО ПОДВИЖНИКА ЗЕМЛИ РУССКОЙ
ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
ПРОШЛОЕ русской земли богато великими героями, проявлявшими чудеса храбрости, жертвовавшими жизнью для родины. Богато оно выдающимися и по своим мирным заслугам личностями, богато крупными, беззаветно трудившимися на славу своего народа государственными деятелями.
Но русская история слагалась не только из подвигов героев и деяний государственных деятелей. В жизни русского народа, в ее судьбах, играли огромную роль и скромные подвижники, которые своим примером вдохновляли народные массы, укрепляли в них веру, облагораживали их нравы и, отдавая свою жизнь на служение высоким идеалам, оставили память — прочнее памяти многих героев, витязей и богатырей. И такие люди, по своей кончине, становились предметом благоговейного почитания всего русского народа, от царя до последнего простолюдина.
Признается полезным знакомить юношество в художественной форме рассказа с жизнью и деятельностью героев, государственных людей, ученых, писателей. Несомненно, следует считать не менее полезным ознакомление юного поколения в художественной беллетристической форме, и с жизнью тех великих подвижников, деятельность которых тесно связана с историею родины и которых народ справедливо причисляет к своим богатырям — богатырям духа.
Жизнь, и в особенности юные годы, одного из таких праведников и подвижников составляет содержание предлагаемой повести.
Этот праведник — Преподобный Сергий Радонежский, бесспорно, одна из самых замечательных личностей нашего далекого прошлого, праведник, к гробнице которого ежегодно стекаются миллионы русских людей, чтобы подкрепить себя молитвою, найти утешение в горе.
«Если бы возможно было, — говорить наш знаменитый историк В. О. Ключевский, — воспроизвести писанием все, что соединялось с памятью Преподобного Сергия, что в эти пятьсот лет (со времени его кончины) было молчаливо передумано и перечувствовано перед его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни. Да и каждый из нас в своей собственной душе найдет то же общее чувство, стоя у гробницы Преподобного. У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, дивно остановилось движение времени. Это чувство вот уже пять столетий одинаково загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолжение тысячелетий одинаково светится в чистой капле воды».
Жизнь Св. Сергия — помимо религиозного значения Преподобного — представляет богатый пример необыкновенного трудолюбия, кротости, готовности работать для ближних и ради пользы ближних. Она полна интересных и, в то же время, поучительных фактов, способных облагораживающе действовать на юные сердца, вызывать их добрые чувства, развивать в них любовь к людям, уважение к труду.
В предлагаемой повести жизнь великого праведника рассказана на основании летописей и сказаний, которые в теченье столетий переходили из поколения в поколение и удостоверены историею. Стараясь сохранить в самом рассказе колорит эпохи и имея в виду юных читателей и читательниц, автор стремился в то же время с внешней стороны дать своему произведение такую форму, которая могла бы не только в достаточной мере заинтересовать их, но и ввести в тот особый мир, где протекала вся подвижническая жизнь и деятельность этого поистине народного героя труда и веры.
Иллюстрационная часть повести состоит преимущественно из копий с картин известных художников, вдохновившихся жизнью великого подвижника земли русской, из видов, связанных с его именем, снимков с принадлежавших ему вещей и пр. В самом же тексте помещены снимки с древних миниатюр, воспроизведенных с рукописи XVI века, хранящейся в ризнице Троице-Сергиевской Лавры.
I
ГОЛУБОЙ радостный и светлый день. Прозрачно-синей глубиной моря кажется небо или лазоревым заповедным озером, там высоко, вдали. А земные хрустальные озера и реки отражают небеса. И мнится: два неба, два озера, два моря — внизу и вверху. Ласково-нежный, как сладкий бальзам душист воздух. В нем летнее дыхание диких левкоев, розовой кашки, гвоздик полевых. Наверху, над заоблачными сказочными озерами неба — золотое светило: солнце, улыбка Бога и радость земли. Оно не горючий, дышащий зноем пламень сегодня, — оно ясное, нежное и спокойное. Начало лета и прощанье весны.
День красивый, как сказка. Радостный день, теплый, ласковый, нежащий, посланный небом для утехи земли.
В четырех верстах от Ростова, славного города Ростова, отражавшего так отчаянно храбро набеги диких кочевников-татар и павшего под их бешеным натиском, небольшая усадьба, вся обласканная, вся согретая и принаряженная майским полднем. На высоком тыне играют солнечные блики, на белых крепко выложенных тесовых стенах хором, гридниц и пристроек мелькают световые пятна. Словно белоликие феи, бегают взапуски, прыгают и резвятся солнечные улыбки.
Там, за сараями, тенистей и будто сумрачней. Длинные тени ложатся от высоких дубов с мохнатыми шапками из свежей листвы на гордых головах-вершинах и от гибких, как прутики, юных тополей, похожих на юношей с зелеными глазами. Там, в тени, под тыном — лужайка. На лужайке толпа мальчиков-невеличков, от пяти до десяти лет. Играют во что-то странное, непонятное по первому взгляду. Что за игра?
Один сидит под дубом. Этот старше всех; по виду ему лет двенадцать. Он высокий, тоненький, как былинка, черноглазый, а лицо суровое, брови, будто кисточкой проведенный, сжались над тонким прямым носом. Брови хмуры, а пухлые детские губки, точно спелые алые вишни, кривятся в усмешку. В руках лист огромного лопуха, сорванного тут же под тыном, и указка в виде ивовой лозы, гибкого прутика, наполовину очищенного от кожицы.
Мальчик одет чисто и опрятно; не роскошно, нет, хотя он и боярский сын, дитя всем известного боярина Кирилла Ивановича Иванчина, приспешника и советчика первого при дворе князя Константина Борисовича, удельного владетеля Ростовской земли.
И усадьба эта за зеленым тыном принадлежит боярину Кириллу, и высокий, стройненький с нахмуренным лицом черноглазый отрок его старший сын — Степан. Тут же в толпе детей и младший сын — Петруша, голубоглазенький, белокуренький с детским невинным личиком шестилетний шалунок. Всех детей человек десять. Все стоят на вытяжку, глаза вперили в черненького Степу, что сидит на срубленном стволе под дубом с нахмуренным лицом, с сумрачными очами.
— А ну-ка, подходи, — кричит Степа, и черные глазенки его поблескивают, как угольки, — ты, Кирюшка Безруков!
Из толпы выделился мальчуган, бутуз лет семи-восьми, рыхлый, белотелый, вскормленный на мамушкиных подовых пирогах, на имбирных хлебцах, да на всякой сытной живности. Чистый кубарь, а не мальчик. Отделился от толпы, приблизился к дубу, поклонился в пояс Степе.
— Здрав будь, господин учитель!
— Здорово, паренек! Покажи свое уменье. Больно знатно ты псалтирь читаешь, наслышан я, так удружи, любезненький, а мы послушаем.
И с важностью заправского учителя степенно протянул Степа Кирюше лист лопуха.
Лист лопуха — псалтирь. Лист лопуха — Четьи Минеи. Он же и — Житие Святых, и все, по желанию. Что подскажет детская фантазия, то и представит из себя лист лопуха.
Этот Степа — учитель сейчас, мальчики — ученики, полянка под тыном — школа. В школу и в учителя играют мальчики, дети разных служивых городских людей, пришедшие сюда в боярскую усадьбу из города и из соседних ближних вотчин поиграть перед тем, как отправиться в настоящую заправскую школу.
Кирюша-бутуз берет лопух и читает певуче:
— Аз, Рцы, Хер, Аз… Архангел… — с трудом, обливаясь потом, произносит он, как бы читая на воображаемой странице книги воображаемое слово.
— Ладно, умник, пряник за мной… Подходи ты, Петруша, — одобрив кивком головы товарища, говорит Степа.
Выбегает к дубу другой мальчик. Этот совсем крошка, голубоглазый, маленький, похожий на херувимчика, только вот загорелый — в этом с херувимом и разница вся.
Это братец Степана — Петруша… Бойкий, веселый, глазки что звездочки горят.
— Давайка-сь, господин учитель, я тебя потушу! — сам хватает лопух и бойко читает наизусть псалом Давидов:
— Се удаляхся бегая и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающаго меня (псал. 54, 8, 9).
Странно звучат строгие, суровые слова царя-пророка в устах ребенка. Память у Петруши на диво.
— Молодец, — хвалит старший брат, — где слыхал такое?
— Брат Варфушка давеча молился, я и упомнил.
— Варфушка? Ишь, ты… Да где же он?
Степино суровое лицо разглаживается в минутку. Бровки, как стрелки, от переносицы разбегаются прочь.
— Где Варфушка, да… чего не играет с нами? Куда схоронился? — с любопытством спрашивает Степан. А сам уже вскочил со своего пня-обрубка, глядит поверх голов товарищей-мальчиков. Ищет взглядом того, кого хочет видеть сейчас.
— Варфушка! Варфушка! Варфоломей! — кричит Степа, прикладывая руки ко рту, — к нам ступай, сюда, Варфушка! Ско-ре-и-ча!
Крикнул и слушает, не откликнется ли тот, не поблизости ли он ненароком.
Кирюшка Безруков смеется:
— Ай, Степа, Степа, нешто не знаешь, что не любит играть да баловаться с нами Варфоломей…
И другой — Вася, Парфилия-дьяка сын, вторит детским басом:
— Штой-то важен больно Варфушка, ребят гнушается.
И третий — Ванюша, стремянного князя Константина Борисовича сын, шумит:
— Боярством своим, знать, кичится. Видно не то, что братья его, Степа да Петя: те с нами, как ровни…
— Ладно! Не покичится у меня! Я ему старший брат, у меня коротка расправа. Слышите? Сыскать мне сейчас Варфоломея, да привести сюда! Силком его с нами играть приневолю, коли не хочет по своей охоте. Ну, вы, живым духом, ребята!
И властно взмахнул загорелой ручонкой Степан. Брови опять сомкнулись у переносицы. Лицо приняло строгое, суровое выражение. Ну, вот-вот — и впрямь учитель.
Веселой стаей шарахнулись ребятишки в поисках за Варфоломеем. Слова Степы — тот же приказ. Сильный этот Степа, большой, старше их всех. Его ли не слушать. Ишь, суровый! Того и гляди лозой угостит. Все ребятки его слушать, как овцы пастуха своего, готовы. Вот и сейчас: едва сказал, а они уж пятками засверкали, метнувшись на поиски за младшим братом Степана — Варфушкой.
II
СОЛНЦЕ выше поднялось. Купается в голубом хрустале заоблачных озер. Ладьи белые, дымчатые плывут по этому озеру — облака. Прихотливой формы они: не то лебедь, не то корабль, не то белоснежный дракон сражается с неведомым воителем. Ах, красиво! Будто не въявь, а во сне все это. А внизу море зелени. Травы-купавы, зеленые былинки, миловидные, гибкие, нежные, хрупкие. А цветики душистые, полевые цветики — Божьи подарки матушке-земле, алые радостные, голубые сладко-грустные, желтоватые, белые — невинная, чистая красота.
С зеленой травой сплетаются, как братья с сестрами любимыми целуются, и колышутся, и свиваются в чуть приметном для глаз танце.
Мальчик Варфоломей смотрит на едва зримый танец былинок и пестрых цветов от ласки ветерка, от зыби. Мальчик он странный какой-то и совсем особенный. Лежит на земле, глаза широко раскрыты. Синие волны переливаются в этих глазах. Золотая небесная звезда загорается в них. Загорается и вдруг то меркнет, то снова сияет. Целый мир в этом взоре, мир недетский. В нем и ясная, задумчивая, красивая печаль, и тихий грустный восторг и что-то строгое, чудесное и тоскующее. Губы тонкие, не ребячливо строгие, сомкнуты без улыбки. Нос тоже тонкий и пряменький. Несмотря на юность, определившееся уже личико. Кудри шапкой золотистой вьются над высоким загорелым лбом, нужные, как лен, шелковистые. Ему семь лет, но по виду больше. Стройный он весь, сильный, хоть и худощавый. Знойный загар позолотил грудь, лицо, тонкие кисти маленьких ручонок.
Вблизи, где зеленое море трав пресеклось немного, образуя крохотную лужайку, высится муравьиная куча. Целый дворец хитросплетений маленьких тружеников-муравьев. Варфушка смотрит на дворец. Глаза разгораются ярче. Это уже не синие звезды в золотом ореоле сияния. Это два солнца тропических, два метеора под темными извилинами длинных ресниц.
Варфушка смотрит и думает.
— Муравьи-труженики, Божьи работнички, выстроили сами себе палаты, хоромы с гридницами и переходами, опочиваленки, боковуши и житницы. Все сами носили по прутику, клали травку к травушке, былинку к былиночке. Вырастали хоромы. Еще клали, сплетали, — еще вырастали. Во славу Божию работали работнички махонькие. Господь труды любит. Выстроили палаты для детушек своих, для всего муравьиного народа насекомого. Ах, хорошо! Хорошо так трудиться! Для других, для своих, для чужих, для всех. Хочу быть муравьем-работничком, хочу трудом своим радовать родимых и себя, хочу…
— Варфушка! — в тот же миг пролетело над белокурой головкой и эхом повторилось за полем в лесу.
— Варфушка! Подь сюда, Степа зовет!
— Эх, горе! Нашли меня ребятки, — вихрем проносится новая мысль в голове Варфушки; — эх, горе, придут, увидят, за собой потащут, заставят бегать, играть, баловаться… Не могу я. Не хочу. Не умею. Схорониться разве? Прилечь к травушке, прижаться к зеленой, авось не разыщут, не найдут.
— Варфушка!
Молчит. Молчит синеокий мальчик. Личико напряженное. В глубоком взоре сверкает мысль.
— Схоронюсь!
Бросился в траву ничком. Едва дышит.
Минутки ползут за минутками. Муравьи скорее двигаются под тяжелыми ношами, таская прутики и соломинки в земляной свой дворец.
— Ах!
— Ишь, он где схоронился!
— Ин, притих даже!
— Ах, ты, баловень!
— Врешь, не обманешь…
— Тащи его к Степе, ребята!
— Пущай его с нами играется…
— Гордец какой!
Толпа ребят окружает Варфушку. Поднимают с земли, ставят на ноги, тормошат.
— Пойдем-ка-сь к Степе на расправу! В школу играем. Тебя не хватало. Ступай псалтирь читать, ты ведь читальщик знатный, — смеется пухлый Кирюша.
— Ха, ха, ха, — вторят ему другие, — и впрямь мастер Варфушка. Небось, рцы от глагола отличить не сможешь.
И опять хохочут. Знает Варфоломей, смеются над ним. Над его бессилием понять трудную грамоту смеются. Ах, беда, беда ему, Варфушке. Сколько ни бьется с ним учитель — не одолеть ему грамоты. Ввек не одолеть. Не дается ему книжная премудрость. Все он умеет: и избу из дощечек сколотить, и насад*) устроить, и деревца из щепочек выстругать, а грамота для него — темна, как ночь. Горе, да и только. И знают это его горе ребятки и смеются над ним.
Притащили насильно на поляну, к дубу, под которым сидит, приняв свой строгий вид, Степан, толкают к нему Варфушку, хохочут, шумят. Степа не шумит, не смеется. Принял снова важный учительский вид.
— А, ну-ка, отрок Варфоломей, скажи, што ежели рцы да аз сложить, што выйдет?
— Рцы да аз… рцы да аз… — лепечет Варфушка и весь вспыхивает заревом, точно перед ним не брат сидит, а заправский наставник.
И затихает. Не знает, не умеет сложить двух букв. Тяжко ему это. Не по силам.
Степа хмурится. Поднимает лозу-указку и легонько взмахивает ею над спиной брата. Ударит сейчас Варфушку гибкая, хлесткая ивовая лоза. Вдруг скрещиваются глаза братьев. Черные Степины и синие, как глубь озера, Варфоломея.
— Не тронь, не тронь! — без слов шепчут синие черным, — нешто я повинен?
И опускается, как плеть, смуглая от загара рука Степана. Варфушка стоит, поникший, грустный.
— Рцы да аз… рцы да аз… — лепечет он в смятении.
Вдруг суета около. Легкий крик испуга.
— Идет! Сюда идет, учитель-дьяк сюда сейчас пожалует! — срывается с детских губок, и вся толпа ребятишек устремляется навстречу быстро шагающему по поляне человеку, не то монаху, не то дьячку в темном подряснике с крохотной косицей жидких волос, с хлестким прутом в руке.
— Ин, они где, чадушки нерадивые; ин, они заместо книжного мудрствования действами какими забавляются, — певуче, вкрадчивым голосом, но с сердитым мельканием гневных огоньков в глазах, затянул человек в подряснике. Это учитель-дьячок одной из подгородних сельских церквей, расположенных близ Ростова, в полуверсте от усадьбы боярина Кирилла.
— Нешто для баловства, для утехи врага рода человеческого настало для вас Божие утро? — уже совсем гневно крикнул он и, как стадо быстрых барашков, погнал детей к небольшой, белевшейся близ сельской церковки, избе, где он учительствовал, преподавая детям грамоту.
В то время, в XIII веке, мало было школ на Руси. Заведовало обучением грамотности духовенство. Епископом Ростовским был тогда Прохор «благочестивый», «учительный», как о нем говорит история; под его руководством шло дело обучения грамотности и назначение руководителей — учителей в Ростовской земле. Дьячок Назарий из соседнего сельца близ усадьбы Иванчиных учит ребят-подростков из ближних усадеб и сел, что расположены подальше от города.
Дьячок Назарий вошел в избу. Вошли за ним и мальчики. Робко, стараясь не стучать, расселись, кто на скамье, кто на сидельце, крытом скромным половошником, кто прямо на полу, поджав ноги. У всех серьезные, чуть испуганные лица. Один Степа спокоен. Он — грамотей, гордость школы и учителя. Как свои десять пальцев на руках, зиает он грамоту. И псалтирь, и Четьи Минеи, и житие кого хошь из святых прочтет. Учитель им за это не налюбуется, родителям хвалит, батюшке-священнику, всем кто ни зайдет.
— Степан, сын Ростовского боярина, куды на грамоту дюж!
Горд похвалами его строгий, смуглый, красивый Степа.
И Петруша маленький не очень отстает от брата. Шесть лет мальчику, а читает бойко. Голосок, как колокольчик, звенит, звенит…
— Аз, буки, веди, глаголь, добро…
— Ладно, паренек, добро…
Гладит морщинистая рука Назария белокурую головку.
— Ладно, желанненький… Так. Так.
— Ты, Варфоломей. Зачинай, отрок; твой черед!
Поднялся Варфушка со скамьи. Побледнела золотистая от загара, нежная кожица на лице. Синие, как глубина озер, глаза вскинулись на раскрытую страницу книги.
О, какая тяжелая, толстая книга! Это псалтирь… Какие пестрые, непонятные строки, хитросплетенные строки с дивно неведомыми буквами… Кто поможет ему, Варфушке, разобраться в них? Господь Всесильный, сколько их здесь поналеплено! Аз, буки, земля, веди, рцы, глаголь, червь, — все слилось, все смешалось. Вовек не разобрать ему, Варфушке, хитросплетенных строк.
Лицо ребенка еще белеет. Остаток румянца сбегает со щек. Последнее розовое пятнышко исчезло.
— Господи, Господи!
Темнеют испуганно синие очи…
— Господи, срам-то какой!
Тихо посмеиваются в избе мальчики, хихикают, шепчутся.
— Блажной этот Варфушка, прости Господи! Ровно дубиной ему память отшибло. Намедни еще учил, а нынче ни в зуб толкнуть…
И жжет сильнее от этого шепота и без того жгучий стыд Варфоломея. Стыд до боли, до головокружения. Вот, даже в глазах зарябило от напряженного желания понять буквы, но все напрасно.
В голове пусто сейчас. Ни памяти, ни образов того, что учил накануне.
Ах, горе, горе!..
Напрягает все умственные силенки ребенок. Хватается, как утопающий за соломинку, за первую букву.
— Глаголь! — срывается тихо, как стон, с побледневших губок.
— Врешь! Рцы это! Несмысленыш этакий! Доколе тебе твердить? — гневно кричит, потерявший всякое терпение с ним, учитель. — Становись на колени, протяни руку.
Покорно опускается на колени маленькая фигурка, протягивается розовою ладонью кверху загорелая рука.
— Раз!
Хлесткий удар плетки падает на розовую ладонь. Боль мгновенная, но острая, как обжог горячим.
— Два…
Новый удар.
— Три!
Еще… и еще!
Назарий всегда так наказывает нерадивых. Всех без исключения. Так уж заведено издавна. «Лоза не причинит вреда, а прибавит радения», — так твердили на Руси в старину, и учителя без «лозы» учить не умели и недоумевали, как без нее обойтись в ученье.
— Ступай! Ужо завтра читать мне все без запинки, — говорит строго дьячок, а глаза обегают, помимо воли, печальные синие Варфушкины глазенки. Жаль старому дьяку Варфушки. Чем он виноват, мальчик, что такой беспонятный?
А синие глаза мальчика полны слез. Точно росинки, алмазы яркие в них загораются и крупными градинами сыплются по щекам.
— «Срам-то какой! Опять, опять наказан!» — вихрем бьется в мозгу горячая и больная обидою мысль.
Не помнит, как кончен урок, Варфушка, как распустил по домам всех учитель.
Идут трое в отцовскую усадьбу: Степа, Петруша и бледный, заплаканный Варфоломей.
Над ними веселое солнце. Синяя гладь далеких стремнин. Кругом зелень и ласковое веяние мая.
Степан шагает быстро, как взрослый, хотя ему только двенадцать лет. Идет, хмурится и говорит:
— Опять осрамил нас с братом! Отцу скажу. Пущай тебя накажет. Мало досталось. Ленивый ты!
Петруша шепчет с другой стороны:
— Варфушка, не слушай его… Он шутит… Мы с тобой, Варфушка, вдвоем ужо псалтирь почитаем, у тяти возьмем. Право, милый… родненький, не плачь… Одолеешь… Ужо похвалит учитель, сам увидишь, ужо…
Милое, добренькое Петрушино личико, в белокуренькой рамке кудрей, жмется к плечу Варфушки. Младенческая ручонка закидывается на плечо брата.
Урок грамоты с дьяком.
— Не плачь, Варфуша, не плачь! — повторяет он и целует брата в щеку, поднявшись на цыпочки.
Быстро высыхают слезы Варфоломея от этой детской ласки. Весна воцаряется в сердце, проясняется взор, глубокий, как озеро, и, как оно, синий, синий…
Степан сердито пожимает плечами, отворачивает строгое смуглое лицо и еще быстрее направляется к дому.
III
— МАТУШКА, родименькая, любимая! Што ж это такое? Голубушка моя, матушка!
Полны отчаяния синие глаза Варфуши. Дрожит, ломается и гнется звонкий голосок. Слезы — крупные алмазные горошины — застыли в печальном сиянии взора.
Маленькие загорелые руки обвивают шею женщины. Тонкое, стройное, загаром опаленное тельце жмется к груди родимой.
— Матушка! Матушка!
— Что, желанненький, что, Господень любимчик? Что, Варфушка, душенька ангельская?
Тревожно лицо боярыни Марии, молодое светлое, пригожее лицо.
Глаза — та же небесная синь, что и у сына. Кротость, мягкость, чистота сердечная сплели в них венок.
Одета боярыня очень скромно. Летник из простой камки, будто и не боярский, кика, чуть тронута мелким жемчугом по вишневому шелку. Ни запястий, ни запон дорогих. Подвески в ушах простенькие — бедная мещанка, либо крестьянка не позарится на них. Зато душа боярыни Марии — целый ларь драгоценностей: в нем схоронены жажда дать счастье и любовь ближним, огонь чарующего света, изливающего окрест ласку и добро, надежда на грядущее блаженство людей, ликующая радость, благодарение Создателю за все существующее. Красота души боярыни отражается во всех чертах ее: свет внутренний сияет из глаз, из кроткой улыбки, со всего лица.
Вышла на крыльцо встретить мальчиков. Все трое пришли вместе.
Впереди смуглый, красивый, стройный, уверенный в себе Степан; за ним — малыш-шалунок голубоглазый, дитятко веселое, жизнерадостное, Петруша, а позади них — он, любименький, дорогой-дорогой, всегда тихий, как глубокие воды озера, задумчивый, как будто печальный, Варфушка.
Братья веселы, спокойны. Он — нет.
— Матушка, матушка! — произносит Варфуша сдавленным голосом.
Дрожит как былинка, и бледен, как зимний снег.
— Варфушка, мой Варфушка, что с тобою?
Приняла боярыня сына в объятия, прижала к себе. Весь трепещет… Вербочка молодая весенняя так бьется под вихрем полевым.
— Скажи, деточка, скажи, что с тобою? — испуганно спрашивает боярыня.
Рассказывает Степа.
— Осрамился наш Варфушка! Дьяк Назарий велел псалтирь читать, — ни слова не вымолвил. Рцы за глаголь принял. Дьяк лозой наказывал. Срамота. Все ребятки смеялись. Плакал Варфушка. Больно было, — да и срамота. Петруша вон молодешенек, а куда на псалтирь горазд, боек разбирать. Не угнаться за ним Варфушке. Не угнаться. Срамота!
Кончил Степа. Черные угольки-глаза разгорелись. Гневно юное личико. Злость берет на брата. Будто он и впрямь блажной какой, в толк грамоту взять не может. Перед школой и дьяком — чистый срам.
Петрушины живые глазки опустились. Жаль ему брата. Ах, жаль!
Мать молчит. Губы молчат, сжаты, но сердце говорит, сердце кричит:
— «Бедный мой Варфушка, жалостный мой!» — и увела мальчика в задний покойчик, примыкающий к стольной гриднице, увела, обняла, обвила трепещущими руками. Целует, лелеет, ласкает.
— Успокойся, сыночек, радость моя Богоданная, желанненький мой.
Ни слова обиды, ни упрека. Сердце матери — вещун. Знает, понимает детскую скорбь. Бедный Варфушка, не легко ему, милому!
Заглянула боярыня в глаза сыну.
Глубокая тоска в померкшем сиянии. Скорбно трепещут ресницы. Темная-темная мысль под стрельчатым их навесом. И вдруг хлынули слезы. Упал на колени Варфушка, обвил ноги матери, прижался горячим личиком к прохладному позументу летника, шепчет дробно, скоро, скоро:
— Матушка, родимая, тяжко мне… век не выучусь уму-разуму, матушка; ввек не одолею грамоты… Господи, Господи, помилуй меня!.. Матушка, вели с холопами день с зари до зари трудиться… Вели сено, хлебушко убирать, вели тын чинить, ворота новые ставить, топливо из леса таскать… Что хошь, сработаю, а грамоту — не могу, не могу, матушка!..
Говорит, лепечет, а слезы так и рвутся ручьями из скорбных очей.
Плачет Варфушка, плачет боярыня Мария. Мать и сын сплелись в тесном объятии. Сердца бьются, как одно, мысли мчатся, как одна, два порыва отчаяния в один слились…
Нечем матери утешить сына. Есть одна радость у нее, одна тайна светлая, которая дает ей надежду на счастье ее ребенка, но рано еще, рано сказать ее мальчику. Молод он еще, этот отрок синеглазый, не поймет. А тайна эта вот уже семь лет, как согревающий душу пламень, как сокровище, как клад, носит в сердце боярыня. Прекрасна эта тайна. И немногие люди носят такую в душе.
Вспомнила о ней теперь, прижала снова к груди ребенка, гладит рукою лен золотистых кудрей, а сердце такое большое, такое горячее, так и рвется к нему, полное любви.
Почти что успокоился Варфоломей под обаянием материнской ласки.
— Не серчай, любимая, — шепчет чуть слышно.
— Я… не серчать?.. — Да што ты, окстись, детушко, да я…
Не пришлось закончить слова боярыне Марии.
Широко распахнулись двери покойчика, куда она скрылась с сыном. Вошел кто-то, стал на пороге.
Подняли глаза в раз мать и сын.
— Батюшка!
Боярин Кирилл стоял на пороге.
Еще молод, а уже легкая седина пробивается в темных волосах и кудрявой бородке. Не мудрено. Ближний ведь он боярин князя Ростовского. А Ростов — со дня татарского нашествия десяток десятков лет — многострадальный город. Всею тяжестью обрушилось на него иго татарское. Сколько крови христианской было пролито в нем. Теперь данью обложен. Хозяйничают ханские баскаки. Легко ли видеть, как сборщики дани истязают народ. Звери они, звери лютые. Когда бы мог только боярин, когда бы мог пособить своему князю. Но ничему нельзя пособить, ничего не по делать — Русь слаба. Удельные князья ослабли, распря идет между ними. Не одолеть хана, не сплотясь дружно всем вместе. Вот почему печально лицо боярина Кирилла, благородное, умное, доброе лицо с мягким взором черных очей, смелых и грустных в одно время.
Сейчас оно неспокойно, это смугловатое лицо. Из-под окола шапки смотрят тревожно хмурые, словно подернутые тучами темного неба глаза. Загорелая рабочая в мозолях рука (боярин Кирилл, не глядя на свое высокое положение, усердно разделяет труды в поле и дома со своей челядью), беспокойно перебирает край кафтана.
— Что случилось, Маша?.. Варфушка! О чем плачете?
Голос у боярина мягкий, певучий, бархатный.
Рассказывает Мария о бессилии Варфушки одолеть грамоту, о горе ребенка.
Печальнее делается лицо отца.
— Эх, Варфоломей, Варфоломей! — с укором роняет боярин, — не на радость нам это, сынушка! Не тешишь ты нашего сердца… не усердствуешь.
Махнул рукой и потупился скорбно.
Молчание.
Вдруг вздрогнул надломленный голосок.
— Усердствую, батюшка, да Господь, видно, отвернулся от меня. Ничего не выходит…
Переглянулись муж и жена.
Господь отвернулся! От него-то, от маленького, от кроткого и ясного, как незабудка в лесу. А что же «тайна»? Тайна показывает, что Варфушка любимый Богом, что Варфушка особенное дитя, отмеченное судьбой… Ах, скорее бы, скорее бы подрос он, скорее бы поведать ему тайну, милому отроку, незабудке лесной.
Жалость к сыну прокралась в сердце боярина Кирилла… Взглянул и добро улыбнулся мальчику.
— Полно горевать, малыш! Одолеешь, Господь даст, склады, а дале и не надо. Бог с тобою. Не в дядьки приказные ладим тебя отдать. Есть живность у нас, есть вотчинка! Проживешь, волей Божией, безбедно. А я не о том грущу. Поруха у нас, — кони пропали.
— Кони!
Испуг выразился в лице Марии. Передался и мальчику.
— Какие кони?
— Жеребята! Не доглядел, видно, челядинец! Со двора ушли. В поле рыщут, либо в лесу. Холопы все на работе. Некого послать. Степу ладил, да он тоже на работу с челядью отпросился. А жеребята уйдут. Жалко! Не дай Господь попадут татарам здешним Ростовским, сейчас прирежут — любят конину пуще всего басурманы. Жалко коньков. Славные жеребчики.
— И то жалко, — вздохнула Мария.
— Тятя, а, тятя! Отпусти меня в поле… Поищу жеребят.
Голос Варфоломея снова чист и звонок, как хрустальный ручей в лесу. Недавнего горя будто и не бывало. Глаза блещут. Снова золотое в них сияние дальней звезды. Весь загорался мальчик. Дышит слышно, возбужденно.
— В поле! Один! Наедине с цветиками, с былинками, с птахами пернатыми буду, под голубым шатром безоблачного неба, — неслышно, беззвучно кричит, ликует маленькое сердце ребенка.
Отец улыбается. Мать тоже.
— Скажи, Варфушка, нешто сладко быть одному?
— Сладко, батя… сладко, мама родимая!
— Ступай со Христом, желанненький… Господь даст, приведешь коней.
— Приведу!
Весь вспыхнул от счастья мальчик. Весь пылает. Очи пылают, щеки, прекрасное, милое лицо. Радость какая! Один опять!.. Можно думать, мечтать!..
Выбежал спешно. Торопится, как на праздник. Улыбаются синие глаза. Сыплют искры. Уста только сомкнуты и не знают улыбки.
— Иду! Иду!
Подпоясался. Одернул рубашонку. Шапки не взял — не надо. Кафтан — не надо. В поле, в поле, в милое, зеленое, к опушке лесной!.. Скорее, скорее!..
Видение отроку Варфоломею.
Картина М. С. Нестерова.
IV
ПОЛЕ. Зеленое море с серебристою зыбью. Вдали, как островок, рощица. Вокруг все цветы. Ромашка белая с золотым сердечком, медовая кашка, алая, лиловатая, желтенькая. Дикие колокольчики — воздушные, тихие, только не звенят. Тмин душистый, пряный, хмелевой словно, горделиво тянется к высям. Не дотянешься! Куда тебе, смирись… Зеленая лебедушка, травушка-муравушка, коврик пушистый матери-земли. Сарафан изумрудный черноземной кормилицы пестрит весь, залитый солнцем. Серебряные змейки, лучи золотые, сказка алмазная далеких миров, все сливается, все сплетается, все дробится и горит, и горит, и горит.
Море солнца и море зелени… Море гомона полевого, птичьих писков, птичьих криков и пения, пения. Поют пташки, поют стрекозы, легкокрылые духи земных полей. Мышка-норышка выбежала полевая, бархатная шубенка на ней серая, сама точно боярыня. Все заманчиво, всюду жизнь…
Кони, вот они, кони!.. Не ушли далеко. Путаются перед опушкой рощицы в длинных поводах.
— Ах, вы этакие, постойте!
В три прыжка настиг их Варфушка. Подхватил длинный повод, закрутил к березке тоненькой, гибкой, белоствольной. Привязал.
— Не уйдете теперь, голубчики, попаситесь в тени! А ужо приду перед заходом солнышка, уведу домой, — и гнеденького Живчика, и вороного Воронца, и белого, как одуванчик, Лебедушку, — всех уведу, а пока паситесь со Христом на свежей муравушке, я же поваляюсь вот тут.
И, как подкошенный стебелек, склонился Варфушка на земной мягкий ковер трав и былинок.
Упал на землю… Смотрит восторженно, любуется синими озерами небес наверху, изумрудным морем трав вокруг него.
Букашки ползают, милые малые букашки. Кузнечик зеленый трещит, славный зеленый кузнечик. Червячок ползет, гусеничка. Всех их понимает мыслями и сердцем ребенок. Может рассказать про их жизнь, про бытие их несложное, а грамоту не может постичь. Ох, уж эта грамота! Пошто наказуешь, Господи?
Яркая радость мгновенно омрачается. Горячо любит природу Варфоломей, любит уйти, зарыться в высокие травы, дышать ароматом цветов, восторгаться вснм тем, что создано руками Великого. А вспомнил про грамоту, про дьяка Назария, про хлесткую лозу-указку, про жгучий стыд и… исчезла радость, омрачена душа.
Пошто, Господи? Он ли, Варфоломей, не старается, не усердствует, он ли не бьется над книжной премудростью? Ах, тоска, тоска!
Словно потемнело небо, осипли голоса птиц, потускнели крылья кузнечиков, не пронизываемые больше лучами солнца. Ах, Господи!
Гнет, не детский, печальный, повис над золотой кудрявой головкой. Поднялся Варфоломей тяжело, точно старик.
Встал. Идет за жеребятами, чтобы увести их домой, в усадьбу. Не любо и самому больше в поле. Обида и горечь охватили его, как урок нонешний ему вспомнился. Не любо и в поле больше желанненьком.
Вдруг… Кто это?
Остановился Варфушка, как вкопанный, даже ноги дрогнули. Легонько от неожиданности закружилась голова.
Кто это?
Дуб перед ним. Начало опушки крохотной рощицы. Зеленая мохнатая шапка ветвей, пронизанная лучами, вся кружевная будто, вся словно ликующая. У ствола дерева могучего стоит человек. Высокий седовласый старик странного вида. Светлое лицо под клобуком монашеским, мантия темная, взор, проникающий в душу. Дивные очи — кроткие и жуткие в одно и то же время, они подняты к небу. Уста блеклые, уста подвижника, постника. Они шепчут что-то. Видно молится. В небеса ушел взор.
Варфушка стоит, как вкопанный… Откуда взялся неведомый старец под дубом? Когда привязывал жеребят, его не было здесь. Полно, не сон ли это? Поднялась загорелая ручонка Варфушки, по лицу проводит, трогает себя за лоб мальчик… Не спит ли, не грезит ли, не уснул ли ненароком? Нет, не сон и не греза. Явь — это, и поле, и солнце, и светлый, дивный лицом, молящийся под дубом монах-пресвитер.
Кто он? Откуда? Не видал Варфушка такого священника ни в соседнем селе, ни в ростовских храмах, куда усердно ездили они всей семьей.
Кто же?
Старец молился, не видя приблизившегося к нему мальчика… Вдохновенно поднятый к небу взор сверкал слезами. Уста шептали. Худые, высохшие руки сжимались, переплетаясь тонкими пальцами. Струились по лицу слезы. Горячая, пламенная, точно не здешняя, была та молитва.
«О чем он? — опять толкнулась острая мысль в детскую головенку Варфушки, — о чем молится так? Чего просит?»
И вдруг что-то словно ударило по сердцу мальчика. Такая молитва не может не дойти до Господа. Такая молитва — свеча Божия, светильник, зажженный перед Его алтарем. «Попрошу незнакомого батюшку-пресвитера: пусть помолится за меня также пламенно, чтобы дал мне силы Господь постичь, понять грамоту, чтобы просветил мой мозг, умудрил мою мысль. Попрошу батюшку!»
Ждет Варфушка. Сейчас кончит молиться пресвитер. Тогда и подойдет к нему, попросить. Робко, как милости, попросит его пламенной молитвы за него, за неразумного, маленького Варфушку. Ждет, затаив дыхание. Теперь уже скоро, скоро…
— Аминь! — прошептали старческие бледные уста.
— Аминь! И «Аминь» еще раз.
Кончил дивный старик. Опустил глаза. Замер на минутку. Потом вскинул их снова на мальчика.
— Что тебе, отрок, надобно? Говори, малый!
Ах, как чист и хрустален звук голоса старого незнакомца!.. Лицо бледное, борода седая, а голос молодой, свежий. Ангельский голос. Не слыхал еще такого Варфушка на земле…
Затрепетал весь от самому непонятной какой-то радости. Заалелось румянцем детское лицо.
— Батюшка, батюшка! Добрый, ласковый! Помолись за меня, батюшка. Грамоту не пойму, псалтири не одолеть, и Четьи Минеи тоже… Никакой премудрости вообще книжной… Обижен я памятью… Помоги мне, отче!
Взглянул пресвитер светло и ясно. Положил руку сухую, легкую, как воздух, на кудрявую головку ребенка; улыбнулся прекрасной, как весеннее небо, улыбкой.
— Помолимся вместе, отрок… Господь милостив к детям. На них Его благословение… Встань подле, преклони колени. Помолимся вместе…
Покорно опустился на колени Варфушка. Дивный старик — рядом.
Незнакомец зашептал молитву. Зашептал за ним и Варфушка. Варфушка совсем особенно молиться умеет. Для Варфушки молитва — радость, неземной восторг, порыв вдохновения. Всем своим существом уходит он в молитву. С детства раннего у него это, с тех пор, как помнит себя, на молитву становится, как бы словно на праздник идет. Бог для Варфушки — Друг первый, невидимый Друг и Повелитель милостивый. Служить Ему всю жизнь, служить и трудиться. Для Него, ради Него трудиться, за всех людей, больше всех. Ведь Сын Его трудился, был плотником, стругал бревна с Иосифом, нареченным отцом, а он, Варфушка, разве он лучше Единого, чтобы не работать до пота лица. Трудиться за близких, за дальних, за весь мир — вот что грезилось с младенческих лет Варфушке. Трудиться, помогать на дому, по усадьбе старшим, отцу с матерью, челяди, как равный равному, холопу-наемнику, либо своему крепостному, — вот что освещало ясным светом сердце ребенка. Только один труд не давался: грамота, премудрость книжная. Вот и молится он теперь: «Помоги, Господи, одолеть ее! Великий Хозяин мира, взгляни, смилуйся над маленьким Твоим рабом!»
Так молится Варфушка, молится, как никогда. Горячо, страстно, весь — вдохновенный порыв, весь — горящее пламя перед Господом.
— Помоги, Всесильный! Помоги отроку… Ты любишь детей…
И старик молится. Оба слились в одном общем желании — и пресвитер, и ребенок.
— Аминь! — произнес незнакомец и повернул к мальчику лицо.
Странный свет разлился по лицу старца. Точно солнце осветило его преобразившиеся черты. Лучились глаза, лучился каждый изгиб сияющего лица.
— Кто он? — вихрем пронеслось снова в мыслях ребенка. — Почему такая радость во всем его существе?
Сухая, белая, как алебастр, рука священника спряталась на мгновение в широких складках ризы. Снова забелелась… Пальцы крепко сжимают крошечный ларчик. Открыта крышка… Взглянул Варфоломей: на дне ларчика махонький кусок просфоры.
Тонкие пальцы пресвитера бережно вынули кусочек, поднесли к губам ошеломленного от неожиданности мальчика, положили в рот…
Сказал: — «Возьми, съешь это, мальчик! Мала частица эта, но великую силу примешь с нею. В ней знамение Божие и благодать».
Что-то странное свершилось в тот же миг с мальчиком. Слаще меда показалась ему принятая от старца часть просфоры. Слезы загорались в синем взоре, губы прошептали и не губы точно, а кто-то иной, неведомый, вложил эти слова в уста Варфоломея:
— Не об этом ли сказано в псалмах: коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим и душа моя возлюби я зело.
Странно и остро взглянул незнакомец на мальчика, и жгучим пламенем прожег Варфушку этот взгляд. Испуганно поднялись глаза ребенка. Смел ли он применить слова священного псалма, псалма, которому выучила его, вместе с другими, ласковая матушка?
Но взор священника уже пылал лас¬кой. Рука снова легла на кудрявую головку мальчика.
— Если веруешь, дитя, — сказал ему таинственный незнакомец, — еще больше узнаешь. Не грусти о грамоте. Знай, Господь Милосердный даст тебе книжное разумение более, чем всем товарищам твоим.
Благословил ребенка и замолк. Потом кивнул ему головою, стал тихо отходить от дуба. И светлая радость вместе с дивным священником стала отходить от Варфушки. Потемнела мысль, дрогнуло сердце. Страшно, больно, тяжело сделалось вдруг отпустить от себя чудного незнакомца. Удержать бы еще хоть немного, упросить повременить, хоть малость времени…
Метнулся вперед Варфоломей, протянул руки, зашептал с мольбою:
— Останься, батюшка, останься малость! Зайди к нам. Осчастливь отца, матушку, родимых. Не побрезгуй на хлебе-соли нашем, не откажи в усадьбу заглянуть. Всем нашим радость великую доставишь. Не лиши их своего благословения.
Говорит, а сам дрожит, как в лихорадке. Синие глаза — мольба. Алые тонкие губки — просьба, горячая, чистая просьба.
— Зайди, зайди!
Кивнул головою старик.
— Ладно, будь по-твоему! Веди меня к дому, отрок.
Не помня себя от радости, бросился вперед Варфушка. Указывает дорогу.
— Сюда, сюда! По зеленому полю, по мягкой сочной траве!
Старик идет быстро, как молодой, едва касаясь земли ногами. Будто невидимые крылья несут его. И в сотый раз рождается упорная мысль в головке Варфоломея:
«Кто он? Кто он, этот странный, диковинный старик?»
V
ПОЛДЕНЬ. Первый час в начале. Солнышко еще выше поднялось и палит жарче. В стольной гриднице, вокруг дубового стола собралась вся семья к полднику. Сам боярин Кирилл, боярыня-хозяйка, дети. За столом сидят и хо¬лопы. Так уже заведено. Именит, знатен Ростовский боярин, а челядь за одним столом с собою садит. «Все, говорит, перед Богом равны; нет у него, Милостивого, ни господ, ни рабов». Здесь сидят и странники — богомолы и богомолки. Таких много у Иванчиных в усадьбе. Гостят подолгу. Всем им готов здесь приют. И полдничают, и ужинают все вместе. Полдник скромный. Сегодня среда, постный день, и подано лишь варево да каша с имбирем, оладьи с медом, кисель и квасы. Вместо браги, олуя (род пива) да хмельных медов, всегда за боярским столом подается квас малиновый, пшеничный да имбирный. Прислуживает всем сама хозяйка. Потчует всех ровно, без чина: холопа, так холопа, мужа, сына, не разбирая, всех за одно. Помогает боярыне Марии невысокая девочка по одиннадцатому году — сиротка Аннушка, с младенчества принятая в дом. Без рода она, без племени. Нашли в Ростове, принесли с улицы. Говорили люди ростовские, что ее отец замучен был татарами в орде, вместе со многими другими, а мать умерла с горя. Девочка — хорошенькая. Только грустная, томная, с карими печальными глазками. Коса у нее длинная, по пояс. В косу алая лента вплетена. Летник простенький из камки голубой. Девичий венец на милой головке не горит камнями самоцветными, а скромно шелком расшит. Аннушка вся тоненькая, как былиночка, как птичка воздушная. Глядишь на нее и думаешь: вот сейчас улетит.
А рядом с шестилетним Петрушей другая девочка: годиков пять, а то и меньше на вид. Это Катя, дочь служилого боярина, тоже при Ростовском князе. Отец ее — богатый человек, вдовый. Некому воспитывать дома Катю. Отцу недосуг, на мамок и нянюшек положиться не охота. А бояр Иванчиных знает Катин родитель давно, и их доброту, добродетельную жизнь и милостивое, кроткое ко всем отношение. Вот и отпускает отец гостить Катюшу в усадьбу боярина Кирилла, под матерински заботливое крылышко боярыни Марии. Без страха отпускает. Всему хорошему и доброму обучится там девочка. К тому же давно сговорился отец Кати с боярином Кириллом. Давно у них такое дело улажено: маленький шестилетний Петруша с трехлетнего возраста сговорен с Катей. Когда подрастут — поженятся. Так часто велось на Руси. Детей просватывали уже с младенчества, а когда они подрастали, делались мужем и женой. Так и Петруша был издавна определен в мужья крошке Катеринушке.
Катя — веселая, голубоглазенькая. Минуты не посидит спокойно. То за рукав Петрушку дернет, то зашепчет что-нибудь веселое, смешное; умереть — расхохотаться Пете хочется. Уж старая мамушка, выняньчившая всех троих сыновей боярина, раз пять строго вскидывает глазами на баловницу. Да и сама боярыня два раза подходила к Кате и шептала тихонько:
— Грешно, милая, шалить за трапезой. Господь не любит…
На минутку стихала Катя, а потом опять забывалась, шалила, дразнила Петю, шутила и дурачилась под шумок. Такая баловница, живчик, непоседа. Боярин сидел на своем обычном месте под образами. По правую руку от него Степа. Черные его глаза сурово косились то и дело на дверь горницы. Будто поджидал кого-то и беспокоился.
— Варфоломея не видать! Неужто не нашел жеребят по сию пору?
Сказал и молчит. Ждет, что ответят старшие.
Отец чуть нахмурился. Мать вздохнула.
— Замешкался в поле Варфушка. Любит он один-одинешенек побывать на лужке и в роще. Пусть потешит себя дитятко.
— Не случилось бы чего, — произнесла тихо Анна и потупила глаза.
Она за всех печальница. Тревожится за каждого, кто не дома. Тихая, кроткая, как голубка, нежная ко всем, как маленькая мать.
И опять заговорил Степа.
— Балуется, небось! И думать забыл, что время полдничать.
— Он, Варфушка, балуется? Окстись, дитятко, да нешто он баловал когда, Варфоломей?
И печальной укоризной метнули на старшего сына глаза Марии.
Вдруг засуетилась, заволновалась Катюша. Глянула через стол в окно один, другой, третий раз, всплеснула ручками и ликующе закричала на всю горницу:
— Идет он, идет Варфушка! И с ним дедушка седенький, батя чужой!..
Оглянулись на двор сквозь окна, видят: идет высокий, статный, с седою бородою инок-священник, а об руку с ним Варфоломей.
— И впрямь гостя к нам ведет сынок. Поспешаем навстречу, жена! — произнес боярин Кирилл и первый бросился на крыльцо.
За ним Мария, Аннушка, Степа, веселые ребятки Петруша с Катеринушкой.
Мария в пояс поклонилась гостю. Ударил ему челом и боярин Кирилл:
— Просим милости, зайди к нам, отче! Не побрезгуй на угощенье. Наш хлеб и соль попробуй. Не обессудь, зайди. Трапеза на столе, — со Христом отведай.
Наклонил голову старик.
— Войду, спасибо, добрые хозяева!
Потом улыбнулся. Странная и дивная была у него улыбка. Будто тихий светлый Серафим небесный пролетел близко и озарил все таинственным сияшем своих воздушных крыльев.
Пошел вперед старик. Высокий, статный, юношески легкий на ходу. Все за ним следом. Варфоломей, чуть отступя, первый, ближе всех к нему, с сияющим, одухотворенным радостью лицом. Весь говорит точно:
— «Господи, что за доброго, светлого, ласкового гостя привело к нам!»
Вошел в гридницу старик. Истово и долго молился на иконы, благословил трапезу, присутствующих, потом обернулся лицом к хозяевам и сказал:
— Прежде следует вкусить духовной пищи! Проведите меня в молельню. А ты, отрок, возьми псалтирь и прочти нам псалом 118 Давида Псалмопевца Господня. Ступай вперед!
Вздрогнул, смутился Варфушка. Почудилось в первую минуту, что не понял он старика.
Читать ему, Варфоломею, когда он едва, едва аз-буки-веди различать умеет? Ему читать псалом?
Ах, Господи Милостивый, стыд то какой великий! При всем доме, при родителях, при странниках, при челяди придется ему, Варфушке, показать свое неумение. Весь вспыхнул мальчик, как зарево. Смятенно потемнели синие глаза. Робкая испуганная просьба таится за устами, не смея выйти наружу.
— Прости, избавь, отче… Избавь…
Но светло и настойчиво глядят на него горячие, как у юноши, молодые глаза пресвитера. Повелевают эти глаза. Повелевает и голос старца.
— Возьми псалтирь и читай!
Нет выхода, нет спасения…
Лежит на аналое псалтирь в бархатной покрышке, с застежками золотыми, украшенными камнями самоцветными, сапфирами и янтарем, со стен молельни глядят знакомые суровые лики Святых, знакомые образа, складни, кивоты. Перед каждым на золотом гайтане, либо на серебряных цепках висят хрустальные лампады. Синие, красные, желтые они кажутся красивыми пышными цветами с горящими огоньком сердцевинами. Огоньки-сердцевинки бросают свет на черты Божиих Угодников, и на тот чистый, прекрасный младенческий лик Предвечного, Кто покоится на коленях Матери Своей. Знакома, дорога Варфушке родная обстановка молельни. Аромат ладана смешивается с запахом талого ярого воска, что капает с желтых свечей. Знакомый запах. Сколько раз распростиралось здесь маленькое тельце Варфоломея, на этом полу, крытом стареньким ковром. Сколько раз он молился здесь со слезами, прося Бога и всех Угодников Святых помочь ему, Варфушке, одолеть грамоту.
И вот, сейчас он опять здесь… Не один. Маленькая молельня набилась народом. Душно, жарко стало, как в бане… В пламени лампад и свечей взволнованнее, значительнее кажутся лица присутствующих. Затаив дыхание ждут все чего-то. И мать, и отец, и тихая-тихая, печальная Анна, и смуглый красивенький, быстрый, как лесной заяц, Степа, и челядь, и странники со странницами, — все ждут… Знает Варфуша, чего ждут присутствующие: услыхать слова священного псалма, услыхать, как робко и сбивчиво будет путать святые строфы он, нерадивый, несмышленый чтец.
Еще раз тревожно вскинул Варфушка синими звездочками глаз на пресвитера, без слов молит, одним только взглядом:
— Отпусти, отче!
И в ответ настойчивое, но ласковое:
— Читай…
Робко взмахнулись детские стрельчатые ресницы… Опустились на открытую страницу синие глаза.
Знакомая, хитросплетенная пестрая славянская вязь… Неведомые черточки, кружки, ломаные линии, целое ожерелье, из темного жемчуга низанное.
Смотрит на длинные, страшные по своей для него замкнутости, строки Варфушка и холодеет детское сердечко. Что ему делать, как прочесть?
А лицо пылает, как пламя, залитое румянцем стыда и испуга. Дрожит весь, как бедный маленький стебелек.
Вдруг… Что это? О, Господи, Господи!
Слаще меда стало в устах мальчика. Чем-то неведомым пахнуло ему в лицо… Светлый, светлый, лучезарный поток влился в его голову, осветил мысль, пробудил память… Как будто темная завеса спала с пылающего мозга Варфоломея, загорелись глаза, забилось сердце. И сладкий восторг охватил его… Точно неведомые крылья выросли у него за спиною, точно свет взора Господня осенил его. Губы раскрылись… и звонкий голос прочел без запинки, бегло и чисто, как плавное течение реки, полными сочными бестрепетными звуками:
«Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим…»
Прочел с того самого места, на которое указал ему пальцем дивный старик.
И дальше читал, словно лился по руслу хрустальным потоком:
«От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидех всяк путь неправды».
Что-то неведомое творилось с Варфушкой: чудная сверхъестественная сила несла его, как на крыльях, все дальше и дальше… Безмолвие, тишина царили в молельне, а мальчик все читал. Читал псалом чисто и прекрасно, как вряд ли сумел бы его прочесть лучший грамотей-дьяк — начетчик тех отдаленных времен. Голосок звучал красиво, дробно, как родник в заповедной чаще, как щебет малиновки в лесу, как Божий дождик пронизанный солнцем, в ясную летнюю грибную пору.
Закончил псалом. Совсем уже тихо стало в молельне… Десятки грудей дышат бурно, глубоко, да десятки пар глаз вперены в Варфушку.
Вдруг легкий крик вырвался из груди Марии:
— Чудо! Чудо! Чудо свершилось, сынок богоданный, над тобою!..
И упала на пол, и рыдала, и громко благодарила Бога, и славила его за свершившееся чудо счастливая мать.
Потрясенные, затихшие стояли в молельне люди. Смотрели на незнакомца, на светлое лицо старца. Догадывались испуганные и радостно потрясенные за свою догадку, что не простой он пресвитер-старец, что не обыкновенный смертный умудрил разум Варфушки.
— Кто он? Великий ли чародей, либо…
А гость спокойно, как и раньше, говорит, точно не замечая общего волнения:
— В трапезную идем! Побуду у вас еще малость…
Бросились провожать его. Служили ему, не смея поднять на него глаза.
За столом вкушал старик мало. Похвалил Варфушку за то, что тот свято блюдет посты. Мария робко поведала гостю, что необыкновенным, странным растет у нее Варфушка ребенком. На братьев не похож. Все уединяется, либо работает, либо молится, горячо молится. Мяса не кушает, ни меда, ни вина, ни сластей. А по средам, пятницам и в кануны великих праздников только и ест, что хлебушко с водой.
Смущался от рассказов матери Варфушка. Ведь про него говорилось, его хвалили. Стыдно и хорошо.
Старик кончил трапезу, подозвал мальчика, снова гладит его по голове, по золотистым льняным кудрям, поднял глаза кверху, светлые, как бы прозрачные, молодые глаза. В них отражалось небо. И сияние солнца было в них. Встал, вытянулся во весь свой высокий рост, протянул вперед свободную руку и сказал, не спуская другой руки с головы мальчика, вдохновенно и властно:
— Отрок этот будет некогда обителью Пресвятой Троицы; многих приведет за собою к уразумению Божественных заповедей. Знайте, что велик будет сын ваш перед Богом и людьми!
Сильно, пророчески прозвучал его голос. Мощью и чем-то неземным повеяло от всей величавой фигуры старика.
— Велик перед людьми и Богом!.. — эхом отозвалось в груди родителей Варфоломея.
Острая, сладкая, восторженная радость заполнила их сердца.
Мария опомнилась первая. Пришла в себя от неслыханной радости, бросилась к старцу, а он уже направлял свои шаги из трапезной. Шел по гридницам назад своей легкой и быстрой походкой юноши…
Кирилл, Мария, дети бросились за ним, провожали на крыльцо, по двору, за ворота усадьбы, в поле.
Шел впереди старик. Остальные за ним толпою. Вдруг… Остановились, как вкопанные… Низко, низко над землею пронеслось не то облако, не то туман. Набежало, затемнило взоры. Потом рассеялось, легкое, воздушное…
Оглянулись… Где чудесный старик? Не было его… исчез. Исчез, как сон, как видение. На том месте, где стоял он — одна пустота.
Мгновенно поняли тогда все сразу… Поняли, затрепетали, переглянулись между собою…
Боярин Кирилл обнял Варфушку, и слезы залили его лицо, его начинавшую седеть бороду.
— Сынушка, сынушка! — прозвенел восторженно его срывающийся голос, — то Ангел Господень был между нами. Тебе, наш желанный, принес Он Божью благодать…
— Ангел Господень! — в смятении и счастьи прошептала Мария, — Сам Ангел Господень благословил Варфушку, — и, рыдая, обвила руками кудрявую головку сына.
Сиял Варфушка. Восторженно, радостно горело все его существо. О, как счастлив он! Сам Ангел Господень умудрил его, научил понимать грамоту, отметил его.
Рвалось от сладкой радости сердце ребенка… Уйти бы, убежать куда-нибудь сейчас же, сию минуту, плакать, молиться, рыдать. Богу Всесильному, Другу Единому всего живого отдать себя без изъятия… До кровавого пота трудиться, отработать всем существом за этот дивный, нежданный подарок Его.
— Радость! Радость!
Поднял глаза в небо Варфоломей: солнце, лазурная улыбка небес, легкий полет облаков — высоких думок. Как хорошо! Так же хорошо, как и вчера, но еще лучше, лучше…
И на сердце лучше, легко на сердце; без тучек, без забот. Умерли тревоги, тьма прояснилась. Даровал Господь. Взял, вынес из сердца единственное горе, помог одолеть грамоту Великий. Благодарит Тебя ничтожный маленький Варфушка.
Юность Преподобного Сергия.
Картина М. В. Нестерова, находящаяся в Третьяковской галерее в Москве.
VI
ГОДЫ идут. Нижутся быстро дни за днями, как зерна неведомых ожерелий. Бусина к бусине, зерно к зерну. Годы тяжелые для русской земли. Плачет Русь, тоскует, как молодая мать по умершем ребенке. Мать-кормилица — Русь, ребенок умерший — умершая воля, свобода и благополучие ее.
Забыты по дальности лучшие, светлые времена. Тяжко, мрачно, темно и печально. Потоки крови, стоны, вопли невинно замученных, загубленных людей… Нехристи-басурмане затоптали, истерзали, загубили когда-то счастливую славную, могучую Русь. Платила она дань монголам. Монгол давил ее игом. Князья ездили в орду. Там сидел хан-царь, желтый идол, важный, неподвижный, точно из бронзы вылитый, но живой человек — властелин орды, властелин Руси, властелин многих покоренных земель. Перед ним распростирались во прахе побежденные, покоренные князья Руси. Проходили сквозь очистительное пламя двух костров по приказанию хана, падали перед живым истуканом-властителем на колени, целовали смуглую, хищную, всю в перстнях руку, придавившую волю Руси сильной ладонью. Пресмыкаясь во прахе, возили дань, дары возили хану, ханшам, детям ханским, баскакам, телохранителям, всем чиновникам ханской ставки. Был милостив к щедрым хан. Не разорял их земель, но был грозен и страшен, как сатана, когда не ублажали его дарами и поклонением, не льстили, не падали ниц перед ним. Гордых, не искавших ханской ласки, велел казнить, мучить, жечь огнем, засекать на смерть.
Туча грозная обложила Русь. Алые реки крови текли и излучивались во всех направлениях. От стонов дрожала земля. Дрожал и Ростов. Но не только от татарского ига и обложения данью страдал Ростов.
На Москве в то время княжил Иван Калита. Власть себе он взял большую. Распоряжался удельными князьями, как собственными слугами. Потихонечку да полегонечку расширял границы Москвы, которую он же и основал. Он и выбрал себе ее местом жительства.
Были две дочери у Калиты. Одну отдал он за Ярославского князя, другую за Константина Васильевича Ростовского. Стал все крепче и крепче втираться в дела уделов зятей. Особенно Ростовский удел облюбовал князь Московский. Послал туда московских вельмож Василия Кочеву, по прозванию, и Мина. Предписал им, как надо вести Ростовские дела, помимо удельного князя. Князь в орду ездил в ту пору на поклоны к хану. В Ростове в это время распоряжались Кочева и Мин. Жителей притесняли, отнимали у них имущество, казну, будто для хана, будто дани ради.
Беднел Ростов, нищал и падал. Стонал и плакал славный город, храбро отбивавший когда-то нашествие монгольское и с честью павший. Теперь он без боя, покорно, падал под ударами своих же русских хищников.
А годы все шли…
В усадьбе Иванчиных, бояр Ростовских, поднялись тополи и липы, стали старше молодые гибкие березки. Разросся за тыном крыжовник в целый лес. Природа украсилась: из стройной девушки превратилась в пышную красавицу, чадолюбивую мать.
Усадьба же покосилась, потемнела, победнела как-то… Ворота сквозят щелями, поломано бревно на заборе. Крыша свесилась на сторону. Рундук крылечка жалобно скрипит от ветхости. Надо новые хоромы строить, а возможности нет: ни казны нет, ни живности… В сараях, как раньше, не мычат коровы, не блеют овцы. В конюшне не играют, как бывало, веселые, кареглазые жеребята. Один Гнедко да еще старый Вороной стоят понурые в конюшне. Одна коровушка Белуша уныло жует жвачку у себя в сарайчике.
Куры одиноко бродят по двору, но уже не видать там ни серых утиц, ни чопорных гусынь…
Страшная рать Туралыка бурным потоком пронеслась над Русью. Опустошил ее новый монгольский властелин. Пострадал и Ростов заодно с другими городами… Чисто обирали дань с Ростовских жителей ханские баскаки. Разоряли русских людей. А тут еще Московские вельможи подбавляли жару: утягивали добрую толику и для своей мошны.
Беднела усадьба Иванчиных.
Боярин Кирилл проводил большую часть времени с молодым князем Ростовским в Орде, либо в городе. Служил Константину, как и предшественнику его, верой и правдой. На усадьбе хлопотала боярыня Мария и дети. Челядь отпустили, остались всего два-три холопа. Других всех было бы не прокормить. Нужда заглянула в очи, нужда, костлявая, злобная старуха, родная сестра болезни, дочь смерти. Жестокая нужда.
* * *
Утро. Холодок предсолнечный смягчается уже близостью золотой ласки грядущего светила. Птицы громко чирикают в кустах, птицы-хлопотуньи, Божьи детки, серые посланнички воздушных морей, вольного царства ликующей свободы.
В молельне у аналоя стоит Варфушка. Окно открыто настежь. Струйка чистого, утреннего воздуха врывается, ласкает, чуть колышет пламя лампад.
Варфушка молится. Варфушка не тот уже, что раньше. Вырос, поднялся, стал сильный, гибкий, стройненький, как молодой тополек. Исчезли нежная округлость щек и румянец, Побледнел, хоть и здоров. Загорелая смуглость золотистым налетом красит лицо, а глаза синие ушли в себя, во внутрь души и в них таится новая замкнутая мысль. Пришла эта мысль и заперлась в золотистой головушки, незримая для всех, но прекрасная как царь-девица-красавица в высоком терему.
Двенадцать лет Варфушке. Годами он ребенок, отрок, но душой и мыслями — юноша. Молится жарко. Всю ночь молится нынче. Два раза в седмицу так молится он всенощно — по пятницам и по средам. Ничего не ест в эти дни, кроме воды и хлеба. В другие — постную только пищу: рыбу, похлебку, уху, пшено, пироги с капустой. А мяса ни-ни. В рот не берет мяса. Странный он, Варфушка. Был диковинный ум и раньше, в детстве, а теперь, с той поры как встретился с чудесным пресвитером, как случилось с ним диво, как внезапно пробудилась в нем память, разумение к книжной мудрости и способность к чтению, — стал еще более странным. Молиться горячее стал, читает много, жадно, священное писание, житие преподобных Киево-Печерских Отцов, Апостольские деяния и мечтает. Мечтает о подвиге… Уйти, удалиться от мира, в лес куда-либо, в чащу, подалее… Молиться за людей, трудиться за людей, Бога радовать молитвой и трудом. Рубить столетние дубы, из них строить людям гридницы, чтобы от татар-басурман укрываться. Таскать бревна на своей спине из леса до деревень, до сел. И воду и топливо. А к ночи снова в лес, в чащу. Там, на зеленой мураве, а то и на снегу студеном, на коленях, за них, за всех страдающих, угнетенных молиться Хозяину Мира. Облегчить бы им горе и нужды, помочь перенести страдания, до пота лица молиться.
Варфушка на молитве.
А пока…
Упал на пол молельни Варфушка, разметал руки, замер.
— Боже Всесильный! — шепчет, — помоги! Помоги матушке с батюшкой одолеть нужду, не пасть духом. Помоги несчастным ростовским горожанам, и всей Руси многотерпеливой. Помоги всем страдающим и бедным! Помоги всем людям, нуждающимся в помощи Твоей!
Пышно раскрылся алый цветок Варфушкина сердца, запламенела душа, загорелась мысль. Солнце пронизало ее всю. Все вены, все жилки, все дыхание, вздох и движение каждое трепетали молитвой. Будто поток вдохновенный, волна накатилась, закружила и понесла. Драгоценный порыв. Весь — цепенение сладкое, страстный вопль любви к Богу…
В сердце мальчика сладким, ярким пламенем горела молитва. Жил и не жил Варфушка в эти мгновения. Жила душа, жила мысль, жило вдохновенное сердце, но тело не чуялось. Оно отделилось. Варфушка словно летал на крыльях своей молитвы…
* * *
Стук. Легкий, чуть слышный стук в косяк двери. Ни звука в ответ. Варфушка точно не слышит ничего, лежит. Еще легкий стук. Чуть скрипнула скобка двери…
Вошла Мария. Годы наложили печать на молодое еще лицо ее. Скорбно глядят очи, потускневшие от слез. Седина инеем посыпала голову. Не могло не отозваться на боярыне горе родной страны. Пуще собственного разорения ударило оно ее по сердцу. Поблекли очи, побелели косы. Тяжело.
Увидала распростертого на полу мальчика. Кинулась к нему:
— Варфушка! Сынушка! Аль не можется тебе? Желанный мой…
Поднял голову… Легкий, как призрак, поднялся с пола. Темнели глубокие синие озера Варфоломеевых глаз… Смотрел на мать и точно не видел ее… Порыв не прошел. Еще догорало пламя молитвы во взоре. Сам был бледен и хорош, как вдохновенный Божий Серафим.
Бледность, худоба лица, темные кружки под глазами бросились в глаза Марии. Жалостью острой, мучительной забилось сердце матери. Бросилась к сыну, положила худые руки на плечи мальчика, заглянула в синюю глубь бездонных очей.
— Сынушка! Иссушил ты себя, замучил совсем. Не надо насиловать себя, миленький. Не надо изнурять молитвой, детушка. Намедни ничего не кушал и всю ночь опять в молельне был. Так, детушка?
Опустились в смущении синие глаза. Лгать не умеет Варфоломей. Дрогнули губы, шепнули:
— Так!
— Желанный! Не мучь ты себя… Гляди: дитя ты еще. Какие грехи у тебя могут быть, детушка?
— Грехи у всех людей, мама! У всех…
— Родной! Господь с тобою… Нет у тебя грехов.
Покачал головою, задумался и произнес тише:
— Есть — и свои, и чужие. За чужие тоже молиться надо. Видишь, сколько страдания кругом? Не неволь, родимая, сама же еще с колыбели, с детства учила меня: за ближних молиться надо, за всех… А ноне мешаешь. Не надо, мама, и не бойся за меня. Гляди — сильный я, не то бы еще вынес… Не слабже Степана-брата… И в работе горазд, как он. Так мне ли на здоровье жаловаться? Полно! Еще на больший подвиг пошел бы с охотой…
Осекся… Взглянул в испуганное лицо матери и замолк. Но слово уже вырвалось, вернуть нельзя. От страха затрепетала Мария.
— На какой подвиг? Что замыслил? Говори, говори, Варфушка!
Молчал с минуту, поднял затем глаза. Хрустально-светлые, они горели лазурными огнями. И голос чистый, как тот же хрусталь, ясно и спокойно ронял красивые светлые слова прямо из сердца.
— Уйти бы… удалиться… одному в пустыню… Работать на людей… Вместо разоренных сел и городов новые им ставить, где басурманов не видно, и молиться с трудом вперемежку. Одному за всех молиться. То ли бы не счастье? То ли бы не радость была, матушка? — заключил Варфуша с небывалым восторгом.
Тихо, тихо заплакала боярыня. Грустно, жалостно… Зашептала горемычно:
— Варфушка, окстись! Варфушка, отронек мой тихий, любименький, радость душеньки нашей. Ладный ты наш. Рано тебе это… Молод ты, Варфушка! Золотой ты мой, голубчик сизокрылый. Не мысли о том до времени. Слушай меня, Варфушка! Придет твое время — ни единым словом не помешаем. Ни отец, ни я… Тайна великая на тебе, Варфушка… Доселе молчала о ней, а сейчас скажу… С тобою поделюсь, все узнаешь, а только дай мне слово, сыночек, остаться с нами, покамест живы мы, отец твой и я, пока радуемся на тебя, желанный. Даешь?
— Даю, матушка! Буду с тобою. С отцом буду. Люблю я вас, — прошептал в смятении мальчик, целуя мать.
— Спасибо за ласку, Варфушка. А теперь слушай. Было давно это. Более двенадцати годов назад. Пошла я в церковь как-то. Молилась горячо. Ликовала душа моя… Пропели тресвятую песнь. Вынесли Евангелие… И вдруг громко крикнул кто-то, будто младенческий голос… Смутилась, испугалась я, — потому что сказал он чудные слова: предсказал он, что будет у меня сын и когда возрастет, сделается великим угодником Божиим… Запали Херувимскую и новый крик ребенка покрыл пение церковное. Едва удержалась я в ту пору, чтобы не зарыдать от страха и радости… Не помню, как достояла я службу… А когда вышел снова священник и провозгласил с амвона: «Вонмем! Святая святым!», — в третий раз детский голос вскрикнул громче тех двух первых. Плакала я и рыдала… Собрались прихожане вокруг меня, удивлялись, говорили о Божием знамении… Пришла я потрясенная домой, в смятении… Не смела подумать о том, что значило такое чудо… Скоро родился у нас ты, сыночек… Поняли мы с отцом тогда, что значил детский крик в церкви… И порешили мы с отцом отдать тебя Господу… Крестил тебя добрый мудрый священник. Узнал он о чуде и сказал: «Сын ваш — избранный сосуд Господень и служителем будет Святой Троицы». Чудный, таинственный гость-пресвитер говорил то же. Великую будущность, сынушка, предсказал он тебе… Так нешто мы можем мешать тебе с отцом… На тебе — тайна Божия. Ты избранный Заступником Самим. Дитятко! Господь с тобою! Молись, как знаешь, не изнуряй себя только. Рано тебе идти на подвиг, указанный Господом… Но ты позднее пойдешь на него… Ты — Варфоломей, родился в день Варфоломея, — сын радости значит имя это. И Божию радость откроешь людям ты, отмеченный Самим Небесным Творцом…
Крещение Варфоломея.
Вдохновенно прозвучали последние слова Марии. Пылко закончила она свою речь.
Варфушка с горящими глазами, с просветлевшим лицом слушал мать. Так вот она какова тайна чудесная, он, Варфушка, тихий, скромный Варфушка, он — Божие дитя.
Зачаровало его это открытие, забаюкало… Вспыхнуло, разгоралось пламя счастья. Сердце раскрылось, и бросился он на колени, простер руки вперед, взглянул, — перед ним на иконе знакомое бледное лицо Многострадального, и кроткие очи, и тернии… Колючий венец на светлых кудрях… Капли крови, как рубины, как жемчужины. Любовь и жертва в чертах Христа. Готовность выпить до дна горькую чашу за других, за весь мир принять страдания…
Глянул в Пречистые черты Варфушка и трепет прошел по всему его существу.
— Твой я, твой, Господи! — зашептали губы, затрепетало сердце, зажглось в мыслях и во всем существе.
— Твой я, Твой!
И неземная радость охватила все существо мальчика.
VII
ДЕНЬ зародился горячий…
Золотятся на поле пышные колосья, спеет нива. Кудрями чародейной великанши-красавицы кажется пышное золотое поле. Солнце плавленым золотом посылает на землю все свои миллиарды лучей. Золотится пламенная лава. Урожай не обилен. Вытоптаны поля Туралыковыми наездниками, а дела за ними все же не мало. За усадьбой отцовской вместе с холопами жнут Варфушка, Степан, Петруша, тихая Анна, бойкая Катеринушка. Катя — та же веселая бабочка, порхунья с цветка на цветок, только подросла и из ребенка вытянулась в хорошенькую девочку-подросточка.
Аннушка развилась, попригожела на диво. Красавица она теперь, томная, печальная, а все же красавица. Черные, как ночь, косы, черные же, как стремнина, глаза. Губки — лепестки нездешнего сказочного цветка. Утренней зарей кажется свежее розовое личико. Идет к нему томная печаль, как идет лунный свет к задумчивой ночи.
Подле Анны работает Степан. И этот совсем взрослый. Семнадцать ему лет, и он вполне мужчина. Смуглый, сильный, коренастый. Богатырь на вид. Строгий и красивый, как и в детстве. Редко улыбается его суровое, умное лицо. Дышит волей и силой.
Жнут рядом. Подальше Петруша с Катей вяжут снопы. Оба поют. Поют звонко на все поле, как только птицы да дети петь умеют. Еще дальше с колосьями ушел Варфоломей. Этот трудится, как взрослый. Нет, даже больше взрослых. Холопам не угнаться за ним. Серпом орудует словно силач-мужчина. Под сильными взмахами еще детской руки покорно гнут головы золотые стебли колосьев и ложатся, покорные, рядами, шелковистые, пушистые, зыбкие, на грудь матери-земли.
— Буде, боярчик, умаялся; буде натруждать себя, Варфоломей Кириллыч! — говорит старый челядинец, нянчивший Варфушку в детстве.
Но тот только встряхивает головою.
— Полно, Никита, полно! Нешто труд это? Радость одна.
И идет дальше раскрасневшийся, юный, ликующий и прекрасный, гнет стройный стан, режет рожь серпом. Сверкает серп, играет самоцветными огнями в лучах солнца. И золотые кудри играют и огни сияющих синих очей.
Петр с Катей поют. Далеко разносятся по полю их звонкие детские голоса:
Ой, травушка-муравушка, Ой, нивушка-душистая, Ой, хлебушка-кормилец наш, Ой, солнце-золотистое…— Ха-ха-ха! — внезапно оборвав песню, смеется Катя, — гляди, Петруня, там Варфушка-то ровно золотой! Кудри то, кудри! Гляди…
— И то золотой! Смотреть диковинно. Ровно жар-птица…
— Варфушка-то жар-птица, а вот ты — утенок щипаный, — хохочет Катя.
— Ладно, утенок… Я тебе задам. Вот оттаскаю за косу и будет тебе утенок, сорока болтливая! — обижается Петруша и надувает пухлые губы.
— Ха-ха-ха! Напыжился, будто мышь на крупу, — заливается Катюша. — Здравствуй, мышь надутая! Здравствуй, утенок.
Подскочила, хохочет, дразнится. Огонь девочка эта Катя.
Петруша крепится, отвернулся в сторону, ворчит. И вдруг не выдержал, залился смехом, прыснул.
— Ха-ха-ха, — смеется Петруша, — сорока-белобока прыгала-скакала, хвост потеряла, без хвоста осталась… Без хвоста…
— Ишь, ты! Как придумал складно, — взвизгивает Катя и с хохотом валится на сжатый ковер колосьев. Через минуту снова доносится ее ликующий юностью и радостью голосок:
Ой, травушка-муравушка, Ой, нивушка-душистая…Степан и Анна работают молча. Ряды колосьев мерно ложатся под взмахами их серпов. Нагнулись, раскраснелись, устали оба.
— Отдохну, невмоготу боле, — говорить Аннушка и, выронив серп, опускается на землю.
Степан выпрямился. Стоит и смотрит. Пристально смотрит на свою подругу детства. Мила, люба ему давно эта тихая, черноокая, всегда печальная, кроткая Аннушка пуще дня солнечного, пуще жизни, пуще первой радости. О ней его мысли все, о ней стучит сердце, о ней печалуется душа. Тихая она, жалостливая, работящая, сиротка. Защищать ее, всегда тихую, кроткую, милую, о ней всегда заботиться хотелось бы ему, сильному, крепкому Степану. Особенно теперь. Усталая, милая, затихшая под палящими знойными лучами, работой, трудовым днем замученная, она во сто крат краше и пригожей ему, Степану, чем когда либо.
— Анна, Анюта… Голубка желанная, — невольно срывается с уст юноши, — хочешь всю жизнь свою мне отдать, Аннушка, хочешь быть женою моею, люба моя?
Смутилась, потупилась Анна. Сама любила его, пригожего, к ней всегда заботливого и доброго, ко всем сурового, Степана. Степана — друга-товарища детских игр, потом долгих повседневных совместных трудов.
Анна смутилась. Долго сидела молча, перебирала стебли низвергнутых колосьев, замирая от тихой, грустной и сладкой радости. Сердце билось любовно и грустно. Чувствовала всегда Аннушка, что не долгая она гостья на земле. Что пройдут немногие годы и отойдет она к умершим родителям. Недолгая гостья. Так всегда казалось девушке, но молчала. Боялась омрачить Степанову радость.
Вздохнула только, тихо, протяжно, потом подняла глаза, лучистые, просветленные, прекрасные, озаренные счастьем, и сказала:
— Люблю тебя и я, желанный! Разделю с тобой и радость, и горе, жизнь и печаль. Будем трудиться, и будем радоваться вместе. Пойду за тебя. Идем к матушке, скажем о нашем счастье.
Протянула руку. Поднялась легкая, лучезарная с травы, вся озаренная солнцем и счастьем, тихая, радостная.
Ликующий, восторженный, взял се за руку Степан. Пошли к усадьбе, унося с поля свое огромное молодое счастье.
Навстречу им улыбалось солнце, позади неслись голоса Петруши и Кати, распевавших их детскую песенку. Над ними сиял голубой мир полудня.
Подошли к самой усадьбе, но, не доходя до ворот, остановились внезапно, как вкопанные…
Что это?
У ворот челядинец водит на поводу взмыленного коня. Конь отца. Отец приехал. Из орды вернулся. Прискакал вместе с князем. Нежданно, негаданно, не оповестив с гонцом, как бывало прежде.
Что-то ударило, как молотом, в сердце Степана, отозвалось в мыслях, закружило голову. Испуганно переглянулся с Анной.
У той лицо белее белого рукава рубахи. Очи — полны испуга, смертной тоски.
— Степа, Степушка! — внезапно прозвучал из окна голос матери. — И ты, Аннушка. На ниву бегите. Спешно, детушки! Ведите сюда скореича Варфушку, Петрушу, челядинцев, Катю… Горе великое стряслось… Поспешайте, детушки, назад ворочайтесь скорее!..
Выглянуло, показалось в окне встревоженное бледное лицо боярыни. Рядом, — усталое, покрытое пылью, изнуренное после долгого пути лицо боярина Кирилла. И он тоже торопит:
— Скореича, детушки! Сюда всех ведите!
Сказал и скрылся в окне.
Степан и Анна, не говоря ни слова, крепко схватились за руки и бросились бегом назад, туда, в поле.
Преподобный Сергий в Радонежском бору.
Ориг. рис. С. И. Панова.
VIII
С усадьбы бегом Анна и Степан, взволнованные, потрясенные, побежали на ниву, зовут своих, кличут:
— Скорее! Скорее! Батюшка из орды вернулся, домой всех зовет.
Самая малость времени прошла, как собрались все в горнице, и хозяева, и холопы.
— Батюшка! — кинулся, завидя отца, голубоглазый Петруша, да так и осекся со словами привета и радости на губах.
Ни кровинки не было в лице боярина Кирилла. Блуждали покрасневшие от усталости и душевного волнения глаза. Дрожал и рвался голос при всяком слове.
— Детушки, родимые мои! Пришло лихо, поспешать надо, собираться в дальний путь. Всем домом, всем скарбом… — трепетно ронял боярин. — Бесчинствуют московские вельможи в нашем городе. Людей на правеж ставят, до смерти мучат, допытываются, где спрятана казна. Будто, вишь, хан баскакам новые сборы приказал сделать. Взялись и за именитого боярина Аверкия, градоначальника нашего. Его пытать ладят. За ним и до нас доберутся людишки Мины и Кочевы. Так уезжать отсюда надо, детушки. Мне что? Мне не смерть страшна, не лютые муки, а вас жалко, сердешных. Молоды вы еще, жизни не видали. За вас ответ дам Богу. На Радонеж путь держать будем. Там, сказывают, дозволено строиться, кому охота, заселять городище. Место тихое, среди лесов непроходимых. Татарским баскакам невдомек туда сунуться. Туда и едем. Господь милостив, не даст погибнуть, поможет нам. Сами не сплохуйте, детушки, забирайте скарб в укладки, колымагу запрягайте, телегу тоже под лари. До солнечного заката выехать надо. Ростов бы миновать, а то ночью еще опасливее будет, воров и татей в нынешнюю пору не оберешься под городом. Так поторапливайтесь, детки, со Христом!
Окончил свою взволнованную речь боярин и смолк, поникнув седеющей головою.
Никто ни одним словом не прервал его. Тихо, чуть слышно плакала в углу боярыня. Бесконечно жаль расстаться с милым насиженным гнездом, с Ростовской усадьбой, где прошла молодость, где родились любимые, милые красавчики-сыновья.
Подошел боярин к жене, обнял.
— Полно, не кручинься, Маша! В Радонеже новую родину найдем.
Стихли слезы, унялись. Ласковый голос мужа успокоил разом. Встряхнулась, пошла собираться. Анюта и Катя с нею. Анна тихая, томная, покорная судьбе, как всегда. Катя веселая и сейчас, как прежде. Сквозь старание девочки казаться серьезной, так и брызжет молодое, задорное счастье. Столкнулась в сенях с Петрушей, подтолкнула его.
— Слышь! В дальни путь едем. В колымаге, лесом, полями. Мимо города, то-то веселье.
— Глупая! А как схватят. А? Небось… пытать станут, слыхала, чай? — опасливо шепчет Петруша.
— Трус ты! Так вот тебе сейчас и запытают. Во-во! Небось, ранее покатаемся всласть в колымаге. На новое место едем. Строиться станем. Весело — страсть!
И с загоревшимися от предстоящего удовольствия глазками бросилась за названой матерью и сестрой.
Поднялась суета, суматоха.
Мыли, чинили, снаряжали наскоро колымагу, впрягали в нее лошадей. В соседнюю усадьбу скакал Степа, променял на корову да домашнюю птицу — двух чахлых корняков, — пригнал на двор, впряг их в телегу. Во время его отлучки не стояло дело. Кипела работа. Укладывали лари кованные, сундуки, узлы носили в колымагу и в телегу. Прилаживали, прикручивали.
Готово! Ехать можно. Время пуститься в дальний путь. Собрались снова всем домом, всей семьей в гриднице. Опустела она. Сняли полавошники с лавок, скатерть со стола, иконы с углов. Нежилою, дикою стала сразу горница. Сели, кто где устроился: на лавках, а кому места не хватило — на полу. По древнему русскому обычаю боярин с боярыней, дети, холопы присели перед дорогой, потом встали, опустились на колени, молились на голубое небо, что синело в раскрытое окно, на малую иконку, что поставила боярыня Мария на оконце. Молились горячо, страстно.
— Помоги, Господи! Даждь нам счастье в пути и на новом месте! Помилуй нас…
Долго молились.
Потом на крыльцо вышли. Сели в колымагу. Челядь в телегу. С ними Степан и Варфоломей.
Оглянулись впоследки на родимую усадьбу.
— Прощай, усадьба! Прощай, милое, насиженное гнездо. Прощайте, родимые поля, угодья, лес… Все прощайте!
— Ну, возница, трогай!
Тронулись кони… Покатила тяжелая скрипучая колымага. За нею телега. Забилось сердце Варфушки. Вот он, зеленый тенистый дуб, где увидел он чудного старца. Вон крест их молельни горит в лучах заходящего солнца. Над самой молельней, где свершилось с ним чудо, где прояснел его мозг, где постиг он мудрую книжную науку, где был счастлив наедине со своей горячей пламенной молитвой столько тихих ночей. Застлались слезами синие глаза Варфоломея. Печаль в них и туман сладкой тоски. Сердце билось шибко, хотелось соскочить из телеги, выбежать в поле, упасть в сочную траву и целовать родимую росистую кормилицу-землю, целовать без конца, без счета и плакать, плакать.
Отъезд боярина Кирилла в Радонеж.
* * *
Вечер. Тихий, кроткий сизокрылый, как голубь, и как голубь же воркующий. Солнце село за высокой колокольней городского храма. Но его прощальная улыбка еще дрожит в природе, будто смежившиеся очи, с их сверкающим взглядом. Тишь на небе, тишь в воздухе. И как странная, дикая адская музыка, как резкий крик возмущения против этой божественной вечерней тишины природы, ужас и сутолока внизу на земле.
Колымага не едет, а уже скачет теперь. Изо всех сил разогнал возница не успевших еще устать коней. Телега, дребезжа, скрипя, плетется сзади. Не спокойно, жутко на улицах Ростова. Люди толпами ходят по узким кривым улочкам, по широким площадям. Ходят и галдят. То приспешники Мины и Кочевы, двух кровопийц злополучных Ростовских жителей. Ходят, как шакалы, как волки, рыскают, выискивая добычу, врываются в дома, требуют казны, мучат, на правеж тащат, засекают батогами. Несколько раз пытались преградить дорогу боярскому поезду.
— Кто едет? Стой! Тебе говорят, стой! — слышался грозный окрик. Но знают боярские холопы — остановиться, значит предать любимых ласковых хозяев-бояр, значит отдать их в руки злодеев с детьми и казною. Нельзя остановиться. И духом мчится колымага, насколько силы позволяют коням; за ней, все отставая, следует утлая телега. Страшно и жутко за нее. Вот-вот, того и гляди, развалится сейчас. Из-под навеса ее выглядывает бледное личико Варфушки. Смотрит и видит мальчик дикие, зверские лица кругом. Бушующие толпы, и стоны и вопли доносятся откуда-то издали. Чем дальше едут, тем ближе стоны. Вдруг, ужас. Видит мальчик: широкая площадь, лобное место. На лавке растянуты обнаженные, трепещущие тела, залитые кровью. Батоги вздымаются и опускаются на окровавленные спины. Палки мерно отсыпают удары: раз-два… раз-два… Это истязают несчастных, отказавшихся по бессилию своему платить дань.
А дальше еще более мучительная картина.
Испуганный на смерть взор ребенка, как зачарованный, притягивается к ней. Тянется, тянется и не может оторваться.
Господь Милостивый! Будет ли конец жестокому измышлению человеческих мук?
Между двух столбов, вбитых в землю, тут же на площади, под широкой перекладиной привязаны чьи то ноги, обутые в дорогие сафьяновые боярские сапоги, кованные серебряными подковками. Скользить дальше трепещущий детский взор. И видит Варфушка: разметанные в стороны сухие старческие руки, худое, вытянутое тело, повешенное вниз головою под виселицей.
О, эта голова, багровая, отекшая, с вылезшими из орбит глазами, с диким взглядом невыносимо ужасного страдания, с надутыми жилами, как сине-фиолетовые канаты на лице!
Страшное, вымученное до последнего предала, обезображенное пыткой и в то же время странно знакомое лицо…
Силится и не может припомнить, где видел его Варфушка. И вдруг прояснился испуганный детский мозг.
— Господи! Да ведь это градоначальник Ростовский, боярин Аверкий. Что сделали с ним мучители? — И забился и затрепетал всем телом Варфоломей. Молитва вырвалась стоном из души. Полетала туда, кверху, вместе с синим испуганным взором; туда, к кротким и бесстрастным вечерним небесам.
— Господи! Прими дух его! Посети Твоего мученика, Милостивый Господь, и не взыщи с мучителей. Пошли ему смерть, Господи, рабу Твоему… Лучше смерть, нежели такая мука…
Молитва стыла на губах ребенка.
А телега катилась. Миновали площадь, город… Стихли стоны истязуемых. Вздохнула облегченно грудь. Потянулась вновь проложенная, еще дикая и мало езженая московская дорога.
Ужасный Ростов с его муками и стонами остался позади.
* * *
Заповедные, почти девственные, могучие, сказочные леса… Темным, непроходимым кольцом замкнули они Радонежское городище, небольшое село, подаренное в удел великим князем Иоанном Даниловичем великой княгине Ольге. Вскоре перешло оно к младшему князю Андрею, за малолетством которого городком правил наместник Терентий Ртищ.
Переселенцев здесь принимали охотно. Позволяли строиться, и многие жители от притеснений дани и оброков потянулись сюда.
Радонеж — скрытое гнездышко, затерянное среди лесов заповедных, в сердце пустыни российских непролазных дебрей того времени. Оно в двенадцати верстах от Москвы, в стороне от московской дороги. Подалее в сторону находится соединенный мужеско-женский монастырь. Хотькова обитель — два отделения — для старцев и стариц. И опять леса. Зеленые, мохнатые, могучие, степенно говорливые, величавые, они стояли кругом будто настороже. Сторожили, сказки сказывали, песни пели, переговаривались, перешептывались. Стерегли день, стерегли ночь, стерегли Радонежский городок.
В Радонеж боярин Кирилл приехал с зарею.
Запыхавшиеся кони ввезли тяжелую колымагу, за ней громыхающую телегу в залитое розоватым румянцем зари местечко.
Отпрягли коней и разбили палатки. Боярин Кирилл со Степаном пошли отпрашивать себе угодья для избы у наместника. Пришли скоро с людьми боярина Ртища, Отвели им место для угодья. Свезли туда колымагу, перетащили скарб. В то же утро стали строиться. Деревья возили из лесу, тесали бревна. До пота лица работали над стройкой избы. Варфушка всех усерднее, всех бойчее. Горели руки от устали, от восторга горели синие очи. Был праздник душе Варфоломея. Он ненасытно трудился. То, к чему рвалась душа, свершалось с горячностью, с любовью, с пылом.
Весь точно преобразился мальчик. Кипела жизнь в каждой жилке юного пригожего лица. Работал, как взрослый, пуще взрослых.
— Полно, полно, не надорвись, сыночек, — говорила, любовно гладя курчавую головку сына, боярыня Мария.
— Родимая, не мешай! Не препятствуй. Хорошо душе моей, дивно хорошо.
И опять хватался за топор, за рубанок, вдохновенный, сильный и неутомимый Варфоломей.
Шли дни. Быстро поднимались, росли стены новой избы; выросло крылечко, протянулась крыша над верхом. Прорезали косящатые оконца, дверь. Спорилась работа, не шла, а бежала.
Боярин, юноша Степан, сыновья-подростки, холопы трудились, как равные. Не было различия между ними. Скоро выросла и вся изба. За ней пристройки, боковуши для клади, конюшня.
На новоселье долго молились в новой молельне. Радовались успешному окончанию работ, благодарили Бога.
Прошла неделя, и новую радость послал Господь в только что отстроенном гнезде. Отпраздновали свадьбу Степы с Аннушкой. Благословили молодых, отвели им на время половину избы, а сами приступили к стройке новой.
Новое гнездышко для юных супругов строили теперь. И опять ликовала Варфушкина душа. Трудился для брата. Помогал в работе усердно, рьяно, душу всю отдавал труду. А мысль в это время, неустанно повторяла в юной детской головке:
— Эх, кабы так всегда! Работать так-то, Бога радовать, без устали, всю жизнь… всю долгошенькую… То-то ладно бы было…
И горели странным вдохновенным пламенем синие глаза.
Труды Преподобного Сергия.
Картина М. С. Нестерова, находящаяся в Третьяковской галерее в Москве.
IX
СТУК-стук-стук!
Гуляет топорик по стволам великанов-сторожей, хмурых дубов-шептунов, лип говорливых, белых березок — девушек-невест лесного царства. Падают дубы тяжелые, грузные липы, клонятся стройные, гибкие березки.
Гуляет топорик. Разыгрался на славу работник.
А кругом зимняя сказка…
Царевна-зима распустила белую мантию по полю, по лесу, по дворам и дорогам. В алмазной мантии — дрожат, горят, переливчато усмехаются звездочки-снежинки…
Зима шалит, тешится, балуется. Гирлянды плетет из пестрых огней. Бросает искры по снегу, искры от солнца, холодного, январского. Красавица-шалунья в алмазном кокошнике, то ветром поет, то свистит метелицей, то лешим аукнется, то молчит, и, как сейчас, сверкает.
Дивно, празднично сверкает хитрым убором, прекрасная.
Холодно в лесу, студено…
Все же не мешает работе трескучий мороз. Работает Варфоломей. Соседу бедному, переселенцу тоже, выстроить избу наладил.
Сосед — больной, сам не может. Дети малы, пособить некому. Так вот и взялся пособить он, Варфоломей. Не Варфушка уже он более, не мальчик, отрок тихий, синеглазый. Теперь он уже юноша. Шесть лет минуло с той поры, как переселился он в Радонеж со всей семьею. Шесть лет.
Вырос он за эти годы. На вид юн, гибок и нежен, хоть и силен, как барс. В душе — молодой орел. Смелый, вольный, благородный и любящий, любящий без конца. Живет для всех, работает на всех долгими днями, а ночи… Один Всевидящий Хозяин Мира слышит и зрит жаркие вдохновенные молитвы Варфоломея. И зреет, зреет давнишнее желание в душе юноши.
— Уйти бы подальше от мира, где грехи, скорбь, где суета, уйти бы на одинокий подвиг труда и молитвы… В пустошь, в дебри лесные, на труд, на подвиг, для жертвы за всех людей. Там каяться, за свои грехи и чужие, там молиться. Там быть наедине с Тем, к Кому рвется душа, служить Ему.
Теперь скоро, скоро сбудется это. Знает Варфоломей. Петя подрос, женился на Катеринушке, по дому хозяйничает с юной женою. Семнадцать годов стукнуло обоим, не дети уже, родителям пособляют. Степан иной. Весь ушел в свою семью. Детки у него: мальчики Иван да Федя. Анна болеет тяжелым, странным недугом. Ослабла вся как-то, исхудала и тает, тает. Ничего не болит у нее, ничего не ноет, а на глазах исходит Аннушка. Как свечка тает, умирает, меркнет, как лампадный огонек. Скоро совсем ничего не останется от ее хрупкого, худенького существа. О ней, о брате Степане, о грядущем ему горе, об отце с матерью думает сейчас Варфоломей. Состарились они, отдохнуть мечтают. Поговаривают об иноческой обители. Ладят приготовиться по-христиански к предстоящему человеческому концу — в сане иноческом хотят встретить в недалеком будущем смерть, строгую гостью.
Думает обо всем этом юноша. Стучит топориком. Валит тяжелые деревья, рубит сучья, на пошевни кладет. Гнедой конь впряжен в них.
День незаметно клонится к концу.
Побагровели деревья. Пурпуром зари окрасился лес. Пора кончать работу.
— Эй, Гнедко, трогай!
Двинулись из лесу. Рослая, стройная фигура Варфоломея в теплом кафтане шагает сбоку. В руках вожжи, а красивое, тонкое, вдохновенное лицо с потемневшими от всегдашней неотвязной мысли глазами поднято к небу.
— Вот-бы так одному, всегда работать, думать, трудиться одному за всех, за всю братию человеческую… Сладко, дивно, хорошо…
Незаметно выехали на опушку.
Чу! — насторожился Гнедко. Почуял кого-то близкого.
— Кто идет?
Остановился. И Варфоломей остановился тоже. Знакомая маленькая женская фигурка бежит с перевальцем навстречу ему.
— Катя? Что ты! За мною, что ли?
— За тобой, Варфушка! За тобой, родимый! Анюте больно плохо, — соборовать хотят. Совсем отходит, помирает Анна. Степа голову потерял, ровно угорел. Ребята плачут. Мой Петра за тобою послал меня. Батюшка с матушкой в Степановой избе сейчас. Спеши, голубчик, надо застать в живых Анну.
— Иду, иду, родная!
Взял за руку свояченицу. Зашагал быстрее. Гнедко, умный конек, почуял сразу, что не до него людям. Пошел один по знакомой дороге к своему двору, без понуды потащил тяжелые пошевни.
Спасибо, Гнедко! Спасибо, умник!
Спешит Варфоломей с Катей. Люба им обоим кроткая, черноокая, всегда печальная Анна. Успеть бы повидать ее, милую, умирающую, покорную, хоть единым глазком. Что есть духу бегут, взявшись за руки.
Вот и Степанова изба. Рундук высокий, сени, дверь в горницу.
Слава Господу, поспали вовремя! В избе душно от множества набившегося в ней народу. Здесь и родные, и соседи, и духовенство. Анна лежит на постели, белая, без кровинки, будто не живая. Желтые щеки — одни кости, обтянутые кожей. Черные огромные глаза — две бездны, зажженные лихорадочным пламенем. Вытянулись, заострились черты. От недавней здоровой красавицы и следа не осталось. А все же странно светло и притягательно красиво это иссохшее лицо, эти черные кроткие очи, уже увидевшие как будто уголок другого мира, нездешнего.
Увидела вновь вошедших, чуть улыбнулась одними глазами. Словечка вымолвить нет сил. Шепнула только что-то, а что шепнула — неизвестно.
У ног жены бьется Степан. Страшное, дикое лицо, перекошенное отчаянием, блуждающие, безумные, нездоровым огнем горящие глаза, всклокоченные волосы, борода. Без слез рыдает остановившиеся на милом лице взор.
— Анна, Анна! На кого покидаешь!
Не речь это, не слова человека, а дикий вопль на смерть раненого зверя. Около — плачут дети. Маленькие несмышленочки — младенчики Федя и Ваня.
— Тятя, тятя! Боязно нам! Не гляди так, тятя…
Забеспокоилась и больная. Хочет вымолвить что-то и не может. Только чуть слышный хрип рвется из груди. Обвела тоскующими глазами присутствующих, остановила их на Варфоломее. Через силу простонала Анюта:
— Варфу… ш… ка… тебе… его… Степу, поручаю… Не оставь его, пока что… Ты сильный… ты ему помо… жешь… перенести горе… а младенчиков моих Кате… Кате… Катя, слышь… тебе…
— Слышу, Анюточка… Слышу, горькая моя… — прорыдала Катя.
Степан, как подрезанный дуб, рухнул на пол и забился в ногах жены.
Начался обряд соборования. В желтые, как воск, пальцы Анны вложили свечу. Зазвучали печальные слова и напевы. Благоухающий аромат миро пронесся по горнице. Помазали им умирающую. Снова все стихло. Кончился печальный обряд. Началось прощание. Рыдал, бился без слез в мучительных стонах Степан. Дети плакали, Кирилл и Мария тоже. Плакали и целовали умирающую. Один из всех спокойно молился Варфоломей.
Вдруг вздох легкий, знаменательный. Сизый голубь точно шелохнул крылом. Тоскующий взгляд больной — теперь странно и дивно засветился. Не мигая, светло глядят темные глаза.
Губы раскрываются бледные. Шепчут снова:
— Простите, милые, любимые… Простите… Пора…
И смолкла, затихла Анна.
Настал конец ее земным страданиям.
* * *
Вечер.
Веет студеной лаской.
В избе душно и жарко. Пахнет ладаном. На лавке, под образами, с левой стороны от входной двери, вечным сном спит Анна. Мерцают лампады у божницы. Потрескивает у гроба стоящая в изголовье умершей свеча. Старица из ближнего Хотькова монастыря читает заунывно над покойницей. Величаво мертвое лицо Анны. Величаво и прекрасно.
Степан стоит, как вкопанный у ног покойницы. Глаза молчат, душа молчит. Горе заполонило и душу, и мысль, и сердце печального вдовца. Глаза уж не плачут. Душа точно под камнем, под булыжною глыбою томится в молчании и темноте. Ужас горя, потрясающий и молчаливый, затопил все его существо.
Варфоломей тут же подле. Помнит просьбу умирающей Анны — не оставлять пока что Степана. Нет, нет, не оставит первое время ни за что. Этот большой, сильный смуглый красавец Степан теперь такой жалкий, беспомощный, как ребенок. Нельзя оставить его, нельзя.
— В монастырь уйду, постригусь, — говорит Степан, — нет мочи прожить дня в миру без Анны. В молитве и подвиге, мыслю, легче станет мне.
Мрачно горят его глаза. Горе в них давит смирение.
— Уйду, уйду! — шепчет снова глухо, — постом и молитвой, иноческим саном приближусь к моей голубке мертвой.
— Ступай со Христом! Ступай, горький… Авось полегчает, — роняет ласково Варфоломей. А очи так и светятся готовностью помочь, пособить брату.
Потом, подумав немного, прибавляет тихо:
— И я с тобою! Ты в обитель, — я в скит, пустынствовать. Близко будем. Неразлучны. Спасаться вместе будет, Степа, брать мой. Аль не люба тебе мысль моя?
Смотрит Степан, смотрит на брата. Так вот он еще какой? Жертву несет ему, Степану. Не в леса, как раньше думал, уйти хочет, а с ним в обитель, в скит.
Смотрит, смотрит, будто видит впервые Варфоломея, брата юного, почти мальчика, самоотверженного, любящего, доброго. Тает что-то в сердце Степана. Тяжелая глыба горя мягчает невольно. Надламывается ледяная кора тоски. Слезы жгут глаза. Пламя ворвалось в сердце, обожгло, опалило. Хлынули слезы. Зарыдал Степан.
— Варфуша, спасибо! Брат мой любимый! Один ты мне остался. Один, один ты понял и пригрел меня.
И обнялись братья. И зарыдали оба.
И легче стало от ласки брата на душе молодого вдовца.
Трепетный и бледный, стоит Варфоломей среди гридницы. Говорит обрывчато, быстро:
— Отпустите меня, родные, вместе со Степою в обитель. Он в иноки, — я, благословясь, в скит пустынствовать. Не любо мне в миру. Отпустите, любимые мои…
Тихо, чуть слышно, вздыхает Кирилл. Плачет Мария. У обоих седые головы клонятся долу.
— Погоди, сынушка, не спеши! Дай нам ранее пристроиться. Дай в обители пожить, помереть, тогда иди с Богом. А покамест — поживи дома, порадуй нас, пособляй Петруше с Катей в хозяйстве. Растить Степиных детей помоги. Работа и это. Подвиг не легкий. А помрем мы, — Господь с тобою, ступай хоть в обитель, хоть в пустыню — куда сердце лежит.
Замолкли родные…
Замерло сердце Варфоломея. Долго ждать. Отодвинулась заветная мечта. Но воля отца с матерью — воля Святая. Смирился разом, улыбнулся светло.
— Ладно, родимые! Будет по-вашему. Живите долго. Останусь здесь. Хотькова обитель не за горами. Со Степой видаться будем часто. Аннушкин не нарушу наказ.
И обнял престарелых родителей Варфушка нежным и долгим сыновним объятием.
* * *
В тот же месяц много перемен случилось в семье Иванчиных.
Боярин Кирилл постригся с женою в Хотьковом монастыре. Степан еще раньше ушел туда и постригся под именем Стефана.
Опустела тихая мирная усадьба.
Варфоломей, Петр с Катей и с маленькими племянниками зажили в ней по-старому, часто навещая в обители престарелых отца с матерью и брата Стефана.
Снова плавным потоком по спокойному руслу потекла повседневная, рабочая жизнь.
Образ Преподобного Сергия в Сергиевском монастыре.
X
СЛОВНО вихрь кружится время. Кружится, катится, вертится, клубится, развертывается, разматывается бесконечным клубком. Жизнь бежит точно от погони, как испуганный дикий олень. Судьба-старуха за ним спешит с клюкою. Гонит, гонит… А впереди другая старая ждет: с косой острой, с пальцами костлявыми, с темным непроницаемым взором. Это — смерть. Эта уже не гонит, она ждет. Притаилась, чуть дыша, за углом и ждет. Кто намечен ею — не постесняется, протянет руку, зацепит косою. Дзинь-дзинь-дзинь, — прозвенит коса и нет человека. Вот у нее расправа какова.
Притаилась она за углом Хотьковой обители. Навострила косу, простерла руку. За одним ударом готовит другой. Две жизни разит к ряду, ненасытная. Две жизни! Ликует смерть. Что ей? Так суждено! Так велено судьбою! Так подтолкнуло под руку время! А она, старая, тут не при чем…
В Хотьковой обители стонут колокола печальным, скорбным перезвоном. Похоронное пение звучит в общем монастырском храме. Два гроба, две колоды, в которых хоронила своих умерших прежняя Русь стоят на черном траурном катафалке.
Кирилл и Мария, смиренные старец и старица Хотькова монастыря, умерли скоро один за другим почти к ряду. Хоронили в один день обоих. Были мужем и женою в миру — братом и сестрою во Христе стали в обители.
Лежат оба с холодным поцелуем смерти на лицах, Божьи инок и инокиня.
Спокойны, радостны их лица. Вся жизнь прошла в печали, заботах, нужде и гонениях. Впереди избавление, радость. Смерть принесла сладкий бальзам утешения, блаженство. Они достойны счастья. Они много выстрадали, спасались в обители, прошли суровый, хоть и недолгий, иноческий подвиг.
Варфоломей, Стефан, Петр и Катя с обоими племянниками стоят у гроба.
Стефан сильно изменился за недолгие годы. Поседел, сгорбился, не глядя на молодость. Еще суровее стало лицо. Инок стал в полном смысле. Петр — тот же свежий, ясный, спокойный хозяин-юноша. Катя — румяная, здоровая с обычно веселыми, теперь заплаканными от горя, глазами, мальчиков, сыновей Степана, пуще глаза бережет. Своих детей не так. Привязалась, как к родным, к Ване и Феде.
Варфоломей…
Двадцать лет стукнуло Варфоломею. Не муж он еще, юноша, так почему же при встрече с ним низко склоняются головы обительских старцев? Почему почтительно вскидывают на него глазами прославленные в подвигах благочестия преподобные отцы?
Синий взор Варфоломея глубок, как море. В нем покоится неразгаданная тайна всего его существа. Золотистые кудри вздымаются над вдохновенным высоким лбом, обрамляя бледное, строгое и кроткое в то же время лицо юного красавца. Тонкие губы сжаты. Темные брови сведены. Черточка-думка залегла между ними. Высокий, статный, он глядит прямо. Глядит в душу — и молнии тихих восторженных дум летят от его лица, от его синих глаз, сапфировых, как волны моря.
Молятся осиротевшие дети-сыновья. Молятся — без горя, без глубокой скорби. Жаль родителей, но тиха и праведна их кончина. В ней величавая желанная красота. Нет места гнетущей тяжелой скорби…
Поют на клиросе старцы причт. Дымок кадильника вздымается, летит под купол храма.
Вот раздался голос старого пресвитера. Глубокою верою дышат его слова.
Плачет Катя, плачут дети, влажны ресницы у Петра. Стефан и Варфоломей стоят, замкнутые в тихой строгой печали.
Кончился долгий обряд. Подняли колоды с останками усопших старца и старицы, понесли на кладбище.
Прощание с умершим отцом.
Вот и могила, уже заранее заготовленная. Остановились. Опять раздается дребезжащий голос священника, пение старцев и иноков. Под их тихое пение простились, под их тихое пение опустили в землю, засыпали колоды, уравняли могилу, два креста водрузили. Обвили их цветами — последними, предосенними махровыми маками, диким шиповником, пожелтевшею листвою лип и дубов.
Разошлись старцы, старицы, ушел священник с причтом. Катя стала собирать детей домой. Торопит мужа, Варфоломея. С прежним Степаном, теперь уже иноком Стефаном, прощается.
— Приходи в воскресение, отче! Напеку блинов, батюшку с матушкой поминать будем.
— Спасибо, Катеринушка! Не гость я ваш более.
Что? Что он сказал, или она ослышалась, Катя.
— Варфушка! Варфушка! — зовет вне себя брата на помощь испуганная, изумленная ребенок-женщина, — слышь, что говорить Степа, то есть, как бишь, отец Стефан… — и совсем замолкла, смутившись своей ошибкой.
Варфоломей, молившийся на коленях у родных могил, тихо поднялся, подошел неторопливо, взглянул на жену младшего брата.
Синие глаза его зажглись кроткой лаской. Но полно было сурового решения строгое в эти минуты лицо.
— Брат Стефан прав, Катя, — заговорил он тихо, — ни он, ни я не вернемся в усадьбу домой. Сорок дней здесь в обители молиться за батюшку с матушкой будем. Сорокоуст справим у родных могилок, а там в лесные чащи уйдем, подвижничать, грехи свои и мира замаливать, спасаться. Живите с Господом своей семьею, деток-сироток берегите. За нас молитесь, грешных, а мы, чем можем, у Господа за вас, мирян, работать и молиться станем. Не обессудьте, не гневайтесь… Имение родительское — все ваше. Нам с братом ничего не надо… Так мы со Стефаном, Божьим иноком, давно решили… Прощайте же, Петр, прощай, Катя, детки милые, ласковые, прощайте, Господь со всеми с вами.
Умолк. Затих. Оборвалась горячая речь. А Петр, Катя, как зачарованные, неподвижно стояли на месте, будто все еще слушая их. Первая опомнилась Катя. Бросилась к Варфоломею. Схватила его за руки и, трепеща от волнения, залепетала, обливаясь слезами.
— Варфушка, родимый! Ласковый, желанный наш, не губи себя, свою молодость… Какой же ты отшельник, такой молоденький, юный!.. Останься, Варфушка! Останься за старшего, за любимого. Во всем тебе почет и уваженье будет. Как батюшку с матушкой покойных слушались, так и тебе ни в чем перечить не станем. Братец родненький, не покидай нас, соколик наш!
— Не покидай, братец! — вторит жене и Петр.
Затуманилось лицо Варфоломея. Так в летний жаркий день вдруг туча набегает на прозрачную синеву неба и затемняет его… Но на миг только набежала. Скрылась мгновенно. Чистым и прекрасным стало снова сияние глаз Варфоломея. Заговорил спокойно, но твердо. Падали слова, как родник в лесу в глубокое русло.
— Нельзя. Не могу. Не проси, Катя, сестра любимая. Не проси. Дал слово жить в миру до конца отца с матерью. Свершилось. Господь посетил их милостью своею. И решили мы с иноком-братом искать в лесных чащах молитвы, одиночества и труда. Господь с вами, не мешайте нам. Идем своей дорогой.
И опять стало строго красивое лицо юноши, когда говорил он эти слова.
Поневоле затихла Катя. Замолк и Петр. Не смели просить, уговаривать. Простились тихо, грустно, в слезах. Плакали дети. Плакали, мало понимая. От отца успели отвыкнуть. Глядя на взрослых горевали.
Прослезился Варфоломей и суровый Стефан-инок. Обнимались долго. Теплом дышали прощальные поцелуи… Еще раз подтвердил Варфоломей, что все имение, всю часть своего наследства отдает Петру с Катей. Рыдала Катя. Как по мертвом, по любимом названом брате. Потом села с мужем и племянником в колымагу. Поехали. Кричали из возка о том, что видеться будут, еще не раз во время сорокоуста. Предосенний ветер заглушал слова.
Скрылась из виду колымага, Петр, Катя, дети. Варфоломей с иноком-братом остались один на один.
Долго смотрели друг другу в очи. Потом младший взял старшего за руку.
— Ежели жаль тебе покидать обитель, не ходи, отпусти меня одного. Уйду один. Тяжело тебе будет. Я давно к этому рвался, с детства. Ты же не мыслил о подвижничестве прежде. Аннина смерть толкнула.
— Так! Анна ушла и повела за собою. По ней, голубке, тоскует душа. В обители на людях тосковать труднее. Возьми же меня с собою.
— Да нешто в моей то воле? Иди! Рад буду! С тобой вместе легче осилить подвиг. Так через сорок дней соберемся?
Заглянул глубоко под темный клобук в самые очи Стефана загоревшимися и ласковыми глазами. Призывом пламенел тот взгляд.
Тихо склонил голову инок.
— С тобой, Варфушка! За тобой, мой сокол. Веди, куда хочешь, — всюду пойду. Господь поможет утишить горе вдали от людей.
И тихо поползла по суровому лицу молодого монаха одинокая слеза.
Преп. Сергий благословляет Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
Картина М. С. Нестерова.
XI
ГЛУХАЯ осень. Ветер злым духом кружит, по лесу гудит. Дика и воинственна его песнь. Красивой непроницаемостью, жуткой тайной отдает сердце глуши. Листья осенние кружат по воздуху, кружат, желтые, лиловые, березовые, как золото, светлые, ясные, кленовые — багряные, в пурпуре. В них прощальный вздох умирания, танец последний, погибельный. Покружатся, попляшут и упадут. А упадут — смерть, гниение, конец короткой жизни с тихим шептанием, с гулким ропотом. Не увидят весенней улыбки золотистого заоблачного сверкания. Упали — умерли. Нет им возврата, живого дыхания. Кончена их жизнь…
Скупо догорает заря на небе. Вечереет. Прощально и бледно сквозят розоватые блики на обнаженных остовах, гордых в своей обветшалой осенней дряхлости, деревьев. Бледная, сухая, с острым ароматом и тупым, неласковым холодком царственная властительница-осень надела багряно-янтарную корону из пурпура и золота перекрашенных, бывших еще недавно зелеными, листьев. Но красавица угрюма и злая и точно хочет запугать всех своими мутными, темными, злыми глазами. В червонных косах играют прощальные зоревые блики.
Тьма подходит. Черноокая ночь-колдунья чарует, чарует. Холод. Тьма. Тишина.
Вдруг легкие хрусты, усталые шаги. По узкой, кочковатой тропе идут двое. Один совсем юный, изможденный от устали, холода. Другой постарше. Варфоломей и Стефан. Высокие посохи в руках, грубые посконные одежды.
Долго бродили. Грязная запыленная обувь у обоих, бледные лица, синие круги вокруг глаз.
С трудом взбираются на холм по лесной прогалине. Место в гору идет, будто маковка, шапкой.
Кругом лес, тьма. Покатая, круглая горка. Спуски в чащу. Всюду лесная стража, могучая неодолимая на вид, стоит черной стеной: дубы, клены, липы, березы, тополя…
В лесу тишь. Жуткая, но любая сердцу.
Озирается кругом синими, в темные круги усталости заключенными глазами Варфоломей. Вспыхивают в глубине их зарницы. Синие звезды очей горят, пылают.
— Стой, Стефан, — говорит он и нежно, мягко звучит его голос, — стой, милый. Здесь это. Чует сердце, что здесь. Велят мысль и оно, вещее, на этом самом месте строиться, и остаться. Хорошо здесь, тихо, далече от людей. Господь Всесильный, как у меня душа трепещет! Здесь… Чую… Чую.
— Ладно! Останемся здесь, — склоняя иноческий клобук, шепчет Стефан, — останемся, родимый!
Ему все равно, где поселиться. Здесь ли, на этой горушке-маковке, окруженной лесом, либо в прогалине чащи, в долинке малой. Нет мочи, устал Стефан, бродя по дебрям. Кружили, кружили они по заповедным Радонежским топям, пока не дошли до этого места. Теперь он только об одном мечтает — как бы прилечь отдохнуть, распрямить усталые ноги, уснуть.
Он не подвижник, Стефан, нет. Он и не шел на подвиг, на тот подвиг, что снился Варфушке с детства. Любовь к умершей жене загнала его сюда в глушь, на вечное поселение. Он только человек, инок с обыденной душой. Бури земные его бьют шибко. И тело его стало слабым. Иссушенное горем не закалено оно для отшельнических нужд. Варфоломей — тот иной. И сейчас будто нипочем ему долгое по лесу брожение, будто устали и не бывало — хлопочет, суетится. Лицо юное, довольное, ликующее, как будто новое, освещенное внутренней радостью.
— Стефан! Братец, инок Божий! Постой, я тебе шалаш живым духом смастерю. Мху с листьями насбираю. Отдохнешь, выспишься. А ужо на заре строиться зачнем. Первое дело церковку. Выстроим — и за избу примемся. Ладно?
А лицо так и сияет, так и сияет. Никогда еще не видал таким радостным брата Стефан.
Вдруг в полутьме сгущенных ранних сумерек смущением вспыхивают глаза Варфоломея. Странная мысль проникает в мозг.
— Братец, а в чье имя святое заложим мы храм Божий?
На минуту задумался Стефан, смешался. Не легкая задача это. Какому святому поручить их будущую маленькую убогую лесную церковь. Задумался крепко. Побежали мгновения. Вдруг мысль ворвалась в голову. Передается душе, сердцу.
— Во имя Святой Троицы заложим, — говорит не Стефан будто, а кто-то живой и вещий из самых недр души Стефана.
— Нельзя иначе! Тогда, до рождения твоего, трижды слышался голос в церкви, во время литургии, и крестивший тебя священник пояснил родимым нашим, что будешь ты служителем Святой Троицы. Во имя ее и соорудим, братец любимый, наш убогий, маленький храм.
Сказал и вздохнул облегченно. Точно скатилось с него тяжелое бремя.
Ничего не ответил брату Варфоломей. Но ярче запылали в полутьме наступившего вечера сияющие глаза, и тихая, сладкая радость озарила все его юное существо.
А ночь все колдовала с новой силой. Расплывались ее чары. Ниспадали черные покровы, махали крыльями беспросветными мрак и тьма.
Варфоломей высек огня, сложил костер из сучьев валежника и бересты, а когда запылал огонь, набрал ветвей, нарезал острым ножом хлестких, гибких прутьев, свил стены кровли, перевил ползучими длинными стеблями, сухими травами, устроил ложе из мха и тлеющих листьев.
Затем вынул хлеб из мешка, посыпал солью, передал Стефану.
— Кушай, братец! Потом спать ложись. Отдохни с Господом.
— Спасибо, желанный. А ты?
— Не хочется что-то!
— Притомился, что ли?
— Нет, нет! Радость моя сон гонит. Не усну все едино. А ты ступай со Христом, ложись.
Встал, пошатываясь, Стефан. Усталость все тело сковала. Ноют ноги.
— Христос с тобой, желанный!
Благословил брата скромным иноческим крестом. Вошел в шалаш. Стал молиться. Потом, обессиленный, упал на мягкое ложе и уснул сразу, как убитый.
Костер догорал.
Варфоломей, сидя у огня, смотрит внимательно на его умирающее пламя. Тлеют темные угольки, вспыхивают рубинами, яхонтами, сапфирами. И сердце Варфоломея пылает не меньше. Теперь он счастлив. Теперь добился всего. Здесь, в тиши, в глуши, вдвоем с братом, проведут они долгую жизнь. Будут молиться за всех, будут трудиться одни в глуши, одни, на груди леса, в самом сердце лесной чащи, от Хотьковой обители верст десять, от усадьбы столько же. Не забывать обещали Катя с Петрушей, присылать хлеба, припасов. Вода есть в роднике, версты две отселе, видал он проходом. Чего же еще надо? Вот с Божьей помощью выстроят церковь, в Москву сходят к митрополиту, испросят благословения. Пришлет владыка священников. Осветят лесной храм в глуши Радонежской. О, Господи! Чаял ли он такого счастья дождаться, Варфоломей.
И потрясенный, радостный, весь в слезах, счастливый, он мягко опускается на колени на сырую, росистую, увядшую траву и молится, и радуется, и благодарить, и ликует.
Здравствуй! Здравствуй, новая светлая, давно желанная жизнь!
Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на победу.
Картина академика А. Н. Новоскольцева.
XII
ГЛУШЕ, жестче, сердитей делается осень. По утрам стоят хрустально прозрачные и чистые, как молитва, холодники. По ночам бродят ветры, как неуспокоенные могилой призраки, и воют голодные волки.
Варфоломей и Стефан за постройкой пустыни.
Шалаш давно сменен крепкой бревенчатой избушкой с очагом, лежанкой, с высоким крылечком, с сенями и боковушами. Даст Господь, странники-путники, калики перехожие, набредут на жилье ненароком, будет где приютить их, принять и погреть усталые бедные косточки. Братья позаботились и об этом. С зари до зари работают над постройками. Церковь уже готова. Ходили в Москву оба к митрополиту. Просили прислать священников с дарами, с антиминсом, освятить вновь выстроенный храм. Свершилось. Священным пением, святыми молитвами осенили дом Божий среди заповедных Радонежских дебрей. Ушли, уехали кроткие московские гости. Опять одни остались братья. Опять закипела повседневная работа.
Братья-подвижники у митрополита московского.
Работает, впрочем, больше один Варфоломей. Инок Стефан болеет. Пожелтел, осунулся. Истома, тоска во всем теле. Очень трудился, помогал брату, изнемог. Тело болит, душа того сильнее. Тоска гнетет пуще Стефана.
— Братец, невмоготу, — зашептал как-то поздним осенним вечером, когда Варфоломей, наскоро перекусив хлебом и водою, — хлебом, однажды в неделю присылаемым им братом Петром из усадьбы, — взялся за священное писание, которое читал брату усердно целыми часами. — Невмоготу мне, Варфушка, такая жизнь. Привык я к обители, тянет в монашескую келью. Душа просит служб церковных, песнопений и жаждет слушать литургию, вечерню. Тянет меня, Варфушка, болит сердце. И опять вот круче по Аннушке тоскую я здесь… Там легче было. Отпусти меня, братец…
Жалобно дрожит голос Стефана. Смущенно глядят измученные глаза инока и жаль ему оставить брата одного в лесной глуши. И тянет, в то же время, гонит его отсюда к простору, к свету, к золотым боголепным храмам, к дивному пению, к торжественным службам, пышность которых радует сердце, уносит, вынимает из него злую тоску.
Варфоломей, затаив дыхание, слушает брата. Чуть кивает головою, золотыми кудрями. Сияет синею ласкою доброжелательных глаз.
— Господь с тобою, милый! Куда влечет сердце, туда и ступай… Постой только малость. Высыплет снежок, утихнут осенние вихри. Справишься и с Богом по первопутку. На Москву пойдешь, братец?
— На Москву, Варфушка! По ней давно горит сердце. Есть там обитель Богоявленская. Наши Хотьковские старцы сказывали, строгих правил общежитие. Святой жизни монахи. Туда пойду. Не серчай, что тебя покидаю. Не по сердцу мне пустынное житье. И горше здесь по покойной жене сердце ноет.
— С Богом! С Богом!
А душа Варфоломея не расходится со словами юноши. От души этой самой и слово: «С Богом! С Богом!».
Затеплил другую лучину. Поправил старую. Подошел к столу, открыл Четьи Минеи и Златоуста.
— Что читать?
Сказал Стефан:
— Что выберешь. За все спасибо. Нежной волной серебристой полились священные, высокие слова, сладкие, ясные, чистые, золотые, благовонные. В них сок учения Христова. В них сила черпается для подвигов. Сила могучего орла.
Читает Варфоломей.
Слова точно алмазный дождь сыплются. Все вещие, все трогательные, все чистые, как родник.
Вдруг какие-то странные звуки врываются в тишину.
— Ау!.. Гу — Ау-гу-гу-гу!..
Вздрагивают братья.
Ближе страшные звуки.
— Ау-гу!..
— Во-о-во-ово-о-во…
Кто-то точно дразнится, кто-то бешено смеется за окнами избы, выставляя жуткую чудовищную голову из чащи.
Все ближе… Ближе!..
— Волки это! — шепчут бледные губы Стефана и прибавляют чуть слышно:
— О, ужасы Господни! Уж скорее бы на Москву, от всего этого подалее.
И мгновенно вспомнил.
— А ты, Варфушка, ты, неужто здесь, в аду этом, останешься? С лесными зверями, с лесными призраками? Нет! Нет! Пойдем со мною, Варфушка, пойдем. Как и я, в обитель поступишь. Право! Со Христом, завтра же отправимся… Варфушка, а?
Странно и тихо усмехнулся на слова эти синеглазый юноша. Одними очами, взглядом, а губы по-прежнему были плотно сомкнуты — строгие гордые губы.
Стефан ждет ответа. Любит он этого кроткого синеглазого юношу-брата, такого хрупкого, нежного и сильного. И телом и душой сильного, выносливого за десятерых.
Опять легкая печальная усмешка трогает синие озера глубоких Варфоломеевых глаз.
— Зачем смущаешь? — спрашивает тихо брата, зачем? Если уйду, кто сторожить станет новый храм Святой Троицы? Кто беречь будет Святыню Господню? Кто? Не проси, милый, на всю жизнь, волей Божией останусь здесь я…
И снова опустил длинные ресницы, уронил на книгу писания прояснившийся взгляд, и зазвучали в убогой избушке снова вещие и трепетные, как далекие песни ангелов, слова о Боге и Сыне Его, о Духе Господнем, о том, что было и надлежало быть по могучему указу Их.
А ночь таила за окнами свои незримые сказки, и выли волки в лесной глуши, и тьма наползала, невидимая, безглазая, как страшная слепая колдунья…
Крест, которым благословил преподобный Сергий князя Дмитрия Донского в поход против Мамая.
Крест этот хранится в Церковно-Археологическом музее при Киевской Духовной академии.
XIII
ДОЛГО боролись две силы — червонно-пурпурная осень и белая, ласковая, студеная и пушистая зима.
Зима победила. Белыми доспехами опоясанная, прогнала ту, испуганную, смятенную, злостно хихикающую, а сама надела на холодные руки пухлые теплые рукавички, на серебряные кудри — лебяжью с горностаем шапочку и покатила на лихой тройке белоснежных коней. Покатила с посвистом, с гиканьем, с песенкой лихою: «Гой, вы, кони, кони быстроногие».
Мчится стрелою. Скачет зайчиком. Пляшет метелицей. Кружит снежком. Дует, свищет и поет песенки молодецкие. Прилетели к озеру кони. Дохнула беловолосая красавица. Застудила водицу. Зеркальными льдами покрыла. Любуется на себя в синюю поверхность ледяного озера.
Дальше кони, дальше!.. Лесной ручеек бежит. Стой, ручеек! Нет у тебя одежды хрустальной? Бери скорее. Нравится? Нравится мой первый ломкий ледок? Вы что, дубы могучие, клены высокие, матушки-березки, липы-печальницы, вам завидно? Ладно, и вам подарки будут.
Сунула обе руки за пазуху. Из лебяжьей шубки вытащила пригоршни инея. Берите, берите, милые, жадные, нетерпеливые. Вот вам монисто, ожерелья, вот подвески алмазные, не браните красавицу-зиму.
Во все белое оделся лес. Как в волшебной сказке. Царством белой чистой красоты стал вместо зеленого весенне-летнего, вместо багряно-золотого осеннего. Намела сугробы зима.
И вокруг избушки сугробы. До самых окон. С самого раннего утра подымается Варфоломей, разгребает снег, прокладывает рыхлую узкую дорожку среди двух снежных стен туда, к опушке.
И сегодня встал пораньше. Надо почистить дорожку. Нынче по ней уходит Стефан. Совсем уходит — в Москву, в Богоявленскую обитель. Взял лопату и, пока брат спит, копошится по пояс в снегу трудолюбивый юноша.
Прибегали смотреть на него две лисички. Рыженькие, пушистые, щеголихи такие, будто Ростовские купчихи… Лукавыми хвостиками вертели, крутили. Мордочками поводили, любопытными, лукавыми. Больно им охота взглянуть было, что делает человек.
Смотрели издалека на работу, на избу, на Варфоломея. Будто не боялись его человеческих глаз. Делали вид или просто не боялись. Постояли, постояли и убежали, оставив на белой пелене снега мелкие частые следы.
Просветлело малость.
Тьма развеялась. Из избы вышел Стефан, готовый к уходу, опоясанный.
Молча кивнул головою.
Варфоломей понял без слов призыв брата. Оставил работу. Вошел в сени, в низкую гридницу, опустился вместе с братом на колени перед киотом. Молились оба жарко и долго.
Первым поднялся Стефан.
— Когда утихнет тоска, покрепчаю, вернусь к тебе, любимый, — сказал брату.
Обнялись крепко. Поцеловались трижды. Потом смотрели в лица один другому. Хотелось запомнить, запечатлеть навсегда каждую черту.
— Прощай! Бог приведет, увидимся снова.
Опять обнялись, вышли на крыльцо и быстрым ходом направились по лесу.
Варфоломей провожал брата.
* * *
Один…
Как странно и дивно катится время. Пышный его клубок разматывается бесшелестно, беззвучно. Белая царевна-зима плотно заперлась в своем царстве. Белая студеная в своем хрустальном царстве. Милая царевна, вся в алмазном уборе, пой свои песенки, играй в свои сказочные игры, шалунья-проказница, сестра мороза, внучка метелицы, крестница вьюг.
Один!
Варфоломей один. Как зачарованный путник — пленник волшебного зимнего царства. В старом тулупчике, в потертой шапчонке работает он между двух зорь, утренней и вечерней, между скупым холодным зимним восходом и лениво томной улыбкой луны.
И нынче с зарею ушел он из избушки в чащу. Замыслил новую работу: расчистить полянку, устроить, вспахать по весне нивушку, посеять хлеб. Не все же утруждать Петра. Посылает брат по-прежнему холопов с припасами из усадьбы. Ежесубботно приносят они хлеб из дому. Устают, мерзнут в пути. Сбиваются с дороги в лесу. Зачем утруждать людей? Надо самому обзавестись хозяйством, вырубить поляну, вырыть корни, сгладить землю к весне. Господь послал его трудиться сюда, Варфоломея. Спасение не только в посте, в одиночестве, в молитве, но и в труде. Ведь и Иисус Сладчайший был плотником в доме Иосифа. Сам Христос Сын Божий Царский, сам Царь.
Ударяет по стволам дерева Варфоломей острым топором. Лезвие сверкает. Падают стволы-великаны. Шуршат, трескаются, ломаются сучья. Сыплется иней. Целый дождь, целая туча белых студеных пылинок.
Как красиво!
Опять взмах сильной руки. Отлетают сучья от ствола. Без передышки рубит, пилит, тешет бревна Варфоломей. Со сверхъестественной силой оттаскивает в сторону. Последнее, большое, перетянет кушаком, тащит домой. Будет житницу строить для будущих зерен, амбары.
Помоги, Господи!
Еще один взмах руки… Стук!
Из норки выскочил белый зайчик. Косоглазенький, длинноухий, с глупой, испуганной мордочкой. Вскинулся раз… два… присел на задние лапки. Весь дрожит. Глядит и дрожит.
— Не бойся, маленький, не бойся, болезный, не причиню тебе лиха!
Что-то есть в лице синеокого юноши, что притягивает к нему не только людей, но и зверей, тогда лисичек, сейчас боязливого зайчишку. Проходит страх у зверька, нюхает воздух потешным носиком, шевелит усами, чешется лапкой. Да как вскинется бегом, играя, дурачась. Прыгает, скачет, смешной такой, резвится косоглазый. Белый ребенок в шубке, сын дикого старого леса.
— Довольно на сегодня. Пора домой!
Заткнул топор за пояс Варфоломей. Схватил тяжелое бревно, поволок по земле, по снегу рыхлому, белому, как саван.
Тяжело. Пот катится градом. Все жилы выступили на побагровевшем лице, а в глазах сияние лазури. В глазах восторг удовлетворения, радость достигнутого, счастье без меры, то, к чему с детства стремилась душа его. Один он в пустыни, трудится, работает за четверых.
Идет согнутый под непосильной ношей, едва передвигает ноги. А на душе весна, радость весны, ликующая, ало-лазурная, праздник весенний.
День умирает быстро, короткий зимний день.
Засветло надо дойти до избы. В потемках не трудно с дороги сбиться…
Вот он близко, близко. Вот темным пятном рисуется крохотная лесная усадебка, с церковью во имя Святой Троицы, с избушкой. Подъем на гору труднее. Ничего, милостив Господь, дотянет он бревно. Варфоломей.
Вот одолел наполовину, вот дотащил и до вершинки, до знакомой площадки… Взглянул наверх и ахнул. Отступил невольно, исполненный изумления.
Велик Господь! Неужто Стефан вернулся обратно? Там наверху, на маковке кто-то есть, копошится высокий. Кто-то с ворчанием ворошится у тына, толкаясь поминутно в закрытую дверь.
Нет, это не Стефан… Огромное что-то… Ворошится, рычит, стонет. Не то человек высокого роста в теплой боярской шубе, не то…
— Кто здесь? Отзовись во имя Господа! — кричит Варфоломей, приближаясь к избе.
Нет ответа.
Ворчание явственнее. Будто сонный ропот недовольства. Будто злой, болезненный стон.
— Кто? Отзовись!
Снопа нет ответа.
В сгустившихся сумерках видно плохо.
— Отзовись!
Молчит. Кряхтит кто-то. Существо какое-то в теплой шубе. Прервало возню, однако. Повернуло от двери. Идет к Варфоломею. Прямо на него.
Как будто нарочно разорвалась тьма в эту минуту. Черные облачка расступились на небе, пропустили вперед странно, лукаво и грустно улыбающуюся всегда луну. Выскользнула луна из своей воздушной светлички. Осветила, прогнала тьму. Огромное существо осветило. Сразу все, мгновенно, с головы до ног…
Страшный, огромный бурый медведь на задних лапах стоял в трех шагах от Варфоломея. Лесное чудовище с громадной мордой. Лесной четвероногий великан. Маленькие глазки глядят смышлено, но сонно. Вышел видно из берлоги ненароком, соседние вотченники спугнули охотой…. Лежал в норе с осени, лизал лапу и дремал. Зимой они не ходят, медведи, погруженные в спячку. Этот случайный, видно. Огромный, страшный великан. Ужас сковал Варфоломея. Холодок побежал по жилам, подкрался к сердцу, заледенил его страхом. Зашевелились волосы, дыбом стали под шапкой на голове.
Медведь стоит, выжидая. Глядит. Маленькие глазки поблескивают в матовом сиянии месяца. Кажется весь при свете его не бурым, а голубым.
Шагнул еще раз. Тяжелый шаг, грузный.
Варфоломей невольно подался назад.
— Съест!.. Растерзает!.. Сейчас, сейчас… — рвется и звенит как-то в голове сбивчивая мысль.
Еще шагнул Мишка. Дохнул в самое лицо юноши горячим дыханием. Из разинутой широко пасти белые, как кипень, сверкнули зубы. Лязгает ими… Голоден. Видно по всему. Голоден и лют. Спугнули, выгнали из берлоги, во время зимней спячки, отвлекли от доброй медведицы, от веселых деток-медвежат.
Дышит в лицо Варфоломею. Из огромной пасти клубится пар. Сейчас… Сейчас.
— Уж скорее бы! — носится в мозгу юноши предсмертная мысль.
В тот же миг страшный, потрясающий рев огласил поляну. Медведь тяжело опустился на передние ноги. Чудовищный по размерам, когда стоял, стал не больше доброй упитанной коровы.
Теперь вплотную подполз к юноше. Обнюхивает его… и вдруг заскулил, застонал тихо, жалобно, как собака…
— Голоден! Голоден! Голоден! — говорит без слов этот стон.
Машинально опустилась в карман тулупа рука Варфоломея.
О! радость!
Там краюха хлеба осталась от обеденной поры. В ужин есть не придется, если отдаст бурому зверю. Так что ж, натощак, в посту, молитва угоднее Богу. Отдать Мишке, отдать!
И протягивает руку к мохнатому.
Глаза зверя заискрились. Почуял запах съестного. Раскрыл пасть, принял из рук юноши краюху. Тихо и нежно принял, как ласковый домашний пес. Стал есть жадно, торопливо, испуганно. Бегали глаза по сторонам — не отнял бы кто, который посильнее. Свирепо рычал, внушительно.
— Ешь, Мишенька, кушай, Божье творенье, никто не обидит, — ласковым шепотом подбодрял Варфоломей.
Встреча Варфоломея с медведем.
— Кушай на здоровье, кушай!
Кончил свой ужин Мишка. Сладко засопел носом и зевнул.
Глаза сузились, как у разлакомившегося котенка. Точно спрашивает: «Нет ли еще?»
— Нет еще, милый, нет! Сам отдал последнее. Вот постой, погоди малость, придет с усадьбы братнин челядинец, ужо принесет новый запас хлебушка, поделюсь с тобою.
И ласково протягивает руку зверю Варфоломей. Точно забыл юноша, что перед ним лютое чудовище, могущее разорвать его каждую минуту. Машинально перебирает мягкий мех медвежьей шубы. Тонут белые тонкие пальцы в высокой пушистой шерсти. Тихо урчит зверь.
Видно по душе пришлась ему эта ласка. Потянулся и лег. Лег у самых ступней Варфоломея, как преданная, верная цепная собака. Приподнял голову и лизнул ему руку. Лизнул большим горячим языком прямо в ладонь.
Теплой волной прилила эта ласка к душе юноши. Он наклонился. Обнял мохнатую доверчивую голову зверя и прижался к ней.
— Ах ты, милый, милый!
Тихо заурчал Миша. Любо ему, любо. В человеке нашел друга бурый мохнач. И человек, и зверь поняли друг друга…
Явление Богоматери св. Сергию.
Картина К. П. Брюллова.
XIV
ЕЩЕ потом часто, часто приходил Мишка.
Зиму проспал в берлоге, сосал лапу, а когда первые теплые лучи растопили, развеяли белоснежную пелену серебряной красавицы-зимы и забегали мутно-веселые, быстрые говорливые ручейки в лесной чаще, пробужденный бурый мохнач пришел к лесной усадебке. Пришел, увидел Варфоломея, заурчал, заурчал, широко раскрыл пасть, точно улыбнулся приветно. Лег у его ног, лизнул горячим влажным языком руку юноши, скулил.
— Голоден! Голоден!
Когда находился хлеб в избушке, делился по-братски им с Мишей Варфоломей; когда не было, говорил жалостно:
— Нету, родимый! И рад бы, да нету!
Грустно глядел медведь жалобными тоскующими глазами.
— Так нету, говоришь? — будто спрашивал взглядом.
— Нету, бедняга милый!
Тяжело поднимался Мишук. Глядел тоскующим, по-человечьи разумным взором и уходил в чащу, обиженно, печально скуля.
А иногда оставался. Когда был хлеб, ели вместе под большим развесистым дубом. Потом вместе же сбегали с горы, с маковки и, достигнув родника, пили студеную, весеннюю воду.
Кроме бурого Мишки бывали и другие гости. Приходили умильные рыжие лисички, хвостиками махали пушистыми, сияли темно-червонными шубками, жеманились будто. Прибегала семейка косоглазых, быстроногих, длинноухих. Водили мордочками, глазками, чесались лапками и прихорашивались. Зайчата кувыркались, пачкали в прошлогоднем гнилом листу чистые белые шубки. Потом внезапно с места бросались и убегали, поспешные.
Проходил, тяжело ступая, степенный и важный кабан, страшно выставив белые клыки, будто дразнился. Зверьки убегали от дикого, злого страшилища. Спасали свои шкурки. А Варфоломей глядел, как медленно и важно, тяжело идет он мимо лесной усадебки и не чуял страха. Спокойно глядел на него зверь, и он спокойно глядел на зверя. Как два добрые встречные путника, проходили один мимо другого.
Были и еще гости. Самые частые, хоть и незваные — волки. Эти выли всю зиму, вокруг избушки, дозором обходили усадебку. Горели ярко фонарики их глаз в темноте ночей. Фантастической цепью сверкающих огоньков окружали усадьбу, точно горящим замкнутым кольцом. Но и эти были не страшны. И эти, как верные сторожевые псы, охраняли детское спокойствие молодого отшельника.
* * *
Совсем стаяли снега. Зашумели ручьи и лесные озера. Зеленокудрою листвою оделся лес. Пышные гроты построились в чаще. Изумрудные чертоги замелькали в лесной дичи.
Пряно, млейно и празднично запахли лиловые фиалки. Сладко-дурманно дохнула весна. Апрель — кудрявый мальчик — убежал, играя. Ему на смену запрыгал, запел, закружился розовый май.
От вздоха весны и улыбки солнца родилось прелестное, майское, розовое дитя.
Родилось, всплеснуло ручонками, закружилось, засмеялось… Ему откликнулись серебристым звоном ручьи, ему ответила гулким эхом прочих гомонов чаща. Отец-солнце усмехнулся сверху, мать-земля укачивала внизу.
Светлые, чудные ночи. И трели волшебной серой птички, что зовется соловьем.
Задумчиво-печальный медвяный аромат ландышей потянулся из чащи, полный неведомой чарующей тайны, тайны короткой цветочной жизни, благоговейных и незримых курений и алмазно-сверкающих рос.
В такие ночи особенно легко и радостно молится Варфоломей. Окна его церковки раскрыты настежь. Белая ночь влетает, полная светлой чары. Соловей поет. Поет о Том, Кто дал ему этот дар, этот голос, такой сладкий и прекрасный.
К Тому же Могучему и Доброму летят и мысли Варфоломея. Его покрытые мозолями от постоянной работы руки стиснуты крепко, с мольбою. Грудь дышит бурно, тяжело. Волнение давит вздох. Хочется упасть на деревянный пол церкви и рыдать, рыдать от счастья. Целый день он работал в поле и в своей лесной усадебке. Ставил ограду, тесал бревна, а на заре сеял, сеял на им самим заготовленном поле первые зерна.
Сейчас, утомленный трудами, он, однако, не чует устали. Он бодр и счастлив. За неимением свечей, зажег лучины в церкви, бересты. Чадят, дымят они, но он не чувствует ни дыма, ни чада. Он счастлив. Он добился всего, чего жаждала душа с детства, он добился большего, нежели желал. Он один здесь в глуши, как свеча, горит перед Богом. Горит молитвой и несгораемым пламенем любви. Он один здесь, далекий, как ничтожный крохотный островок среди океана, молится за всех, за весь мир, за себя, прося отпустить им и себе грехи, заблуждения, обиды…
И один на груди матери-природы он работает здесь. Он добровольный, скромный работник для своего Великого и Большого Хозяина. Он знает, Варфоломей, что без труда сверхсильного нет подвига. Без трудов бледнеет молитва. И он трудится, как батрак, чтобы угодить Великому Хозяину мира.
Он верит, что когда его не будет, когда он умрет, какой-нибудь другой пустынник, а может статься и двое и трое набредут, на эту усадьбу, поселятся в ней. Так надо приготовить, устроить в ней все получше, повольготнее. И в храме, и в избе, и в поле. Пусть порадуются и возблагодарят Господа.
И острое, могучее, неземное счастье охватывает все юное, светлое существо Варфоломея. Горит он весь. Раскрылся снова широко белый, сверкающий, благоуханный цветок его детски-невинной души, и весь он — горячее пламя всеобъемлющей любви к своему Хозяину.
— Боже, научи меня, что мне сделать, чтобы быть ближе к Тебе? Я — Твой, весь Твой. Приблизь меня еще к Себе, Господи!
— Падает на пол. Лежит, обессиленный, в полузабытьи…
Лучины трещат, озаряя скудным светом лица угодников на образах-складнях!..
Ночь бежит вдохновенно и тихо, светлая весенняя ночь. Поет соловушка. Ароматными поцелуями напоминают о себе ландыши — скромные, прекрасные цветы.
Вдруг внезапная мысль, как огонь горячая, обожгла мозг, душу, сердце юного отшельника.
О! Как он раньше не мог додуматься до этого? Разве он, Варфоломей, не приблизится к Богу таким путем?
О, эта мысль! Не Сам ли Ты, Всесильный, вложил ее в меня?
Поднял голову. Схватился за сердце, полное новой светлой тайны.
А радость огромная, светлая, как белая ночь, как дыхание ландышей, как соловьиная трель, заполнила душу.
— Теперь знаю, знаю, что делать! О, благодарю Тебя, Господи, за эту дивную мысль.
И упал снова, и плакал, и бился от счастья на полу храма, и готов был умереть по одному знамению Великого, Доброго Всесильного Божества.
Икона св. Николая Чудотворца, данная Преподобным Сергием в благословение при крещении державцу Терновскому Воейку Войтеховичу, приехавшему в 1384 г. из г. Тернова, в Болгарии, в сопровождении 150 человек сербов, болгар и пруссаков и принявшему православную веру.
Икона эта хранится в роде Воейковых; ныне находится в южном притовре Троицкого собора, где, по преданию, была келия Преподобного Сергия.
Св. Сергий Радонежский.
Образ работы Чернова, помещающийся в Рождество-Богородицком иконостасе в Казанском соборе в СПб.
XV
В лесной усадебке праздник.
Ничего подобного не видали еще лесные звери. Тихо жил один человек в лесу, работал в поле, за тыном, у избы, у церковки. А нынче не слышно ударов топора дома и в чаще. Куда-то уходил надолго.
Вернулся не один. Седой, как лунь, монах шел сзади. Вошли вместе в усадьбу.
И все сразу, все засветилось огнями. Лучины в храме, лучины в избе. Светло, хоть и осень, хоть на дворе хмурый октябрь.
Бурый Мишка, пришедший за подачкой, слышит тихий рокот двух голосов. Один старческий, древний, другой молодой, звонкий, сильный и свежий голос. Знакомый голос. От него дрожит что-то большое и радостное в медвежьем сердце бурого. Преданно, по-собачьи, научился любить бурый этого светлого, всегда ласкового красавца юношу, от синих глаз которого идут солнечные лучи.
В убогой избушке за столом сидят двое: старец Хотьковской обители, Митрофан, и юный хозяин лесной усадебки. За Митрофаном и отлучался из лесу Варфоломей. Одному ему никак нельзя исполнить задуманного.
Старца Митрофана он знает давно. При его участии схоронил умерших родителей. Он же, этот старец, постригал Степана в иноки.
Когда впервые светлым пламенем зажгла душу Варфоломея его тайная мысль, он сразу подумал о старце-монахе:
— Этот поможет! Этот не откажется напутствовать!
И пошел за ним в Хотьков монастырь. Упросил пойти в чащу, умолил исполнить задуманное.
Сейчас тихая, ликующая радость наполняет сердце Варфоломея. Старец здесь, старец согласен. Стало быть близок, близок желанный час.
Старец смотрит на юношу, мягко, любовно, как отец на сына.
— Дитя мое! Тверд ли ты в решении своем?
Пострижение Варфоломея.
— Тверд, святой отче!
— Сын мой, ты еще так молод. Не раскаяться бы тебе.
— Два года я провел здесь в пустыне, отче. Два года один. Хочу здесь и умереть. Хочу всю свою молодость, зрелые годы и старость — все сложить к стопам Божиим.
— Сын мой!.. Твои очи еще горят пламенно, в твоем пригожем лице играет румянец… Ты молод, прекрасен, добродетелен и кроток. Любая девушка с охотой пойдет за тебя замуж.
— Я не могу и не хочу жениться, отче! Я люблю Христа. Отдай меня Ему совсем, Пречистому. Прошу тебя об этом, отче!
Старец любовно взглянул на юношу.
Твердым решением сверкали молодые пламенные глаза. Силою несокрушимою дышала каждая черточка, каждая жилка в лице Варфоломея. Готовою жертвой нового подвига горел он весь, стройный и прекрасный в своем желании.
— Будь по-твоему! Молод ты для подвига такого, но мудрость старца вижу в прекрасном юном облике твоем. Ступай за мною.
И первый, сказав это, вышел из избы старец и пошел в церковь. Там всю ночь молились оба. Молились горячо и пламенно до рассвета.
Трещали лучины. Плакал ветер за окном убогого храма, обильными холодными слезами плакал октябрьский дождь.
— Все лето думал, мыслил об этом, боялся, а ныне, молю тебя, отче, постриги меня!
Слышится тихий шепот Варфоломея между словами священных, душу бодрящих молитв.
Ночь миновала. Скупое осеннее солнце накрылось вуалью, серою фатою завесилось.
Лучины новые сменили прежние в маленьком храме. Наступило утро 7-го октября, день празднования памяти Святых Мучеников Сергия и Вакха.
Солнце как бы смущенное выглянуло из-за серой завесы, улыбнулось в оконце и вдруг просияло.
Приобщение Св. Тайн.
Увидело светлое солнце посреди убогого храма двоих: в одной белой рубахе-хламиде с распущенными по плечам золотистыми кудрями двадцатидвухлетнего юношу у амвона перед Евангелием и крестом и седого монаха старца с ножницами в руках, читающего молитвы.
Упала золотистая прядь волос на пол. Упала. И дивным, словно благоуханным запахом роз повеяло по церкви. В ту же минуту убогая иноческая ряска покрыла юное стройное тело молодого постриженного, а золотые подрезанные кудри скрылись под монашеским клобуком.
— Свершилось! Прими мое братское лобзание, инок Сергий! — произнес старец и обнял юношу.
Как к родному отцу, прижался к нему вновь постриженный инок, и синие озера его глаз в эти минуты отражали небо.
* * *
На литургии приобщал Святым Тайнам молодого инока старец. Семь дней оставался Митрофан в бедной лесной усадебке и ежедневно совершал службу в храме, приобщая юношу, не выходившего оттуда всю эту седмицу и питавшегося одною в воде размоченною просфорою.
На восьмой день Варфоломей, принявший при пострижении имя Сергия, провожал старца снова в его обитель.
Прощание Сергия с Митрофаном.
Проводил до Хотькова, вернулся и зажил снова, зажил прежней отшельнической, рабочей жизнью, еще строже соблюдая молитвы и посты, еще сильнее трудясь в усадьбе и в поле.
Его желание исполнилось. Свершилась давнишняя греза. Господь приблизил его к Себе и дал ему возможность надеть темный смиренный клобук инока.
Рака Преподобного Сергия в Троице-Сергиевской лавре.
XVI
— У-У-У-У! — воет вьюга, злобствующая против всего мира, поднявшая войну старуха.
— Фю-фю-фю-фю!.. — насвистывает тоненьким голоском ветер.
— Жжжжжж!.. — как рой шмелей звонкокрылых, жужжит метелица.
И метет, и метет… И кружит. С ветром и вьюгой слилась. Поют и пляшут. Пляшут и притопывают, трое вместе на разные голоса. Дикая, жуткая, страшная музыка. Услышав ее, зябко вздрагивает путник и прибавляет ходу. Где тебе, милый? Не уйдешь! Налетит ветер — заворожить, закружит, зачарует. Метелица набежит, с ног собьет. Вьюга долго будет петь сладким певучим голосом, пока не наметут ветер с метелицей под вещие сказки ее высокие снежные сугробы и не схоронят тебя, милый, заживо.
— У-у-у-у-у! — поет вьюга.
— Фю-фю-фю-фю! — свистит ветер.
— Жжжж! — жужжат на тысячи голосов ненасытные шмели — дети свирепой метелицы.
Берегись, путник, берегись!
В маленьком лесном храме дрожит мигающая лучина. Над тяжелым псалтирем застыл, весь уйдя в чтение, Сергий.
Коленопреклоненный стоит он посреди своего убогого лесного храма. Чадящая лучина потрескивает, тут же втиснутая в расщепленный верх грубо сколоченного аналоя. Старый, ветхий пергамент, византийского бархата слинявший переплет… А слова? Слова вечно юны, вечно новы. Слова псалтиря — цветы. Благоухающие, по весеннему прекрасные, полные глубокого смысла. Тишина, уста шевелятся беззвучно. Трещит лучина, тихо мерцает лампада на амвоне, озаряя Пречистый Лик Матери и ее Младенца.
За дверьми же ветер и вьюга распевают свои дикие песни.
Сергий молится. Молодо и пламенно горит душа. Со словами Царя Псалмопевца Давида сливается она в общем хвалении. Но где-то внутри, в глубине сердца, невидимо, чуть ощутимо зарождается странный непонятный страх. Какое-то не то предчувствие недоброго, не то боязнь. Что-то, мнится юноше, должно случиться, и непременно случится страшное и роковое в эту ненастную, зимнюю, ползучую, как черный гад, январскую ночь.
В отдаленном глубоком уголке Сергиева сердца робко копошится, рождается боязнь. Растет что-то внутри помимо воли юноши.
Он знает, догадывается, что это.
Жуткий, маленький копошится суетливый червячок страха. Удивляется юноша.
— Что со мною? Один провел два года с половиной в дикой чаще, в пустыне, никогда не страшился, а тут…
Прыгает изумленно и тревожно вспугнутая мысль в его голове.
Все силы, все свое спокойствие призывает Сергий. Прогнать бы, прогнать скорее дикое, ненужное чувство, овладевшее им так жутко, так внезапно в эту ночь.
Молитва не идет на ум больше. Мысль путается, голова горит. Огромное, властное, ничем не сдерживаемое сейчас чувство страха подхватило, закружило, унесло, как вьюга за окном, как метель, как ветер. С треском погасла лучина… Один только огонек лампады скудно озаряет церковь. Темно. По стенам бегают прихотливые мрачные тени. Сердце перестает биться, сердце точно умерло в груди. Безобразный, нелепо настойчивый растет в душе страх.
Сейчас, сейчас! То, что поднимает волосы дыбом, что леденит мысль, должно свершиться сейчас.
Сильнее запела вьюга. Засвистел ветер. Загудела метель.
Еще темнее стало в маленьком лесном храме. Дрожащий и бледный, стоит одиноко Сергий посреди него.
Трах!..
С ужасным шумом надвое распалась стена церкви… Распалась, раздвинулась, образуя огромную брешь.
И в эту брешь вошли «они»…
Их было много, целый полк, целое скопище… Сергий видел, как они входили. Высокие, крупные, с зеленовато-бледными лицами и пламенными, как светляки, горящими глазами. На головах высокие шапки… Кафтаны литовского покроя на плечах.
Впереди всех самый высокий, мрачный, должно быть их вождь. Он выше всех, всех наряднее. Грозным, царственным пламенем сверкают его мрачные глаза.
Вошли. Окружили тесным кольцом юношу. Улыбаются значительной страшной улыбкой. Гибель в очах, гибель в лицах их и в этих улыбках гибель. Дрогнуло ужасом сердце Сергия. Он, не знающий страха, не боявшийся лесных дебрей, диких зверей и призраков, он затрепетал невольно перед этой страшной, вражеской силой.
Высокий вождь отделился. Протянул руку вперед. Дохнул в лицо юноши горячим, как адское пламя, дыханием.
— Слушай, Сергий, — крикнул резким, повелительным голосом, от которого дрогнули, казалось, самые стены маленького храма, — слушай, уходи отселе! Тебе говорят, подобру-поздорову, уходи! Наше место сие. Не мы тебя искали, ты нашел на нас! Коли не уйдешь отсюда, разорвем тебя на много частей!
Страшно засверкали черные очи… Заскрежетали зубы. Конвульсивно задвигались хрустящие пальцы.
— Уйдешь ли ты?
Вопрос звучал повелительно.
Очи Сергия, синие глубокие озера, медленно поднялись и погрузились в темную бездну пламенных глаз страшного вождя.
Дрогнуло бешенством лицо последнего. И, не желая отступать от раз намеченной цели, он крикнул дико и пронзительно на всю церковку, на всю лесную усадьбу, на всю чащу:
— Разорвем тебя тотчас, и ты умрешь!
— И ты умрешь! — с адским хохотом прокричали, просвистали, простонали остальные, и всею толпою, скрежеща зубами, пылая глазами, с шумом и гамом бросились разорять церковь.
Точно что толкнуло Сергия к земле. Он упал на колени, поднял к небу смятенный взор и вскрикнул, исполненный отчаяния, страха и глубокой веры:
— Да воскреснет Бог и расточатся врази Его и да бежат от Лица Его вси ненавидящие Его!
И сразу все стихло, смолкло… В одно мгновение ока исчезли страшные гости. Прежняя тишина воцарилась в храме. Как и прежде стояла неподвижно церковная стена, будто и не было в ней бреши, пропустившей «тех». Ни тени напоминания о них.
Явление Сергию мнимых литовцев.
И только кто-то, невидимый и жуткий, шептал на ухо Сергию:
— Отделался ныне, придем в другой раз. Не отвертишься от нас, человече!
* * *
«Они» сдержали обещание. «Они» пришли…
В тихую благовонную ночь лета «они» пришли снова. Сергий только что вернулся из храма. Юноша отпел там утреню и теперь шел отдохнуть до восхода солнца после бессонной ночи и трудового дня.
Неясное смятение ощущалось всем его существом сегодня. Знакомый трепет волновал его. Чудилось, что нынче свершится что-то снова в ночи.
Скорбела душа. Наростало непонятное, большое и тяжелое бремя в сердце. Он медленно сбросил с себя грубую иноческую ряску, снял клобук и приготовился уже лечь на жесткое, из деревянных досок сколоченное ложе, не притронувшись к обычной своей дневной пище — куску черствого хлеба, размоченного в воде, как сильный стук в дверь заставил его сразу насторожиться.
Стук повторился. Кто-то ломился в сени. Внезапно затряслась избушка. Задрожала земля. Зашумело, завертелось, затряслось все кругом от бешеного топота многих сот ног, бегущих по направлению к избушке… Казалось, целая татарская рать ломилась в усадьбу… Неистовые вопли, крики и стоны наполнили лес.
— Если хочешь быть жив, сей же миг уходи отселе! Зачем в эту глушь явился? Что хочешь найти ты в ней? И звери, и тати наполняют чащу. И ми не дадим тебе проходу, покуда не умрешь, либо не скроешься из наших владений… Мы погубим тебя!
Все слышнее, все явственнее неслись и росли крики. Дрожала земля от топота ног; от бешеных воплей шел гомон по лесу, по всей чаще.
Упал на колени Сергий. Молился исступленно.
— Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Не попусти, Господи, погибнуть грешного раба Твоего.
Глубоко ушел в молитву. Замер в ней. Забыл об ужасах, о времени, о криках и воплях. Вдохновенно ронял пламенные слова, как алмазы, жертвуемые Богу.
Забылся в молитве, ушел в ней далеко от земли. Не слышал, как утих адский стон и гомон.
Притих лес. Притихла чаща и усадьба. Самая ночь притихла.
Подползало румяное свежее радостное утро.
Забылся Сергий.
И вдруг снова:
— Тук-тук-тук!
Новый стук в дверь избушки. Но уже не прежний отчаянный, наглый, а тихий, робкий, несмелый.
Очнулся, надел ряску, клобук. Подошел к двери.
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, кто там?
— Аминь! — послышался за дверью человеческий отклик. — Открой во имя Отца Небесного, иноче Божий! К тебе мы издалече. С великой просьбой.
Мелькнуло на мгновение во вспугнутой душе Сергия:
«Не враг ли человеческий прикинулся? Не он ли это принял новый образ, чтобы смутить его, Сергиеву душу?»
Перекрестился истово, распахнул дверь…
Ворвалось в сени ласковое солнце. Ослепило на минуту. Зажмурил невольно глаза Сергий. Потом широко раскрыл их снова. Видит, залитые лучами солнышка, стоят четыре странника с посохами в руках. Глаза смотрят, не отрываясь, в лицо ему, Сергию, восхищенно и радостно в одно и то же время.
— Что вам, люди Божии? Чем могу вам помочь?
Тут рухнули все четверо на колени. Простерли руки вперед. Из глаз, по просветленным, счастливым лицам, катятся слезы. Один из них, пожилой, степенный, выдвинулся вперед. Говорит:
— Не оттолкни нас от себя, юноша-инок! Давно о тебе прослышаны, о твоем святом, подвижническом житье. Далече разошелся слух о тебе, преподобный инок. И возлюбили мы тебя и твой подвиг и жаждали приобщиться к тебе. Разгорелись души наши. Хотим того же. Не оттолкни нас. Дозволь поселиться рядом с тобою, построить келии, молиться в твоем храме Святой Троицы, поститься и отшельничать подле тебя. Дозволь, инок Божий!
И земно поклонился юноше старик. Поклонились также и остальные.
Сергий смущенно улыбнулся. Но светло и радостно засияли синие глаза.
— Братья мои, — произнес он робко, — чего, просите, не пойму. Лес Господень, дом Божий, усадьба — все Его же, Великого Хозяина, не мое. Я только батрак Его, работник, смиренный инок, молитвенник за свои и чужие грехи. Коли люба вам Божия пустынь, оставайтесь с Господом… Одного прошу: дозвольте мне выстроить вам кельи-избы, помочь по хозяйству, строиться. Любы мне труд да работа. Как милости прошу ее от вас.
И поклонился в свою очередь земно вновь прибывшим.
Странники молча переглянулись между собою. Потом снова низко поклонились юному отшельнику и с загоревшимися от радости глазами прошли, по его приглашению, в убогую избу.
С тех пор началась новая жизнь в лесной усадьбе.
За первыми братиями пришли другие. Одиночеству Сергия пришел конец. Но юноша не скорбел об этом. Увеличилась братия. Ожила с нею пустынь, умножились и его, Сергиевы, труды.
Сергий колет дрова и готовит пищу.
Собственноручно он строил избы и дворы для новых пришельцев. Колол им дрова. Носил воду. Помогал и трудами, и добрым словом и служил примером выносливости, трудолюбия и подвига для них всех.
Изображение иконы Преподобного Сергия, написанной, как говорит предание, в год обретения его святых мощей одним из учеников его и находящейся в церкви Новгородского Архиерейского дома.
XVII
ПРОШЛО много лет. Четыре десятка лет, если не больше. Не узнать убогой маленькой церковки в лесной чаще. Не узнать и лесной усадьбы, выстроенной когда-то руками благочестивого юноши. Пришедшая в пустыню братия вместе с Сергием, избранным ими игуменом и главою их, позаботилась об улучшении Храма Божия во имя Святой Троицы. Богатые вотчинники, князья, гости московские и дальние не мало пожертвовали для ее украшения. Вокруг лесной избушки выросли и другие. Сам Сергий неустанно трудился для своих новых товарищей. Рубил деревья, тесал бревна, мастерил жилища. Вначале было не легко. Не хватало хлеба, не было припасов. Голодали сильно. Питались гнилыми корками, вместо свечей в храме жгли бересту… Но с годами улучшалась жизнь в пустыни. Доброжелательные богатые люди помогали, кто чем мог, прослышав о честной, прекрасной, подвижнической жизни отшельников. Молитвы пустынников, а особенно Сергиевы, давали отраду, счастье, и миряне в свою очередь старались, чем было под силу, помочь Божьим людям. Удельные князья Старой Руси наезжали сюда перед битвами просить благословения на опасное дело. И здесь, в тишине и благоговении, отец братии, Сергий, основатель Троице-Сергиевской обители, за всех без различия, за князей и бояр, за богачей и нищих слал небу свои горячие, пламенные молитвы.
Сергий за работою на братию мелет.
* * *
Ночь. Тихая, летняя.
Небесная лампада горит ясным, ровным, ласковым, тихим пламенем. Голубоватым огоньком сияет месяц — Божия лампада в высоких заоблачных гридницах.
На земле тихое томление ночи.
Сергий носит воду.
В скромной маленькой келье над священным писанием сидит седой, как лунь, старец. Правая рука с пальцами, сложенными крестом, то и дело творит знамение.
Лицо бледное, сухое, прекрасное в своем спокойствии. Лицо отшельника, отдавшего все свои силы, всю жизнь и труд Господину Неба и Земли.
Глаза те же синие озера, чистые, как подводная глубь. Те же глаза юноши Сергия, что были и в молодости. По ним, да по вдохновенным прекрасным чертам в старце-игумене Троице-Сергиевской обители можно узнать былого юного Радонежского пустынника.
Ночь поет за окнами сонмом неслышных голосов. За дверьми, в сенях слышен легкий храп ученика Сергиева, Михея.
С тех пор, как чувствует старец-игумен телесный недуг, день и ночь добровольно проводит у дверей его кельи по желанию братии Михей.
Не долго осталось Сергию прожить среди своих друзей, отшельников. Чует вещее сердце — скоро, скоро…
Быстрым, сладким сном пронеслась его пустынная жизнь. Как наяву, снова проходят перед ним знакомые далекие картины сладкие мгновения, скорбные минуты, улыбки Божьего блага к нему, Сергию… Все переживается в далеких воспоминаниях странно и дивно, как сон…
Братия выбирает Сергия в игумены.
* * *
…Душный июльский день. Зной раскаленный. Бессилие земное перед пламенной властью разгоревшегося светила. Трудно, невозможно работать в такой день. Опускаются руки. Силы покидают. Невольно подкашиваются колени к земле.
В обители мало хлеба. Братия запаслась кое-чем, гнилыми корками, лесными кореньями. У него же, их игумена, ничего нет. Что было, раздал другим, младшим.
Трое суток питался одною водою да крохами просфор. На четвертые ослаб… Четвертые приходятся как раз нынче. Вспомнил вдруг, что старец Даниил хотел пристраивать к избе своей сени. У Даниила, знал Сергий, было больше всего запасу хлеба. Бережлив был до припасов старец Даниил.
К нему и пошел Сергий.
— Дозволь мне выстроить, отче, тебе сени. Зато покормишь сухим хлебом меня, — просит он старца.
Тот соглашается смущенно. Выносит хлеб, целое решето. От старости он покрыт плесенью, загнил. Извиняется инок:
— Прости, отче игумене, какой есть!
— Спасибо, — говорить Сергий, — отдашь мне, когда выстрою.
И берется за топор.
При жаре и зное трудится без устали. К вечеру готовы сени. Принимает заработанный от старца сухой хлеб и с молитвою садится под деревом за скромный ужин…
…Дальше, дальше бегут воспоминания.
Новый ужас среди братии, новое испытание. Иссяк родник в лесу, откуда сам игумен, как скромный послушник, носит в обитель воду, одетый в рваную грубую рясу из старого холста. В летнюю знойную пору высох родник.
Ропот пошел среди братии. — Жажда — худшая нужда, нежели голод — заставляет забыть себя, свою великую цель спасения, для чего привел сюда Господь.
Ропщут угрюмо и гневно, как враги:
— Умрем от жажды! Погибнет обитель!
Тогда он идет, Сергий, в сопровождении инока в лес, к оврагу. И не сам идет. Будто какая-то чужая, дивная сила толкает его.
В овраге, поросшем диким бурьяном, крапивой, сохранилось несколько капель дождевой воды…
И опять точно что-то свыше толкнуло Сергия, и он упал на колени.
— Господи! — шептали его пересохшие от жажды губы.
— Господи Боже наш, услыши нас в час сей и яви чудо.
И услышал Великий Хозяин слова своего работника и явил чудо.
По каменистому руслу оврага брызнула студеная струйка. Забил, засверкал, запрыгал ручей.
Воспрянула духом приунывшая братия и славила Бога, а чудесный источник назвала Сегиевой рекой…
…И еще воспоминания, и еще картины…
Была темная зимняя ночь. Он помнит хорошо ей подобную ночь, Божий старец. Тогда гудела вьюга, тогда метались страшные чудища бесовских полчищ по церкви. Но теперь не было ужасов вражьих. Только те же холод и стужа свирепствовали за окном. Он сидел за чтением священного писания, как и сейчас, ныне.
Стукнули в дверь. Вошел известный обители боярин, радонежский вотчинник. За десяток верст пришел он к игумену. Принес на руках больное дитя, мальчика сына, прелестного, юного, но хилого, как бледный чахлый цветок.
— Вот, отче, — говорит Сергию боярин, — помоги моему отроку, нарочно нес его на руках всю дорогу, без челяди, без холопов, трудность пути увеличил, чтобы подвигом угодить Господу. Помоги ему, помолись над ним, отче. Недужен крепко. Твоими молитвами, верую, вернется к моему желанному былое здоровье.
Слезы льются из глаз боярина, крупные, обильные слезы. Это дитя — его единственный сын, единственные его радость и утешение. Дрожащими руками разворачивает теплые меховые одежды, укутывающие тщедушное тельце мальчика, и внезапно с воплем отчаяния и ужаса отскакивает от него.
— Дитя умерло! Мой сын — мертв! О, зачем, зачем я верил в тебя и принес его в твою обитель, Божий старец? Остается мне идти за гробом и схоронить мое дитя.
И с воплями, стенаниями, осыпая упреками Сергия, сраженный горем отец выбежал из кельи, сел у порога, закрыв лицо руками.
Ночь по-прежнему бесстрастно катила свое темное колесо. Пела вьюга за дверью. Крепчала стужа. Слабо мерцали в снежном тумане смеющиеся глазки золотых звезд.
Мертвый ребенок с восковым личиком лежал на постели Сергия. Подошедши к нему, игумен смотрел то на заостренные черты маленького покойника, то на светлый и кроткий лик Спасителя, озаренный на иконе сиянием лампад.
И снова будто что толкнуло Сергия. Упал на колени. Распростерся на полу. Молил горячо, с пламенным желанием в душе:
— Исцели, воскреси, возврати, Господи!
Потом наложил руки на холодное мертвое личико ребенка, на не дышавшую больше похудалую грудь.
И чудо свершилось. Затрепетали длинные ресницы. Недоумело раскрылись темные детские глазки.
Исцеление Сергием замерзшего боярского сына.
— Где я? — испуганно прошептал оживший мальчик и сел на постели.
Не успел объяснить ему ничего Сергий, вошел отец.
— Вот он, сын твой! Дитя живо. Оно только закоченело от стужи в дороге.
С криком счастья бросился боярин к сыну. Ласкал, обнимал его и плакал, плакал. Потом до земли поклонился Сергию.
— Это ты воскресил его, знаю!
Но скромный игумен отрекся, настаивая на своем:
— Ребенок обмер только от стужи. — И просил не говорить иначе другим…
…Потом еще плыли картины…
Исцелил бесноватого больного, страдающего много лет. И не он, а молитва, та великая молитва, которою он, как благоухающей священным ароматом цветок, смиренно и робко возносил Богу.
Исцеление Сергием бесноватого больного.
Была в то время страшная година на Руси. Хан татарский Мамай, со всеми своими ордами, двинулся на русские владения.
Напрасно князь Дмитрий Иоаннович Московский пытался умилостивить его богатыми дарами. Мамай и слушать не хотел о милостях и грозною тучей обрушился за пределы Руси…
Объявлен был поход, перед которым князь Дмитрий Иоаннович, получивший впоследствии прозвание Донского, поехал поклониться Троицким Святыням и испросить благословения у ее игумена Сергия, прославившегося в то время своими скромными подвигами далеко по всей Русской земле.
Он, как сейчас, Сергий, помнит все это. Помнит звучные удары колокола на его Троицкой обительской церкви. Как сейчас видит подскакавший к их лесному монастырю отряд закованных в блестящие латы и кольчуги конников. Великий князь Дмитрий впереди всех…
Смиренно спешился у ворот обители. Как простой воин, до земли склонился перед ним, Сергием. Просил помолиться за него, за всю Святую Русь.
Беседа Сергия с вел. кн. Дмитрием.
Вошли в церковь, залитую огнями, убранную празднично, радостно.
Свершался священный обряд. Приносилась бескровная жертва в алтаре. Дивно пели иноки-клирики в это утро. Умиленно молились витязи с князем. Молился еще пламеннее, еще горячее всех их он, Сергий — скромный игумен обительский.
А в монастырской стольной гриднице уже ждала дорогого гостя скромная трапеза.
Помнит Сергий, как вкусил с ними вместе их скромной пищи великий князь. Как во время трапезы отыскали его орлиные очи двух братьев-иноков, Пересвета и Ослабя, бывших прославленными воинами в миру. Как стал просить великий князь отпустить с ним обоих братьев на ратное поле.
Согласился тогда он, Сергий. Вместо шлема надел схимы на головы иноков-братьев с изображением на них Животворящего Креста. Потом благословил их, великого князя, весь отряд последнего. Окропил святой водою и тихо шепнул на ухо Дмитрию:
— Победиши враги твоя!
Не он сказал, а кто-то иной произнес эти слова его устами.
И были они, как пророчество… Победил Мамая великий князь. На Куликовом поле разбил Дмитрий татарские орды Мамая.
Погиб в поединке с витязем-богатырем татарским инок Пересвет, погибли многие русские доблестные воины-богатыри, но все же Русь победила и нанесла первое тяжелое поражение непобедимому доселе хану.
Иноки на Куликовом поле.
В день Куликовской битвы он, Сергий, посылал инока Нектария с благословением, грамотою и просфорою великому князю и его войску, а сам с братией горячо молился в это время в своем уединенном Троицком храме.
Свершилось Божие пророчество. Оправдались его слова, сказанные тихо на ухо великому князю здесь, в обители. Дмитрий победил татар…
…И еще, еще другие картины.
Предложение Сергию стать Владыкою Московским.
Посольство от патриарха и грамота ему, смиренному пустыннику радонежских лесов. Вселенский патриарх, прослыша о нем, слал ему, Сергию, свое благословение и приказание основать настоящее общинное житие.
Вспомнилась и его дружба с московским митрополитом, предложение ему, Сергию, стать Владыкою Московским, и отказ его, Сергия, от чина митрополита. Вспоминаются старцу и его увещания ненасытного в распрях удельного Рязанского князя, Олега, и как, благодаря этим уговорам и увещаниям, смирился жестокий князь.
И еще ему вспомнилось основание новых обителей в Киржаче и на реке Дубенке, основание Стромынского монастыря и других.
Плывут, плывут видения… Переживаются снова, воочию видятся старые картины…
Икона Преподобного Сергия с учениками в Северном притворе Троицкого собора.
ПРЕПОДОБНЫЕ ОТЦЫ.
Симон. Наум. Варфоломей. Иаков.
Ксенофонт.
Аврамий Галицкий. Стефан Махрищский. Мефодий Пешношский. Кирилл Белоезерский.
Евфимий Суздальский. Андроник Московский. Димитрий Прилуцкий. Стефан Пермский.
Федор Ростовский. Михей. СЕРГИЙ.
Онисим. Василий. Иаков. Макарий.
Афанасий Серпуховский. Григорий Авнежский. Никита Серпуховский. Сергий Нуромский.
Максим Грек. Ферапонт Можайский. Савва Сторожевский. Павел Комельский.
НИКОН. Дионисий. Серапион.
Предсмертное причащение Преподобного Сергия.
Картина иконописца Троице-Сергиевской лавры, иеромонаха Симеона, удостоенная почетного отзыва на Парижской всемирной выставке.
ХVIII
ДО утра еще не скоро. Еще далеко не кончена ночная, не слышная, как тайна, песнь. Достаточно времени до утра помолиться. Есть о чем молиться Сергию. Точит его больная дума. Скоро конец, а как без него останется его братия. И перед иконой Богоматери падает на колени Сергий и поет акафист Божией Матери. Чистый, радостный голос выводить знакомые, прекрасные слова.
Они просят за святую обитель, за смиренную братию, за своих детей. Помочь им всем после его, Сергиевой, смерти, за весь мир нуждающийся в помощи, за все грешное человечество, просят они Небесную Царицу, Ходатайницу перед Богом, словами акафиста в эту ночь.
Далеко кругом слышна священная песнь. То вдохновенно звучит она, то понижается до шепота, то нарождается снова и тает, тает среди ночной тишины.
Вдруг тихий, не то зов, не то брошенное чуть внятно слово заставило молящегося чутко насторожиться. Почудилось что-то новое, неведомое, незримое. Что-то властно-победное охватило все его существо. Кто-то приближался к нему, кто-то сильный и светлый неслышно ступал точно по воздуху.
Сергий, трепещущий в сладком предчувствии неземного счастья, вышел в сени. Разбудил Михея, наскоро шепнул ему предупреждение не спать, бодрствовать, и сделал несколько шагов навстречу Тому, Кто шел. Мгновенно яркое, как днем, солнечное сияние, только еще более праздничное и сверкающее, осветило келью и сени.
Какое-то сияние, какое-то облако, млечно-лазоревое, прозрачное, исходящее лучами.
Среди облака в золотом сверкании алмазных солнечных игл — Она, Царица. Прекрасное Лицо. Бледное, тонкое, где скорбь былого соединилась с блаженством настоящего и будущего. Посох в руке. Два неведомых старца по обе стороны. Напоминали их лица отдаленные образы апостолов Петра и Иоанна…
Она вошла тихо, точно вплыла в сени. Взглянула. Был дивно светел этот взор. Уста раскрылись:
— Не бойся, избранник Мой, — произнесли ее божественные губы. — Я пришла к тебе, услышана твоя молитва. Не скорби об обители твоей. Отныне будет она иметь изобилие во всем, и после твоей кончины Я неотступно буду покрывать ее.
Неземные звуки, сладкие и чудные, заставили затрепетать от радости Сергия. Он упал у Божественных ног Царицы, хотел умереть на месте, касаясь руками Ее легкого, как голубой дымок, одеяния. Хотел, рыдая, поверить Ей всю сложную повесть своей бесконечной любви к Ней, к Божественному Сыну-Богу. Но уста не повиновались. Молчали уста.
Легкий шорох, дуновение… Сладкая, как греза, близость Чего-то всеобъемлющего, сильного, рокового… И все исчезло.
Когда поднял голову Сергий — не было уже в сенях и в келье золотого солнечного сверкания. Ночь стояла за окнами. Отдаленно близился рассвет.
Лежал без чувств ученик Михей в углу, испуганный, потрясенный. Он видел свет и ничего более…
Сергий подошел к нему. Положил руки ему на плечи. Сказал:
— Встань, сын мой, не бойся. Царица была между нами. Успокоила меня, грешного. Обещала покров и защиту обители нашей. Теперь спокойно могу умереть…
Троицкая лавра: общий вид с западной стороны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СРЕДИ городов и селений, деревень и усадеб много сотен лет, в самом сердце России, высятся стены большого крепкого монастыря.
От Москвы Белокаменной она близко, эта Божия обитель, основанная когда-то юным отшельником Радонежских заповедных лесов. Обитель эта Троицко-Сергиевская Лавра, сыгравшая такую важную роль в истории нашей отчизны. Привлеченные ее несметными богатствами, ее церковной утварью и роскошью обстановки и другими скрытыми в недрах ее сокровищами, накоплявшимися в ней веками, враги России — иноплеменники и свои мятежные, заблудшие люди — не раз осаждали ее, но безуспешно. Татары проходили мимо нее, как бы Самим Богом отвлеченные от православной Святыни. Поляки осаждали ее безуспешно. Свои русские воры, приверженцы Самозванца, не могли ее взять. Здесь находили в свою очередь защиту и спасение и цари земли русской. Отсюда лились вдохновенные призывы к защите родины, слались грамоты и благословения, поддерживавшие в трудные минуты душевные силы православных борцов.
Шли годы, десятки лет, столетия…
Лавра выросла, окрепла. Лавра стала одним из богатейших русских монастырей. Но выше всех ее сокровищ, выше золотой утвари и драгоценных икон считается священная рака с останками преподобного Сергия, ее основателя и первого работника этой святыни.
С севера, юга, запада и востока, из цветущих городов и бедных деревенек, со всей великой и обширной Руси, тянутся сюда и здоровые, счастливые, богатые люди, и нищие, больные, искалеченные нуждою и жизнью, тянутся к святой раке, к Троицкой обители, неустанные во всякое время года паломники-богомолы. Всех их влечет сюда одна цель, одно желание: поклониться раке Преподобного, помолиться мощам Святого. И, уходя из Лавры с каким-то новым, просветленным чувством, каждый уносит с собою сладкое умиротворение, как целительный бальзам, врачующий больную душу, дающей крепкую, бодрую веру и светлую радость и надежды на светлое будущее. Им чудится: Сам преподобный внимательно выслушал их горячие молитвы, сам смиренный работник Великого Хозяина Земли, сам кроткий тихий молитвенник за грешный мир и великий подвижник благословил всех, чаявших от него помощи и утешения. И с радостным сердцем уходят паломники, унося в своих воспоминаниях светлый благоуханный цветок — повесть жизни и подвигов Сергия Радонежского и тихое безмолвное благословение этого чистого и светлого, необыкновенного, святого человека.
КОНЕЦ.
Примечания
*)
Лодку.
(обратно)

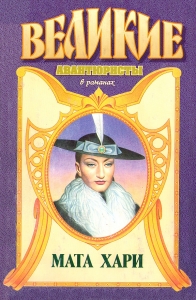



Комментарии к книге «Один за всех», Лидия Алексеевна Чарская
Всего 0 комментариев