I
Князь Гурий Львович Каравай-Батынский, бывший при государыне Екатерине «в случае», но недолго, награжденный богатыми имениями, проживал в добровольной ссылке в своем родовом поместье — Вязниках. Вкусив от опьяняющего зелья власти, он не захотел, не удержав своего достоинства, вернуться вновь в ряды обыкновенных царедворцев и, уехав в свои Вязники, поселился там, как говорил он, навсегда.
Вязниковский дом отстроил он заново по планам Растрелли, сделал из него дворец, окружил огромным парком, собрал вокруг себя мелкопоместных дворян и создал себе из них нечто вроде придворного штата. У него были два камергера, пять камер-юнкеров, один шталмейстер и целый полк камер-лакеев, гоф-фурьеров и арапов, в которых, за неимением настоящих, он красил крепостных Филек и Прошек.
Для гостей существовал целый флигель, и всякий, кто желал, мог пожаловать на даровые хлеба к расточительному князю. Впрочем, говорили, что его богатство таково, что невозможно прожить его одному человеку. Многие жили во флигеле недели по три, не представляясь хозяину из боязни обеспокоить его или, главное, не понравиться ему.
Балы, роскошные пиры, спектакли собственной балетной и драматической труппы, охоты, рыбные ловли и пикники с потешными огнями и хитрыми иллюминациями не прекращались в Вязниках.
Иногда, хотя это и редко бывало, князь Гурий Львович в самый разгар какого-нибудь празднества вдруг вставал с золоченого кресла, в котором имел обыкновение сиживать, и громким голосом кричал во всю мочь:
— Убирайтесь вы все вон!.. Надоели!..
Тогда гости вперегонку разбегались — никто не желал остаться последним. По обычаю князя последнего обливали тут же в зале, будь то кавалер или дама, ушатом воды. Разбежавшись, гости спешили по домам.
Проходило некоторое время, отдыхал князь, как говаривал он, от суеты мира и светского шума в кругу своих преданных рабов и рабынь — и снова во все стороны летели гонцы собирать гостей к княжескому столу. И гости находились, съезжались, наполнялся флигель, и опять начиналась прежняя шумная жизнь в Вязниках.
От Вязников жалованные поместья князя тянулись почти на полторы губернии без перерыва.
Дороги у него были как бархат и содержались в безукоризненной исправности, но на всех въездах во владения Каравай-Батынского стояли рогатки и заставы, проехать через которые можно было только с особого разрешения самого князя. Надо было подать ему прошение об этом, выждать милостивой резолюции, и если таковая следовала, то тогда можно было ехать безвозбранно.
Недоразумений из-за этих рогаток происходило многое множество вследствие обширности княжеских земель, в силу чего число проезжих было большое. Однако исключений не делали ни для кого.
Раз проезжала важная персона из Петербурга, но и ее не захотели пропустить через заставу без дозволения князя. Она начала так браниться, что караульный оробел и поднял шлагбаум. Он оправдывался потом тем, что персона, по всей видимости, была очень важная, потому что бранилась уж очень крепко. Однако, едва успела проехать коляска с персоной, выскочил начальник караула из караульного дома и опустил шлагбаум как раз в то время, когда под ним проезжал тарантас с камердинером персоны. Шлагбаум ударил того по лбу, и так сильно, что беднягу подняли замертво.
Пока начались об этом дело и следствие, караульный мужик, поднявший шлагбаум проезжему, не имевшему княжеского пропуска, был привязан на три дня по приказанию князя к этому самому шлагбауму и, лишенный воды и пищи, должен был волей-неволей то подниматься на воздух, то опускаться, чтобы знал вперед, как быть ослушником господской воли.
Для расследования по этому делу был нарочно прислан из Петербурга доверенный чиновник.
Получив об этом известие, князь разогнал немедленно всех гостей от себя и призадумался. Дело выходило нешуточное. Оно грозило серьезными последствиями.
В губернский город, куда уже прибыл чиновник, был послан от Каравай-Батынского уполномоченный, получивший приказание не скупиться на деньги. Петербургский чиновник не выдержал: взял предложенные ему пятьдесят тысяч рублей, отослал их жене и детям, а сам застрелился.
II
Вскоре после этого случая, благодаря которому князь Гурий Львович окончательно перестал уже различать границы между самоуправством и самовластием, к рогатке на рубеже его имений подъехала тройка ямских лошадей. В тарантасе сидел не старый, но не молодой уже человек в военном сюртуке. Лицо у него было загорелое, сложение сильное, руки огромные. Роста он был высокого.
— Какой еще пропуск нужен, коли я еду с царским паспортом? — ответил он на требование от него особого пропускного княжеского листа и, выйдя из тарантаса, преспокойно оттолкнул сторожа, после чего с такою легкостью сорвал железную скобу, точно она была оловянная.
Сторож, тот самый мужичонка, что три дня болтался привязанный к шлагбауму, видя столь решительные действия со стороны проезжего, кинулся ему в ноги и стал молить, чтобы тот не губил его, что если проедет он через заставу силой, то несдобровать ему, бедному мужичонке.
Проезжий смилостивился, улыбнулся и спросил только:
— Как же теперь быть?
— Позволь, батюшка, кормилец милостивый, отвести тебя под конвоем в княжеский дом, — стал просить мужичонка. — Обиды тебе никакой не будет. Отведу тебя и сдам с рук на руки, честь честью, и вечно Бога молить стану…
— Ну, а конвоиром-то ты будешь? — снова улыбнулся проезжий.
Мужичонка приосанился.
— Я самый, милостивец!..
— Ну, веди, дурья голова! Посмотрим, что из этого выйдет…
Мужичонка опять поклонился ему в ноги и, выпрямившись, важно зашагал с дубинкой в виде оружия за огромным, коренастым, сильным человеком, способным, казалось, убрать одним махом десятерых таких, каков был он сам. Тройка поехала сзади шагом.
Князь, окруженный гостями, сидел на террасе, когда ему пришли доложить, что сторож Трофимка привел от заставы под конвоем проезжего, который желал ослушаться его княжеской воли.
— Ну, ведите сюда этого ослушника! — приказал князь. — Мы разберем это дело.
Огромная терраса с вычурными фигурными колоннами была завешена полотном с солнечной стороны. В тени сидел князь в золотом кресле, окруженный своими приспешниками. У кресла стояли дежурные камергер, камер-юнкер и секретарь, а сзади — огромный гайдук Иван, любимец князя, выходивший один на медведя с рогатиной. Пред князем на столике были цветы, вино в хрустальных кувшинах и фрукты. Гости держались в стороне, в отдалении. Сидели из них очень немногие; большинство садиться не смело.
От террасы вниз к реке шла широкая лестница уступами, с засаженными цветами площадками; по бокам лестница была украшена большими вазами, полными пахучих цветов. За рекою виднелись поля с полосою синего леса вдали.
Когда ввели арестованного Трофимкой «ослушника», все — и князь, и гости — ахнули от удивления: каким образом лядащий мужичонка мог силой привести такого огромного человека? Но князь рассудил по-своему, поняв дело так, что проезжий приведен сюда не силой Трофимки, а страхом пред его, князя Каравай-Батынского, могуществом.
— Кто ты такой, что смел выказать намерение ослушаться моих приказаний? — спросил он, развалившись в кресле.
Проезжий осмотрелся кругом, как бы ища места, куда присесть, но, не найдя свободного стула, обратился к князю и ответил, явственно произнося каждое слово:
— Я — такой же, как и ты, дворянин, Александр Ильич Чаковнин, а вот когда мы с тобой на «ты» побратались, этого я не упомню хорошенько.
Между гостями произошло смятение. Дежурные камергер и камер-юнкер отступили шаг назад. Никто не подозревал, что можно разговаривать с князем так дерзко.
— Вот ты как отвечать умеешь! — проговорил Каравай-Батынский. — Ну, хорошо, голубчик, мы поучим тебя вежливости… Отведи-ка, Ваня, его в отдельную, пусть посидит на хлебе и воде!.. Это нрав злостный укрощает, говорят! — и князь, чтобы успокоить свое сердце, отпил из хрустального бокала большой глоток вина.
III
Едва двинулся гайдук Иван со своего места, как Чаковнин схватил с подвернувшегося ему под руку столика мозаиковую крышку и замахнулся ею.
— Подойди только — голову расшибу!.. Слушай, князь, — заговорил он, обратившись к Каравай-Батынскому. — Пришел я к тебе добровольно — сам можешь судить, что не мужичонке хилому привести меня сюда — значит, я твой гость, а с гостями так не обходятся. Холопа твоего я на месте уложу, если он посмеет еще шаг ступить. А тебе вот что скажу: или ты за оскорбление, как подобает дворянину, разведешься со мной на честном поединке, или удовлетворишь меня извинением, или же я пущу в тебя сейчас этой крышкой, будь спокоен — без промаха, ловко придется.
Он слегка пригнулся и держал крышку наотлет так, что целил ею прямо князю в голову.
Уж очень большая решимость виделась во всей его фигуре, и глаза блестели так гневно, что можно было поверить, что он готов в самом деле исполнить свою угрозу.
Гайдук Иван, не щадя живота своего, кинулся было на защиту своего господина, но, по счастью, князь спохватился.
— Куда ты прешь, Иван? — крикнул он. — Или не видишь, что господин не шутит?.. Мне тебя не жалко, мне жалко мозаичной крышки. Я ее из Италии выписал, а он ее разобьет. То есть нет у этих холопей никакого уважения к предметам искусства! — С этими словами он встал, подошел к Чаковнину и, шаркнув ногою и изогнув спину, сделал приветственное движение рукою, говоря: — Государь мой, милости прошу вас как гостя остаться у меня, ибо вижу, что имею дело с достойным человеком и дворянином.
Чаковнин положил крышку на место и в свою очередь поклонился, сказав:
— Вот такое обращение, князь, нам с вами гораздо более приличествует.
Каравай-Батынский повел его к своему столу. Один из гостей сейчас же схватил свой стул, перенес его и поставил для Чаковнина.
— Табачку не угодно ли? — предложил Чаковнину князь, усаживаясь и протягивая ему золотую, осыпанную камнями табакерку.
— Спасибо, — ответил тот, — только свой нюхаю… Вот-с, может, моего угодно? — и он достал из кармана медную, тяжелую, огромную табакерку с простым зеленым табаком и, понюхав, подал ее князю.
— Дружба, значит, дружбой, а табачок врозь! — рассмеялся князь. — Ну, а винца стаканчик, холодненького, со льдом?
— Вот от винца не откажусь.
Князь повел глазом в сторону камергера, и тот, поспешно схватив кувшин, налил Чаковнину вина в стакан.
— Ну, князь, я на тебя не сержусь больше — Бог с тобой! За твое здоровье пью, — сказал Чаковнин, взяв стакан.
Среди гостей пробежал неодобрительный шепот. Всем показалось, что князь передернулся и опять, на этот раз уж окончательно, рассердился на дерзкого приезжего и крикнул на самих гостей:
— Чего там разговариваете? Вести себя не умеете!.. Вы у меня поговорите еще!
Все снова притихли.
Князь стал спрашивать своего нового гостя, откуда и куда он едет и много ли намерен провести времени в дороге. Тот отвечал уклончиво: сказал только, что был в своей вотчине, а теперь возвращается в Петербург.
Толстый дворецкий в голубой ливрее и пудре доложил, что кушать подано. Князь встал и, обратившись больше к одному Чаковнину, пригласил, опять изогнувшись:
— Милости прошу!..
Камергер и камер-юнкер пошли вперед, потом князь с Чаковниным, за ними секретарь, потом остальные гости целой толпою. Дам среди них не было.
Столовая — огромный зал с отворенными в сад высокими, начинавшимися от самого пола окнами — была, как оранжерея, уставлена растениями в кадках. Посредине был накрыт стол на шестьдесят кувертов с золотыми приборами, с гербовым сервизом и хрусталем. Как только уселись за стол, раздалась роговая музыка с хор.
Пред прибором князя, возле которого было указано место Чаковнину, лежало разрисованное меню с наименованием блюд, составлявших обед:
«Похлебка из рябцев с пармезоном и каштанами.
Филейка большая по-султански.
Говяжьи глаза в соусе.
Говяжья небная часть в золе с трюфелями.
Хвосты телячьи по-татарски.
Телячьи уши крошечные.
Баранья нога столистовая.
Гусь в обуви.
Бекасы с устрицами.
Гато из зеленого винограда.
Крем жирный, девичий».
Кроме этих блюд князю подали оливку, приготовленную совершенно особым способом, как объяснил он, съедая ее с огромным удовольствием. Из этой оливки была вынута косточка и на место ее положен кусочек анчоуса. Оливкой начинен был жаворонок, заключенный в жирную перепелку, перепелка — в куропатку, куропатка — в фазана, фазан — в каплуна и каплун наконец — в поросенка. Все это жарилось на вертеле. Величайшую драгоценность в блюде составляла оливка, которая, находясь в средине, напитывалась тончайшими соками окружавших ее снадобий. Эту «драгоценность» и съел сам князь.
С Чаковниным он был все время очень любезен и разговорчив, но, когда вечером остался один в уборной со своими слугами, раздевавшими его под руководством камергера, несколько раз повторил, проворчав вслух:
— «Разведись со мной поединком, я не сержусь на тебя»! Ах ты, шут этакий породный! Я покажу тебе твое место!
В числе других приказаний, данных им в этот вечер, он велел «выдрать докрасна» (что значило до крови) гайдука Ивана на конюшне за «неуважение его к предметам искусства», вследствие которого «чуть было не разбили» дорогую мозаиковую крышку со столика на террасе.
IV
Чаковнину была отведена комната во флигеле, которую показал ему старый дворовый, юркий человек с острым носом и бегающими карими глазками, блестевшими, как черные агаты. Он называл себя просто Степанычем и обещал отзываться на эту кличку.
Комната была на двоих. По этому поводу Степаныч рассыпался в извинениях, добавив, что съезд нынче настолько велик, что уж волей-неволей приходится потесниться.
— Да мне все равно, — успокоил его Чаковнин. — Кто ж такой мой сожитель?
— Труворов Никита Игнатьевич, — пояснил Степаныч, — барин весьма обходительный и вальяжный.
Что, собственно, понимал он под этим словом, для Чаковнина так и осталось неразъясненным.
«Вальяжный» барин стоял в одном камзоле, когда вошел Чаковнин.
— Ну, что там, какой там!.. — протянул он нараспев в ответ на приветствие.
— Я имею честь разговаривать с господином Труворовым? — переспросил, настаивая, Чаковнин.
— Ну, что там, все равно там! — ответил тот опять и так дружелюбно и ласково улыбнулся, что эта улыбка сразу расположила к нему нового знакомого.
Было что-то детски наивное и во взгляде, и в как бы удивленно поднятых бровях Труворова, и в особенности во всем его добродушном толстом лице с полуоткрытым ртом, как у грудного младенца. Говоря, он так торопился, пуская пузыри изо рта, что, казалось, хотел слишком много сказать сразу и потому ему слов не хватало, и ничего не мог выразить.
— В котором часу вставать изволите? — суетился Степаныч вокруг Чаковнина. — Вы прикажите только — я к тому часу и платье почищу, и сапоги, и горячего принесу, чего пожелаете: сбитню там или шоколаду, или и кофею даже, потому у нас сам князь кофе кушать изволят и гостям предоставляют лакомство это, сколько кому угодно.
Чаковнин сказал, что ничего ему не нужно, что проснется он и встанет без помощи Степаныча и платье вычистит сам, а будет пить то, что дадут ему, лучше всего молока стакан.
— Как можно молока! — стал возражать Степаныч. — У нас и кофе со сливками сколько угодно… А вот ежели ночью испить захотите, так тут на столике у изголовья графинчик с кваском поставлен…
Насилу Чаковнин отделался от него. Степаныч все предлагал свои услуги, чтобы помочь раздеться. Ушел он лишь тогда, когда Чаковнин раз десять повторил ему, что благодарит и совершенно в нем не нуждается.
Белье на постели было хорошего полотна. На тюфяке лежала высоко взбитая пуховая перина, гора подушек высилась пирамидой.
Чаковнин стащил перину и подушки на пол и достал себе из своего дорожного вьюка приплюснутую кожаную подушку.
Устроившись таким образом, он приготовился было ложиться, как вдруг его внимание привлекла сложенная в несколько раз бумажка, лежавшая на полу и, вероятно, выпавшая из постели, которую разворотил он. Он поднял ее, развернул и прочел:
«Берегитесь пить что-нибудь, ежели подадут вам отдельно. Не пробуйте кваса со столика. Будьте осторожны со Степанычем».
Чаковнин прочел, повертел записку, перечел еще раз и опять повертел, точно это могло разъяснить ему, кто был неведомый друг, предупреждавший его, покосился на рекомендованный Степанычем графин с квасом и поглядел на улегшегося уже в свою постель на перину Труворова.
«Уж не его ли эта записка? — пришло в голову Чаковнину. — А может, и его надо опасаться тоже?» — сейчас же усомнился он и окликнул своего сожителя:
— Никита Игнатьевич, вы спите?
Утонувший в перине Труворов был закутан с головою в простыню, из-под которой торчал только его белый колпак с кисточкой.
— Ну, что там, какой там!.. — запел он из-под своей простыни.
— Слушайте, Никита Игнатьевич, я вас что-то не помню в числе гостей сегодня; вы не обедали, кажется, в столовой?
— Ну, что там в столовой, какой там! — отозвался сонным голосом Труворов.
— Однако ж я так полагаю, что вы в таких же гостях здесь, как и я, а не присный у князя?
— Ну, что там в гостях! Конечно, в гостях! Какой там присный!
— Значит, вы дворянин и помещик?
— Ну, что там? Ну, дворянин!
— И много имеете душ?
— Ну, что там душ… разбежались которые… а потом какой там… и потом, знаете, я не того… душ…
Чаковнин долго молчал, раздумывая и вертя записку в руках. Когда он поднял голову, Труворов, высвободив лицо, лежал на спине с открытым ртом, подняв свой маленький курносый носик, и всхлипывал, посвистывая им, как делают это спеленутые ребята. Чаковнин щипцами снял со свечи нагар, сжег записку и стал укладываться спать.
V
На другой день Труворов проснулся до восхода солнца. В щели ставен, затворявших окна, не виднелось еще ни одной полоски света, и он, проснувшись, уставился в темноту широко открытыми глазами.
С ним это бывало. Временами на него находило нечто вроде спячки, когда он мог спать по пятнадцать часов в сутки без просыпа, и если поднимали его, то он чувствовал себя просто больным, при первой возможности ложился и засыпал. Но зато бывали промежутки, когда в течение двух-трех недель он беспричинно просыпался и, сколько бы ни лежал, не мог уже заснуть. Так было и теперь с ним.
Состояние этой бессонницы всегда казалось ему мучительным. Единственным средством было подняться скорее с постели и идти на воздух.
Никита Игнатьевич знал, что, сколько бы ни лежал он, все равно не заснет. Он спустил ноги с кровати, нашел ими туфли и стал одеваться ощупью.
Завозившись в темноте, он сейчас же наткнулся на стул, загремел им и громко произнес:
— Ай, кажется, разбудил!
Он прислушался, обернувшись в ту сторону, где, по его предположению, была кровать Чаковнина, и успокоился.
— Нет, не разбудил. Вот и отлично, что не разбудил. Ну, что там разбудил? — стал повторять он и опять задел за стул, причем на этот раз с грохотом повалил его. — Ну, вот, теперь разбудил!.. Александр Ильич, Александр Ильич, — принялся звать его, — я разбудил вас?
Чаковнин издал мычание.
— Я разбудил вас, Александр Ильич?
— Не-ет, отстаньте!
— Ну, тогда хорошо, спите, спите!..
Труворов был почти уже одет и шарил теперь руками, чтобы найти свой шлафрок, но, как на грех, попадался ему то камзол, то кафтан. Наконец шлафрок был найден, надет, и Труворов двинулся, выставив руки, чтобы отыскать дверь. Свечу он не хотел зажигать, чтобы не беспокоить сожителя. Однако вместо двери он набрел на кровать Чаковнина, толкнулся о нее ногами, не удержал равновесия и уперся в Александра Ильича руками.
— Ну, вот, опять разбудил! — с отчаянием проговорил он. — Александр Ильич, я вас опять разбудил.
— Да отстаньте вы от меня! — хриплым спросонья голосом огрызнулся Чаковнин.
— Ну, вот, чего там отстаньте!.. Спите, говорят вам, спите, а я купаться иду!
— Да хоть топиться, ну вас совсем!
— Ну вот, уж и топиться! Чего там топиться?.. Сейчас уж и топиться! — заворчал Труворов, нащупал дверь и вышел из комнаты.
В длинном полотняном шлафроке, с колпаком на голове, он отправился прямо на реку.
Дни стояли августовские, но теплые. Близость осени ощущалась только по поспевшим плодам да множеству дичи. Осенних неприятностей в виде дождей и холодов еще не было и помину. Время было самое приятное.
Утренний холодок охватил Труворова. На востоке, у края неба, засветилась уже заря, сначала робко, точно боясь обеспокоить густую синюю тьму ночи, но потом, словно решив не церемониться с нею, она все быстрее и быстрее стала расползаться по небу своим разноцветным — то желтым, то красным, то фиолетовым — светом. Облачка вырисовывались нежными красками и казались гордыми, как будто имели и какое-то особенное, свойственное им важное значение среди стоявшей кругом, не пробудившейся еще тихой дремы. Но вот брызнули ярко-золотые лучи, показалось солнце, померкли облачка, дунул ветерок, заплескала река, зашуршали деревья, защебетали, зачирикали птицы, и все оживилось, все проснулось, облитое горячим, бодрым, лучезарным светом.
Хорошо выкупался Труворов на заре. Вода освежила его. Надел он свой шлафрок, колпак и пошел, медленно поднимаясь от реки в гору, наперекоски по кудрявой березовой роще. До приторности ароматно пахла береза, и приятно было вдыхать чистый, свежий воздух. Труворов втягивал его своим вздернутым носиком и вечно полуоткрытым детским, сочным ротиком. Его маленькие глазки сияли от удовольствия и счастья. Он никому не завидовал в эту минуту и наслаждался утром так же искренне, чистосердечно и просто, как вся ликовавшая вокруг него природа.
Он шел, мягко ступая туфлями по бархатной травке, боясь шумом нарушить внутреннее полное довольство, охватывавшее его.
Вдруг он остановился и замер. В нескольких шагах от него, очевидно, не заметив, как он подкрался, тот самый камергер, который был дежурным вчера при князе, затевал что-то совсем неподобное. Он был очень бледен, и руки у него сильно дрожали. Дрожащими руками он поспешно делал петлю на привязанной к суку веревке; она не слушалась его и путалась. Он торопился, оглядывался по сторонам, боясь, что его поймает кто-нибудь здесь, в роще, куда он забрался потихоньку, но в волнении не видел, что почти возле него, из-за куста, смотрят уже и следят за ним.
— Ну, что там, какой там!.. Что там… того?.. — окликнул его Труворов, волнуясь и по обыкновению не находя слов. — Ну, что там… того… там!.. — И он решительно выступил из-за куста и схватил камергера за руку.
Это был молодой человек с красивыми черными глазами, дворянин Гурлов, служивший у князя.
Схватив его за руку, Труворов задышал тяжело и не мог выговорить ни слова. Только щеки и все тело тряслись у него.
VI
— Пустите! — злобно, сквозь зубы проговорил Гурлов, рванув руку.
— Ну, что там пустите… того… — жалобным, плачущим голосом протянул Труворов, — какой там…
— Пустите! — повторил Гурлов. — Оставьте меня!
— Ну, что там оставьте!..
Они тянули друг друга, каждый в свою сторону до тех пор, пока наконец Труворов не выпустил руки Горлова. Тогда тот в свою очередь оставил веревку и взялся за голову.
Минута высшего отчаяния, в которую человек бывает способен покончить с собою, прошла, и Гурлов опомнился, сознав, что, по крайней мере, теперь, сейчас вот, при этом до слез взволновавшемся человеке в полотняном шлафроке и колпаке с кисточкой, невозможно уже совершить то, на что он решился после сегодняшней бессонной ночи.
Гурлов не спал сегодня целую ночь. Это было видно по осунувшемуся изжелта-бледному лицу его.
— Ах, зачем вы помешали мне! — сказал он, поднимая взор на Труворова.
Тот наморщил брови, забрал воздуха, как бы приготовляясь говорить, но произнес лишь: «Ну, что там помешали!..» — и двинулся вперед с такой несокрушимой уверенностью в том, что Гурлов последует за ним, что тот действительно последовал, как бы притянутый, как железо к магниту, простотою доброго толстяка, словно посланного судьбою, чтобы удержать его от безрассудного дела.
Они шли молча. Труворов был немного впереди, не оглядывался, но чувствовал, что Гурлов не отстанет от него. Он шагал решительно, точно знал совершенно определенно, куда надо было вести. И Гурлов следовал за ним. Впрочем, ему было безразлично, что с ним теперь станется.
Они приблизились к флигелю. На крыльце сидел вставший и уже одетый Чаковнин с коротенькою немецкою трубочкою в зубах. Завидев издали Труворова, он стал было приветливо улыбаться ему, но, распознав шедшего сзади вчерашнего камергера, насупился и, сморщив брови, отвернулся, а затем стал смотреть в другую сторону.
Труворов привел Гурлова прямо к нему.
— Вот он там… какой там, того… — пояснил он главным образом жестом, показав на Гурлова, мотнув головою вверх и обведя пальцем вокруг шеи.
— Вешаться захотел, что ли? — усмехнулся Чаковнин, поняв мимику Труворова.
— Ну, вот там вешаться… Ну, что там вешаться!.. — сказал Труворов и, точно считая оконченным свое дело теперь, когда он привел Гурлова к своему сожителю, в житейский опыт которого уже уверовал, сел на крыльцо и стал вытирать платком себе лоб.
— С такой жизни только и есть что повеситься! — проговорил Чаковнин, не глядя, и сплюнул в сторону, не выпуская изо рта трубки.
— Ну, что там только повеситься! — заволновался Труворов. — Ну, какой там, ну, какой там, Александр Ильич, жизни…
— А такой, — пояснил Чаковнин, — что я диву вчера давался, глядя на этого молодца: стоять и тарелки подавать какому-то самодуру!.. Извините, право, лучше повеситься!..
— Слушайте, — заговорил Гурлов, садясь тоже на крыльцо, — судя по тому, как вы держали себя вчера, мне не хотелось бы, чтобы вы, именно вы думали обо мне так дурно.
— А как же думать иначе, государь мой? Вы на моих глазах вчера пресмыкались, и, как хотите, оправдать это я не могу.
— Ну, так не судите, не узнав дела.
— А что мне узнавать? — проворчал Чаковнин и отодвинулся, и в самом деле не желая слушать.
Гурлов тяжело вздохнул.
— Нет, все-таки я расскажу вам, — проговорил он после долгого молчания. — Знаете ли вы, что у него под домом в подвалах тюрьмы устроены? На цепь там людей сажают, селедкой кормят и огуречным рассолом поят, а утолять жажду не дают, и дыба у него существует… Он ни в чем себе помехи не знает, делает, что хочет, а хотенью его нет пределов. Он, как безумный… ни пред чем не останавливается и людей мучает…
— Ах, забодай его нечистый! — вырвалось у Чаковнина.
— Ну, вот, — продолжал Гурлов, — представьте себе, если бы вдруг в полной власти такого человека очутилась девушка…
— Ну, что там девушка!.. — сочувственно протянул Труворов, видя, что Гурлов запнулся, потому что голос задрожал у него, и он не в силах был, казалось, продолжать.
— Девушка, которую вы любите, — сделав над собою усилие, выговорил Гурлов.
— Ну-с? — сказал Чаковнин.
— Ну, та, которая вот дороже мне жизни, в полной власти его находится…
Чаковнин вынул трубку изо рта и повернулся к Гурлову:
— Как же это так?
— А так, что она — его крепостная. Крепостная актриса она у него. Она была подростком отдана в ученье в Москву. Обучили ее, воспитали; она по-французски говорит, читала много, образованнее она его самого теперь… Вот в Москве мы свиделись и полюбили друг друга…
— Ну, а теперь она здесь? — спросил Чаковнин, немилосердно пыхтя трубкой.
— Здесь. Две недели тому назад привезли ее сюда. Я за нею приехал.
VII
— Так какого лешего надо вам было в холопы к этому негодяю идти? — снова обозлившись, проговорил Чаковнин.
Он не мог переварить еще то унижение, в котором видел вчера Гурлова, исполнявшего свои камергерские обязанности.
— А что мне было делать? — отозвался тот. — Я приехал сюда один-одинешенек, да и вообще-то на свете один я, родни никого нет. Отец с матерью померли. Только и было у меня, что Маша на свете…
— Здесь-то вы виделись с нею?
— Нет… то есть до вчерашнего вечера не видал я ее… Приехал я сюда, о ней ни слуху, ни духу. Среди здешних театральных не показывалась она, нигде не было видно ее. Стал я расспрашивать — ни от кого даже намека не добьешься, будто и не привозили сюда Маши… Что было делать? Мерзко, гадко, тяжело, а пришлось всем пожертвовать. Одно оставалось: сделаться здесь домашним, чтобы узнать хоть что-нибудь о ней. Ведь управы не найти на него, а тут она его крепостная; значит, он может делать, что хочет… силой не высвободишь ее… Вот почему стал я этим самым камергером… Вы думаете — по охоте? Как же! Что тут испытал я — сами можете судить!..
— Ах, забодай его нечистый! — снова повторил Чаковнин, на этот раз уже сочувственно Гурлову.
— И представьте себе, — продолжал тот, — он ее голодом морит… Только вчера узнал я это.
Гурлов стиснул зубы, охватил колено руками и замолчал, уставившись потерявшими вдруг всякое выражение глазами в одну точку.
— Тогда, как угодно, сударь мой, — сказал Чаковнин, кладя руку ему на плечо, — не могу я взять в толк ваше сегодняшнее намерение, от которого воздержал вас Никита Игнатьевич…
Гурлов не ответил.
— Чего ж вы вешаться-то хотели? Нешто спасли бы этим свою милашку от голода? — переспросил Чаковнин.
— Теперь все кончено. После вчерашнего теперь все кончено! — махнул рукою Гурлов.
— Ну, что там кончено, какой там кончено! — запел вдруг Труворов и, достав из кармана шлафрока табакерку, стал толкать- в бок Гурлова и протягивать ему свой табак, чтобы попробовать хоть этим утешить его.
— Нет, молодец, не кончено, — уверенно произнес Чаковнин, — будь спокоен, высвободим…
— Ну, вот, того… — сказал, вдруг окончательно расчувствовавшись, Труворов с навернувшимися на глаза слезами, — а вы говорили, Александр Ильич, что там тарелки подавать!
— Ну, и сбрехнул, значит, сдуру, — согласился Чаковнин. — А теперь вот вам, — обратился он к Гурлову, — правую руку даю на отсечение, коли я вам не помощник. Рассказывайте дело по порядку. Где она теперь?
— Заперта, должно быть, в комнате.
— Не в подвале, значит?
— Нет, в комнате. Я ее видел вчера там. Сам он водил меня к ней. Вчера, как раздели его, надел он халат, отпустил слуг и говорит: «Возьми канделябру и ступай за мной!» Прошли мы коридором. Он подошел к крайней двери, сам ее ключом отпер. Горница штофом затянута, кровать под балдахином с кружевами, софа, а на софе ничком Маша лежит… Вошли мы, и стал он с нею разговаривать. «Ты, — говорит, — вот три дня не пила, не ела, а видела, как мы сегодня за столом кушали, ну, так вот, если меня слушаться захочешь, сама так же покушаешь». Он ее в голоде держит и с хор на свои обеды глядеть заставляет.
— Ах, чтоб ему подавиться своей оливкой! — крикнул Чаковнин и ударил в крыльцо кулаком.
Глаза Гурлова горели, кулаки были сжаты, и он заговорил быстро, едва переводя дыхание:
— Да ведь она меня видела во время обеда, как я вчера прислуживал ему! Подняла она голову от софы, а я стою с канделяброй. Глаза наши встретились…
— Ну? — воскликнул Чаковнин.
— Ну, не выдержал я, пустил в него канделяброй…
— Молодца! — вырвалось у Чаковнина.
— Он закричал благим матом, повалился. Стали слуги сбегаться, взяли его, понесли… У меня ее глаза до сих пор передо мною. Такая ненависть была в них. Да иначе она и не могла смотреть на меня, если видела меня во время обеда!.. Тут я понял, что все кончено между нами. Бросился я к себе в комнату, не помню, что было со мною… Потом помню уже себя в роще с веревкой…
— Значит, вас не тронули до сих пор? — стал рассуждать Чаковнин, — очевидно, он еще не очнулся с того момента, как вы хватили его. Может, теперь его и в живых уже нет…
— Ну, что там в живых! — сказал Труворов. — Надо того… коли он очнется… какой там… спрятать его, — и он кивком головы показал на Гурлова.
VIII
Во флигеле все еще спали. Ставни в нижнем этаже были заперты. Чистое крыльцо, на котором происходил разговор, выходило в примыкавший к березовой роще парк. С этой стороны было совершенно безлюдно. Большой дом стоял в стороне, и только из верхних окон флигеля виднелась из-за деревьев его крыша.
— Ну, нас никто не мог еще заметить здесь и никто не заподозрит, по крайней мере сегодня, что вы у нас. Пойдем к нам в комнату! — сказал Чаковнин Гурлову.
Они поднялись на крыльцо, прошли по темному коридору и благополучно очутились в полутьме своей комнаты, освещенной лишь щелями в ставнях.
— Ну-с, теперь обсудим, как нам быть! — начал Чаковнин, усаживаясь на постель.
Гурлов беспомощно опустился на стул.
— Ничего не поможет! — с отчаянием произнес он. — Она вновь никогда не полюбит меня!..
Труворов закачал головою, отчего кисточка на его колпаке замоталась из стороны в сторону:
— Ну, что там любить! Надо, какой там… человека того…
— Истину изволите говорить, Никита Игнатьевич, — подхватил Чаковнин, научившийся уже понимать бессвязную речь Труворова. — Истину чистую изволят они говорить, — обратился он к Гурлову, — суть не в любви теперь, и особая статья; любит она вас или нет — это еще ничего не известно, потому что девичий нрав таков, что забодай его нечистый… а спасти ее надо, как человека, по человечеству, значит, и для этого должны вы о себе забыть и живот свой положить ради ее освобождения.
— Именно, того, живот!.. — подтвердил Труворов с таким видом, точно не Чаковнин, а сам он произнес всю эту речь.
Гурлов поглядел на Александра Ильича, и проблеск надежды мелькнул в глазах его.
— Да, — проговорил он, — спасибо вам, вы хорошо сказали: если умереть, то за нее, не так, не зря, а за нее… Правда ваша… Ну, говорите теперь, что мне делать?..
— Да вы успокойтесь, батюшка, — улыбнулся Чаковнин. — Сию минуту делать еще ничего не приходится; вот подумаем да обсудим, а вы успокойтесь пока, поберегите себя для нее же. Вот хотите, я кваску налью вам, — и он потянулся к столику у кровати, где стоял графин с квасом.
— Нет, — остановил его Гурлов, — если уж я должен беречь себя, так этот квас пить мне не годится.
Чаковнин внимательно поглядел на него и сказал с расстановкой:
— Эге, я забыл, что вчера мне было предупреждение насчет этого кваса! Я теперь так смекаю, что за него я вас благодарить должен. Это вы мне вчера записку подбросили, теперь понимаю. Так! Значит, я вам жизнью, может быть, обязан, если в этом квасе отрава заключается.
— Отравы нет, — ответил Гурлов, — а только сонные порошки. Вы бы заснули так, что вас сегодня Никита Игнатьевич не добудился бы, а потом пришли бы люди и отнесли бы вас вниз, в погреб. Там вы очнулись бы в беспомощном состоянии.
— Ну, а потом-то как же? Или выхода нет из этого погреба?
— Есть. Только вас там довели бы разными снадобьями до помрачения рассудка и выпустили бы полоумным, а потом жалели бы, что вот, дескать, что приключилось с человеком!..
— Ах он, изверг рода человеческого, — не испуганно, но удивленно проговорил Чаковнин. — Ну, во всяком случае, благодарен вам за предостережение… Теперь я уже в неоплатном долгу пред вами…
— Ну, что там долгу! — запел Труворов, стоявший у окна и глядевший в вырезанное сердцем отверстие в ставне, — какой там… вот там!.. — повторил он, показывая пальцем в парк.
Чаковнин встал и подошел к окну.
— Вот оно что! — проговорил он. — Господин князь действовать начинает…
— Что такое? — и Гурлов кинулся тоже к окну.
— Ничего еще особливого нет, — остановил его Чаковнин, схватив за руку, — не горячитесь! По парку мужики идут цепью с дубинами. Очевидно, вас ищут. Ну и пусть ищут! Пока вы у нас — вас открыть нелегко, ну, а если откроют, так мы бунт подымем и, во всяком случае, живыми не сдадимся. Ведь не сдадимся, Никита Игнатьевич? — обернулся он к Труворову.
— Ну, что там не сдадимся! — протянул тот. — Какой там бунт… надо его того…
Он отворил платяной шкаф и осматривал его внутри, а сам прислушивался к тому, что происходило во флигеле.
Наверху уже слышалось движение. Где-то хлопнули дверью. Внизу в коридоре прозвучали шаги. Сторож хлопал ставнями, отворяя их на другом конце флигеля.
— Того! — проговорил Труворов, показав Гурлову на шкаф.
Тот вскочил в него, но не успел Никита Игнатьевич захлопнуть за ним дверцу, как дверь растворилась, и на пороге показался Степаныч.
IX
Труворов со свойственным ему невозмутимым спокойствием затворил шкаф, поглядел равнодушным взглядом на Степаныча и направился к своей постели, как ни в чем не бывало.
В комнате было настолько еще темно, что Степаныч мог и не заметить Гурлова, но также легко могло случиться, что он и увидел его.
Чаковнин испытующе, искоса поглядел на Степаныча. Тот не выдал себя ни одним движением. Он поводил из стороны в сторону своим острым носиком, и глазки его бегали, но это было обыкновенное, привычное ему выражение.
Чаковнин успокоился. Уж очень хладнокровно Труворов запер шкаф и отошел от него, так что если даже Степанычу и показалось что-нибудь, то он мог быть обманут этим хладнокровием Никиты Игнатьевича.
— Изволили уже проснуться? — заговорил Степаныч. — По-походному, значит… — Его бегающие глазки несколько раз останавливались на графине с квасом. А кваску не изволили отведать?
«Эге, — подумал Чаковнин, — да ты, видно, из болтливых!.. Постой-ка, брат!»
— Так я вам кофейку принесу сейчас, — засуетился Степаныч, — извольте отведать кофейку нашего.
— Кофейку я вашего не хочу, — сказал Чаковнин, — а вот что, Степаныч, расскажи-ка мне про здешнее житье и обычаи! Весело здесь живется, например?
Он, видимо, продолжал игру Труворова, не торопясь отсылать Степаныча, а, напротив, заводя с ним длинный разговор, как будто тут у них в комнате ничего подозрительного не было.
— Весело ли живется у нас? — переспросил Степаныч. — Вот поживете — увидите!.. У нашего батюшки, сиятельного князя, полная чаша; вельможа настоящий, роговая музыка своя…
— Говорят, и театр свой есть?
— Театр свой, как же без театра? Все как надо: полотна расписные спущены, и занавес пунцового чистого бархата с кистями золотыми и бахромой. Сейчас эту занавесь подымут, выйдет сбоку Дуняша, ткача дочь, волосы наверх подобраны, напудрены, цветами изукрашены, на щеках мушки налеплены, сама в помпадуре, в руке посох пастушечий с алыми и голубыми лентами. Станет князя виршами поздравлять. А когда Дуня отчитает, Параша подойдет, псаря дочь. Эта пастушком наряжена — в пудре, в штанах и камзоле. И станут Параша с Дунькой виршами про любовь да про овечек разговаривать, сядут рядком да обнимутся… Андрюшку-поваренка сверху на веревках спустят; бога Феба он из себя представляет, в алом кафтане, в голубых штанах с золотыми блестками. В руке доска прорезная, золотой бумагой оклеена, прозывается лирой. Вокруг головы у Андрюшки золоченые проволоки натыканы, вроде сияния. С Андрюшкой девять девок на веревках тоже спускают. В белых робронах все. У каждой в руках нужная вещь: у одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительная труба. Под музыку стихи пропоют, князю венок подадут… Это пасторалью называется… А то есть еще опера…
— Ну, а красивые актерки есть? — спросил Чаковнин.
— Есть! — подтвердил Степаныч. — Как же красивым актеркам не быть? Уж на то они и актерки, чтобы красивыми быть…
— Ну, какие же красивые?
— Да вот Дуняша, ткача дочь, опять-таки Параша, псаря дочь, Агафоклея-сирота; та голосом больше берет, петь умеет чувствительно…
— А где же обучаются они?
— Каждая в своем месте, по способностям, которые от рождения имеет…
— А в Москву в ученье посылают?
— И в Москву посылают.
Как ни старался, как ни наводил Чаковнин Степаныча, тот ни словом не обмолвился относительно вновь прибывшей из московского ученья Маши. Так и пришлось отпустить его.
— Нет, или он хитер, — решил Чаковнин, когда Степаныч удалился, — или же сам ничего не знает о ней.
Гурлова сейчас же выпустили из шкафа.
— Ну-с, сударь мой, — заговорил Чаковнин, — простите, как по имени-отчеству звать вас?
— Сергей Александрович.
— Ну-с, Сергей Александрович, что же мы теперь предпринять можем?
В шкафу, очевидно, было душно и жарко. Гурлов отер платком влажный лоб и лицо, положил ногу на ногу и задумался.
— Вот что, — начал он погодя, — есть в Вязниках один человек, который может помочь мне. Человек этот хороший сам по себе, а кроме того, я его на прошлой неделе от рогаток спас.
— От каких рогаток?
— А это у князя тоже наказанье такое существует: свяжут человека по рукам и ногам, поставят посредине комнаты и шею с четырех сторон рогатками подопрут. Так и стой.
— Ах, забодай его нечистый! — опять рассердился Чаковнин. — Кто ж этот человек?
— Здешний театральный парикмахер. Зовут его Прохор Саввич, а больше просто Прошкой. Если его попросить, то, я думаю, он мне сюда мужицкий костюм достанет, парик и бороду смастерит…
Чаковнин наморщил лоб.
— А надежен этот ваш Прошка, не выдаст?
— Кроме как к нему, обратиться не к кому; коли выдаст — значит, судьба, — ответил Гурлов. — Только не за что платить ему мне злом за добро.
— Ну что там, выдаст, ну какой там, выдаст! — решил Труворов, внимательно слушавший. — Надо, Александр Ильич, поскорее…
— Да уж надо поскорее, — согласился Чаковнин, взявшись за картуз. — Где же этого Прошку найти можно?
— В большом доме при театре; там у него конурка под лестницей…
— Разыщу! — успокоил Чаковнин и, кивнув головою, вышел из комнаты.
X
Князь Гурий Львович, принесенный в обмороке в свою спальню, очнулся не сразу.
Состоявший при нем лейб-медик из аптекарей Август Карлович Кнох дважды пускал ему кровь.
Наконец Каравай-Батынский пришел в себя. Обморок оказался последствием испуга. Никаких органических повреждений не было, кроме незначительной боли в голове от ушиба да синяка на спине. Бывший на князе пышный парик защитил его от удара канделяброй.
Князь очнулся, но чувствовал себя очень слабым после двойного кровопускания. Он боязливо оглядывался, как будто не уверенный, не ударит ли его еще кто-нибудь, дрожал всем телом и жалобно стонал. Кнох и секретарь не отходили от него, и, успокоенный ими, он заснул.
Проснулся князь на заре, ощупал голову, тело и убедился, что цел и невредим.
Тогда он перешел с кровати на широкое кресло, закутал ноги одеялом, положил на темя компресс из ледяной воды и потребовал себе кофе, который скушал с аппетитом.
Тут, за кофе, он призвал своего секретаря и потребовал доклад, схвачен ли «вчерашний» злодей и что с ним сделано?
Секретарь, худощавый старик, в больших круглых очках, с толстым носом и грубыми, чувственными губами, в парике с буклями и косичкой, подошел к ручке князя и попросил его не беспокоить себя недостойным того злодеем, а пуще всего думать о своем драгоценном здравии.
— Я тебя спрашиваю, схвачен ли этот негодяй и что с ним сделано? — прикрикнул князь.
— Послано на розыски его, ваше сиятельство.
— Как послано на розыски? — удивился князь. — Отчего же его с места вчера не взяли?
— Вначале невдомек было, потому что мы хлопотали возле вашего сиятельства, а под утро я послал в его комнату, но она оказалась пуста.
— Удрал, значит?
— Куда же ему удрать, ваше сиятельство? Далеко ли уйдет он пеший? Где-нибудь здесь поблизости должен околачиваться. Теперь у меня повсюду посланы мужики с дубьем, они цепью ходят. Весь парк обошли, каждое деревце, каждый камушек осмотрели.
— И не нашли никого?
— Пока еще не нашли, ваше сиятельство.
— Ах ты, дурак! — проговорил князь, отвертываясь. — Надо было вчера же ему руки скрутить.
При слове «дурак» секретарь вздрогнул всем корпусом, косичка у него, оттопыренная на затылке, подкинулась при этом кверху. Он поправил очки и, поджав губы, заговорил, сгибаясь:
— Я, ваше сиятельство, велел попа привезти, чтобы молебен отслужить о вожделенном здравии вашем, которое подверглось вчера опасности.
— Дурак! — опять произнес князь, и опять секретарь вздрогнул, тряхнув косичкой.
Каравай-Батынский долго сидел молча и сопел.
— Ничего сообразить не можешь, — сказал он наконец, сильно нахмурившись. — Да если только холопы узнают о том, что нашелся человек, который осмелился руку поднять на персону нашу, так ведь они всякий страх пред ней потеряют. Подумал ли ты об этом? Нет? Значит, дурак и выходишь! От холопов и ото всех в усадьбе и прочих деревнях о вчерашнем происшествии скрыть. Это раз. Сказать, что некий Гурлов, бывший у нас в должности камергера, скрал сапфировый перстень и деньгами тысячу рублей и скрылся неведомо куда, и дать знать об этом стряпчему в город. Это два. А третье — то, что ежели сегодня сказанный Гурлов мне отыскан не будет, так я тебя…
— Будет отыскан, — уверенно произнес секретарь, — только дозвольте, ваше сиятельство, мне некоторое суждение высказать. Приезд сюда злодея Гурлова, насколько понимать могу, состоялся неспроста. Совпал он как раз с появлением из Москвы новой крепостной актрисы вашего сиятельства Марьи, при виде которой злодей Гурлов распалился до забвения рассудка, рискнув на деяние сумасшедшее. А не было ли промеж них еще в Москве знакомства заведено, а может быть, и каких-нибудь предосудительных шашен?
Князь поднял брови, чмокнул и одобрил:
— Не так глупо соображаешь! Бывает и червяку дунуть на своем веку!.. Что же дальше?
— Дальше, ваше сиятельство, я полагал бы по этому случаю допросить сказанную Марью с пристрастием, да строжайшим, чтобы она, признавшись, повинилась во всем.
Князь развел руками и произнес, словно обрадовавшись:
— Вот и снова дурак! Только и знает, что допрос со строжайшим пристрастием! Да ведь ты искалечишь ее своим допросом-то, а сложение у ней такое нежное, что не только портить, а и смотреть-то тебе на него нельзя… Ведь это — одна воздушность, красота… То есть не умеют люди искусства ценить!.. Гайдук Ивашка наказан?
— Наказан, ваше сиятельство!
— Ну, вот, поймаешь Гурлова, его и допрашивай, как хочешь, а Марью не тронь… Ну, а барин-силач что? Фордыбачил вчера?
— В квас ему на ночь сонных порошков положено. Служить к нему Степаныч приставлен.
— Сказать Степанычу, чтоб беспременно опоил, чтобы у меня заснул этот барин… Да вот что: актрису Марью с голодовки снять! На завтрак ей сегодня дать трюфелей, спаржи, гусиную печенку с трюфелями, цыплят в эстрагоне, имбирного варенья, и чтобы все первый сорт, как мне самому, да бутылку шампанского принести ей. Ты понимаешь, ради чего это сделать надлежит?
Секретарь изогнулся, лицо его выразило недоумение:
— Не понимаю.
— Потому — дурак. Надо на психологию женщины действовать… А ты говоришь — допрос! Я тебе покажу допрос!..
Дверь в это время отворилась, и второй камердинер князя, человек с совершенно бессмысленным выражением лица, войдя, шепотом сказал несколько слов секретарю.
— Степаныч доносит, — доложил тот громко, — что видел, как злодея Гурлова прятали в шкаф у себя в комнате господа Труворов и Чаковнин.
— Пойти и взять! — приказал князь.
XI
Чаковнину недолго пришлось отыскивать каморку парикмахера Прошки. Ему сейчас же показали ее, и он легко нашел маленькую дверь под лестницей, которая с особого крыльца в большом доме вела на сцену вязниковского театрального зала.
Александр Ильич постучал. Отворил ему благообразный, очень аккуратно и гладко бритый старик с редкими длинными волосами, почти совсем белыми от седины. Чаковнин назвал себя и спросил:
— А вы — Прохор Саввич, парикмахер театральный?
— Да, я театральный парикмахер, — ответил старик и добавил, пропуская в дверь гостя:- Милости прошу, если ко мне имеете надобность.
Чаковнин вошел, согнувшись, в дверь, и от него стало так тесно в каморке, что, казалось, и повернуться было нельзя. Здесь стояла постель изголовьем под образами, пред которыми на полочке теплилась лампада. На столе у единственного окна, где стояло несколько болванов с начатыми париками, лежала — очевидно, только что положенная туда — толстая книга церковной печати, развернутая.
— Я вам помешал? — сказал Чаковнин, показав на книгу. — Ну, да уж вы не взыщите, — дело у меня очень важное к вам, такое, чтобы человека спасти…
Прохор Саввич усадил его на табуретку у стола, сложил и спрятал книгу и сам остановился перед гостем.
— Да садитесь, садитесь! — повторил Чаковнин. — Я с вами по душе пришел поговорить.
Прохор Саввич сел против него, истово вытянулся и глянул умными, живыми, казалось, не опускающимися ни перед чьим взглядом глазами.
— Я готов человека спасти, — проговорил он.
«Нет, быть не может, чтобы он из простых был, верно, дворянская кровь есть в нем», — подумал Чаковнин и сказал вслух:
— Дело идет о Гурлове, Сергее Александровиче.
— Знаю, — перебил Прохор Саввич.
— Откуда же вы знаете? — удивился Чаковнин.
— То есть я говорю, что знаю, что случилось с ним вчера. Ночью к князю меня звали — помогать доктору ему кровь пускать.
— Что ж, очнулся он?
— Очнулся!
— Значит, вы ему помогли. Теперь надо помочь Гурлову.
— А захватили его?
— Пока еще нет. Надо так теперь сделать, чтобы и впредь не захватили…
— А вы думаете, что я могу помочь чем-нибудь?
— Можете! Ему надо, чтобы укрыться, достать одежду крестьянскую, бороду подвязную и парик мужицкий.
Прохор Саввич задумался, а затем сказал:
— Парик пейзанский у меня есть, борода найдется… платье крестьянское достану. Только куда же я отнесу ему все это?
— Давайте мне, я передам ему.
— Надо самому: надо показать, как надеваются парик и борода, и приладить их… Так ведь тоже нельзя…
— Ну, тогда приходите к нам в комнату, во флигель, там меня спросите или Труворова, Никиту Игнатьевича. Только дело поспешности требует.
— Как управлюсь, — во всяком случае, не замедлю, — успокоил Прохор Саввич.
«Нет, он слишком просто разговаривает, да и глаза у него честные, и волосы седые… нет, этот не станет выдавать, — рассуждал Чаковнин, возвращаясь во флигель. — Ах, забодай их нечистый, в какую историю пришлось впутаться! Неужели ж в самом деле погибать парню? Вот она, любовь-то женская!»
На крыльце флигеля стояли по сторонам дверей два мужика с дубинами.
— Вы что здесь? — спросил Чаковнин на ходу. Они не ответили. Александр Ильич поспешил пройти мимо. Его охватило предчувствие недоброго.
Он не ошибся. Войдя в коридор, он увидел, что у его комнаты собралась толпа гостей, обитателей флигеля. Все они были еще не одеты как следует. Столпились они в коридоре у двери и, видимо, с любопытством смотрели на то, что происходило в комнате, где жили Чаковнин с Труворовым.
Александр Ильич раздвинул толпу и вошел в комнату. Там стояли два гайдука, один из которых был вчерашний Иван (сегодня он казался с лица очень бледен), и секретарь князя в очках распоряжался, требуя у Труворова ключ от шкафа.
Никита Игнатьевич сидел на своей постели в беспомощном состоянии.
— Ну, что там ключ! — пел он, зевая во весь рот и вытирая глаза кулаком. — Какой там ключ?
— Ежели вам не угодно будет передать мне ключ, — заговорил княжеский секретарь, — то я вынужден буду приказать людям разломать шкаф.
— Ну, бесчинствовать я вам не позволю! — твердо сказал появившийся в это время Чаковнин и загородил шкаф своим огромным туловищем.
XII
Фигура Александра Ильича была настолько внушительна, что трусливый от природы секретарь — по крайней мере, в первую минуту — почувствовал невольный трепет и уважение к богатырю. К тому же он хорошо помнил вчерашнюю сцену на террасе, когда Чаковнин не поцеремонился даже с самим князем.
Два приведенных им гайдука едва ли смели бы теперь тут справиться быстро. (Он пожалел, зачем взял только что избитого Ивана с собою, а не другого, свежего человека.) Если затеять при помощи гайдуков драку с Чаковниным, могло попасть ему самому, секретарю.
Он не сомневался, что Гурлов, которого искал он, находится тут, в шкафу. А если он тут, то все равно можно было и не торопиться, потому что уйти Гурлову некуда.
Поэтому он решил действовать осмотрительно и применить силу только в крайнем случае, из боязни, главным образом, опять получить «дурака» от князя. Он терпеть не мог, когда князь называл дураком его, пред которым все в Вязниках низкопоклонствовали, и теперь хотел доказать, что умеет действовать умно и с расчетом.
Он основательно, не спеша и почему-то на цыпочках подошел к растворенной двери, где теснилась толпа посторонних зрителей, и попросил их разойтись, так как дело-де их вовсе не касалось.
Немногие послушались и удалились, но у большинства любопытство взяло верх, и они, переминаясь с ноги на ногу, продолжали стоять, прячась друг за друга.
— Я прошу благородных господ разойтись, — повторил еще раз секретарь.
Отошло еще несколько человек.
— Ну, если благородные господа разошлись, — сказал секретарь, — то теперь разгоните мне эту шушеру, что осталась, — показал он гайдукам.
У двери никого не осталось.
Тогда секретарь вызвал гайдуков в коридор и поставил их тут сторожить, наказав по первому знаку явиться в комнату. Затем он затворил дверь и обратился к Чаковнину, поправив очки и высоко задрав голову:
— Милостивый государь мой! В рассуждении бесчинства, о коем изволили вы упомянуть, не столь меня обвинить возможно, сколько самих вас. Находясь в доме его сиятельства князя Каравай-Батынского, вы изволите выказывать желание противопоставить насилие законным распоряжениям его сиятельства. Где ж это видано, чтобы хозяин встречал запрет распоряжаться в своем доме?
Чаковнин, давно свыкшийся с открытой рукопашной в турецких войнах, где он не раз доказывал свою силу и смелость, решительно не умел вести тонкие словесные рассуждения.
— А шут бы вас побрал и с вашим князем! — вдруг произнес он в ответ на речь секретаря.
— Ну, что там шут! — начал было Труворов, очевидно, в примирительном духе.
— Нет, Никита Игнатьевич, не мешай! — подхватил Чаковнин. — Я эту подлую рожу в кровавую лепешку расшибу, если он посмеет тут свои рацеи разводить! Я ему покажу, как с людьми обращаться…
Таких грубых слов не ожидал секретарь даже от Чаковнина. Он затрясся весь от злости, очки запрыгали у него на носу. Он задышал тяжело, с трудом вбирая в себя воздух. Припадок злости охватил его, во рту стало горько от желчи, и, чтобы успокоить себя, он налил себе кваса из графина и выпил весь стакан залпом. Через несколько секунд он почувствовал себя спокойнее и опустился на постель Чаковнина.
— Вы за такие предерзостные слова ответите, сударь мой! — сказал он Чаковнину и оперся обеими руками о постель. — Ответите… — повторил он, опуская голову. Он сейчас же вскинул ее, но она опять опустилась. — Квас… — забормотал он, — я забыл про этот квас… это квас… — и он как сноп повалился на подушки и заснул.
— Ловко! — одобрил Чаковнин, подходя к кровати и закидывая на нее ноги секретаря. — Ловко! Ведь спит как мертвый.
— Ну, что там мертвый!.. Вы бы дверь того… — протянул, понижая голос, Труворов и стал отпирать ключом шкаф.
Чаковнин прислонился к двери, чтобы держать ее, если кто вздумает войти.
XIII
Гурлов, сидя в шкафу, слышавший все, что произошло, вылез оттуда, показывая знаками, чтобы молчали, и, легко ступая, направился прямо к кровати, где лежал секретарь.
— Он спит крепко, не беспокойтесь, — шепотом сказал он и, сняв с секретаря парик и очки, надел их, показал Чаковнину рукою, чтобы тот отошел от двери, и, высунувшись в дверь и обращаясь к гайдукам, быстро проговорил картаво-шепелявым голосом секретаря:- Убирайтесь домой, вас не надо больше…
— Еще там у крыльца мужики стоят! — сказал Чаковнин.
Гурлов так же быстро, как и в дверь, высунулся в окно и кринул тоже мужикам:
— Убирайтесь домой, вас не надо больше!..
Гайдуки убрались, мужики ушли.
В небольшой, самой обыкновенной комнате с белым, чисто вымытым дощатым полом, с домоделаной тяжелой мебелью, с креслом, плетенным из ремешков, с обоями в коричневых человеческих лицах в зеленых облаках, с муравленой печью на золотых столбиках, происходило нечто, благодаря завязавшейся истории, странное, казавшееся вычитанным в книге, а не действительным.
Но сами участники всего этого не сознавали странности или исключительности своего положения. Они были слишком заняты тем, что предстояло им сделать сейчас, то есть так или иначе дать возможность Гурлову скрыться из Вязников.
— А ведь это старый хрен Степаныч донес, — сказал Чаковнин, — забодай его нечистый! Да, — ответил он на вопрос Гурлова о парикмахере, — он обещал все достать и сюда принести.
— Ну, тогда, значит, можно надеяться, что принесет, — проговорил Гурлов.
— А этот не проснется? — показал Чаковнин на спавшего секретаря.
— Нет! Август Карлович крепкие порошки составляет…
— А в случае, если парикмахер замешкается, можно секретарскую амуницию надеть. Вы ему искусно подражаете.
— Два-три слова сказать и в темный коридор высунуться не есть еще штука, — возразил Гурлов, — а так секретарем наряжаться опасно…
— А все-таки лучше раздеть бы его на всякий случай…
Они принялись стаскивать одежду с секретаря, раздели его, и Гурлов закрыл его с головой простынею.
— Все лучше так, — пояснил он, — лучше, чтоб свежий воздух не касался его, вернее спать будет.
— Принесет — не принесет, принесет — не принесет, — твердил в это время Труворов, перебирая медные гвозди на кресле и этим гадая, принесет ли Прохор Саввич платье Гурлову.
Однако он не успел добраться до последнего гвоздика, потому что сбивался каждый раз и должен был начинать снова. Прохор Саввич явился с узелком, в котором было припасено все необходимое.
Скоро после этого Чаковнин и Труворов вышли из флигеля в сопровождении длиннобородого мужичка и направились по парку в противоположную от дома сторону.
В одиннадцать часов по обыкновению зазвучал у барского дома индейский гонг, и гости стали собираться в столовую для завтрака. Флигель опустел.
Степаныч появился там, крадучись, в коридоре и, подойдя к комнате Чаковнина, просунул в дверь голову. Спавшая, закутанная простынею фигура лежала на постели.
— Та-ак-с! — протянул Степаныч и поджал губы. — Попался-таки молодчик!
Через несколько времени он явился в сопровождении слуг. Они обвязали спящего человека веревками, как он был, с закутанной в простыню головою, вроде мумии, и понесли его. Степаныч, обвязывая, особенно хлопотал, чтобы не открыть лица спящему, не то он мог, чего доброго, очнуться и «начать озорство криком или иным чем».
XIV
Князь Гурий Львович, которому успели уже доложить, что его воля исполнена: Чаковнин заснул и отнесен в подвал, — был чрезвычайно удивлен, когда, выйдя в столовую, где уже добрых полчаса ждали его собравшиеся гости, увидел среди них широкоплечего Чаковнина, державшегося в стороне от прочих.
«Что ж это? Или холопы вконец изолгались? — подумал князь, пораженный видом Александра Ильича, — или это — оборотень сверхъестественный?»
И он готов был скорее поверить, что Чаковнин — оборотень, чем допустить, что его холопы осмелились сказать ему неправду.
Он с некоторым сомнением, как-то искоса глядя и подвигаясь боком, подошел к Чаковнину, сделал ручкой, отвел ногу назад и проговорил:
— Как изволили ночь провести, в добром ли здравии?
Гости с завистью поглядели на Александра Ильича.
— Экое счастье этому человеку! — шепнул один соседу.
— Видно, так себя держать с князем следует, как он, — ответил другой.
— Да, поди-ка, держи! Он тебе покажет!
— Ночь я проспал отлично, — сказал Чаковнин князю в ответ на его вопрос. — Ну, а вы, князь, как изволили почивать?
Каравай-Батынский смерил его взглядом с ног до головы.
Пред ним стоял, несомненно, тот самый Чаковнин, который вчера целил в него мозаиковой крышкой, и так же смело, как вчера целил он этой крышкой, сегодня он насмехался, спрашивая, хорошо ли князь провел ночь.
Гурий Львович знал, что неспроста он спрашивал это, да еще с усмешкой, а что о ночной истории, вероятно, было ему известно от Гурлова, которого видел Степаныч в шкафу у них в комнате.
Только каким образом здесь Чаковнин и отчего до сих пор не появляется секретарь, посланный для ареста преступного камергера?
За секретарем князь хотел послать сейчас же, как сели за стол, и отдал было приказание об этом стоявшему за ним камергеру, но Чаковнин остановил его:
— Не трудитесь, князь, искать вашего секретаря; я знаю, где он.
Князь прищурил глазки и медоточиво-сладким голосом обратился к Александру Ильичу:
— Какими судьбами, сударь, вам известно более о том, что происходит в моем доме, чем мне самому?
— Изъяснить это я вам не могу, но только знаю, что ваш секретарь явился, должно быть, выпивши, в нашу комнату, хотел зачем-то, чтобы мы отперли ему шкаф, а потом сел на мою постель, завалился и заснул… Вот и все…
Князь вдруг разразился неудержимым хохотом. Рассмеялся он так искренне, что все сидевшие за столом, кроме Чаковнина, сочли долгом тоже рассмеяться, хотя и не знали причины веселости князя.
Как ни неприятно было Каравай-Батынскому, что Гурлов увильнул от ареста и что Чаковнин не попался в ловушку, но пришедшая ему сейчас же догадка о том, что вместо Чаковнина отнесен в подвал найденный спящим на его постели сам секретарь, показалась ему так забавна, что он не мог удержаться в первую минуту от смеха. Он живо представил себе ту рожу, которую должен скорчить секретарь, проснувшись в подвале, и снова залился смехом, тут же решив, что непременно будет присутствовать при этой сцене.
Князь считал час еды самым важным временем в жизни и потому старался за завтраком и обедом всегда отгонять от себя всякие заботы и неприятности, делая над собою усилие, чтобы забыть о них, пока ел.
Развеселившись историей с секретарем, он легко и совершенно искренне перестал думать на время о Чаковнине как о враге и даже о Гурлове. Не стоило думать о них, портить свой княжеский аппетит. Поэтому, принявшись за отборные яства, которые подавали ему, он стал излагать при подобострастном молчании слушателей свои взгляды на кухонное искусство, которое, по его словам, представляло «корм чистой совести».
— Картофель, — сказал он, — есть мягкий воск в руках настоящего повара. Он может сделать из него все. Яйцо — посредник в спорных делах между блюдами и их отдельными составами. Трюфель при его внешней неблаговидности можно считать алмазом кухни. Десерт без сыра — то же, что кривая красавица. Герой праздника — свинья…
И, говоря, Каравай-Батынский совал в свой большой рот кусок за куском; жир и соусы текли у него по бритому подбородку и капали на подвязанную под шею салфетку; он обжирался, краснея с каждым стаканом вина, которое вливал в себя большими глотками.
Чаковнин, не скрывая своего омерзения, отвернулся от него и упорно отказывался от подаваемых ему блюд.
XV
У князя существовала прямо из его кабинета винтовая лестница вниз, которая вела в подвальное помещение, служившее местом суда и расправы. Сейчас же после завтрака он, через меру наевшийся, тяжело ступая, спустился по лестнице, предварительно приказав, чтобы его встретили там внизу.
Степаныч, с собачьим выражением преданного слуги, и два парня с тупоносыми, развратными лицами ожидали князя под сводами среднего прохода в подвале, куда выходили толстые двери с замками расположенных по сторонам камер.
— Ну, веди! — приказал князь Степанычу. — Где твоя бомбошка лежит?
Степаныч хлопотливо кинулся вперед, стараясь каждым движением своим угодить господину, и торопливо стал отпирать одну из дверей.
Это была самая просторная камера в подвале. С средины высокого свода спускалась веревка с петлей на большом колесе деревянного блока. Плети, розги и кошки лежали на полу в углу. Направо от двери было устроено обитое красным сукном возвышение со столом и креслом. Пол был каменный, местами покрытый темными, неприятными пятнами.
На деревянной скамье пред возвышением лежала закутанная в простыню и обмотанная веревками фигура. Князь, продолжая тяжело ступать, не без труда вошел на возвышение и повалился в кресло.
— Ну-ка, открой ему лицо! — сказал он, кивнув на связанного.
Степаныч с ужимками опытного фокусника распустил веревки, вытащил конец простыни и отвернул.
И вдруг его лицо изменилось, брови поднялись, рот открылся, и он словно застыл, пораженный неожиданностью. Вместо Чаковнина, спеленутый в виде мумии, спал княжеский секретарь.
— Узнаешь знакомого? — усмехнулся князь. — То-то и оно! Не вам, дуракам, дела делать!.. Ну, приводи его в чувство!
Степаныч, заробев, отчего его движения стали медленными, начал было распутывать веревки. Но князь остановил его:
— Тебе не развязывать сказано, а приводить его в чувство.
Степаныч сделался еще серьезнее, достал из кармана склянку, помочил ее содержимым пальцы и стал тереть лоб и виски секретарю, потом приложил ему к носу отверстие склянки и начал дуть ему в лицо. Через некоторое время щеки у секретаря зашевелились, он открыл глаза и сейчас же закрыл их вновь. Степаныч продолжал усердно стараться над ним. Глаза снова открылись и на этот раз с ужасом уставились на висевший прямо над ними на своде блок с веревкой. Потом они скосились в одну, в другую сторону, губы задвигались, и видно было, с каким трудом секретарь произнес:
— Да ведь это я!
— Видим и знаем, что это вы, — ответил князь и раскатился мелким захлебывающимся смехом. — Как почивать изволили? Отдохнули ли после трудов праведных? Устали, видно, после ловли господина Гурлова?
Секретарь сделал попытку двинуться, однако веревки крепко охватывали его и держали. Он уставился тогда глазами на князя.
— Дурак, дурак, дурак! — начал дразнить его тот, строя гримасы. — И поделом тебе, дураку! Сам попался, дурак, дурак!..
Лицо секретаря передернулось судорогой, но глаза по-прежнему смотрели прямо на князя.
А тот, красный и потный, с налившимися кровью глазами, опьяненный выпитым за завтраком вином, раскачивался в кресле из стороны в сторону.
— Ну, отвечай: где Гурлов? Поймал ты его? Поймал? Где он теперь, а?
Секретарь, сделав усилие, выговорил:
— Коли Гурлов не пойман, значит, он удрал теперь, а удрав — доберется до города… А доберется туда — так ему будет порассказать что!..
Он, лежа на скамейке, пристально продолжал смотреть злыми глазами на князя, и в его голосе, с трудом повиновавшемся ему, звучала уже некоторая наглость. Испугался он лишь в первую минуту; он слишком хорошо знал природу князя и, видимо, умел обращаться с ним.
— А что ему рассказать? — спросил князь.
— Найдет что. Я тебя предупреждал, чтобы был осторожнее с посторонними людьми. Теперь сам пеняй!
Князь вдруг привстал с кресла и воскликнул:
— Да как ты смеешь разговаривать со мной так? Да я тебя сейчас велю на глазах моих до смерти засечь…
— Засечешь, а кто тебя выгораживать станет? — сказал секретарь.
— Нужен ты мне очень! — проворчал он.
— Нужнее, чем ты полагаешь. Почем ты знаешь, кому и как дать и по скольку? Ну-ка, попробуй, разделайся теперь с Гурловым сам, а ежели со мной, не дай Бог, что случится, — наедут сюда же мои приятели из города. Поговори сам с ними!.. Всеми вотчинами не откупишься…
Князь пыхтел, сидя в кресле. Он чувствовал, что секретарь говорил правду, — без него ему пришлось бы очень плохо. Сколько уже лет этот человек выручал его и умел покрывать его бесчинства и самоуправства, так что князь всегда выходил сухим из воды.
— Ну, чего испугался, дурак? — вдруг резко переменил он свое обращение. — Ведь шутят с тобой! Или шутки не понимаешь?.. Развязать! — приказал он слугам.
Те бросились наперегонки исполнять приказание.
Секретарь, развязанный, расправил руки и ноги и, как был в одной рубашке, закрывшись лишь простыней, сел на скамью.
— Воды! — обратился он к Степанычу и, когда тот подал ему ковшик с водою, жадно припал к нему губами, утоляя мучившую его жажду.
— Ну, одевайся и приходи наверх — там с тобою потолкуем! — заявил князь секретарю и велел отнести себя в кресле наверх.
XVI
Секретаря звали Созонт Яковлевич, а по фамилии — Савельев.
Князь спал до самого обеда. Обед продолжался значительное время. Вечером секретарь был призван к князю, обласкан им, получил в подарок табакерку, и было решено, что ему надо завтра же ехать в город и хлопотать относительно обвинения Гурлова и, если можно, ареста.
Вернувшись к себе домой, Созонт Яковлевич ходил по трем комнатам своего помещения, долго не ложась спать. Он ходил, как был, — в парике и очках, заложив руки за спину, крепко сжав пальцы и изредка похрустывая ими.
Много пришлось ему до сих пор испытать в жизни, много перенес он унижения и обиды от того же самого князя, но никогда еще он не переживал таких минут, как сегодня в подвале.
Созонт Яковлевич, завистливый, злой и злопамятный от природы, всегда в тайнике души надеялся, что придет время и отмстится врагам его, а в особенности князю Каравай-Батынскому.
Как и кем отмстится — он не знал хорошенько, но он так страдал от собственной же злости, так мучительно жилось ему на свете, что он, далекий от того, чтобы обвинить себя в этом, искал виноватого и ждал, что этот виноватый будет наказан судьбою. Ему казалось это справедливым, и он ждал, когда же наконец наступит осуществление этой справедливости. Однако время шло, а «враги» продолжали торжествовать. Сегодня наконец все пределы, все границы были перейдены.
Ощущение стыда, страха, полного бессилия и близкая возможность страшной физической боли, внешние проявления которой часто видел Созонт Яковлевич у других в том же отвратительном подвале, до сих пор не прошли у него, и стоило закрыть ему глаза, чтобы почувствовать веревки на теле и увидеть страшный блок, спускавшийся с потолка.
Степаныч был у него отмечен с сегодняшнего дня, и, конечно, целым ему не остаться.
Но Степаныч, раздавить которого не стоило ни малейшего труда, был ничто в сравнении с главным обидчиком, с князем Каравай-Батынским, и дорого дал бы Созонт Яковлевич, чтобы увидеть князя испуганного, трепещущего пред ним лично и сказать ему: «Дурак, дурак, дурак!..»
— Вечно «дурак» — только и знает это, — стал думать Савельев вслух, — а сам без меня двинуться не может… «Табакеркой жалую тебя»! — передразнил он князя. — Нужна мне твоя табакерка!.. Да я сам могу подарить их тебе десять… Ну, погоди ж, будет на моей улице праздник, погоди, голубчик, потешусь и я над тобою!
В этот вечер Созонт Яковлевич твердо решил, что если судьба продолжит свою несправедливость к нему, то он придет сам ей на помощь и так или иначе удовлетворит себя погибелью своего обидчика — князя.
В то же время в другой стороне вязниковского дома, в маленькой конурке под театральной лестницей, сидел со сжатыми руками и опущенною седою головою Прохор Саввич и тоже думал долгую, тяжелую думу.
Мерцающий блеск лампадки у образов едва освещал его скромное жилище в пять шагов пространства, но Прохору Саввичу не тесно казалось тут, в этих пяти шагах. Тесно ему было на земле среди людей, вечно враждующих, озлобленных, потерявших существо человеческое.
«Что делают, что делают! — повторял он себе, покачивая головою. — Не понимают того и не чувствуют, что их страдания от них самих же происходят… Боже милостивый, прости им, просвети несчастных!»
Несчастными казались ему большинство людей, которых видел он тут, в Вязниках: и секретарь князя, и более других казавшийся всемогущим сам князь Гурий Львович, пред которым трепетали все окружавшие его и которому все завидовали.
Вместе с тем Прохору Саввичу вспомнилась другая страна, с другими нравами. Вспомнил он большой бушевавший город, сердце Франции, охваченный революцией, где пришлось ему взяться за ремесло парикмахера и научиться ему, чтобы не пропасть с голода. В его ушах еще звучали стук гильотины и удары отрубленных, окровавленных голов, валившихся в корзину. Стон, крики ужаса и мольбы о защите раздавались и там, где люди громко кричали о свободе, братстве и равенстве и во имя этой свободы, братства и равенства совершали чудовищное, небывалое дело насилия…
Прохор Саввич встал, обратился лицом к образам и, крепко сжав руки, опустился на колени.
— Ты, Господи, защитник наш, и в Тебе одном свобода, равенство и братство! Господи, просвети несчастных, помоги, спаси и помилуй за беззакония их!..
И долго молился он в эту ночь, не вставая с колен, и клал земные поклоны.
XVII
В сорока верстах от Вязников по направлению к губернскому городу, вне владений Каравай-Батынского, стоял на большом тракте заезжий двор. Там условились встретиться Гурлов с Чаковниным, который обещал Сергею Александровичу привезти сюда его дворянское платье.
Чаковнин приехал верхом один на форейторской лошади из закладки Труворова.
Гурлов, переодетый уже вновь в камзол, большие сапоги и кафтан, сидел в просторной верхней комнате двора с Александром Ильичом, дымившим своей трубкой, и разговаривал. Вечерние сумерки густели за окном, но они не зажигали свечи.
В это время подъехал княжеский секретарь ко двору, ради порученных ему князем хлопот в городе.
Дворник, осанистый мужик из однодворцев, встретил важного гостя на крыльце и повел его наверх, засветив в фонаре сальную свечку, замерцавшую на сквозняке своим пламенем.
— Пожалуйте! Тут еще двое проезжих есть — не соскучитесь! — пригласил он Савельева, пропуская его в дверь и освещая своей свечой комнату с низкими подъемными окнами, с бревенчатыми стенами. За столом на тесовых, покрытых коврами скамейках сидели Чаковнин и Гурлов.
Здесь, вне владений князя Каравай-Батынского, Гурлову не было причины скрываться, и он совершенно равнодушно встретил появление секретаря.
Созонт Яковлевич вошел, закинув голову и высоко вздернув очки на нос, оглядел сквозь эти очки сидевших и сейчас же узнал их.
Первое, что ощутил он при этом, была радость. Обрадовался он не тому, что напал на след Гурлова, обидчика князя, а тому, что судьба столкнула его именно с этим обидчиком.
Во время дороги злоба Савельева разыгралась еще сильнее, чем вчера, и он находился теперь в таком состоянии, что, попадись ему под руку князь, он мог бы забыться пред ним и не сдержать себя. Втайне, в глубине души, он уважал и Гурлова и Чаковнина и дорого дал бы за дружбу с ними.
— Здравствуйте, господа, — поклонился он, — мы, кажется, знакомы…
Гурлов покосился на него. Чаковнин продолжал дымить трубкой, не обратив внимания на приветствие.
— Или не узнали меня? — повторил Савельев. — Я секретарь князя Каравай-Батынского, Созонт Яковлевич…
Сильно хотелось ему в эту минуту подсесть к ним и предложить расправиться с князем по-своему, — сговориться бы да и покончить с ним!..
Увы! Ему опять не ответили.
Тогда он стал располагаться на другом конце стола; достал из погребца, который принес за ним работник дворника, нож, вилку, тарелки, флягу с вином, стаканы и завернутую в бумагу холодную говядину, курицу и прочую снедь.
— Что же, — усмехнулся он, — пока я на службе был — водили со мной знакомство, а теперь, как прогнали меня, так и знать не хотите?..
— Как прогнали? — встрепенулся Гурлов.
Созонт Яковлевич знал, чем взять его. Он нарочно соврал, что прогнан князем.
— Прогнали меня за вас, Сергей Александрович, за то, что не сумел захватить вас сегодня, — пояснил он весьма естественно. — И вот вы видите теперь человека, лишенного крова…
— Ну, и забодай тебя нечистый! — проворчал себе под нос Чаковнин, запыхтев своей трубкой.
— Винца не прикажете ли? — предложил Савельев, берясь за флягу.
Чаковнин взглянул на Гурлова, и оба они рассмеялись. Савельев налил себе полный стакан, отпил до половины и проговорил:
— Доброе винцо! Вы не думайте, что оно — того же состава, что и погубивший меня сегодня квас…
Такая откровенность поразила даже Александра Ильича, и он, подняв брови, глянул на Созонта Яковлевича.
— Я потому откровенен так, — сейчас же сказал тот, — что все равно терять мне нечего… Говорю вам, что человек я, лишенный крова. — Он принялся разрезать курицу и стал было производить это очень деловито, но вдруг поднял голову. — Напрасно вы изволите ко мне с таким презрением относиться! — воскликнул он. — Может быть, я и достоин его, но, во всяком случае, имею право на снисхождение. Вы думаете, дешево доставалась мне жизнь у князя? Только лютейшему врагу могу пожелать такую. Сколько я унижения перенес, сколько обиды, сколько слез огорчения пролил я втихомолку — знаю я да подушка моя! — Созонт Яковлевич так расчувствовался, что у него навернулись слезы, и он смахнул их. — Я вам прямо скажу, — продолжал он, — что лютейший враг мой, общий с вами, — князь Гурий Львович Каравай-Батынский. И не теперь стал он врагом моим, а всегда я чувствовал к нему омерзение. И вот истинно говорю вам, что ежели вы желаете предпринять что-нибудь серьезное относительно этого деспота, то я всей душой рад помогать вам! — Он проговорил это совершенно искренне и совершенно искренне желал войти в союз с людьми, которых считал врагами князя. — Вы, может, не доверяете мне? — сказал он снова, помолчав. — В таком случае я готов идти на испытание, согласен, чтобы вы испытали меня…
— А, забодай тебя нечистый! — крикнул Чаковнин, вдруг обозлясь. — Да что ты в самом деле, панибратствуешь с нами, что ли? Коли тут заезжий двор, так и всем ход дозволен, так и делай, что тебе тут требуется…
Савельев вдруг стал собирать тарелки и прибор в погребец и, не кончив этого занятия, потому что голос Чаковнина становился все грознее, выскочил из комнаты.
XVIII
Когда он уселся в экипаж, отдав предварительно точные и обстоятельные приказания дворнику, он постарался чистосердечно ответить себе на вопрос: если бы Чаковнин и Гурлов согласились на предложенный им союз и они все трое вернулись бы в Вязники — удержался бы он от соблазна выдать их? И он чистосердечно должен был признаться себе, что соблазн был очень велик.
Приказания, которые дал он, уезжая, заключались в следующем: дворник должен был отправить Гурлова с надежным ямщиком, который, куда бы тот ни велел ему везти себя, должен был непременно доставить его в город к заставе. Сделать это было легко, потому что Гурлов не знал дороги. Кроме того, все вероятия были за то, что сам он велит везти себя в город. На заставе ямщик должен был назвать своего седока, а там уже будут ждать его полицейские чины для того, чтобы взять. Ради того, чтобы обделать это дело, Созонт Яковлевич и поторопился отправиться в город. Не хотели они друзьями с ним стать, так пусть почувствуют, каков он враг.
Дворник получил от Савельева сто рублей — сумму очень большую — на подкуп ямщика и для собственного вознаграждения. В таких случаях, как этот, Савельев не скупился на княжеские деньги.
Гурлов с Чаковниным опять остались одни сидеть у стола.
Напрасно старались они придумать хоть что-нибудь для освобождения Маши. Гурлов, благодаря случаю, избежал насилия и имел возможность выбраться из Вязников. Чаковнин, как было условлено, привез ему его платье, ну, а дальше что? Теперь-то что они будут делать?
— Вы, как ехали сюда, Прохора Саввича видели? — спросил Гурлов.
— Видел! Сказал ему, что мы тут, на заезжем дворе, встретимся сегодня… А все-таки я говорю, что только прямой путь нам и возможен.
Чаковнин настаивал на том, чтобы Гурлов оставался где-нибудь здесь поблизости, а сам он, Чаковнин, поедет к князю и поговорит с ним по-своему. Ему казалось, что он может заставить Гурия Львовича отпустить Машу, употребив в дело опять что-нибудь вроде мозаиковой крышки.
Гурлов возражал. Видимо, этот план вовсе не нравился ему. Но, со своей стороны, он не мог сделать никакого иного предложения, и потому они вертелись все на одном и том же, не приходя ни к чему положительному.
— Да неужели нам нет выхода? — громко проговорил Сергей Александрович.
— ю может быть, и есть! — послышался в дверях знакомый голос.
Гурлов вздрогнул. Чаковнин поднял свечу над головою и пригнулся, чтобы разглядеть, кто вошел. В дверях стоял Прохор Саввич.
— Громко изволите дебаты свои вести! — сказал он, улыбаясь. — Хорошо, что поблизости посторонних нет, а то даже в коридоре слышно…
— Вы каким образом здесь? — удивился и вместе с тем обрадовался Гурлов, вставая ему навстречу.
— С секретарским камердинером в бричке приехал, а теперь, как они проследовали благополучно дальше, остался здесь ради вашей печали.
Чаковнин, видимо, тоже обрадовался появлению старика.
— Садитесь — гостем будете! — проговорил он.
Прохор Саввич положил шляпу и трость и сел к столу.
— Так вы полагаете, государи мои, что выхода нет? — тихо сказал он, и морщины на его бритом выразительном лице разгладились доброю улыбкой.
— По-моему, выход один, — ответил Чаковнин, — я поеду и поговорю с этим князем начистоту, а он пусть подождет, — показал он на Гурлова.
— А ждать-то ему каково? — улыбнулся опять Прохор Саввич. — Вы думаете, усидит он вдалеке от Вязников?
— А отчего же ему и не усидеть?
— А зазнобушка? — спросил Прохор Саввич.
Гурлов смущенно потупился. Прохор Саввич сразу уловил главную причину, по которой не нравился Сергею Александровичу план Чаковнина и о которой ему не хотелось говорить.
— А, вам Александр Ильич рассказал все? — смущенно произнес он.
— Ничего мне Александр Ильич не рассказывал! У меня свои глаза есть, — возразил Прохор Саввич. — Вы думаете, что мне непонятно было, почему вы вдруг из Москвы вслед за ее приездом явились и о ней расспрашивали? Так расспрашивают лишь в том случае, если действительно любят. Я-то знал о ней, только ничего вам не рассказывал, потому что ничего не мог утешительного сообщить. Князь тиранил ее до сих пор.
— Ну, а теперь? — чуть слышно произнес Гурлов.
— А теперь, могу вам сказать, что с этой стороны не тревожьтесь. Гурий Львович хочет лаской ее взять, роскошь пред ней расточает, роскошью одурманить желает. Теперь она отлично обставлена.
— Ну, в этом отношении я Машу знаю, — вздохнул Гурлов, — роскошью ее не возьмешь.
— Ну, и отлично! — согласился Прохор Саввич. — Так вот, видите ли, — обратился он к Чаковнину, — молодцу не усидеть вдали от Вязников, все равно удерет и попадется, как кур в ощип… Надо обдумать дело как следует…
— Забыл я про это — забодай меня нечистый! — проворчал Чаковнин. — Ну, пусть едет в Вязники, а я поговорю с князем.
— А если он и слушать не захочет?
— Меня-то?
— Эх, Александр Ильич! Что один раз возможно, то не всегда повторяться должно. Теперь князь говорить с вами будет, конечно, с опаской. Ну, в крайнем случае, убежит от вас. Хорошо! А ведь та, из-за которой мы стараемся, совсем в его руках. Всякий наш промах на ней отозваться может!..
— Так что же делать? — воскликнул Чаковнин, начавший уже сердиться.
— Послушаться моего совета, — ответил Прохор Саввич.
XIX
Чаковнин, пыхнув большим клубом дыма, проговорил:
— Ежели по вашему совету нужно кому-нибудь два ребра вышибить — так я это сразу, а на фокус-покусы — извините, не мастер.
Он был немножко недоволен, как сочинитель плана, который провалился. Авторское самолюбие его слегка страдало.
— Секретарь Савельев видел вас здесь? — спросил Прохор Саввич.
— Видел.
— Вместе?
— Вместе.
— Нехорошо!
— Ничего нет нехорошего: он прогнан уже, — сказал Чаковнин.
— Это он вам сказал? Да? Ну, так он сказал неправду! Он послан в губернский город, чтобы начать там дело.
Чаковнин, пускавший дым мелкими кольцами, вставил только:
— Забодай его нечистый!..
— Теперь надо сейчас вам ехать в Вязники, — начал Прохор Саввич, — и сказать князю, что вы нарочно, мол, приехали к Гурлову сюда, чтобы узнать, куда он поедет, что утром сегодня вы его укрыли потому, что он не сказал вам, за что его преследуют, а потом, когда узнали, спохватились…
— Словом, наврать с три короба? Ну, что ж, я и навру, пожалуй… С волками жить — по-волчьи выть, видно!.. А вы как?
— А мы завтра утром прибудем оба в Вязники. О нас, конечно, ни слова не говорите.
Чаковнин поднялся со своего места.
— Ехать так ехать. Обставлять князя в дураках, значит. Ну, до свидания!..
Не больше как через десять минут он уехал.
— Отчего вы говорите, что мы завтра в Вязники прибудем, когда можно сейчас отправиться и быть там к ночи? — заговорил Гурлов, которому не хотелось быть вдали от любимой девушки.
Прохор Саввич, понимавший это его нетерпение, опять улыбнулся:
— А как, вы думаете, мы прибудем туда?
— Да очень просто: я опять переоденусь мужиком.
— Ну, а потом что?
Гурлов задумался.
— Потом — я не знаю, — ответил он наконец.
— То-то и оно! Мужиком-то вы явитесь, да как вам остаться там мужиком-то?
— Так как же быть? — спросил Гурлов.
— А вот как быть: я уже заявил в Вязниках, что жду себе помощника по парикмахерской части, которого, мол, выписал из Москвы за собственный кошт и содержать его буду сам, потому что мне одному не управиться… Ну, вот, я приеду завтра с вами, как будто с помощником; наряд и парик, и все, что нужно, у меня с собою для вас.
Гурлов от такого плана в восторг пришел.
— Значит, я с вами жить буду… при театре!.. — захлебнувшись от радостного чувства, произнес он.
Житье при театре могло сулить ему встречу с Машей. По крайней мере, при этих условиях он мог на это надеяться более, чем при всяких других.
— Да, будете жить при театре, — подтвердил Прохор Саввич.
Это было так хорошо, что казалось несбыточным, и Гурлов ужаснулся пришедшему ему на ум сейчас же препятствию.
— А как же паспорт? — робко спросил он. — Ведь надо же хоть какой-нибудь документ, удостоверяющий личность.
— Об этом не тревожьтесь: у Каравай-Батынского свои правила. У него единственное значение во владениях имеет собственный его пропуск через заставу. Ну, а такой пропуск у меня есть для помощника. Значит, в Вязниках вы явитесь не беспаспортным, по их правилам.
— Ну, отлично! — обрадовался Гурлов. — Спасибо вам. Так едем сейчас. Давайте я переоденусь, и едем…
— Не суетись, коза, — все волки наши будут! — усмехнулся Прохор Саввич, продолжая спокойно сидеть у стола. — Ну, как же это так — переоденусь и едем? Тут переодетым увидят вас все на заезжем дворе: и сам дворник, и работники, и ямщики; как вы их молчать заставите? Ах, вы, спешка этакая!.. Уж довольно, что они вас в крестьянском платье видели, а потом так вот, как вы теперь… Нет, знаете, делать — так уж аккуратно. Видите, как по тракту к Вязникам пойдете, так тут первый проселок направо и приведет вас к деревне. Там — третья изба от края — у меня знакомый мужик живет. Лечил я его, так знаю. Сейчас отправлюсь я к нему и попрошусь переночевать, — на заезжем дворе, дескать, мне не по карману — и скажу, что помощник мой тоже придет туда. А вы после меня повремените здесь, да потом потихоньку, так, будто прогуляться пошли, и отправляйтесь. Придете туда в темноте, никто не разглядит, какой вы, а завтра с утра я вас в помощника своего преобразую — вы и выйдете так, и мужику, нашему хозяину, невдомек будет, сядем на его телегу да и явимся в Вязники. А тут на заезжем дворе пусть головы ломают, куда девались вы. Поняли?
XX
Созонт Яковлевич пред отправлением в город послал с заезжего двора князю донесение, в котором написал:
«Доношу Вашему Сиятельству, что оный Гурлов вместе с господином Чаковниным на заезжем дворе обретались и хитрыми улещаниями меня на свою сторону склоняли. А я в моей преданности Вашему Сиятельству все оные улещания их отринул и дерзость их словесно посрамил. К арестованию же Гурлова надежнейшие меры принял, а о господине Чаковнине и таковых его мерзостных поступках Вашему Сиятельству рабски доношу…»
Это донесение, принесенное пешим посланным, пришло в Вязники после возвращения туда Чаковнина, который успел уже, как приехал, повидать князя по важному, как сказал он, делу и переговорить с ним.
Последствием этого разговора было то, что Савельев получил в городе с нарочным от князя на свое донесение следующий ответ:
«А и опять ты — дурак! Господин и кавалер Чаковнин показал себя вполне преданным особе нашей. А тебе, дураку, смотреть за Гурловым, что он в город в пейзанском платье придет, и не токмо принимать меры, а просто взять его и на том быть!..»
Чаковнин исполнил в точности возложенную на него миссию и «обставил в дураках» князя.
В разговоре с ним он случайно упомянул о Труворове, своем сожителе по комнате.
— Какой такой Труворов? — спросил князь.
— Уж какой именно — доподлинно не знаю, — ответил Чаковнин, — а дворянин и помещик, зовут его Никита Игнатьевич.
— Ну, так и есть! — воскликнул князь. — Сын Игнатия Никитича! А мне до сих пор и не скажет никто. Вы знаете, у отца его, Игнатия Никитича, был театр в Москве — не хуже шереметевского. Он должен помнить. Он должен помнить все житье их московское. Старик Труворов широко жил, хорошо. Есть теперь что вспомнить его сыну. Сын-то жить, конечно, так уже не может, потому отец растратил все, но вспомнить ему есть что, право, есть!.. Я хочу непременно показать сыну Игнатия Никитича Труворова свой дом и прочее. Он должен оценить это!..
На другой день князь Гурий Львович, обрадовавшийся, что нашел человека, пред которым можно похвастать своею роскошью, потребовал к себе Труворова и с утра до вечера держал его при себе. Он показывал ему коллекцию тростей и табакерок, дом, парк, оранжереи.
Неповоротливый, толстый Никита Игнатьевич добродушно оглядывал все и говорил только по своей привычке: «Ну, что там!.. Ну, какой там!..» Ни разнообразие и богатство коллекций, ни пышность дома, ни красота парка, ни огромные размеры оранжерей не трогали его.
— Да ведь такого, например, парка у вашего батюшки не могло быть в Москве! — настаивал князь.
— Ну, что там не могло… Ну, какой там парк! — пел по-своему Труворов, и князь чувствовал свое бессилие поразить его.
Но он не сердился на это. Он сознавал, что сын такого барина, каким был покойный старик Труворов, и не должен, в сущности, удивляться ничему. Но это только больше раззадоривало князя, и он хотел добиться своего. Он не знал, что Никита Игнатьевич оставался равнодушным к его сокровищам не потому, что столько уже видел на своем веку, что был чересчур разборчив и требователен, а просто потому, что ему было решительно все равно — никакой ни нужды, ни пользы он в этих сокровищах не видел.
Каравай-Батынский в тот же вечер назначил спектакль.
Своим театром он очень гордился, тратил на него, не жалея, деньги и был уверен, что уж представлением-то он проберет Труворова.
Для того же, чтобы подействовать в этом смысле наверняка, он велел выпустить в первый раз сегодня новую актрису Марью. Она должна была явиться в апофеозе в виде богини судьбы и прочесть приличные случаю стихи, которые велели ей выучить.
Нарочно посланные верховые ездили по окрестностям, чтобы приглашать публику на парадный спектакль в доме князя Гурия Львовича Каравай-Батынского.
Жившие в Вязниках гости уже с утра начали принаряжаться — доставать лучшие кафтаны, чесать парики и натирать маслом лаковые башмаки.
К восьми часам вязниковский двор наполнился рыдванами, распряженными и оставленными тут, потому что в сараях не хватило места. Кроме того, приезжие, которым не досталось комнаты, решили переночевать в экипажах. Флигель был переполнен, и все павильоны в парке были заняты. На спектакль явились и дамы, большинство в старинных робах, вышедших из моды, но необыкновенно добротных. Гости продолжали приезжать и после начала представления.
Театральный зал, с расписным потолком, с бархатной занавесью, с двумя ярусами лож, был освещен множеством масляных ламп, так что в нем было очень светло и жарко. Дамы сидели в ложах. В партере на раскинутых в беспорядке табуретах на золоченых ножках, с бархатными подушками, разместились мужчины.
Князь восседал в большой ложе против сцены. Сзади него стояли камергер и камердинер. Направо от него сидел Чаковнин в своем обычном зеленом мундирном одеянии с красным воротником, а налево — в великолепном нежно-лилового бархата кафтане, шитом гладью золотом, шелками и драгоценными камнями, — Никита Игнатьевич Труворов. На самом князе был дорогой кафтан, но у Труворова работа была тоньше и камни подобраны лучше. Этот кафтан остался у него и сохранился из платья его отца; самому же ему и в голову не пришло бы шить себе такую дорогую одежду.
XXI
Представление уже началось, когда Маша, которая должна была появиться в конце вечера, вошла, затянутая в корсет и одетая в пышное белое платье «помпадур», с башмаками-«стерлядками» на ногах, в особую уборную, отведенную для прически и уборки волос. Уборная была маленькая, так что с трудом можно было повернуться в ней в огромных, торчавших по сторонам фижмах.
Маша, хорошо обученная в Москве, как носить платье и обращаться с ним, бережно и осторожно прижала руками юбку и уселась на табурет пред зеркалом в ожидании, пока придут, чтобы убрать ей голову.
Она слышала, как сзади скрипнула дверь, как вошел кто-то — очевидно, парикмахер — и как защелкнул задвижку, чтобы никто не мог войти извне. Ей хотелось разглядеть в зеркало (повертываться было неудобно), кто вошел и зачем запирает дверь на задвижку, и за плечом своим увидела в зеркале лицо с низким лбом, с рыжим париком, подбородком, спрятанным в жабо, и большими темными очками на носу. Но это был один миг. Лицо изменилось сейчас же, парик исчез, исчезли очки, подбородок высвободился, и Маша узнала знакомые, красивые, любимые черты молодого Гурлова.
— Зачем ты усы сбрил? — вырвалось у нее.
Эти слова вырвались у нее бессознательно. Она поразилась неожиданному появлению любимого человека и сказала то, что первое пришло ей в голову.
— Узнала, не забыла, любишь? — проговорил он. Маша вскочила, обняла его, прижалась к нему.
— А я думал… Боже мой, как я волновался!..
— Ну, ну, чего ты волновался?
— Да оттого, что ты видела меня на службе у этого человека.
— Ах, какой ты глупый!..
— Я думал, что ты не поймешь… да ведь иначе, верь мне, нельзя было…
— Верю и поняла. Я все поняла… и не тогда, когда ты в него канделябру бросил… раньше, сейчас же… Но как же это ты скрываешься? Значит, ты остался невредим?..
— Это целая история. Я тебе расскажу…
— Постой! Теперь скажи, что любишь…
— Люблю. А ты?
— Я? Вот как, милый!.. — и Маша снова обняла Гурлова.
— Но времени у нас немного, — ответив на ее поцелуи, произнес он. — Тебя причесать надо. Садись!
— Как, ты в самом деле чесать меня станешь?
— Сегодня целый день и целое утро учился… Потом Прохор Саввич придет — посмотрит…
— Кто?
— Прохор Саввич, здешний парикмахер. Если что — верь ему, Маша, он — дивный человек…
— Ты у меня дивный!..
Явившийся за некоторое время до выхода Маши на сцену Прохор Саввич застал ее почти вовсе не причесанною. Только волосы были подняты, но ни буклей, ни украшений не было сделано, а оставалась еще сложная процедура напудривания!..
И Маша, и Гурлов никак не ожидали, что так скоро прошло время. Они даже переговорить не успели как следует. Разговор у них шел все время отрывочными, отдельными словами, но они понимали их отлично, тем более что главное в этих словах было, что они любят друг друга. Все остальное в данную минуту казалось второстепенным.
И вот в тот самый момент, когда, казалось, они готовы были уже перейти к этому второстепенному и обсудить, какие возможны средства к побегу Маши, постучал в дверь Прохор Саввич условным заранее стуком, и пришлось впустить его. Он так и всплеснул руками, увидев, что прическа не только не готова, но нет возможности докончить ее вовремя!
— Ну, не ожидал я, что вы, дети мои, уж до того легкомысленны! Над ними, можно сказать, дамоклов меч висит, а у них счастливые лица, и хоть бы что! — укоризненно проговорил он, смягчая, однако, укоризну невольною улыбкой. — Ну, давайте скорее!.. Ах, да все равно не поспеть… не поспеть… — повторял он, быстро, умелыми руками наспех прикалывая букли. — Не поспеть напудрить…
Гурлов в это время тихо и виновато в углу надевал свой парик и очки, преображаясь в помощника Прохора Саввича.
На сцене, возле уборных, прозвучал первый звонок. По третьему — поднимали занавес, а по второму — участвовавшие в акте артисты должны были выходить на свои места за кулисы.
— Когда же тут пудрить? — уж с отчаянием произнес Прохор Саввич и остановился с растопыренными руками, положение было безвыходное.
Вдруг он наморщил брови, мотнул головою, и Гурлов, с беспокойством следивший за ним, в первую минуту думал, что он внезапно помешался. Затем Прохор Саввич схватил ножницы, схватил голубые бархатные панталончики, лежавшие на стуле (в них Параша играла пастушка), и начал резать их. Не успел опомниться Гурлов, как из лоскутьев голубого бархата на голове Маши образовался чудесный причудливый убор, удивительно оттенявший золотистый мягкий природный цвет ее густых белокурых волос.
— Идите, идите так! — приказал Прохор Саввич, — идите, пора!..
Идти действительно было пора: на сцене давали уже второй звонок.
XXII
Декорация изображала «пейзаж времени Золотого века», который настал для действовавших в пьесе добродетелей. Эти добродетели, сгруппированные на авансцене, ждали появления богини судьбы.
Но вот заиграла музыка, и в облаках спустилась в белом, шитом серебром платье Маша с золотым жезлом в руках.
Публика ахнула вся, как один человек. Маша была очень хороша, и красота ее еще ярче выделялась, благодаря невиданной еще, новой, непудреной прическе с голубым убором.
Сам князь в первую минуту дрогнул на своем кресле в ложе. Он не знал еще, следует ли ему рассердиться или нет за то, что без его позволения была введена на сцену такая новизна. Положим, это было очень красиво, но если только эта новаторша сделает теперь хоть малейший промах, тогда берегись она!
Маша уверенно сошла с облаков, не спеша приблизилась к рампе и начала говорить стихи:
Блаженны времена настали И истины лучом нас облистали. Подсолнечна, внемли! На удивление земли Князь Каравай-Батынский рек: «Настани ты, Златой желанный век!» И се струи российских рек, Во удивление соседам, Млеком текут и медом!»Стихи были длинные и, в сущности, очень нелепые. Маша говорила их нараспев, с попеременным повышением и понижением голоса, в чем именно и находили тогда прелесть декламации. Но не это восхищало в ней зрителей. На самом деле выручали ее красота, ее грация и милая наивность, с которою она говорила свою роль. Нельзя было не любоваться ею, не слушать с удовольствием ее серебристый, ясный голос. И все слушали с затаенным дыханием, восхищались и одобрительно кивали в такт головами.
Когда она произнесла последнюю строчку, общий взрыв рукоплесканий раздался в зале, публика захлопала в ладоши и обернулась к ложе Каравай-Батынского, как бы приветствуя его и поздравляя с успехом новой его актрисы.
Князь Гурий Львович сидел, широко улыбаясь. Он был доволен общими знаками одобрения, но все же искоса посматривал на Труворова, которого до сих пор не мог еще удивить ничем, и ждал, что выразит тот по поводу Маши.
Никита Игнатьевич смотрел на Машу и думал о Гурлове.
— Очень хороша! — произнес он вслух, отвечая своим мыслям и одобряя Машу именно как невесту симпатичного ему молодого человека.
— Ага! — подхватил Каравай-Батынский. — Говорите: «Очень хороша»? Небось, таких актрис у вашего батюшки не было, не было, а?
— Ну, что там актрисы у батюшки, ну, какие там актрисы!.. — протянул Труворов и отмахнул жужжавшую возле него муху.
О мнении Чаковнина, который сидел нахмуренный, князь не беспокоился и остался вполне удовлетворен тем, что Труворов признал несомненное превосходство Маши над актрисами своего отца.
Опустился занавес, но публика все еще неистовствовала и хлопала, и кричала, и махала платками, обернувшись к ложе князя.
Никогда еще не было таких оваций в его театре. Он видел, что сегодня они искренни и потому особенно шумны. Он остался отменно доволен представлением и повел гостей из театра в столовую, где был приготовлен роскошный ужин.
На установленном цветами, хрусталем и золотою посудою огромном столе, накрытом посредине столовой, лежал на золотом блюде целый ягненок с вызолоченными рожками и копытцами. Четыре большие кабана высились по углам, искусно подстроенные на четырех ногах, с колбасами, кусками ветчины и поросят внутри. Они изображали четыре времени года.
Двенадцать оленей с золочеными рогами, зажаренные тоже целиком и начиненные разною дичью, изображали двенадцать месяцев года. Вокруг всего этого стола, по числу дней в году, триста шестьдесят пять малых паштетов и пирогов, сладких, украшенных глазурью и сушеными фруктами.
Четыре стопы серебряные, с золотыми гербами князя, соответствовали тоже четырем временам года. Белое холодное рейнское изображало зиму; чуть тепленькое нежное красное — весну; мадера — горячее лето, а старое золотистое венгерское — осень.
Двенадцать золотых больших кубков, наполненных разного сорта медами, служили олицетворением двенадцати месяцев. На крышке каждого кубка красовался камень, свойственный каждому месяцу. Пятьдесят два маленьких серебряных бочонка — пятьдесят две недели в году — были наполнены водкой.
Кроме того, по приказанию расходившегося князя, уж очень довольного сегодняшним вечером, было подано триста шестьдесят пять бутылок шампанского. Он вспомнил, что соответственно числу дней в году не было выставлено ничего из вина, и велел подать шампанского.
Кроме малых паштетов, на столе стояли два больших. Когда разрезали один, из него вылетело множество живых птиц, рассеявшихся по украшавшим стены столовой деревьям.
Из другого паштета вышел карлик, одетый гномом, с бутылкой векового итальянского вина, и стал ходить по столу и наливать желающим это вино в рюмки.
Так угощал своих гостей князь Гурий Львович.
XXIII
В самый разгар пира Каравай-Батынский вспомнил о косвенном, так сказать, виновнике сегодняшнего торжества — парикмахере, выпустившем в новой, невиданной доселе прическе красивую актрису Машу и таким образом немало способствовавшем ее успеху.
— А позвать сюда парикмахера Прошку! — крикнул он зычным голосом, и сейчас же несколько слуг бросились исполнять его приказание.
Вошел Прохор Саввич в своем скромном темном суконном кафтане, и странною показалась его высокая, стройная фигура среди подгулявших гостей, шумевших в столовой.
— А, это ты! — обернулся к нему князь со своего кресла. — Поди сюда!
Прохор Саввич приблизился.
Князь налил шампанским стоявший пред ним разноцветного стекла старинный венецианский кубок до краев и протянул его Прохору Саввичу.
— Жалую тебя этим кубком, — проговорил он, — выпей его за наше здоровье! Ты угодил нам! И проси всего, что ты хочешь, — вдруг, расходившись, добавил он: — Все исполню, что попросишь… Вот как у нас! — и он размахнул кубком так, что пенившееся шампанское плеснуло на пол.
Среди гостей говор смолк. Все слышали слова опьяненного успехом и вином князя и притаились в ожидании, чего попросит счастливчик, которому на долю выпала такая удача. И каждый прикинул мысленно, чего бы сам он попросил, если бы был теперь на месте парикмахера.
Многие с любопытством ждали, что будет, если этот парикмахер спросит себе чересчур уж многого от князя. Ведь границ ему не положено — значит, он может спрашивать, сколько угодно, а как тогда князь выйдет из своего положения? Ему или придется нарушить слово, или, может быть, разориться.
«Он попросит сейчас, чтобы это животное отпустило на волю Машу — тогда дело Гурлова в шляпе», — подумал Чаковнин.
Но Прохор Саввич грустно поглядел на князя, покачал головою и проговорил:
— Если ты желаешь исполнить все, чего бы я ни попросил у тебя, то не заставляй меня пить этот кубок. Вот в чем моя просьба. Я не могу пить вино. Так ты ее и исполни — не заставляй меня пить…
Князь поднял брови, поставил кубок на стол, вперил в него взор и задумался.
— Постой, как же это так? — заговорил он, помолчав и подумав. — Я тебе говорю: «Выпей кубок, тогда я исполню всякую твою просьбу», а ты, не выпив кубка, просишь меня, чтобы я не заставлял тебя пить его. Для того, чтобы я исполнил твою просьбу, нужно, чтобы ты выпил кубок, такое я тебе поставил условие, а вместе с тем просьба твоя — именно не пить кубка; как же это будет, и как же я должен теперь поступить?
— А уж это — твое дело! — ответил Прохор Саввич.
— Постой! — остановил его князь. — Да ведь это просто: ты не хочешь пить кубок, а я не исполню твоей просьбы — вот и все, так и разойдемся!
— Отлично, — согласился Прохор Саввич. Князь опять остановил его.
— Как отлично? Ведь если я не должен исполнить твою просьбу, тогда нужно, чтобы я заставил тебя выпить кубок, потому что ты просишь не пить его… А если я заставлю и ты его выпьешь, тогда во исполнение просьбы ты должен не пить его. Вот так задача!..
— И, полноте, князь, ваше сиятельство, — сказал кто-то из гостей, — охота вам дворянскую голову ломать! Просто прогоните этого загадчика — и дело с концом.
Однако князю такой выход не понравился.
— Нет, — возразил он, — что сказано, то и должно быть исполнено — у меня уж такое положение! Я не потерплю, чтобы не было исполнено то, что я раз сказал. — И он снова в недоумении уставился на наполненный кубок, в котором играло шипучее вино. — Вот что, — проговорил он наконец, обращаясь к Прохору Саввичу, — ты мне задал задачу — ты должен и разрешить ее. Как желаешь, а научи, сделай милость, как мне поступить теперь?
Прохор Саввич, усмехнувшись, сказал:
— Да, видно, одно средство осталось: разбей кубок, как он есть, с вином, тогда, по крайней мере, не из чего заставлять меня пить будет… этим и выйдешь из затруднения…
— А другого выхода нет?
— Видно, нет, по-моему, а коли сам что надумал — исполни.
— Или, ты думаешь, жаль мне этой посуды? — проговорил князь, взявшись за кубок, — и поценнее вещами умею брезговать, батюшка!.. — И он, спокойно подняв кубок, бросил его на пол.
Кубок разбился вдребезги — только осколки полетели в разные стороны да вино разбрызгалось звездообразной лужей.
— Ай да князь! — послышалось кругом. — Вот это по-княжески!
— Виват князь Гурий Львович! — закричали на другом конце стола.
Но князь вдруг облокотился на руку и задумался, потом нахмурился, и краска сбежала с лица у него. Бледный, он поглядел вокруг, и с некоторым ужасом глаза его остановились на том месте, где за минуту пред тем стоял Прохор Саввич. Того уже не было — он ушел.
Всем бросилась в глаза внезапная перемена, происшедшая в князе.
— Что с ним? — зашептались гости.
Князь сидел, понурив голову, и грустно смотрел на осколки разбитого кубка. Он вспомнил только теперь, что с этим кубком была связана до некоторой степени его судьба: ему было предсказано очень давно, что смерть его наступит тогда, когда разобьется этот кубок. Он не поверил этому предсказанию, посмеялся даже над ним и забыл о нем, но теперь, когда кубок лежал в мелких осколках, вдруг на память князю пришло предсказание, и он испугался.
XXIV
Прохор Саввич вернулся из столовой после разговора с князем к себе в каморку, где ждал его Гурлов. Тот в парике и очках, в образе парикмахерского помощника (в каморку мог войти кто-нибудь из посторонних), сидел и практиковался в кручении волоса для париков. Но работа валилась из рук у него.
Прохор Саввич застал его сидящим с опущенными руками, с уставившимися в одну точку неподвижными глазами. Гурлову было и грустно, и больно, и вместе с тем он испытывал величайшее блаженство, вспоминая свой разговор с Машей и в сотый раз мысленно перебирая все его подробности.
Прохор Саввич понимал его состояние и, чтобы не мешать ему, не окликнул его, а преспокойно сел у другой стороны стола и начал работать над париком, который ему спешно нужно было приготовить.
Гурлов сам заговорил первый:
— Не знаю, как благодарить вас, Прохор Саввич! Ведь вы мне жизнь вернули сегодняшним вечером!.. Если бы вы только знали!..
— Знаю, все знаю, — остановил его Прохор Саввич. — Вы думаете, я молод не был? Пережил я уже ваши года, а потому и знаю все, — улыбнулся он, ласково посмотрев на Гурлова. — Не думайте, что вы новое что-либо изобрели или чувствуете особенно, — все так спокон века, батюшка… Ну, да дай Бог вам!..
— Дай Бог вам здоровья!
— Я-то рад, что вы счастливы.
— Счастлив! — задумчиво протянул Гурлов. — Счастлив! Я был счастлив, но это продолжалось часа полтора, показавшихся мне одной минутой… А теперь мы опять разъединены!..
— Погодите! Потерпите! Сразу ничего не дается. Нужно заслужить свое счастье. Вот придет время…
— Да разве я мало измучился в этот месяц, что она здесь?
— Что значит месяц? Другие годами мучаются!
Прохор Саввич проговорил это так, что посмотревшему на него в эту минуту Гурлову показалось, что этот старик более, чем кто-нибудь другой, имел право сказать о том, что есть люди, которые мучаются годами.
— Может быть, вы и правы, — ответил он, — то есть даже наверное правы и можете говорить так… но за что я страдаю?
— Каждому свое горе больнее. Каждый спрашивает, за что он страдает. А надо спрашивать, не за что, а для чего. Почему мы знаем? Не нам пытать Божественный Промысл! Очевидно, наше страдание — для самих же нас.
— А сами вы много испытали в жизни?
— Каждому крест по силе дается! — сказал Прохор Саввич, улыбнувшись.
Гурлову хотелось узнать прошлое этого доброго, с чистой, хрустальной душою старика. Ему казалось, что в этом прошлом непременно должно скрываться много таинственного и загадочного. Судя по манерам, выражениям и даже образованию, Прохор Саввич принадлежал вовсе не к тому типу людей, из которых выходят простые парикмахеры, а между тем он нес, видимо, с терпением и покорностью данное ему судьбою испытание. Что это было именно испытание и что Прохор Саввич не мог остаться до конца дней своих парикмахером при театре самодура князя — в этом Гурлов не сомневался.
— Ничего в моей жизни нет таинственного, — начал Прохор Саввич, как бы читая в его мыслях и отвечая на них. — Рожден я в роскоши и был с детства избалован ею. С детства жил я с отцом за границей, во Франции, в Париже. Незадолго до революции мой отец умер, и оказалось, что ничего, кроме долгов, не осталось у него. Тут произошла кровавая драма истории, в которой если не пришлось мне участвовать, то, во всяком случае, довелось быть свидетелем!.. Мне пришлось отказаться от титула…
— Вот как, — невольно воскликнул Гурлов, — у вас есть титул?
— У меня есть титул, — просто проговорил Прохор Саввич, — и, отказавшись от всего, я стал искать работы. Добрый человек почти на старости лет взял меня в ученики и научил, как добывать хлеб трудами рук своих. Я стал парикмахером…
— Зачем же вы в Россию вернулись?
— Зачем? Так надо было.
И оба они задумались.
Гурлов, благодаря рассказу Прохора Саввича, на минуту отвлекся от своих дум, но как только тот замолчал, снова закружились и запутались мысли в горячей молодой голове Гурлова. Ну, он видел сегодня Машу — хорошо! А дальше что? Что же дальше будет? И как он освободит ее и вместе с тем себя, потому что для него жизнь была мыслима только вместе с нею?
«Надо об этом поговорить и обдумать это, — решил Сергей Александрович, — и откладывать этот разговор не следует».
XXV
— Вот что, Прохор Саввич, — начал Гурлов, кладя руки на стол. — Хорошо, мы с Машей виделись сегодня. А дальше что? Ведь нельзя же оставлять ее в руках этого самодура, нельзя нам оставаться в бездействии. Я, по крайней мере, не могу, не могу!
— А надо!
— Как? По-вашему, надо сидеть и ждать?
— Я этого не сказал. Но прежде объясните мне, что вы хотите делать? У вас есть план?
— Мой план, — сказал Гурлов, — жениться на ней потихоньку; можно найти священника, который повенчает, а раз она будет моею женой, то перестанет быть крепостною князя Каравай-Батынского, а следовательно, сделается свободною, как дворянка, моя жена…
— Но ведь заочно венчать нельзя. Нужно, чтобы она присутствовала на свадьбе.
— Конечно! Для этого я увезу ее, отниму, чего бы мне это ни стоило, хотя бы с целым полком пришлось драться…
— Ну, вот, сейчас и драться! Видите, вы хотите исправить зло насилием, а это никогда не приводит к хорошему…
— Позвольте! Если на вас с топором бросится человек, вы не станете защищаться?
— Стану, но только добрым словом. Я стану говорить с ним и не буду бояться его. Поверьте, нет человека, у которого не было бы добра, хоть крупицы добра, в сердце. Нужно только уметь вызвать его доброе чувство.
— Так вы полагаете, что с князем Гурием Львовичем сможете сладить добром? Кажется, многого, чересчур многого захотели вы.
— Во всяком случае, если он поступает зло, если он идет на насилие, нам не надо подражать ему. Знайте: один человек, действующий добром и во имя добра, сильнее сотни людей, решившихся на зло, ну, а если вы сами хотите платить злом за зло и насилием за насилие, то, поверьте, успех будет сомнителен.
— Как? Вы не признаете насилия даже ради благой цели?
— У иезуитов лишь цель оправдывает средства, но это правило предосудительно. Хотите вы следовать ему?
— Я хочу освободить Машу. Я вижу, что нет другого средства, как отнять ее насильно.
Прохор Саввич покачал головою.
— Все вы, влюбленные, на один покрой: теряете голову, когда именно нужно вам самообладание. Ну, скажите, пожалуйста, ну, как вы один…
— Я не один, — перебил Гурлов, — нас четверо: вы, я, Чаковнин и Труворов.
— Ну, все равно! Как вы хотите, чтобы мы четверо силой сделали что-нибудь против Каравай-Батынского, у которого в распоряжении целая дворня? Мало того, и право на его стороне, потому что ваша Маша — его крепостная, и он волен держать ее у себя. Теперь и полиция, и власти все на его стороне… и осуждать их нельзя за это: князь может требовать себе поддержки от властей по закону. Они обязаны помочь ему.
— Тогда просто увезти ее потихоньку.
— Это тоже не так просто, как вы думаете. Князь бережет ее и сторожит. Уйти ей отсюда труднее, чем из тюрьмы.
— Ну, так что же тогда? — воскликнул Гурлов. — Тогда ложись и помирай просто, если нет возможности ничего сделать…
В голосе его звучало отчаяние, и он безнадежно опустил голову.
— Ну, вот! — проговорил Прохор Саввич с новою улыбкой. — То мы готовы мир в одиночку завоевать, то руки опускаем. Не сердитесь на меня! Не вы один такой; всякий на вашем месте так же бы безумствовал. Молодость, батюшка, влюбленность!.. Я вам советую теперь пока оставить все эти мысли, а думать вот о чем: завтра или, во всяком случае, на этих днях князь сделает повторение спектакля, и тогда вы опять пойдете причесывать Машу и увидитесь с нею. Ждите этого и думайте об этом.
Лицо Гурлова повеселело, и глаза заблестели.
— Вы думаете, что мы опять увидимся скоро? — спросил он, оживляясь.
— Рассчитываю, что долго ждать не придется. Будьте довольны пока этим.
— Ну, а потом-то что же? На что вы надеетесь?
— А вот посмотрите на это кольцо, — заговорил Прохор Саввич и, сняв с пальца кольцо, изображавшее змею, пожирающую свой хвост, подал его Гурлову, — вот, посмотрите!..
Гурлов взял кольцо и стал рассматривать. Оно было простое железное, но превосходной работы. Два прекрасных рубина были вставлены на месте глаз змеиных.
— Дивная работа! — похвалил Гурлов. — Но зачем вы показываете мне эту вещь?
— А вот сейчас я объясню вам. Змея есть и всегда останется олицетворением зла. Это есть та сила, которая противна добру, как тень — свету, и, как тень делает заметным свет, так эта сила делает заметным добро. Вот назначение этой силы и основание ее существования. Но, видите, эта змея пожирает самое себя. В этом весь смысл и глубокая тайна, раскрыть и познать которую можно лишь после долгих лет ученья и самовоспитания. Все раскрыть я вам не могу, да вы и не воспримете всего, неподготовленный. Я скажу вам только, что добро всюду находит себе пищу и само живет и рождает добро, а зло питается лишь самим собою и само себя пожирает. Поэтому если кто желает принести вам зло, оставьте его, не трогайте: это зло падет само собою, само себя поглотит, если вы не будете питать его новым злом, якобы борясь с ним. Из такой борьбы выйдет только увеличение зла. Помните эту эмблему — змею, себя пожирающую, и верьте, что зло само по себе готовит свою погибель.
XXVI
В то время, когда Прохор Саввич успокаивал своими речами волновавшегося Гурлова, Чаковнин и Труворов тоже разговаривали, вернувшись в свою комнату после ужина из большого дома.
Чаковнин дымил своей трубочкой, полакомиться которой не пришлось ему почти в течение всего дня, так как курить на людях при большом собрании считалось неприличным. Труворов пыхтел и отдувался, сидя на своей кровати, расстегнув камзол и распахнув свой великолепно расшитый кафтан, который ему лень еще было стащить с себя. Он, как пришел, расстегнул все пуговицы, которые можно было расстегнуть, и сел в изнеможении, не имея сил продолжать раздевание. Ему хотелось сделать передышку и отдохнуть. Он слишком много покушал за ужином.
— А хороша штучка! — проговорил Чаковнин, вспоминая о Маше.
Труворов только засопел носом.
— То есть, забодай меня нечистый, — хороша штучка! — повторил Чаковнин. — Счастье этому Гурлову.
— Ну, какое там счастье, ну, что там! — протянул Никита Игнатьевич.
— Верно изволили заметить, — сейчас же согласился Чаковнин, — счастье его, что нашел себе такую кралю, а несчастье — что соединиться с нею не может. Ну, так ведь в этом надо помочь молодцу. На то я и обещал ему. Знаете, надо обсудить.
— Ну, что там!.. — начал Никита Игнатьевич, но недоговорил, засопел и запыхтел: ему было жарко.
— Позвольте! Вы, значит, полагаете действовать, не рассуждая?
— Ну, что там действовать!..
— Нет, Никита Игнатьевич, — заговорил Чаковнин, — это я уж понять не могу! Вы обретите словеса для более подробного объяснения. Какая мысль щекочет мозги ваши?
Чаковнин был в несколько игривом настроении вследствие выпитого вина за ужином, во время которого он свернул ни с того, ни с сего серебряную тарелку в трубку. «Ну и сила!» — сказали гости, видевшие это.
Теперь он чувствовал особенный прилив в себе силы и желал приложить ее.
— Нет, вы объясните, Никита Игнатьевич, словесами удобопонятными, что значит ваше мычание? — настаивал он.
Труворов покачал головою.
— Ну, что там словеса!.. Какие там словеса!.. Не в словесах, того…
— Понимаю, — подхватил Чаковнин, — вы хотите выразить, что не в словесах дело. Ну, так давайте действовать, я вам и предлагаю действовать…
Никита Игнатьевич повертел пальцами в воздухе, пощелкал ими и произнес:
— Ну, что там!.. Того… какой там действовать… надо… — и опять пощелкал.
— Понимаю, — сообразил Чаковнин, — вы-мудрец, Никита Игнаьтьевич, Соломон, можно сказать: не тратите слов даром, но изъясняетесь лучше Демосфена!.. Насколько могу уразуметь, пантомима ваша обозначает, что нужны деньги для этого дела… Совершенно верно изволили сообразить, совершенно верно!.. Только у меня их нет, Никита Игнатьевич. А у вас?
У Труворова лицо омрачилось.
— Какой там! Ну, что у меня деньги!
— Значит, и у вас нет… У Гурлова, наверно, тоже… А занять не у кого?
— Какой там занять!
— Правильно. Занять — все равно отдавать нужно…
— Ну, какой там отдавать!.. — вдруг с живостью произнес Труворов.
Он не имел привычки платить долги и сам не спрашивал их с тех, которые ему были должны. А ему должны были гораздо больше того, что сам он был должен.
В комнате водворилось долгое молчание.
— Да-а! Без денег тут ничего не поделаешь, — проговорил Чаковнин, — а где их достанешь? Самому не сделать, а если и сделаешь, все равно никуда не будут годиться — фальшивые. Ах, чтоб тебя — экая штука подлая выходит! В самом деле, сидеть так, сложа руки, когда не терпится… Слушайте, Никита Игнатьевич! Вы — умная голова, неужели вы ничего придумать не можете?
— Ну, что там не можете! — спокойно протянул Труворов.
Чаковнин видел, что Никиту Игнатьевича осенила уже блестящая мысль.
— Родной, благодетель, — заговорил он, — не томите! Выкладывайте скорее, что вы придумали!
— Да что там придумали! — ответил Труворов, стаскивая с себя кафтан и подавая его Чаковнину.
— Как, — воскликнул тот, — вы жертвуете этот кафтан на пользу Гурлова? Так ли я понял вас?
— Ну, что там кафтан!.. Ну, какой там кафтан… Все равно кафтан…
— Никита Игнатьевич, да ведь вы — благодетель рода человеческого!
— Ну, какой там благодетель!.. — даже с неудовольствием произнес Труворов и стал укладываться спать.
XXVII
Как ни были разумны и утешительны доводы Прохора Саввича, Гурлова они утешили ровно до тех пор, пока он, простившись со своим утешителем, не лег и не очутился таким образом снова один со своими мыслями. Тотчас благоразумные советы доброго старика перестали казаться утешительными, и он должен был признаться себе, что не может ждать, что это сверх сил его.
Надежда была у него на помощь Чаковнина. Может быть, тот с Труворовым придумал что-нибудь такое, что одобрит и Прохор Саввич.
Странный этот старик — Прохор Саввич. Кто он такой? Он говорит, что есть у него титул… Отчего же он скрывает?
А должно быть, и он любил в свое время, потому что он понимает, он все понимает.
«Любил!» — хорошее это слово. И какое счастье — любить и быть любимым!.. Так вот зажмуришься, и, словно тебя на крыльях подхватило и унесло, — легкость чувствуешь непомерную… А она? Она — прелесть, она — счастье!.. Господи, если бы увидеть ее сейчас!.. Неужели будет время, что они не станут расставаться никогда?.. Конечно, если судьба соединит их, они больше уже не расстанутся… Но соединит ли их судьба?
Гурлову так хотелось, чтобы это случилось, что он верил, что это будет. Он не мог бы дожить до завтрашнего дня, если бы не верил этому.
А до завтрашнего дня приходилось прожить бесконечно длинную ночь. Спать же он не мог. А завтра что? Завтра он пойдет чуть свет к Чаковнину и обсудит все с ним. Может быть, они даже предпримут что-нибудь завтра же вечером.
И долго ворочался Гурлов на узкой и жесткой постели, которую устроил ему Прохор Саввич в своей каморке.
Но молодость и усталость взяли свое, Сергей Алексеевич заснул под утро тяжелым и крепким сном без сновидений.
Наутро разбудил его Прохор Саввич.
Они выпили сбитню с ситником, и Гурлов отправился во флигель по поручению Прохора Саввича, который исправлял парик одному из гостей. Гурлов понес этот парик во флигель, а потом зашел в комнату, где жили Чаковнин и Труворов.
— Ну, господин мой добрый, — встретил его Чаковнин, — главное у нас есть — средства.
— Какие средства? — переспросил Гурлов.
— Деньги, вот они! Никита Игнатьевич пожертвовал нам свой великолепный кафтан, — и Чаковнин показал на лежавший на стуле кафтан Труворова. — Ежели мы продадим его, то хватит и попу заплатить, и там какие расходы нужны будут, на все хватит.
Гурлов поглядел с благодарностью на Труворова и проговорил только:
— Спасибо вам!
Труворов махнул рукою. Он брился пред зеркалом и, казалось, был очень увлечен этим занятием, чтобы не обрезаться.
— Ну, что ж? Вчера виделись? — спросил Чаковнин, знавший о том, что вчера Гурлов должен был причесывать Машу.
— Виделись, — с улыбкой счастья ответил Гурлов.
— Это вы ее причесали так без пудры?
— Нет! Это Прохор Саввич. Это случайно вышло. Мы не поспели.
— Случайно, да хорошо. Ну, вот что, государь мой! Теперь я так намереваюсь поступить: следующий раз, как вы пойдете причесывать ее, вы ее как-нибудь, хотя переодетой, выведите на двор, где обыкновенно стоят кареты, а я уж там буду ждать вас с экипажем, на тройке, все готово будет… Прямо и отвезем вам под венец. Свидетелями венчания буду я, да вот Никита Игнатьевич. Никита Игнатьевич, вы согласны на это, одобряете?
— Мм… мм… — промычал Труворов, подложивший язык под щеку, чтобы выпятить ее.
Гурлов вопросительно посмотрел на Чаковнина.
— Это он одобряет, значит! — успокоительно произнес тот. — А обвенчаетесь — прямо в Петербург. Там, в случае чего, похлопочем… У вас родственники есть где-нибудь?
— Нигде нет.
— Ну, ничего, свет не без добрых людей.
— А вот Прохор Саввич советует подождать, — сказал с усмешкой Гурлов, когда упомянули про добрых людей.
— Странный это человек! — проговорил Чаковнин. — Вчера я подивился на него за ужином…
— А что? — спросил Гурлов.
— Да, вот… — и Чаковнин рассказал о вчерашнем происшествии с кубком.
XXVIII
Князь Гурий Львович проснулся и встал в отвратительном состоянии духа. Разбитый кубок не давал ему покоя. Все было бы хорошо, кабы не этот разбитый кубок!.. И князь с утра искал, к кому бы придраться, и первым пострадал лакей, подавший ему кофе: он был «отослан на конюшню» за то, что чашка криво стояла на подносе.
Каравай-Батынский вплоть до завтрака провел время у себя.
Завтрак тоже не принес ему облегчения, хотя он и старался, по своему обыкновению, отогнать от себя во время еды всякие дурные мысли.
Удалившись снова к себе в кабинет, он попробовал было заснуть, но сон не шел к нему. Князь долго ворочался на софе и наконец совсем поднялся, как раз в тот момент, когда возле дома послышались колокольчики.
Кабинет князя, огромная комната, выходил окнами на три стороны дома: в сад, на главный подъезд и на двор, так что князь мог, не выходя оттуда, наблюдать за тем, что делалось и происходило кругом.
В окно увидел он, как въехали на двор две тройки. Это секретарь вернулся из города и привез с собой судейских.
Князь обрадовался возвращению секретаря. По крайней мере, теперь было кого изводить. Он был почти уверен, что, несмотря на точные, как думал он, указания, данные им относительно Гурлова, секретарь, по своей глупости, не захватил его, — он считал вполне искренне Савельева дураком.
Как только тот подъехал, князь позвонил и велел немедленно позвать к себе секретаря, как тот был, прямо с дороги.
Савельев, знавший все обычаи Каравай-Батынского, сразу почувствовал, к чему идет дело: не избежать ему нового издевательства над собою! Но делать было нечего, надо было идти.
— Что? Не в духах, видно? — спросил только Созонт Яковлевич.
— И не говорите! — махнул рукой камердинер. — С утра бурлит… Кубок вчера разбили…
Савельев быстро направился в кабинет.
— Здравствуйте, Созонт Яковлевич, — встретил его князь с ужимочкой. — Как съездить изволили? Гурлова, конечно, не захватили?
— Нельзя было, ваше сиятельство.
— Нельзя? — крикнул князь, искавший повода излить гнев свой. — Нельзя, когда я тебе дал точные указания? Нельзя потому, что ты — дурак, дурак и больше ничего… Нельзя, когда я тебе ясно написал, что он под видом мужика в город явится?
— Да ведь мало ли мужиков заставу проходит! — сказал секретарь.
— А ты сделай так, чтобы осмотрели каждого. На что ты сюда ко мне судейскую челядь повез?
— На всякий случай, ваше сиятельство.
— На всякий случай? Какой такой случай может быть здесь у меня? Ну, а в городе купил кого следует?
— Все подарки розданы, и теперь будьте покойны, ваше сиятельство.
— А что мне быть покойным, когда одни дураки вокруг меня? Ты только и годишься на то, чтобы взятки давать и меня надувать.
— То есть как пред истинным… — начал было Созонт Яковлевич.
— Не божись, все равно не поверю! Знаю, что половину себе в карман тащишь. А и погоню ж я тебя, Созонт, что ты тогда запоешь?
— Воля вашего сиятельства!
— Знаю, что моя воля. Да только жаль мне тебя, дурака. Где ты такое место, как у меня, сыщешь? Кто тебе позволит так обкрадывать себя, как я? У меня-то хватит денег и на твое воровство. Пусть! А дурак ты и мошенник, так это верно. И за то я и плачу тебе, и воровать позволяю, чтобы говорить тебе это. Понял? А Гурлова все-таки мне сыскать… Я этого дела не оставлю так. Так ты и знай это! Иначе прямо сгною, если Гурлов у меня отыскан не будет.
— Я докладывал вашему сиятельству письменно, что господин Чаковнин… — начал было Савельев.
— Господин Чаковнин был на постоялом дворе для того, чтобы узнать, куда поедет Гурлов, и сообщить об этом мне…
— Так чего ж он сам-то не привез с постоялого двора сюда Гурлова, если радел об интересах вашего сиятельства?
— Да, правда, отчего ж он не привез? — сказал князь, но сейчас же добавил: — Опять ты дурак! Как же мог он привезти, если ты не сделал того же? Ведь ты Гурлова на том же дворе видел? Чего же ты не привез?
— Да они вдвоем с Чаковниным были, а у того силы на десятерых хватит. Мне и с моими людьми не было бы возможности справиться с ними, если бы я начал что, а господину Чаковнину было простое дело забрать молодца, да и привезти…
Князь задумался.
— Хоть ты и дурак, — проговорил он погодя, — а рассуждать можешь. Я спрошу у господина Чаковнина, почему он в самом деле, если радел о моих интересах, не взял этого Гурлова и не привез ко мне. Ну, а теперь ступай и почистись с дороги. Душа у тебя так грязна, что все равно не отмыть — ну, а хоть по внешности стань почище…
Савельев, крепко стиснув зубы, повернулся и вышел, едва удержавшись от того, чтобы не хлопнуть дверью.
— Ну, погоди ж ты! — процедил он по адресу князя. — Придет время — вспомнишь ты все это! Сам торопишь — не выдержу я. Вот что!..
Он ненавидел Каравай-Батынского всей душою.
XXIX
Каравай-Батынский почувствовал себя немного легче после разговора с секретарем. Он это называл «высказаться», то есть вылить в словах свою злобу.
К обеду он вышел веселее и, покушав, пришел окончательно в доброе расположение духа.
Он решил, что после обеда отправится к своей новой актрисе Маше, к которой не заходил с самого того достопамятного дня, когда Гурлов запустил в него канделяброй.
Несмотря на свой толстый живот, оттопыренные губы, обрюзгшие щеки, наконец, даже несмотря на свои годы, князь воображал себя еще красавцем, способным победить, если захочет, любую женщину. Он всегда был волен и слегка дерзок в обращении с женщинами, но знал секрет меры этой дерзости, которую позволял себе лишь настолько, насколько могло это нравиться им. Поэтому он имел успех в молодости, хотя никогда особенной красотой не отличался, но был лишь, что называется, молодец. С годами эта молодцеватость, конечно, исчезла. Князь опустился, постарел, ожирел, благодаря распущенной, роскошной жизни, состарился раньше времени, но все еще воображал себя прежним победителем.
Пред тем как идти к Маше, он постарался приодеться. Ему было немножко странно делать это для своей крепостной (крепостных он считал своими рабами), но вместе с тем это веселило его. Он знал, что Маша находится в полной его власти, да ему-то хотелось, чтобы бедная почувствовала к нему сердечную склонность. Такова пришла ему фантазия, и он, не знавший до сих пор предела своим прихотям, сейчас же вообразил себе, что так и случится, как он желает.
Одеваясь, князь вспомнил про кафтан, который был вчера во время представления на Труворове, и тотчас же послал своего камергера к Никите Игнатьевичу с просьбою уступить ему этот кафтан за какую угодно цену — все равно, он заранее согласен-де заплатить, какие хотят, деньги.
Кафтан Труворова был оценен князем, как знатоком в хороших вещах, но покупал он его, разумеется, не для того, чтобы носить: он, Каравай-Батынский, не носил платья с чужого плеча. Он велел купить кафтан у Труворова, просто чтобы тот не щеголял пред ним в такой хорошей одежде. Ему было важно лишить этой одежды Никиту Игнатьевича, а вовсе не приобрести ее для себя.
Для того чтобы идти к Маше, он надел белый шелковый камзол с бриллиантовыми пуговицами и кафтан простой, тоже шелковый, алого цвета.
Он подтянулся и оправился, облил пахучею водою себе лицо и руки и, блестя перстнями, пошел по коридору в комнату, где под строгим надзором содержалась, в полном довольстве, однако, Маша.
— Ну, здравствуй! — сказал он ей, входя. — Ты вчера порадовала меня. Хорошо, очень хорошо!..
Маша сидела у окна, в то время как вошел князь. На дворе уже спустились густые сумерки. Огня в комнате зажжено не было. Маша поднялась навстречу князю и остановилась.
— Свету! Дайте свету! — приказал князь, возвысив голос. — Потемки для злых людей любы, а мы ничего не хотим предпринимать недоброго.
Горничная внесла две зажженные свечи.
— Ну, ставь на стол и убирайся! — сказал ей князь. Горничная исчезла.
Гурий Львович сел у стола в кресло и, облокотившись на спинку, заговорил, смотря на Машу:
— Чувствуешь ли ты, Марья, что ты — моя крепостная?
Маша потупилась и ничего не ответила.
— Отвечай! — приказал князь.
— Должна чувствовать! — чуть слышно произнесла она.
— Ну, хорошо! Положим, должна… Ну, а видишь, я пришел к тебе и желаю разговаривать попросту… Поди сюда!..
Маша шевельнулась, но не двинулась с места.
— Или не ходи, — спохватился князь, вспомнив, что хотел быть ласковым, — как хочешь, а только сядь… Сядь, говорят тебе, вот сюда, на софу…
Маша прошла мимо него и присела на софу, подалее от князя.
— Ну, вот так, — одобрил он. — Теперь поговорим. Слушай, Марья: если ты захочешь — будешь первая после меня в Вязниках: бери любой экипаж себе, да не один экипаж — сколько хочешь; сколько хочешь, слуг у тебя будет, наряды такие я тебе прямо из Парижа выпишу, что уму помраченье, — настоящие княгини в столице завидовать тебе будут… словом, всякая прихоть твоя исполняться будет. Что захочешь, то делать будешь. Гостям велю руку тебе целовать, слугам прикажу госпожою тебя звать… Словом, будешь ты у меня как сыр в масле кататься. И все это от тебя самой зависит!..
Гурий Львович старался придать своему голосу и ласковость, и добродушие и щурился на Машу, как согретый кот на лежанке.
Девушка осталась безучастной. Речь князя не тронула ее.
— Ну, что же ты молчишь, не ответишь мне? — произнес немного погодя Гурий Львович.
— Я знаю, — тихо проговорила она, — что вы, если захотите, можете как угодно поступать со мной: морить меня и голодом, и холодом, на скотный двор сослать…
— Ну, вот какая злопамятная! — перебил ее князь. — Ну, что ж, что тебя несколько дней плохо кормили? Зато потом-то разве не вознаградили тебя? Ведь лучшие кушанья подавали…
— И лучшие кушанья можете вы мне давать, все это в вашей воле, — сказала Маша, — но одно только — с душой моей ничего не сделать вам. Она свободна; душа-то моя Божья, а не ваша, и никак вам ничего не поделать с нею, то есть решительно вот ничего!..
— Ты говоришь, у тебя Божья душа, и никому ты душой не предана? — спросил князь.
— Это уж мое дело, князь!..
— Твое дело! Видно, я угадал верно, есть зазноба. Все вы, девки, так вот зря готовы на шею повеситься, а не то чтобы выгоду свою соблюсти. Ну, вот тебе мое последнее слово: я с тобою милостив и желаю эту милость испытать до конца! Ты подумай, обсуди хорошенько, я тебе три дня даю на размышление, из них один, завтра, ты будешь опять сидеть на хлебе и воде, послезавтра тебе дадут опять всякие яства, а в третий день — опять на хлеб и воду. Вот ты и выбери, что лучше, и послушай моего совета: то, что я предлагаю тебе, право, для тебя хорошо будет. Другая, не рассуждая, согласилась бы, ну, а ты подумай, рассуди!..
И с этими словами князь вышел из комнаты.
XXX
Едва Каравай-Батынский вышел от Маши, в ее комнату крадучись явилась та самая Дуняша, дочь ткача, что была до сих пор в труппе князя первою актрисой и считалась первою его любимицей. Она подслушивала у дверей разговор князя с Машей и вошла с улыбкой к своей товарке.
— Ай да Маша, — проговорила она, — молодец, твердо стоишь!.. Этим ты его вернее заманишь и будешь тверже держать его…
Эта Дуняша с первого же знакомства не понравилась Маше. Ее разговор, а главное — поведение показались ей противны. Она сторонилась Дуни, но та лезла к ней и вела себя с таким апломбом, что трудно было от нее отделаться.
— Вовсе не желаю я держать его, — ответила Маша с сердцем, — не нужен мне он…
— Что ж? — рассмеялась Дуняша. — Или он прав, и в самом деле у тебя зазноба есть?
— А ты что же, подслушала, что ли, что говорил он тут?
— Разумеется, подслушала. Любопытно мне тоже, как это князь пред московской франтихой рассыпается, не то что пред нами, холопками… Так он прав, значит, что у тебя есть зазноба?
С самого появления Маши в Вязниках Дуняша возненавидела ее, увидев в ней опасную себе соперницу. До сих пор она не знала соперниц, но эта «московская модница», как называла она ее, казалась ей более чем опасною.
Сама Дуняша не была в Москве, не выезжала даже из Вязников и училась у бывшего на службе у князя театрального учителя в деревне. Конечно, манеры у нее в силу этого не могли быть особенно изысканны, да и образование хромало. Кроме того, она чувствовала, что Маша красивее ее. Поэтому она, опасаясь ее, с врожденною женскою хитростью постаралась разузнать подноготную своей конкурентки и знала теперь эту подноготную лучше, чем сам князь и даже его секретарь Созонт Яковлевич.
Она знала от актерика, с которым Созонт Яковлевич разговаривать гнушался, что в Москве ради Маши в театр, где она училась, приезжал молодой человек, дворянин Гурлов. Актерик служил вместе с Машей в Москве и видал там Гурлова. Когда почти одновременно с приездом Маши в Вязники появился там новый камергер, Дуняша узнала, что его фамилия Гурлов, и, показав его актерику, спросила:
— Это — тот самый?
Актерик сказал, что тот самый. Для Дуняши этого было более чем достаточно. Потом произошел известный случай с канделяброй, и сомнений никаких не осталось.
Теперь, разговаривая с Машей, Дуня хитрила, спрашивая ее о зазнобе, будто сама ничего не знала.
— Так есть у тебя зазноба? — повторила она.
— Есть ли, нет ли, не все ли тебе равно? Оставь ты меня в покое!..
— Ишь какая характерная! И не подступись к ней! Ну, матушка, будь покойна, сейчас заговоришь. Ты думаешь, я тебе враг?
— Не думаю, — сказала Маша, — с чего ж тебе быть врагом моим? Я тебе зла не сделала.
— А может, ты мне поперек дороги стоишь?
— И этого не думаю. Ведь я, как сказала князю, так и останусь при своем, пусть он меня одним хлебом кормит или заморские кушанья подает.
— Заморские кушанья! — подхватила Дуняша. — Мне за всю мою службу хоть бы разочек подали того, чем тебя каждый день теперь пичкают. Ради этого я даже поголодать денек-другой согласилась бы… А то вот еще: «Бери, — говорит, — экипаж любой, и гости станут руку целовать тебе, а прислуга госпожою звать»…
Дуняша отдала все бы за такую жизнь. Положим, она и решила во что бы то ни стало добиться этого… И теперь, разговаривая с Машей, она начинала поход, целью которого было заставить князя исполнить все посулы, сделанные им Маше, но лишь для нее самой, Дуни.
— Ничего мне этого не надо! — проговорила Маша.
— Не надо, так и разделим: пусть мне будет все, что он тебе обещал, а тебе пусть достается твой красавчик…
— Какой красавчик?
— А Гурлов, Сергей Александрович, — вдруг произнесла Дуняша, рассчитав, что, как громом, поразит этим Машу.
Расчет оказался правилен: Маша как была, так и осталась с разинутым ртом.
— А ты почем о нем знаешь? — невольно вырвалось у нее.
«Попалась, — мелькнуло у Дуни, — теперь не уйдешь!»
— Знаю и знаю, что он здесь поблизости, — продолжала она, сообразив, что Гурлов, если уж они любят друг друга, не мог оставить Машу и уехать, а должен скрываться где-нибудь тут же.
У Маши глаза загорелись.
— Ты и это знаешь? Что же, ты видела его?
— Может, и видела, может, он поклон тебе через меня передал, — снова солгала Дуняша, видя, что ложь удается ей.
— Поклон? А записки не дал никакой?
— Не дал. «Потом», — говорит.
Как только она сказала о Гурлове, Маша сразу поверила ей, и теперь Дуня показалась ей и милой, и доброй.
— Слушай, Дуня, голубушка, — заговорила она, — пойди к нему сейчас, попроси хоть два словечка написать…
Дальше поддерживать этот разговор Дуня опасалась.
«Пойди к нему сейчас» — значит, он тут, в самых Вязниках, ближе, чем можно было предположить. Это было главное, что хотелось узнать Дуне. Допытываться дальше казалось неосторожным, и Дуня ушла, якобы прямо к Гурлову, чтобы попросить его написать Маше.
XXXI
Чаковнин сидел за завтраком на обычном своем месте, рядом с князем. Гурий Львович завел разговор о духах и косметике, причем заявил, что из старых средств предпочитает для освежения лица холодец, то есть мятную настойку, а что мытье лица сливками никуда не годится. В заключение он добавил, что уж если и помогает что-нибудь для белизны и нежности кожи, так это — земляничные ванны.
— А мне кажется, что если от рождения природа не дала красоты, то ничего не поможет, никакие притирания не будут действительны, — проговорил Чаковнин. — Вот ваша актриса, что, говорят, новая, как, бишь, зовут ее?..
— Маша, — подсказал князь.
— Ну, вот она! Она и без всяких земляничных ванн хороша.
Чаковнин с нарочною целью завел разговор о Маше. Ему хотелось разведать, где она.
— А что? Хороша небось? — спросил князь.
— Хороша! Жаль, что вы ее показываете редко. Такую красавицу грех взаперти держать. Ведь вы ее взаперти держите? — обратился Чаковнин прямо к князю.
— То есть как вам сказать? Конечно, нельзя на волю пускать девку, но, чтобы так уж очень запирать, тоже этого не делаю. Вот теперь, например, она переведена у меня в турецкий павильон, что в парке…
— Какой павильон? — опять спросил князя Чаковнин с полнейшим равнодушием в голосе.
— А разве не знаете? — охотно стал объяснять князь. — Недалеко от дома, с минаретом таким. Я вам показывал, вы еще ковры там хвалили.
— А, знаю! Так это — главный павильон? Да? И что ж, она там живет у вас?
— Да, я перевел ее туда…
После завтрака Чаковнин принялся ходить вокруг турецкого павильона, так будто, гуляя. У дверей на страже стоял гайдук Иван. Чаковнин подошел к нему.
— Ты что ж здесь? Павильон сторожишь?
— Да, павильон сторожу.
— Ну, а мне войти в него можно?
— Не приказано пускать.
— А ты знаешь, в павильоне-то этом есть кто-нибудь?
— Не могим знать…
Чаковнин не настаивал дальше. Он круто повернулся и направился во флигель.
Он уже после завтрака успел послать за помощником парикмахера, который был нужен ему якобы для стрижки волос.
Гурлов почти одновременно вошел с ним во флигель.
— Ну, батюшка мой, — сказал ему Чаковнин, когда они заперлись в комнате, — узнал я все подробности. Сам князь за завтраком рассказал мне. Никита Игнатьевич, мы вам мешать будем? — обратился он к Труворову, улегшемуся на свою постель для сна после завтрака.
Никита Игнатьевич спал и после завтрака, и после обеда. На него нашел теперь период спячки.
— Ну, что там мешать! Ну, какой там! — сонным голосом протянул он.
— Ну, хорошо! Так вот, государь мой, узнал я все подробно. Она находится теперь в турецком павильоне, в парке. Я там пронюхал малость: действительно, у турецкого павильона гайдук стоит и никого в него не пускает.
— Неужели? — произнес Гурлов, вдруг приходя в волнение.
— Что ж, это тревожит вас?
— Да вы знаете, что это за павильон? Нет? Ведь в прошлом году там зарезалась одна вдова, красавица помещица. Она приехала сюда по приглашению, ей отвели этот павильон — там оружие турецкое на коврах висит — она осталась ночевать, а наутро нашли ее мертвой. Она зарезалась кинжалом, со стены снятым.
— Скверная история! Так что ж вы-то испугались? Думаете, что с Машей может подобное приключиться, что место это так действует или просто что страшно ей там будет? Может, вдова-то зарезанная по ночам ходит?
— Ни то, ни другое, Александр Ильич. А дело в том, что вдова-то зарезалась, как говорят, по особому случаю. По слухам, в этот павильон у князя потайной ход сделан, и он явился к ней ночью. Она там одна была — ни кричать ей, ни позвать на помощь — ничего, решительно ничего не слышно. Она была беззащитна от насилия князя и зарезалась…
— Ах, забодай его нечистый! — проговорил Чаковнин. — Никита Игнатьевич, слышите?
Труворов ничего не слыхал. Он спал и всхрапывал, вздрагивая головою.
— Вот этот подземный ход и смущает меня, — сказал Гурлов.
— Думаете, значит, что князь по этому ходу и к ней, к Маше, явиться может?
— Очень просто.
— Ну, этого мы не дадим! — твердо заявил Чаковнин. — Сегодня ночью идем туда; если нужно, дверь выломаем и освободим Машу. Ведь если павильон в стороне, так это и нам на руку.
— Я жизнь готов положить! — сказал Гурлов.
— Зачем? Живы будем. Деньги у нас есть: кафтан Никиты Игнатьевича сам князь купил. Все отлично идет. Я сегодня же поеду, сговорюсь на постоялом дворе. Может, и священника найду…
— Решено, значит?
— Решено!..
XXXII
Созонт Яковлевич сидел с привезенными им судейскими и поил их чаем с медом и наливками. Князь приказал ему спровадить этих судейских, и он старался сделать это дипломатично.
— Ведь вот, — философствовал стряпчий, выпивая рюмку наливки, — кажется, что пустая вещь, можно сказать, — глоток один, а выпьешь — и взыграет душа, как молодая лань…
— А как насчет произволения духа его сиятельства нынче? — спросил другой судейский, накладывая себе меда.
— Не то, чтобы очень, а, впрочем, так себе, вообще, не без того, — ответил Созонт Яковлевич. — Что ж, наливочки?
— Благодарен. Выпиваю. Воображенник большой ваш князь-то, Созонт Яковлевич!..
— Именно воображенник, — поддакнул Савельев, расхохотавшись, — правильно изволили заметить. Воображенник. — И он снова захохотал.
Он смеялся, стараясь казаться равнодушным и веселым хозяином, а сам думал о том, как бы поскорее убрались его гости. У него на сердце скребли кошки.
После разговора с ним князь, изругавший его, еще не призывал к себе. Злоба Созонта Яковлевича вовсе не улеглась, и он смеялся с судейскими о том, что князь «воображенник», а на самом деле в душе звал его в это время аспидом, душегубцем и посылал все известные ему бранные названия.
В этот момент в дверях появился слуга и доложил Савельеву:
— Вас спрашивают.
— Кто?
— Авдотья Тимофеевна.
— Какая Авдотья Тимофеевна? А, Дуняша-актерка… Скажи, что некогда теперь — слышишь? Чтобы завтра пришла, если нужно что.
— Она говорит, что к спеху.
— Никакого спеха нет! Поди, скажи, что занят я…
Из-за плеч слуги показалась голова Дуняши.
— Созонт Яковлевич, мне очень нужно говорить с вами, — заявила она.
— А и распущена же у вас дворня! — заметил судейский, удивленный смелостью актерки, лезшей так к секретарю.
Это замечание окончательно распалило Савельева.
— Я поговорю с ней, если она хочет, — сказал он, стиснув зубы, поднялся со своего места и, взяв со стены нагайку, вышел в соседнюю комнату, где была Дуня.
— Вот так! Хорошенько ее! — подзадорил стряпчий, который уже опьянел от наливки, вследствие чего душа его «играла» теперь, «как молодая лань».
Савельев, выйдя, захлопнул за собою дверь.
— Тебе что? — накинулся он на Дуню. — Ты слышала, что мне некогда, чего ж лезешь?
— Потому — дело, Созонт Яковлевич!
— Я тебе покажу дело!..
— По вашему приказу Степаныч заперт, выпустите его, — сказала Дуня.
— Что-о?! Степаныч заперт, а тебе какое до этого дело?
— Он мне дядей приходится… старик он… Созонт Яковлевич, выпустите, говорю!..
Савельев так был поражен смелостью «актерки», решившейся вломиться к нему чуть не насильно, чтобы просить за человека, из-за которого он, Созонт, пережил столько скверных минут, что он опустился на стул и проговорил:
— Еще что?
— Больше ничего. Отпустите, прошу. За прежнюю его службу отпустите!.. Мало он служил вам?
— Да ты с ума сошла? — крикнул Созонт Яковлевич. — Я и прежде-то с тобой не ахти церемонился, а теперь, думаешь, буду тары-бары с тобой разводить?
— Отчего ж это так, Созонт Яковлевич?
— Оттого, матушка, что теперь ты-нуль, если арифметику знаешь, а единица — Марья. Да, ты — нуль и не забывайся… Как же! Так я и отпустил этого старого хрыча! — И Созонт Яковлевич вздрогнул, вспомнив ощущение от веревок, которыми связывали его, и от холода страшного погреба.
Степаныч был посажен им в отместку за это.
— Ой, отпустите! — проговорила Дуняша.
— Пошла вон, вон, слышишь! — крикнул снова Созонт Яковлевич и вскочил. — Вон отсюда, тварь ползучая! — И он стал хлестать Дуню нагайкой.
Актриса с плачем выбежала вон.
XXXIII
Над Вязниками спустилась темная осенняя ночь. Надвинулись тени, деревья в саду точно расплылись, слившись с темнотою. На деревне изредка слышалось лаянье собак. Освещенные окна нижнего этажа большого дома, бросавшие красноватые полукружия на росшие возле них кусты, потухли. Только в верхнем этаже, в кабинете князя, еще не тушили огней. Флигель мало-помалу погрузился во мрак. Сторожа с разных концов перестукивались в чугунные доски…
Чаковнин и Труворов вместе с Гурловым сидели у себя в комнате.
Чаковнин сегодня, после того как они утром решили предпринять решительные действия, целый день ездил верхом по окрестностям и привез утешительные сведения: священник нашелся; на постоялом дворе была приготовлена комната; по ту сторону реки к ночи будет ждать тройка. Через реку можно переправиться в лодке. Лодок было много понаделано у Каравай-Батынского на потеху гостям, и стояли они у берега без замков. Словом, все было готово; оставалось только главное: высвободить Машу из павильона.
Гурлов давно уже рвался идти скорее, но Чаковнин удерживал его, говоря, что лучше дать время усадьбе успокоиться и подождать.
— Идемте, идемте, право, пора! — сказал наконец решительно Гурлов и встал. — Александр Ильич, пора!
— Теперь, пожалуй, и пора, — согласился Чаковнин. — Ну, идемте! Никита Игнатьевич, вы с нами пойдете или останетесь?
Труворов, протирая слипавшиеся от сна глаза, ответил по своему обыкновению:
— Ну, что там останетесь! Ну, какой там!.. — и встал, видимо, готовый идти вместе с ними.
Чаковнин оглядел его, невольно мысленно прикинув, может ли толстый, неповоротливый Труворов оказать помощь или он будет только помехою в их деле.
— Вы хоть бы оружие захватили, какое ни на есть, на всякий случай, вот хоть шпагу, что ли, — посоветовал Чаковнин, решив, что Труворов может быть полезен тем, что станет настороже.
Никита Игнатьевич послушно взял шпагу, повертел ее в руках и убежденно отбросил.
— Нет, если драться, так она мешать будет, так лучше! — и он с такою уверенностью расправил руки со сжатыми кулаками, что это убедило Чаковнина в том, что Труворов может оказать пользу и не одним тем, что сторожить будет, а если нужно, и постоит за себя.
— Ну, идемте! — снова повторил Гурлов.
— Ну, в час добрый! — произнес Чаковнин, и все трое крадучись, на цыпочках вышли в коридор и пробрались на крыльцо.
— А ведь Прохор Саввич не знал ничего. Я ему ничего не говорил, — прошептал Гурлов.
— Тсс… — остановил его Чаковнин.
Они взялись за руки, чтобы не разбрестись в темноте. Впереди был Гурлов, знавший лучше других расположение парка. Неторопливыми, но большими мерными шагами подвигались они вперед. Сергей Александрович вел, инстинктивно угадывая дорогу.
Он знал, что надо было сначала сделать два поворота, а потом идти прямо по дорожке. Эти два поворота смущали его больше всего. Он боялся, что не найдет их в темноте, но вместе с тем ему казалось, что он видит. И видел ли он на самом деле или отгадывал чутьем, куда идти, только, поравнявшись с местом первого поворота, он сейчас же узнал его и свернул. Так же было и на втором. Выйдя на прямую дорожку, он уже не боялся сбиться. Вскоре в конце этой дорожки показался огонек.
— Видите? Это в павильоне, — едва дыша, произнес Гурлов.
Ни Чаковнин, ни Труворов не ответили ему. Они подвигались вперед молча. Уже у самого павильона они заметили в освещенном его окне с матовыми стеклами тень женской фигуры. Последние опасения, что они не найдут Маши в павильоне, рассеялись. Несомненно, она была там, и теперь стоило выломать окно или дверь — она освобождена.
— Я обойду вокруг один — посмотрю, нет ли караульного, чтобы он не поднял тревоги, — чуть слышно сказал Чаковнин на ухо Гурлову и, отделившись от них, смело пошел, не скрываясь, походкой человека, которому пришла фантазия прогуляться в парке, несмотря на темноту.
Гурлов и Труворов замерли на месте против освещенного окна.
Чаковнин, не торопясь, обошел кругом павильон и никого не встретил. Очевидно было, что или дозорного не поставили на ночь, или же он самовольно ушел домой спать.
Чаковнин не поверил себе сразу и сделал вторичный обход, обшарив все кругом. Нет, он не ошибся — никого не было.
— Никого нет! — сказал он, подходя к товарищам. — Я думаю — прямо в дверь. Ее высадить легче всего…
— Дверь так дверь! — согласился Гурлов, и они направились к двери.
— Постоите, я один справлюсь, — сказал Чаковнин и налег на нее плечом.
Как только они завозились — свет в павильоне погас. Но они в жару работы уже не заметили этого.
— Эй, ухнем! — натужась, пропыхтел Чаковнин.
Дубовая дверь, уступая его силе, затрещала, подалась. Он надавил еще; дверь хрустнула, разломалась, соскочил замок, и Чаковнин, толкнув ее руками, отворил ее.
За дверью стоял полный мрак, но, едва Чаковнин и Гурлов вошли во внутрь, как несколько рук охватило их, блеснул открытый вдруг потайной фонарь, и не успел Чаковнин отмахнуться, как его повалили, и среди шума, барахтанья и крика на него навалилось несколько дюжих молодцов, окручивавших его веревками.
Нападение было так неожиданно, что ни Чаковнин, ни Гурлов не успели опомниться, как уже, связанные, лежали на полу.
— Верти, верти его веревками плотнее! — слышался голос распоряжавшегося князя, и лишенного уже движения Чаковнина плотнее обматывали веревками.
Он пробовал было барахтаться, но увидел, что напрасно: связан он был крепко. Князь хихикал от удовольствия. Открытый теперь фонарь довольно ярко освещал и самого Каравай-Батынского, и человек пятнадцать его челяди, возившихся кругом.
Гурлов, тоже связанный, искал глазами Машу. Но ее не было. Слышался смеявшийся женский голос, однако, это был не Машин голос: это актерка Дуня, ткача дочь, хохотала в тон князю:
— Видишь, князь, я была права: попались голубчики в ловушку! — воскликнула она.
На пороге, в темном отверстии выломанной двери, показался Труворов. Вместо того чтобы убежать и скрыться, он стоял, растопырив руки, и с высоко поднятыми бровями удивленно глядел на совершившееся.
— Ну, что там! — проговорил он. — Вяжите и меня тоже, я вместе… того… с ними…
И его тоже связали.
XXXIV
Ловушка, в которую теперь попались трое друзей, была устроена именно по наущению и по плану Дуни.
Созонт Яковлевич плохо рассчитал, вообразив, что песенка ее спета. Она вчера с вечера, после своего разговора с Машей, была позвана к князю для его потехи и воспользовалась этим свиданием с ним. От Маши она выпытала, что Гурлов находится где-то близко, в самых Вязниках, значит, нужно было сделать так, чтобы он выдал себя. Дуня рассчитала верно, что если как-нибудь довести до его сведения, что Маша заперта в одиноком павильоне в парке, то он придет освобождать ее, и тут можно будет схватить его. Он не выдержит — попадется. О связи Чаковнина с Гурловым она предполагала, потому что знала, что бывший камергер скрывался у этого Чаковнина.
Она не спорила с князем, как делал это Созонт Яковлевич, о том, предан ли Чаковнин персоне князя, или нет; она посоветовала только, чтобы князь в разговоре с ним упомянул, что Маша якобы заперта в павильоне, а потом с нею и с верными людьми засел на ночь в засаду в этот павильон и посмотрел, что из этого выйдет. Вышло, что хитрый женский расчет Дуни оправдался.
Князь был доволен выше меры, главным образом тем, что утер нос Созонту Яковлевичу, не только обойдясь без него, но убедившись, что Дуня оказалась умнее и хитрее его. Он велел отнести пойманных в подвал, а сам с Дуней по потайному ходу, который действительно существовал и соединял павильон с домом, отправился к себе.
Теперь Дуня чувствовала себя иначе и была уже далеко не такой, какой приходила к Созонту Яковлевичу просить за старика Степаныча. Утром она готовилась еще к победе, но не могла еще торжествовать ее и потому пришла скромной просительницей к Савельеву, так как хотела поскорее освободить своего старого родственника. Она никак не ожидала, что Савельев встретит ее нагайкой. Теперь было совсем другое. Теперь она, расфранченная и напудренная, обворожившая князя своею находчивостью и помогшая ему так легко и просто захватить его лютейшего врага, каким он считал Гурлова, сразу добилась высоты, о которой мечтала. Ей оставалось только поддерживать в князе несомненно уже явившееся в нем расположение. Но она была уверена, что на это у нее хватит уменья, так как она хорошо знала натуру Каравай-Батынского.
— Ты молодец у меня, Дунька! — похвалил ее князь, приведя в свой кабинет. — Молодец! — повторил он и хотел потрепать по щеке.
Дунька театральным движением опустилась пред ним на колени.
— Я — раба твоя! — проговорила она и, поймав руку князя, прижалась к ней губами.
Гурий Львович любил, когда бросались пред ним на колени и целовали его руки; он одобрительно посмотрел на Дуню и подумал: «А зачем мне другая, когда и эта хороша?» — и приказал ей:
— Встань и будь здесь как дома! Ну, распоряжайся, а я посмотрю, как это ты будешь делать. Ну, вот мы захватили голубчиков; что ты теперь станешь приказывать, а? Покажи свой ум.
Каравай-Батынский, говоря это, улыбнулся и сел в кресло, как бы став публикой, готовой любоваться Дуней. Она твердо подошла к висевшей на стене тесьме от звонка и дернула за нее. Явился лакей.
— Позвать сейчас Созонта Савельева! — сказала Дуня. — Если спит — разбудить!..
— Положительно молодец, Дунька! — одобрил князь. — С этого дурака и начинать следовало.
— А можно мне с ним по-свойски разговаривать? — спросила она.
— Разговаривай, как знаешь, я слушать буду; что хочешь, то и делай.
Дуня улеглась на кушетку спиною к двери и красиво облокотилась на руку.
Князь встал; она было двинулась, но он остановил ее.
— Останься так — ты мне нравишься так, — сказал он и нежно поцеловал Дуню в лоб.
Созонт Яковлевич спал и ничего не знал о случившемся, когда его разбудили с требованием не медля явиться к князю. Он наскоро оделся и побежал. Когда он вошел в кабинет к князю, Гурий Львович сидел в кресле, а кто была та, которая лежала спиной к двери, Савельев не мог разобрать сразу.
— Это Созонт Савельев? — спросила она, не оборачиваясь.
Созонт Яковлевич узнал по голосу Дуню.
— Да, это он! — сказал князь.
— На колени! — приказала Дуня, все еще не глядя на княжеского секретаря.
Савельев остановился и уставился удивленными, даже строгими, глазами на князя. Гурий Львович сам, видно, не ожидал такой фантазии от Дуни.
— Молодец! — снова вырвалось у него. — Ну, что ж ты? — сказал он Савельеву. — Слышишь, что тебе приказывают?
— Увольте, князь!.. — начал было Созонт Яковлевич.
— Я тебя уволю, да так, что тебе, дураку, и не снилось! — крикнул Гурий Львович, топнув ногою. — На колени, говорят тебе!..
Уж очень много было подлости по природе у Созонта Яковлевича. В его груди клокотали ненависть и страшная злоба, но на колени он все-таки опустился.
— Встал? — спросила опять Дуня.
— Вста-ал! — рассмеявшись, ответил князь. Тогда она обернулась и поглядела на Савельева. Глаза их встретились, и Созонт Яковлевич понял теперь свой промах, что утром так неучтиво обошелся с этой женщиной.
— Эка рожа противная! — проговорила Дуня.
— Авдотья Тимофеевна! — заговорил Савельев.
— Молчи!
— Авдотья Тимофеевна!..
— Молчи! Хочешь, чтоб я простила тебя?
— Хочу, Авдотья Тимофеевна…
— Ну, так я марать подошвы даже своей не стану о твою физиономию, а следовало бы показать тебе… Ты мне вот что скажи: как ты бережешь князя, а?
— Князя я берегу как зеницу ока, — произнес Савельев с достоинством, которое вовсе было некстати при его коленопреклоненном положении.
— Как зеницу ока! — передразнила его Дуня. — А Гурлов тут, в самых Вязниках, дебоши затевает.
— Гурлов? — удивился Созонт Яковлевич.
— Дурак, дурак, дурак! — стал дразнить его князь, как попугая. — Гурлова мы без тебя сейчас изловили. Понимаешь ли ты это, дурак?
— Не смею верить, ваше сиятельство, — пролепетал Савельев, казавшийся совсем уничтоженным.
— Верь не верь, а это так, и ты — дурак.
— Дурак! — как эхо повторила Дуня.
Созонт Яковлевич собрал последние силы, чтобы сдержать себя.
XXXV
Дуня еще долго к удовольствию князя издевалась над несчастным, потерявшим голову и самообладание от злобы секретарем. Гурий Львович хохотал при этом, заливаясь. Наконец, она отпустила Савельева, приказав ему выпустить сейчас же Степаныча.
— Как, Степаныча выпустить? Кто его посадил? — спросил князь, а когда он узнал, что Степаныч сидит без его приказания, то рассердился так, что чуть не избил Савельева.
Наконец, потешившись вдоволь, Дуня велела Созонту Яковлевичу встать, а когда он встал, думая, что кончилась его пытка, мягким, ласковым голосом сказала ему:
— Ну-с, а теперь, Созонт Яковлевич, прощения просим! Завтра, чуть свет, чтоб и духа вашего не было в Вязниках. Князь в ваших нерадивых услугах больше не нуждается… И почище вас найдем!.. Так-то-с! Коли завтра не уедете, так знайте, что вас палками погонят.
Созонт Яковлевич, как громом пораженный, воззрился на Каравай-Батынского.
— А так и понимай, — подтвердил князь, — что завтра на заре собирай свои пожитки и отправляйся вон отсюда… куда хочешь. А теперь ступай!..
Выходило, что все претерпленное Савельевым унижение было напрасно. Напрасно становился он на колени, напрасно слушал сыпавшиеся на него оскорбления, — все-таки кончилось тем, что он был выгнан самым позорным образом. Этого он уже никак не предполагал.
— И это — ваше последнее слово, ваше сиятельство? — тихо выговорил он.
— Нет, последнее мое слово все-таки, что ты дурак, — сказал Каравай-Батынский, — дурак, если спрашиваешь. Сказано тебе, что убирайся, ну, значит, так тому и быть…
— Ну, до свидания, ваше сиятельство! — вздохнул Созонт Яковлевич.
— Нет-с, уж прощайте, — поправил его Гурий Львович, — уж больше вы меня не увидите, — и он, отвесив Савельеву комический поклон, показал на дверь.
«Дудки, брат, — думал Савельев, уходя. — Увидимся мы с тобой, и скорее, чем ты думаешь! Терять мне теперь нечего, и я тебе покажу, как со мной обходиться, — за все отплачу сразу… сразу!»
Вернувшись к себе, он заходил, несмотря на поздний час ночи, по своим трем комнатам, живо вспоминая, как недавно еще он так же вот ходил и обдумывал. Напрасно он не решился тогда же! Все равно пришло к тому же самому.
«Терять мне теперь нечего!» — повторил он несколько раз вслух, останавливаясь и разводя руками.
Он ходил и бормотал, точно бредя наяву. О том, чтобы заснуть, он и подумать не мог.
На глаза ему попалась висевшая на стене нагайка — необходимый атрибут его утраченной теперь власти, и его взяло зло, зачем он безрассудно пустил ее в дело сегодня утром; да ведь кто же мог ожидать, что эта Дунька такая ловкая? И как они поймали там Гурлова?
«Все, все против меня! — сказал себе Созонт Яковлевич. — Нет, не против меня, — стал вдруг соображать он, — а против тебя, мучитель и ругатель! Сам ищешь, и судьба ведет. Судьба!..» — мысленно повторил Савельев и, взяв нагайку, ключи, фонарь, пошел вниз.
На дворе его окликнул сторож.
— Не узнал, что ли? — огрызнулся на него Созонт Яковлевич, и сторож, зная, что по ночам страшный секретарь ходит в подвал под большим домом, с ужасом отстранился.
Савельеву известны были все ходы и выходы, и ключи от подвального помещения всегда были у него.
Он отпер малую дверь, через которую имел обыкновение спускаться в подвал, тщательно затворил ее за собою и направился к первой камере, носившей странное название «официантской». Здесь жили два парня, находившиеся в подвале почти безотлучно и «работавшие» там.
Созонт Яковлевич стал будить их. Парни долго не могли проснуться, зевали, тянулись, но наконец, пробудившись и признав Савельева, повскакали и старались принять бодрый вид.
— Старый хрыч Степаныч у вас, что ли? — спросил Созонт Яковлевич.
— У нас.
— Жив?
— Должно, что жив…
— Выпустить его велено сейчас. Идите, выпускайте его, а я пойду в «большую», туда и придете сказать, каким его выпустили.
«Большою» называлась комната, где стоял стол с креслом на возвышении и где висел блок на средине свода.
Парни пошли исполнять приказание, а Созонт Яковлевич отправился в «большую». Там на столе стояли две толстые восковые свечи, но он не зажег их. Он поставил фонарь, положил ключи, сел в кресло и задумался.
Издали из коридора доносился слабый стон. Но Созонт Яковлевич привык к этим стонам, как и к коридору, и к этой «большой» комнате, и ему вовсе не страшно было сидеть тут одному ночью при тусклом свете фонаря. Голова его к тому же была занята все одной и той же неотвязчивой думой.
«Да, мне терять нечего!» — повторил он в сотый раз.
Парни пришли и сказали, что Степаныч — старик двужильный, что ничего ему не сделалось и что вышел он на волю целехонек.
— Ну, слушайте, ребята! — сказал им Савельев. — Вы тут как обходились со Степанычем, пока он был у вас?
— Да не то, чтобы очень… а все-таки…
— Не очень, значит, нежно?
— Да полегоньку.
— Знаю я, как у вас полегоньку! Ну, а знаете ли вы, что теперь первая особа у нашего раскняжеского князя — Дунька, ткача дочь, а Степаныча племянница?
— Знаем. Сегодня вечером сами видели, — и парни, участвовавшие в поимке Гурлова и Чаковнина, рассказали об этом Созонту Яковлевичу и о том, как смело на их глазах вела себя Дунька с князем.
Теперь Савельев все понял.
«А и ловкая же мошенница! — подумал он. — Жаль — не разгадал ее раньше. Вот, говорят, у бабы ума нет!»
— Ну, так видите, — стал он говорить парням, — если вы со Степанычем против шерстки, так вам несдобровать теперь: Дунька заест.
— Наше дело подневольное! Мы не ответчики.
— Да там ответчики или нет — это разбирать не станут, а вот до сих пор вы на дыбу вздергивали, теперь же вас вздернут — вот вы что рассудите…
— На вас вся надежда, Созонт Яковлевич, — сказали парни.
— Да надежда-то на меня — я знаю; со мной вам без печали. Ну, а теперь да будет известно вам, что меня места лишили и завтра уезжать велели. И все эта Дунька. Ну, так уж если меня князь не пощадил, когда она захотела, так разве станет он с вами церемониться?
— Так что же делать, Созонт Яковлевич?
— А все-таки на меня надеяться. Ведь я от всяких дел вызволял князя-то, значит, уж и себя сумею подавно вызволить, и вас тоже…
И он осторожно, то пугая их князем, то соблазняя наградой, стал говорить о том, что им надо делать.
Через несколько времени они все трое поднимались по лестнице, прямо из подвала шедшей в кабинет князя, рядом с которым находилась и его спальня.
XXXVI
Как принесли связанного Гурлова и положили его на солому в одной из камер подвала, так он и лежал в полузабытьи, близком к обморочному состоянию.
Наконец боль в руке, связанной за спиною с другой, дала себя знать. Когда его схватили и связали, то делали, видно, это не особенно бережно, и ему досталось порядочное количество пинков. По крайней мере, кроме острой боли в руке, все тело у него ныло, и трудно было пошевельнуться. В камере было так темно, что Гурлов не мог различить ничего кругом. Лежал он на соломе.
Когда он пришел в себя от боли в руке, то первое, что стал соображать он, было, как бы сделать так, чтобы облегчить эту боль. Для этого надо было подняться и сесть. Он попробовал пошевелить ногами. Веревки на ногах у него были ослаблены и распущены. Очевидно, какая-то добрая душа сделала это, принеся его сюда, очень может быть, сама испытав прелести княжеского подвала.
Подвигав ногами, Гурлов легко высвободил их. Теперь можно было попытаться сесть. Он поднял ноги, махнул ими и, сделав усилие, очутился в сидячем положении.
Боль в руке сразу стала легче, и почувствовалось, как кровь заходила по ней. Гурлов сделал попытку высвободить руки. Однако они были крепко связаны у него за спиной.
Но он был рад уже хоть некоторому облегчению. Теперь можно было сидеть и думать — о чем? — о том, что все пропало, все кончено, что теперь и он, и его Маша разъединены навек и никогда не свидятся.
Разбить о стену голову?
Гурлов попробовал качнуться налево, направо, назад, но не коснулся стены, — очевидно, он был положен далеко от нее. Он пошарил руками, насколько позволяли связывавшие их веревки, и тоже ничего не нашел ими. Он попробовал вглядеться в темноту, но ничего не мог разглядеть.
Куда посажен он? Велик ли каземат, мал ли и каким он покажется, когда свет забрезжит в окошке? Или, может быть, этого окошка вовсе нет и его посадили в так называемый каменный мешок, лишенный света?
Ну, хорошо, он страдает и будет страдать за свое дело, за которое готов и жизнь положить, а за что — Чаковнин? Неужели и его заперли в каменный мешок?
Гурлову хотелось крикнуть, чтобы дать знать о себе своим. Он напряг голос и крикнул, но вместо крика у него вышел жалобный стон, и он не узнал своего голоса. Каземат, видно, был невелик: звук не раздавался в нем, а казался сдавленным.
Крикнув, Гурлов стал прислушиваться, не ответят ли ему, и долго сидел в полной тишине, в темноте, с напряженно склоненною головою, но никто ему не ответил, только мышь скреблась в углу, а, может быть, и не в углу… может быть, это была даже не мышь?.. А вдруг это неупокоенная душа бродит? Ведь здесь, в этих местах, много загублено душ неповинных. И странно: Гурлову вовсе не стало страшно; напротив, ему стало чрезвычайно жаль невинно погубленных.
Но Маша, Маша! Что с нею? И, правда, пожалуй, лучше было послушаться Прохора Саввича и не допускать насилия. Вот чем кончилось это насилие!.. А может быть, могло и удаться…
Нет, удаться ничего не могло, потому что была устроена засада для них, и та тень, что он видел в окне, в павильоне, была не Машина тень, а этой Дуни. Хитро у них было подстроено: она, значит, нарочно стояла у окна.
Так что же Прохор Саввич говорил (Гурлову казалось, теперь, что настоящего времени уж нет, а только прошедшее)? Он говорил, что зло должно само себя поглотить. Значит, есть надежда, можно верить, что добро восторжествует, а без веры ведь и жить прежде нельзя было…
Мысли, одна мрачнее другой, тревожили душу, а темнота длилась без конца. Гурлов точно испытал на своем веку две жизни: одну — на воле, на свободе, и она была короткой, и другую — бесконечную — в этом темном заключении. Ему казалось, что он сидит в этой темноте дни, месяцы, годы и не знает о них потому, что нет окна в его камере.
Но окно было. Тьма постепенно поредела. Сначала Гурлов думал, что он просто пригляделся к этой тьме и стал различать в ней. Он увидел, что сидит лицом к запертой толстой двери, очень маленькой, под сводом небольшого каземата с серыми бесцветными стенами. Сидел он на соломе. Пол — каменный из плит. В стене направо ввинчено кольцо. Вот и все.
Осмотревшись, Сергей Александрович понял, что не к тьме он пригляделся, а сзади него было крошечное оконце с частой решеткой. Сквозь него едва пробивались сумерки рассвета.
«Рассвет! — сказал себе Гурлов. — Значит, прошла ночь, одна только ночь… Боже мой, сколько же еще ночей пройдет?»
Свет, пробившийся в оконце, становился мало-помалу яснее.
С появлением света Гурлову стало легче, но только в первую минуту. Потом усталость и разбитость, которые он ощущал во всем теле, стали как будто острее. Особенно мешали и мучили связанные назад руки. И Гурлов стал думать, как бы устроиться так, чтобы было удобнее.
Он встал не без труда на ноги, столкнул солому к стене и сел, прислонившись к этой стене лопатками. Так было удобно, и Гурлов впал в забытье.
Он не знал, долго ли просидел так, но открыл глаза от нового, приблизившегося к остальным мучения — голода.
Он сидел, все еще прислонившись спиною к стене. Ему показалось, что главная причина особенно ощутимой теперь муки — та, что он так долго сидит в одном и том же положении, и попробовал переменить его. Но стало еще хуже. Тогда он опять принял прежнее положение.
Во рту было сухо. Сергею Александровичу хотелось пить. Голову держать было трудно, глаза опускались, и веки точно распухли и с трудом шевелились. Неужели ему не принесут есть и не дадут хоть глотка воды?
В оконце пробился солнечный луч. День, значит, на дворе. Потом луч передвинулся и исчез.
Гурлов сидел все по-прежнему. Было время, когда он мог думать и соображать последовательно, теперь же уже не мог. Перед глазами серая стена каземата. Вот она начинает темнеть, и снова все погружается во мрак. Гурлов не знает, отчего этот мрак: оттого ли, что наступил вечер, или он сам изнемог до того, что погружается в забытье. Вероятно, забытье охватывает его, потому что начинает совершаться что-то неожиданное, такое, что может быть только во сне или в другом, лучшем мире. Если это смерть и загробные видения, то пусть! Он готов умереть, чтобы видеть то, что видит.
Дверь скрипит и отворяется; входит Маша с восковою свечой в руке. Она ставит ее на пол и кидается к нему; она целует своего милого, говорит, что пришла для того, чтобы уйти вместе отсюда и уже никогда не расставаться, никогда! Она своими слабыми руками, которые вдруг приобретают силу, быстро развязывает ему руки.
Он свободен, он может двигаться, только силы нет.
— Пить! — просит он.
Маша бежит, зовет. Там по коридору, куда отворена дверь, ходят, слышен говор, стучат замки и хлопают двери. Откуда-то является ковш воды.
Гурлов жадно пьет, чувствует, как это облегчает его, точно в самом деле, в действительности дали ему воды. Он боится, что, если придет в себя, то не увидит Маши.
Вода освежает его, он может различать яснее, но Маша тут. Она льет ему воду на голову, обнимает его, говорит:
— Милый, пойми: ты свободен!.. Пойдем отсюда! Ты мой, теперь мы не расстанемся.
Неужели это сон или смерть? Но, в таком случае, как хорошо, как бесконечно хороша смерть!
XXXVII
Это были не сон и не смерть. Маша, настоящая и живая Маша, наяву, в действительности пришла освободить Гурлова.
Вот как это случилось.
Утром, в девятом часу, камердинер князя по обыкновению вошел в комнату, смежную с его спальней, для того чтобы ждать, когда оттуда раздастся звонок, означавший, что Гурий Львович проснулся. Князь имел обыкновение просыпаться сам и всегда в определенный час, независимо от того, как поздно лег и сколько за ужином выпил. Он отсыпался потом, после завтрака.
Камердинер, у которого исполнение обязанностей вошло уже в привычку, уселся в золоченое кресло у окна, как это делал ежедневно, потому что никто его не мог в этот час увидеть и здесь он мог смело сидеть в барской мебели. Он сел у окна и стал смотреть в парк.
Странный запах гари, похожий на чад подгорелого сала, поразил камердинера, как только он вошел в комнату. Сначала он думал, что это ему показалось, потом стал принюхиваться. Положительно пахло гарью.
Камердинер начал осматривать комнату. У дверей в спальню, на портьерах и на полу были явные следы сажи.
«Верно, лампа накоптила!» — с ужасом сообразил камердинер — с ужасом потому, что отвечать за копоть приходилось ему.
А этот ответ мог испугать по заведенным у князя порядкам самого неробкого человека. Шутка сказать, в самом деле, — коптящая лампа возле спальни его сиятельства!
Только этого не может быть. Никогда до сих пор не коптила ни одна лампа. И с чего коптить ей? Масло самое лучшее, механизм всегда исправен, так как за этим смотрел особый механик-ламповщик.
«Нет, это что-нибудь не так!» — решил камердинер и стал спокойно ждать звонка.
Прошло около получаса. Звонку уже давно пора было раздаться: никогда Гурий Львович не почивал так долго.
Камердинер забеспокоился. Копоть лампы опять стала смущать его. Он опять освидетельствовал портьеру и пол у двери: они были покрыты сажей. И у двери сильнее пахло гарью.
Камердинер решился тронуть ручку у двери и попробовать отворить. Дверь оказалась запертою с внутренней стороны спальни. И это было необычайно: никогда Каравай-Батынский не запирался.
Камердинер припал к замочной скважине. Ключ был в замке, и ничего разглядеть нельзя было. Из скважины и из дверной щели несло удушливым запахом, пропитанным смрадом жареного, перегорелого сала.
Камердинер вдруг оробел. Ему стало почему-то страшно.
— Я почуял недоброе, — рассказывал он потом.
Он осторожно подвигал дверной ручкой и прислушался. В спальне все было тихо. Он сильнее тряхнул ручкой. Опять та же тишина.
У князя сон был чуткий: бывало, собака залает не вовремя — он проснется, и сейчас расправа: кто недосмотрел за собакой? А тут на стук не отозвался.
— Ой, случилось что-то! — крикнул камердинер и побежал.
Он кинулся к секретарю, к доктору, к Прохору Саввичу — человеку, которого уважала вся дворня и в медицинские познания которого верили все.
Все они собрались, все увидели копоть на портьере и на полу и стали стучать в дверь, сначала осторожно, потом сильнее и сильнее.
Больше всех волновался секретарь. Наконец забарабанили в дверь кулаком. Князь не отзывался. Тогда не оставалось сомнения, что случилось что-то страшное.
Созонт Яковлевич послал за судейскими, которых он привез с собою и от которых, несмотря на приказание князя, не мог отделаться вчера. Они заночевали еще на одну ночь.
Хотя было приказано никому до времени не говорить о тревоге, но вся дворня уже знала. Гости во флигеле тоже узнали. У дома, со стороны парка, собралась толпа. В дом никого не пускали, но все-таки, несмотря на это, сведения, разноречивые, сбивчивые и неясные, доходили оттуда в толпу.
В присутствии судейских решено было выломать дверь.
Призвали столяров и слесаря. Они начали возиться, сбили щеколду у двери, толкнули дверь, она отворилась. Из спальни так и обдало чадом.
Вошли.
У кровати князя, широкой, под шелковым балдахином, виднелась целая груда пепла на расстоянии приблизительно аршина. В этой груде пепла можно было различить две ноги от пяток до колен и руки. Между ногами лежала голова. Остальное тело превратилось в пепел, от прикосновения к которому на пальцах оставалась жирная и зловонная мазь.
Воздух в комнате был наполнен точно сажей. Масляная лампа, стоявшая на большом столе, оказалась без масла, а две восковые свечи на ночном столике истаяли — только одна светильня висела. Вся постель и драпировка балдахина были покрыты сероватой сажей.
— Вот он, спирт! — произнес Созонт Яковлевич, грустно поникнув головою.
— Какой спирт? — спросили его.
Савельев стал объяснять, что Каравай-Батынский в последнее время имел обыкновение натираться каким-то ароматическим спиртом, причем употреблял его в большом количестве. Камердинер подтвердил это.
Объяснение, что причиною смерти князя было злоупотребление таинственным снадобьем, не показалось невероятным, но среди дворни и гостей разнесся слух, что князь просто сгорел от внутреннего и невидимого огня.
XXXVIII
Поскакали нарочные верховые в город, чтобы сообщить властям о случившемся и достать все необходимое для пышных похорон князя.
Всем с необыкновенным тщанием распоряжался сам Созонт Яковлевич. Он ничего, казалось, не забыл, все предвидел и все сделал, чтобы все происходило по закону, как следует. Он лично, в соответствующих случаю выражениях, составил донесение губернатору и просил произвести расследование, нет ли в этом деле какого злоумышления, потому что всякое может быть!..
Останки князя уложили в живо сработанный столярами гроб, обитый театральной парчою и позументами, и выставили его в большом зале.
В середине дня служили панихиду в присутствии всех бывших в Вязниках. Некоторые из гостей удивлялись отсутствию Чаковнина и Труворова и, перешептываясь, делали по этому поводу предположения — почему именно они исчезли как раз в ночь, когда случилась с князем такая печальная история.
Вечером в тот же день прискакали власти. Приехал чиновник от губернатора, тоже нарочно посланный им. Власти сейчас же ретиво принялись за дело, стали производить подробный опрос.
Савельев не отходил от них, давал все нужные разъяснения, сам высказывал разные предположения и так правдиво истолковывал всякое возникавшее сомнение, что приходилось ему верить.
В самом деле, пробраться к князю в запертую спальню никто не мог, а если бы даже и пробрался, то как же он мог выйти и запереть за собою изнутри?..
Впрочем, Созонт Яковлевич просил все-таки не оставлять этого дела так. Правда, у князя было много врагов, но кто же рискнул бы поднять на него руку? Из дворни кто-нибудь? Но для дворовых людей убийство князя, если это убийство, слишком сложно в том виде, как оно оказалось, дворовые просто прикончили бы его топором; а из свободных людей ни на кого нельзя было подумать… подозреть даже некого!..
Власти долго думали и согласились, что заподозрить, действительно, некого.
Они, может быть, пришли бы к совсем другому заключению, если бы могли знать то, о чем думал в этот день Савельев, когда урвался на полчаса после обеда к себе, чтобы отдохнуть. Он лег на постель с особенным удовольствием, вытянулся и велел подать себе наливки.
«Вот тебе и дурак! — думал он. — Вот тебе и будешь теперь издеваться надо мной! Вот я лежу спокойно и удобно, наливку попиваю, а ты-то где теперь? Где ты теперь, в самом деле?.. Ну, ты и гуляй там, куда я тебя спровадил, — теперь, батюшка, руки коротки. А я свои дела недурно обстроил… Мне теперь превосходно. Тоже! «Убирайся вон», — говорит! Ан вышло, что сам убрался… А я-то вот тут; что с тобою — известно, а мне хорошо известно, что лежать очень удобно и хорошо, и наливку, ко всему прочему, пью!..»
И у Созонта Яковлевича, согретого теплою постелью, стали разыгрываться мечты, довольно заманчивые и вовсе не несбыточные.
Дело было в том, что у князя прямых и близких наследников не имелось. Завещать имения никому он не мог, потому что всегда боялся всякого напоминания о смерти и духовного завещания никогда не делал. Ему было решительно все равно, что произойдет после его смерти и что станется с его несметными богатствами. Раз он умрет — все кончится, так хоть пропадай все!
Итак, прямых наследников у князя не было.
Созонт Яковлевич знал, что был у Гурия Львовича дядя, брат его отца, давным-давно уехавший за границу и пропавший там. Поэтому не было возможности, чтобы этот наследник скоро объявился, да и вряд ли существовал он уже.
Савельев слышал о нем так, мельком, от князя, но и сам князь даже в лицо не знавал своего дяди — помнил по воспоминаниям детства, когда сам был ребенком. С чего же было являться теперь этому дяде, когда он не являлся до сих пор и даже не писал, и денег не просил у племянника?
«Был бы он жив, — соображал Созонт Яковлевич, — непременно написал бы и денег попросил бы».
А если наследников нет, то имение останется выморочным, в пользу казны. При этом обороте можно большие дела сделать: во-первых, купить за бесценок и с рассрочкой платежа хоть все Вязники, но это со временем, а пока, во всяком случае, можно остаться полновластным управляющим в имениях князя, когда они перейдут в казну, — это во-вторых, и самое главное… А при таком обороте можно будет пожить!..
И Савельев с наслаждением стал мечтать о том, что сделает со вчерашней своей обидчицей Дунькой. Ведь он в бараний рог согнет ее, то есть вот как согнет!.. Он решил, что первым же его распоряжением, которое он сделает, вступив в полновластное управление, будет — посадить Дуньку в подвал. Подвал он решил не уничтожать.
XXXIX
Чиновник, приехавший от губернатора, в тот же вечер, как только кончилось первое дознание о смерти князя, послал за парикмахером Прохором Саввичем.
Кабинет и спальня князя были опечатаны. Для чиновника была отведена библиотека, куда и пришел к нему Прохор Саввич.
— Заприте дверь, — сказал ему чиновник, а когда дверь была заперта, отошел от стола, на котором стояли восковые свечи, приблизился к старику, протянул ему руку, пожал известным, особенным образом, и затем, по уставу масонского ордена, они, нога к ноге, колено к колену, рука к руке, сказали на ухо друг другу условные слова, которыми масоны обменивались при встрече.
Тогда Прохор Саввич, по-видимому, посвященный в высшую степень, занял место у стола и пригласил чиновника сесть. Тот повиновался, достал из кармана запечатанное письмо и передал его старику.
Письмо было от губернатора, собственноручное, с печатью, изображавшею пентаграмму в змеином кольце. Прохор Саввич распечатал и прочел:
«Достолюбезный брат! Поборник нашего ордена, который передаст Вам это письмо, человек достойный. Будьте благосклонны к нему. Ему даны на всякий случай все распоряжения. Располагайте им, как хотите и как заблагорассудите, ибо мы все знаем, что то, как Вы скажете поступить, будет хорошо».
— Значит, у вас с собою бумаги? — спросил Прохор Саввич, прочтя письмо.
— Со мною. Но могу я спросить у вас о том, что меня интересует?
— Спрашивайте!
— Как вы думаете, смерть князя — естественная или над ними было совершено насилие?
Прохор Саввич ответил не сразу.
— Зло побороло зло, — сказал он, помолчав. — Нет, он не погиб своею смертью.
— Надо ли настаивать на расследовании дела?
— Вы спрашиваете меня как чиновник, а мы говорим с вами как масоны. Для брата-масона такой вопрос неуместен. Вы забыли правило, что для каждого человека в самом проступке его кроется наказание, от которого он не уйдет. Так говорит божественное правосудие. Напрасно мы будем мешать ему правосудием человеческим, слепым и часто ошибочным. Предоставьте это дело воле Божьей.
— Как же мне поступить с бумагами, которые у меня? — спросил чиновник.
— Вы сегодня же предадите их гласности и объявите, что нужно.
— Слушаю, князь, — сказал чиновник. — Значит, вам угодно открыть свое имя?
— Это необходимо сделать по некоторым причинам скорее, чем я думал. Сделайте сегодня же.
— Я приступлю сейчас же, если вам угодно, — сказал чиновник, встав.
Через некоторое время в библиотеке были собраны все власти, наехавшие в Вязники, и все домашние, наиболее имевшие значение.
Созонт Яковлевич явился один из первых. Он чувствовал, что дело идет о самом для него главном — о сдаче наследства князя на временное хранение кому-нибудь впредь до того, пока выяснится, что наследников нет.
Опись имущества была уже составлена. Это сделать было легко, потому что у Савельева все сведения были под рукою. Он не сомневался, что хранителем наследства будет назначен он и получит таким образом возможность полного распоряжения.
Он выдвинулся вперед и горделиво посматривал на собравшуюся толпу ближайших домашних и дворни, среди которой был и Прохор Саввич. Только он один со своим невозмутимым спокойствием кротко смотрел на Савельева, не опуская глаз, — все остальные робко притупляли взор, когда обращал на них внимание секретарь. Этот кроткий, но несдающийся взгляд старика раздражал Созонта Яковлевича.
«Ну, тебя я первого погоню отсюда, — решил он, глядя на Прохора Саввича, — то есть минуты лишней не останешься здесь!..»
Судейский, составивший уже соответствующий акт, стал громогласно читать его. В акте говорилось, что состояние князя, оставшееся после него и заключавшееся в таких-то и таких-то статьях, сдается на хранение бывшему секретарю князя Гурия Львовича Созонту Яковлеву, сыну Савельеву, впредь до явки законного наследника, проживающего или проживавшего (буде он умер, о чем сведений не имеется) в чужих краях, родного дяди князя Гурия Львовича — князя Михаила Андреевича Каравай-Батынского.
— О князе Михаиле Андреевиче сведения имеются и совершенно точные, — проговорил чиновник. — Бумаги его и документы хранились в канцелярии губернатора и привезены мною. Копии этих бумаг находятся в руках самого князя.
Смутный говор пронесся среди присутствующих. Никто не ожидал этого оборота дела.
Созонт Яковлевич, взволнованный, со слегка задрожавшей челюстью, сделал шаг вперед.
— Да, но где же князь Михаил Андреевич, если он жив? — проговорил он.
— Он здесь, — ответил чиновник.
Все переглянулись. У многих мелькнула почти сумасшедшая мысль: а вдруг, как они сами окажутся, сами того не зная, этим князем?
— Здесь? — переспросил Созонт Яковлевич.
— Да, здесь. Пожалуйте, князь, речь идет о ваших правах, — обратился чиновник к тому, кого знали здесь под именем парикмахера Прошки.
— Чудны дела Твои, Господи! — послышалось в толпе.
Бывший парикмахер Прошка, Прохор Саввич, ныне объявленный князь Михаил Андреевич Каравай-Батынский, приблизился к столу.
— Позвольте, — заговорил один из судейских, — этот человек выдавал себя здесь за парикмахера Прохора, родство его с князем-наследником не доказано, хотя бы и документы были налицо. Нет никаких доказательств, что парикмахеру Прохору принадлежат эти документы.
— Я парикмахера Прохора не знаю, — возразил чиновник, — я знаю князя Михаила Андреевича Каравай-Батынского, который и был записан в канцелярии губернатора, куда представил свои документы. А кем и как угодно было его считать здесь — до нас это не касается. Покойный князь Гурий Львович всегда пренебрегал сведениями официальными и не справлялся о них, заведя, как известно, свои уставы в своих имениях. С законной стороны князь Михаил Андреевич проживал здесь под своим именем, и этого довольно. Кроме того, у него на руках должны иметься копии документов…
«Прохор Саввич» вынул из кармана эти копии и положил их на стол.
XL
Все было сделано на законном основании — спорить не приходилось, и князю Михаилу Андреевичу было передано имение в заведование и на охранение впредь до утверждения его в правах наследства.
Первым и немедленным распоряжением его было выпустить из подвалов заключенных.
Машу он сам призвал и послал ее освободить Гурлова, сказав, что она получит вольную и что ее свадьбу будут играть в Вязниках по прошествии шести недель со смерти Гурия Львовича.
Когда пришли в каземат, где был заключен Чаковнин, то нашли его развязанным. Он перервал или перетер веревки. Его застали за работой над решеткой в окне, которую он силился выставить. Но голод и жажда так изморили его, что он не в силах был справиться с этой решеткой. Однако он так упорно ломал ее, что, когда пришли освободить его, он все еще старался довести дело до конца.
— Ах, забодай вас нечистый! — сказал он только. — Такой пустяк не могу сделать!.. Воды! — приказал он.
Ему принесли ковш, он выпил его, не отрываясь, и снова схватился за решетку.
На этот раз он надавил ее, она погнулась, он сделал еще усилие и выломал железные прутья.
— Ну, вот, теперь я успокоился! Пойдемте! Что ж ваш князь опомнился, что ли?..
Ему сказали, что князь волею Божиею скончался, а освобождается он по воле князя Михаила Андреевича.
— Это еще какой князь? — спросил Чаковнин.
Никиту Игнатьевича Труворова нашли спящим крепким сном. Добродушие, с которым он выдал себя, было так трогательно, что его оставили несвязанным в каземате. Он улегся на солому, подложил локоть под голову и спал, как сурок.
— Ну, что там! Ну, какой там! — протянул он, когда его разбудили. — Вот теперь бы того… поесть…
Ему сказали, что сейчас зовут его к ужину.
Этот первый ужин был и трогателен, и умилителен. Ужинали Чаковнин, Труворов, Гурлов и Маша, бывшая за хозяйку. Князь Михаил Андреевич тоже присутствовал.
Подвалы в большом доме были очищены в тот же вечер. Несколько человек сидели там на цепях, прикрепленных к стене, с железным ошейником на шее. В двух темных казематах нашли два скелета, тоже с ошейниками и на цепях.
Созонт Яковлевич, как только объявился новый владелец состояния покойного его патрона, загрустил и точно потерял разум. Он замолчал, не отвечая на обращенные к нему вопросы и бормотал что-то себе под нос. Он ушел в свое помещение, и на другой день нашли его там повесившимся.
Свадьбу Маши играли через шесть недель. Посаженым отцом ее был князь Михаил Андреевич, а шаферами — Чаковнин и Труворов.[1]
Note1
Продолжением этого романа служит роман «Черный человек».
(обратно)



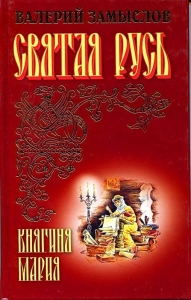



Комментарии к книге «Вязниковский самодур», Михаил Николаевич Волконский
Всего 0 комментариев