Горжусь, что я русский!
СуворовГЛАВА ПЕРВАЯ
Отцовский дом
Стоял август тысяча семьсот сорок второго года. В усадьбе Суворовых спать ложились рано, чтобы не тратить даром свечей. Отужинали. Василий Иванович закурил трубку, единственную за сутки, чем всегда кончался день.
Мать, как обычно, поставила Александра на молитву. Читая вслух дьячковской скороговоркой слова молитвы, Александр, где следовало, становился на колени.
— Не стучи лбом о пол! — зевая, говорила мать.
Александр стучал нарочно. Ему нравилось, что при каждом ударе в вечерней тишине гулко отдавалось барабаном подполье.
Молитва кончилась. Александр поцеловал руку сначала у отца, потом у матери и отправился спать. В темных сенях мальчик привычно взбежал по крутой лестнице наверх, в свою светелку.
Лежа на кровати под шорстким одеялом из солдатского сукна, Александр терпеливо ждал, когда внизу угомонятся. Отсюда, из светелки под крышей, слышно все, что делается внизу.
Вот смолкли сердитое ворчанье матери и писк сестры Аннушки. Перестал шаркать туфлями по полу отец, и за ним затворилась с пением дверь спальной.
Все стихло, и тогда наконец Александр услышал привычный и любимый звук: старый дом протяжно крякнул, как будто и он, вздохнув, укладывал свои старые кости на убогую, расшатанную кровать. Скрип разлаженных половиц от тяжелых шагов взрослых, от детской беготни, от движения мебели и вещей прекратился. Все наконец пришло в равновесие покоя. Дом заснул.
Александр поднялся с постели тихо и осторожно, по-кошачьи, чтобы не нарушить покоя старого дома.
Нашарив в темноте огниво, Александр выкресал огня и, раздув трут, зажег от него серничок.[1] Мертвенно-синий огонек почти не светил. От серничка Александр зажег приготовленную заранее лучинку. Светя лучинкой, Александр достал из-под подушки огарок восковой свечи чуть ли не в руку толщиной и зажег ее. Лучинку задул.
Запахи сменялись по порядку: сначала паленый запах стальной искры от кремня, потом затхлый дымок трута, удушливая сера, дегтярный дух березовой лучины, и, наконец, запахло медом от восковой свечи.
Александр завесил оконце одеялом, чтобы не тревожить светом спущенных во дворе цепных собак, взял с полки книгу, раскрыл ее на постели и начал листать, стоя перед книгой на коленях, со свечой в руке.
Место, дочитанное вчера, заложено сухим кленовым листом. Сладко забилось сердце Александра: вчера он уже заглядывал вперед и догадывался, каковы-то предстанут воинам Ганнибала[2] Альпийские горы, как-то пойдут по кручам и узким тропинкам тяжкие, громоздкие слоны и, главное, что скажет своим воинам перед битвой Ганнибал.
Александр не торопил сладких мгновений, он раскрыл книгу на титульном листе и (в который уже раз!) прочитал:
Римская история от создания Рима до битвы Актинския, то есть по окончании республики, сочиненная г. Ролленем, прежде бывшим ректором Парижского университета, профессором красноречия и членом Королевской академии надписей и словесных наук, а с французского переведенная тщанием и трудами Василия Тредьяковского, профессора и члена Санкт-Петербургской Императорской Академии Наук.
Медленно перелистывая книгу, Александр читал знакомые уже страницы, одним взглядом узнавая все сразу, подобно путнику, когда он, возвратясь из дальних странствований, видит старое и родное.
Так он достиг страницы, заложенной сухим кленовым листком.
«…Армия была тогда уже облегчена от всей рухляди и состояла в пятидесяти тысячах человек пехоты, и девяти тысячах конницы, да в тридцати семи слонах, — когда Ганнибал повел ее через Пиренейские горы, дабы потом переправиться через Подан…
Воины Ганнибала, утомленные непрестанными стычками с галлами,[3] роптали. Они боялись предстоящего перевала через Альпийские горы. Великий страх овладевал их сердцами, ибо их пугали рассказы, что те горы достигают самого неба.
Ганнибал обратил к воинам речь, чтобы их успокоить. Он сравнил Альпы с пройденными уже и оставшимися позади Пиренеями.
Какой же то вид они себе вообразили об Альпийских горах? И помышляли ль, что они не что иное, как высокие горы? Хотя бы то и превосходили вышиной Пиренейские, однако нет подлинно земли, прикасающейся к небу и непроходимой человеческому роду.
Сие, впрочем, достоверно, что оне пахотные и что питают как человеков, так и другие животные, кои на них родятся… Сами послы галлические, коих они видят здесь перед собой, не имели крыл, когда они те горы перешли.
Предки сих самых галлов, прежде нежели поселились в Италии, куда были пришельцами, многократно переходили те горы во всякой безопасности и с бесчисленным множеством женска пола и малых детей, с коими шли искать себе новых обиталищ…
Речь Ганнибала окрылила войско.
Исполняясь жара и бодрости, воздели все руки и засвидетельствовали, что готовы они следовать всюду, куда он их поведет.
Армия Ганнибала вступила в горы. И точно казалось, что они достигают неба снежными вершинами. Убогие хижины виднелись, рассеянные кое-где среди острых камней. Тощие, иззябшие стада бродили на лужайках. Их пасли люди волосатые, вида дикого и свирепого.
Все это привело опять в оледенение воинов Ганнибала! Войско встретило, однако, очень большие препятствия не столько от непроходимости гор, сколько от местных жителей, горынычей, которые нападали на идущих, бросали в них камни, сваливая огромные обломки с гор, дабы прекратить дальнейшее движение.
Карфагенским воинам надлежало совокупно биться и с неприятелями и бороться с трудностью мест, на коих ноги их едва могли держаться. Превеликий беспорядок был от коней, везших обозы и рухлядь; испугавшись криков и завываний галлов, кони, иногда и пораненные камнями, опрокидывались на воинов и низвергали их в бездну.
Слоны, бывшие в передовом войске, шли очень медленно по тем дорогам, суровым и крутым. Но, с другой стороны, где ни показывались они, везде прикрывали армию от наскоков варваров, не смевших приблизиться к тем животным, коих вид и величина были для них новые.
После десятидневного похода Ганнибал прибыл наконец на самый верх горы. Наступил конец октября. Выпало много снегу, покрывшего все дороги, и это привело в смущение и уныние всю армию. Заметив это, Ганнибал взошел на высокий холм, с коего видна была вся Италия, показал воинам плодоносные поля, орошаемые рекой Подан, на кои они почти вступили, и прибавил, что нужно сделать уже немного усилия — два небольших сражения, — чтобы окончить славно их труды и обогатить навсегда, сделав их господами престольного города Римской державы.
Речь сия, исполненная блистательной надежды и подкрепляемая видением Италии, возвратила веселие и бодрость ослабевшему воинству.
И так продолжали они свой поход. Но дорога не сделалась от того легче: напротив, так как приходилось спускаться вниз, трудность и бедствия умножились, тем более что с итальянской стороны горы были значительно круче.
На дорогах, узких, тесных и скользких, воины не могли, оступившись, удержаться и падали одни на других и опрокидывали друг друга взаимно. Хватаясь руками и цепляясь за кустарники ногами, воины спускались вниз.
Наконец они достигли мест, где уже росли большие деревья, и тут перед ними раскрылась большая пропасть. Чтобы устроить дорогу, Ганнибал велел рубить деревья и слагать из них большие костры по краю пропасти. Ветер раздул зажженное пламя костров. Камни накалились докрасна. Тогда Ганнибал повелел поливать их водой и забрасывать снегом. Камень расседался и рассыпался.
Так была проложена вдоль пропасти пологая дорога, давшая свободный проход войску, обозу и еще слонам. Употребили четыре дня на сию работу, и наконец прибыли они на места пахотные и плодоносные, давшие изобильно травы коням и всякую пищу воинам. Армия Ганнибала заняла и разоружила город Турин. На реке Тичино произошла первая крупная битва с римлянами. Перед боем Ганнибал обратился к воинам, говоря:
«Товарищи! Небо возвещает мне победу (гром в то мгновение ударяет); римлянам, а не нам трепетать. Бросьте взоры на поле битвы. Здесь нет отступления. Мы погибнем все, если будем побеждены.
Какое надежнейшее поручительство за торжество! Боги поставили нас между победой и смертью!»
Римляне были разбиты в этом бою. Они получили, однако, подкрепления. Навстречу карфагенцам стремился римский полководец Семпроний со своими легионами. Ганнибал на берегу реки Треббии выбрал место удобное, чтобы действовать коннице его и слонам, в чем состояла главная сила воинства его.
Устроив засаду, Ганнибал повелел коннице нумидийской перейти реку Треббию и идти до самого стана неприятельского, вызвать их на бой, а затем снова убраться за реку, чтобы увлечь за собой пламенного и заносчивого Семпрония на то пустое место, где была устроена засада.
Что Ганнибал предвидел, то и случилось. Кипящий Семпроний послал тотчас на нумидян всю свою конницу, потом шесть тысяч человек стрелков, за которыми следовала вскоре вся армия. Нумидяне побежали нарочно. Римляне за ними погнались жарко. Был в тот день туман очень холодный, да и выпало много снегу. Римские воины перезябли. Преследуя нумидян, они вступили по грудь в воды реки, и их члены так оледенели, что трудно им было удержать свое оружие. К тому же они были голодны, потому что весь тот день не ели, а день уже клонился к вечеру.
Не так-то было со служивыми у Ганнибала. Они рано, по его приказанию, зажгли перед своими ставками огни и вымазали все свои члены маслом, данным на каждую роту, дабы быть у них телу гибким и к простуде стойким. Также и поели они исподволь и не торопясь. Видимо, здесь коль есть великое преимущество, когда полководец сам за всем смотрит и все предвидит, так что от рачительности его ничто не уходит.
Заманив римлян на свою сторону реки, Ганнибал ударил на них в тыл спрятанным в засаде отрядом. Римские легионеры были опрокинуты в реку. Остальные погибли, растоптанные слонами или конницей. Перед Ганнибалом открылся путь на Рим через Апеннинские горы».
Черный генерал
Александр вздрогнул, услышав утренний звук старого дома: опять словно крякнула и заскрипела расшатанная кровать, скрипнула половица, стукнул засов. Александр оторвался от книги, его ноги сводила судорога от холода и волнения. В светелке не было печи. Ночи стояли уже холодные.
Наступило утро. Дом пробуждался. Александр погасил свечу, снял с окна одеяло и выглянул во двор через оконце. Серел рассвет. Алела над лесом заря. В приспешной избе[4] жарко пылала челом к окну печь. Из волока избы тянул серый дым. Дядька Александра, Мироныч, на дворе сосвистывал и сажал на цепь псов.
Скрипнула дверь родительской спальни внизу. Завозилась мать, и запищала разбуженная Аннушка. Александр быстро оделся, сбежал вниз и сенями выскочил на двор, боясь, чтобы его не предупредил отец.
Через росистую траву двора Александр, босой, перескочил прыжками и распахнул дверь в приспешную. Там уже завтракали под образом в красном углу несколько дворовых, собираясь на ригу молотить. Дым, вытекая через чело печки, плавал облаком под черным потолком и тянулся вон через волок. Стряпка пекла оладьи.
— А, барабошка! — сказала она ласково, увидев Александра. — Раньше батюшки поднялся. Молотить, что ли?
Александр, не отвечая, поплескал на руки и лицо холодной водой из глиняного рукомойника над поганым ушатом, утерся тут же висевшей холстиной и попросил:
— Анисья, дай оладышек…
— Бери, прямо со сковородки.
Оладышек обжигал пальцы. Александр, разрывая его на части, торопливо жевал.
— Молотить! — проворчал Мироныч, поглядывая на него с угрюмой улыбкой. — «Тит, иди молотить!» — «Брюхо болит». — «Тит, иди кашу есть!» — «А где моя большая ложка?»
Никто из молотильщиков не отозвался на шутку ни словом, ни усмешкой. Все продолжали молча возить кашицу, сгребая в ладонь хлебные крошки со стола и подкидывая их в рот.
— Выдумал твой батюшка манеру: где это видано, чтобы дворовые молотили? А?
Приговаривая так, дядька облизал свою ложку и протянул ее питомцу. Тот ради приличия принял ложку, зачерпнул кашицы из общей деревянной чашки и, хлебнув один раз, вернул ложку Миронычу.
Александр выбежал во двор; из конюшни, где уже стучали копытами, требуя корма, кони, он вывел любимого своего жеребенка Шермака. Не седлая, Александр обротал коня, сорвал с гвоздя нагайку, разобрал поводья, вскочил на Шермака и ударил по бокам коленками. Жеребенок дал козла и, обернувшись на задних ногах, вынесся вихрем со двора.
— Александр! Куда? Не кормя коня? — грозно крикнул с крыльца вышедший в эту пору отец.
Сын его уже не слышал. Жеребенок через убогую деревню, распугав гусей и уток, вынесся в гору по дороге в лес.
Ветер свистал в ушах Александра, ветки хлестали по лицу и плечам, сучок разорвал рубашку и больно оцарапал лицо. Александр, вскрикивая, поощрял коня, повернул с дороги и вынесся на вершину холма. Из-за леса глянуло румяное солнце.
Осадив Шермака, Александр потрепал его по взмыленной шее и, вольно дыша, оглядывал даль. Его взорам предстала земля, похожая на взбудораженное бурей и вдруг застывшее море. Гряды холмов волнами уходили до края неба. Темные еловые боры по долам синели, а гребни волнистых гор, казалось, были покрыты пеной березняков и осинников. Местность, прекрасная печальной, тихой и нежной красотой, ничуть и ничем не могла напомнить грозные горы до неба, увенчанные снеговыми шапками, и бездонные пропасти Альп с их кипучими стремнинами.
А в ушах Александра стоял шум и звон. Слышался ропот оробевших воинов Ганнибала перед вступлением в горы Альпийские, рев горных потоков, нестройный гам обозов и боевые крики…
Александру чудилось, что ночью была явь, а теперь он видит сон. Мальчик снова сжал бока коня коленками и хлестнул нагайкой. Жеребчик взвился и помчался с бугра по жнивью вниз. Холм кончился крутым и высоким обрывом. Внизу внезапно блеснула светлая вода. Александр не держал коня. На краю обрыва Шермак, давно привычный к повадкам седока, сел на задние ноги и поехал вниз. Из-под копыт его катилась галька, передние ноги зарывались в желтый песок…
Конь и всадник скатились до самого заплеса, и Шермак остановился. Ноги коня вязли в мокром илистом песке. Шермак переступал ногами, выдергивая их из песка со звуком, похожим на откупоривание бутылки. Александр взглянул вверх. Круча такова, что он не мог бы вывести коня обратно и на поводу. Шермак храпел, устав выдергивать ноги из ила. Ничего не оставалось иного, как переплыть реку, хотя можно было простудить разгоряченного коня. На той стороне берег сходил к реке отлогим лугом. Седок понукнул коня. Конь охотно ступил в воду, погрузился и поплыл. Ноги Александра по бедра ушли в воду. Александр скинулся с коня и поплыл рядом, держась за гриву…
Конь вынес Александра на лужайку и стал, ожидая, что еще придумает его быстронравный седок. Александр промок совершенно. Ему следовало бы раздеться, развесить мокрое платье по кустам, чтобы обсушиться, — солнце уже ласково пригревало. Александр так бы и поступил, но конь вдруг закашлял: мальчик испугался, что Шермак простудится от внезапного купания и захворает горячкой. Надо было его согреть. Не думая более о себе, Александр вскочил снова на коня, погнал его в гору и потом по знакомой лесной дороге к паромной переправе, чтобы вернуться домой. Конь скоро согрелся на бегу, но зато, по мере того как высыхала от ветра одежда Александра, сам всадник коченел: руки его костенели, ноги в коленях сводило судорогой… Боясь свалиться, Александр все погонял коня, и они достигли переправы в ту самую минуту, когда нагруженный возами с сеном паром готовился отчалить. Александр спешился и ввел коня на паром.
— Эна! — сказал старый паромщик. — Да это, никак, Василия Ивановича сынок! За почтой, что ли, скакал? Чего иззяб-то? Ляг, возьми тулуп, накройся…
Александр лег меж возов, и старик укутал его с головой овчинным тулупом. Переправа длилась короткое время, но все же Александр успел согреться и заснуть. Насилу его добудился паромщик:
— Пора домой, боярин!
Александр изумился, пробудясь. Солнце стояло уже высоко и сильно грело. По лугу ходил, пощипывая траву, конь. Паром праздно стоял на причале у мостков.
— Долго ли я спал? — спросил Александр.
— Да отмахал порядком. Гляди, скоро полдни, — ответил паромщик. — Поди, тебя дома хватились: не пропал ли, думает боярыня, сынок?
Александр наскоро поблагодарил старика, вскочил на коня и погнал его домой.
Шермак, отдохнув, шел машистой рысью. Приблизилась родная деревня, а за ней в долине — родительский дом Александра, построенный еще в дедовские времена. Тогда дворяне еще редко возводили каменные дворцы на верхах холмов, не украшали их колоннами и бельведерами,[5] а укрывали свои усадьбы от зимних вьюг и морозов в долах. Зато убогая, серая деревня Суворовых стояла выше усадьбы, открытая всем непогодам. Из-под нахлобученных шапками соломенных крыш угрюмо и устало смотрели тусклые оконца.
Да и усадьба не пышна. Она состояла из нескольких связей — срубов, соединенных под высоким шатром общей крыши из драни, кое-где поросшей зеленым мхом. Покрашены только ставни, столбики и балясины барского крыльца да ворота под широкой тесовой крышей и с резными вычурными вереями.
Миновав ригу, Александр удивился, что там не молотят. Неужто и в самом деле полдни?
Въезжая в усадьбу, Александр посреди двора увидел выпряженную повозку. Чужие кони хрустали овес, встряхивая подвешенными к мордам торбами. Меж домом, кладовой и приспешной избой сновали дворовые, одетые в парадные кафтаны. «Кто-то приехал», — догадался Александр.
— Вот ужо тебе батюшка боярин пропишет ижицу! — пригрозил Александру Мироныч, принимая от него поводья. — Солеными розгами выпорет!
Не слушая дядьку, Александр бросился на крыльцо, надеясь незаметно проскочить сенями в свою светелку. Мать стояла в дверях, расставив руки. Напрасно Александр хотел юркнуть мимо нее: она поймала его, словно курицу.
От матери пахло листовым табаком и камфарой, потому что она нарядилась: надетое на ней круглое, на обручах, шелковое зеленое с отливом платье лежало обычно в большом сундуке, где от моли все предохранялось табаком и камфарой. И если со звоном на весь дом в замке этого сундука повертывался огромный ключ, то все уже знали, что в доме произошло нечто важное: или приехал знатный гость, или будет семейное торжество, или получили необычайное известие из Санкт-Петербурга, или боярыня собралась, что редко бывало, в гости к богатому соседу, почти родне, — боярину Головину.
— Да что же это такое? — приговаривала мать, повертывая перед собой Александра. — Да где же это ты себя так отделал? Весь в грязи, рубаха порвана, под глазом расцарапано! Да как же я тебя такого ему покажу?
— Кому, матушка? — тихо спросил Александр, прислушиваясь: из комнат слышался веселый, громкий говор отца, прерываемый восклицаниями и смехом гостя. — Кто это, матушка, у нас?
— Да ты еще, голубь мой, не знаешь, какая у нас радость! К нам явился благодетель наш, Ганнибал! Он уже генерал.
— Ганнибал! — вскричал с изумлением Александр. — Матушка, да ты смеешься надо мной!
— Что же ты удивился? Чего ты дрожишь? Уж ты не простудился ли? — шептала мать, увлекая сына за собой во внутренние покои дома. — Пойдем-ка, я тебя приодену.
— Погоди, матушка!.. Какой он из себя?
— Ну, какой? Черный, как сажа. А глаза! Белки сверкают, губы алые, зубы белые! Самый настоящий эфиоп!.. Идем! Идем!
Мать провела Александра в спальную свою и начала поспешно раздевать. Александр увидел, что на кровати разложены вынутые из того же сундука с большим ключом части его праздничного наряда: белые панталоны, башмаки с пряжками, зеленый кафтанчик с белыми отворотами, усаженный золотыми гладкими пуговицами, и коричневый пестрый камзол.
Умывая, одевая, прихорашивая сына, мать вертела им, как куклой.
— Да стой ты, вертоголов! Да что ты, спишь? Что ты, мертвый? Давай руку! Куда суешь?! — шипела мать сердито гусыней.
Александра разбирал смех. Ему уже давно перестали рассказывать сказки, а он их любил. Теперь ему хотелось вполне довериться матери, что в дом их приехал карфагенский полководец Ганнибал, о котором он читал всю ночь. И жутко и смешно — статочное ли это дело!
Александр просунул голову в воротник чистой сорочки и, сдерживая смех, прошептал:
— Матушка, слышь ты: Ганнибал-то ведь давно умер!
— Полно-ка чушь городить!
— Да нет же, он умер давным-давно. Чуть не две тысячи лет. Он не мог совсем победить римлян и выпил яд. Он всегда носил с собой яд в перстне.
— Сказки! Идем-ка, вот ты его увидишь своими глазами, живого. Да смотри, веди себя учтиво, смиренно. Смиренье — молодцу ожерелье.
Мать взяла Александра за руку, чтобы вести к гостю. Александр уперся. И чем больше уговаривала его мать, тем сильнее он упирался и наконец уронил стул. Возню их в спальной услыхал отец. Разговор его с гостем прервался. Отец приблизился к двери, распахнул ее и сказал:
— А вот, отец и благодетель мой, изволь взглянуть на моего недоросля.
Александр вырвал свою руку из руки матери, вбежал в горницу и, широко раскрыв глаза, остолбенел на месте. За столом сидел важный старик с трубкой в зубах. Скинутый им завитой напудренный парик лежал на столе.
И гость молча разглядывал Александра. Сшитый на рост кафтанчик Александра мешковат. Из широкого воротника камзола на тонкой шее торчит большая голова со светлыми, немного навыкате глазами. Лоб мальчика широк и высок. Как ни старалась мать пригладить светлые волосы сына помадой, спереди над лбом у Александра торчал упрямый хохолок.
— Вы, сударь, Ганнибал? — преодолев смущение, недоверчиво спросил Александр.
Старик усмехнулся и, пыхнув дымом, кивнул головой.
— Подойди к руке! — шепнула на ухо Александру мать. — Не срами отца с матерью.
Александр по тяжелому дыханию отца, не поднимая головы, понял, что тот едва сдерживает гнев… Александр расхохотался… Отец так ловко дал ему крепкий подзатыльник, что мальчишка с разбегу ткнулся в грудь Ганнибала. Старик обнял его, приложил к его губам холодную иссиня-черную руку и посадил рядом с собой на скамью.
— Не гневайся, Василий Иванович, на малого! — добродушно сказал черный старик. — Не то что дети — и взрослые люди видом моим бывают смущены… Что делать, если я черен!
— Нет, нет! — воскликнул Александр, ободренный защитой гостя. — Батюшка не станет меня пороть. Не беспокойте себя, сударь, напрасно. Батюшка знал, наверное, что вы будете к нам, и ведь ничего мне не сказал, а дал мне читать про ваши битвы. Я всю ночь читал… Только… как же это? Да нет! Это не вы, сударь. Что за ерунда!
И Александр опять смутился и смолк.
Отец, угрюмо потупясь, опустился на скамью напротив сына. Мать стояла опустив руки.
— Да полно-ка, Авдотья Федосеевна, с кем же греха не бывает! Да и где же было еще отроку научиться светскому учтивству? И мы с Василием Ивановичем ни шаркунами паркетными, ни вертопрахами не бывали, а вот я — генерал, а Василий Иванович — по должности полковник. Да и что нам чиниться: мы по отцу нашему, блаженной памяти императору Петру Алексеевичу, хотя и гораздо разных лет, братьями должны почитаться. И мой и твоего отца крестный отец, знаешь ли ты, — обратился Ганнибал к Александру, — царь Петр Первый. А я тебе по нему вроде родного дяди.
— А почему же, сударь дядюшка, — спросил, осмелев, Александр, — вы Ганнибалом прозываетесь?
Ганнибал усмехнулся:
— Быть мне Ганнибалом — тоже воля Петра Алексеевича: он так прозвал меня в чаянии, что я свершу великие военные подвиги вроде моего карфагенского тезки. Смотри на меня, отрок, и поучайся. Ты видишь на плече моем эполет и аксельбант. Я — генерал. Но из какого я возник ничтожества!.. Ты, стало быть, читаешь Ролленеву историю про Ганнибаловы похождения — сие похвально, хотя то и сказки. А вот послушай, коли тебе любопытно, мою простую историю… Не покажется ли она тебе сказкой, хотя то и быль…
И отец и мать Александра успокоились, видя, что важный гость ничуть не рассердился на неловкие выступки их сына. Они с почтительным вниманием выслушали неторопливый рассказ Ганнибала, хотя только одному Александру в рассказе этом была новость…
— Был я арапчонком в серале у турецкого султана, откуда меня выкрали, потом привезли в невскую столицу и подарили Петру. Коль скоро я вырос, Петр Алексеевич послал меня в Париж учиться военным наукам. Вернулся я, гораздо зная инженерное дело и фортификацию, и сделан был капралом Преображенского полка. В мое капральство отдали из недорослей нескольких солдат, с тем чтобы я их научил арифметике, тригонометрии, геометрии планов, фортификации. В моем капральстве был твой отец, о чем, я чаю, он тебе говаривал…
Василий Иванович проговорил, вздыхая:
— Беда моя, что Александр только военными делами и бредит!
— Какая же в том беда?
— Да вот спроси мою Авдотью Федосеевну, — с досадой ответил Василий Иванович. — Она мать…
Авдотья Федосеевна не садилась и чинно слушала разговор мужчин, сложив жеманно руки накрест. Когда же Ганнибал к ней обратился, она церемонно присела и ответила:
— Помилуй, государь мой, да какой же из Сашеньки воин выйти может? Ему двенадцатый ведь годок, а дать можно от силы девять. Хилый, хлипкий. Солдату надо быть развязному, красивому, видному, а он у меня, как девочка, застенчив. А хоть он мне мил и такой, голубчик, — какой же из него может выйти генерал? Вот вы, сударь мой, у вас и осанка, и рост, и вид, и красота мужская, — польстила в заключение сановному гостю Авдотья Федосеевна.
— Я сейчас, сейчас! — внезапно срываясь со скамьи, закричал Александр, взвился и выбежал из горницы в сени.
— Что с ним? Живот схватило? Или я ему наскучил? — изумился Ганнибал, прислушиваясь к топоту Александра по лестнице.
— Помилуй, что ты, Абрам Петрович! Он у нас уж такой «перпетуй мобиль»![6]
— Василий Иванович, в какой ты записал Александра полк? В свой, Преображенский? — спросил Ганнибал.
— Ни в какой.
— Как же это могло случиться? Ты упустил столько времени! Ведь сверстники его уже капралы.
— Вина не моя… Родился он у нас хилой. Я думал было тотчас же записать в свой полк — мать вступилась. Я подумал: куда спешить? Погодим — может быть, он и не выживет. Прошел годок, а тут вышел указ, чтобы младенцев в полки не записывать. Так и вышло, что сверстники моего Александра в двенадцать лет капралы, а он остался у нас на руках недорослем.
— Да знаешь ли ты, что прежний указ потерял силу и можно теперь недорослей записывать?
— Знаю, но не раньше тринадцати лет. Стало быть, так: опять Александру год дожидаться…
Испытание
Скача «в три ноги», в горницу ворвался Александр и положил на стол перед Ганнибалом книжку, бережно завернутую вместо переплета в пеструю обложку из цветной «мраморной» бумаги.
— Ба! Ба! — воскликнул Ганнибал, развернув книгу. — Так это твое, Василий Иванович, переложение Вобана?
Истинный способ укрепления городов, изданный от славного инженера Вобана на французском языке, ныне же переложен с французского на российский язык Василием Суворовым, напечатася повелением Его Величества Петра Великого, Императора Самодержца Всероссийского, в Санкт-Петербургской типографии лета господня 1724 года.
Ганнибал положил перед собой на стол книгу и взирал на нее с видимым удовольствием.
Преодолев застенчивую робость, Александр подошел к старику и доверчиво припал к его плечу.
— Ты читал эту книжку, надеюсь, внимательно?
— «Истинный способ» я знаю от слова до слова! — пылко воскликнул Александр.
Василий Иванович вставил:
— Я по Вобану учил его французскому языку. Он и на французском наизусть знает.
— Хорошо. Проэкзаменуем. Отойди несколько назад. Стань там. Ответствуй: что есть фортификация?
— По-французски? — спросил Александр.
— Нет, зачем же: русский язык будет повальяжней.[7]
— «Фортификация, — бойко, по-солдатски, отчеканил Александр, — есть художество укреплять городы рампарами, парапетами, рвами, закрытыми дорогами, гласисами, для того чтобы неприятель такое место не мог добывать без потеряния многих людей, а которые в осаде, могли бы малолюдством против многолюдства стоять…»
— Отменно! — похвалил Ганнибал, проверяя ответ Александра по книжке. — Что есть авангардия?
— «Авангардия есть часть армии, еже марширует перед корпусом баталии».
— А что есть граната? — спрашивает по книжке Ганнибал.
— «Граната есть едро пустое, в которое посыпают порох, в ее же запал кладут трубочку: употребляют оную для зажигания в местах тесных и узких и чтоб врознь разбить солдат от того места, где бы они ни собралися».
Перебирая страницы, Ганнибал задавал вопросы и, выслушивая ответы Александра, приговаривал:
— Отменно! Отменно! Можно только дивиться.
Василий Иванович сиял, слушая ответы Александра, а мать ревниво усмехалась.
— Он и «Юности честное зерцало» от слова до слова знает, — решилась она сказать. — Испытайте его, сударь мой.
— Ну что ж, — снисходительно сказал Ганнибал, — отроку не мешает знать правила учтивости. А есть у вас «Зерцало»?
Принесли и эту книгу, и Александр без особой охоты ответил на несколько вопросов о том, «како отроку надлежит быть».
Авдотья Федосеевна, женщина очень набожная, не преминула кстати похвастаться тем, что сын прекрасно знает церковную службу. И Александр лихо отхватил наизусть «Шестопсалмие».
Ганнибал, крещенный в семь лет царем-безбожником, был беспечен в церковных делах; ему оставалось принять на веру, что Александр знает и церковную службу не хуже, чем «Истинный способ укрепления городов».
— Дьячок, прямо дьячок! — похвалил Ганнибал. — Блаженной памяти Петр Алексеевич поцеловал бы непременно отрока вашего. Позвольте мне это сделать в память нашего отца и благодетеля.
Ганнибал достал шелковый платок, вытер губы и, закинув рукой голову Александра назад, поцеловал его в лоб…
Испытание продолжалось. Оказалось, что Александр знает немного по-французски и по-немецки, а по-русски пишет не хуже самого генерала. Считал мальчик быстро, а память у него отменная.
— Ну, скажи: кем же ты хочешь быть?
Александр, потупясь, молчал.
— Матушка твоя, кажись, хочет видеть тебя архиереем?
Александр рассмеялся и, лукаво подмигнув матери, закричал:
— Кукареку!
— Ганнибалом?! — продолжал допрашивать генерал.
— С вами, сударь, их уже два. Я не хочу быть третьим.
— Ты хочешь быть первым? Ого! А хочешь быть солдатом?
— Да! — кратко ответил Александр.
— Посмотри-ка ты на себя в зеркало, герой! — воскликнула мать.
Александр взглянул на себя в зеркало, и все посмотрели туда.
— Да, неказист! — бросил сквозь зубы отец.
Александр скорчил в зеркало не то себе, не то Ганнибалу рожу и отвернулся:
— Я не такой!
— Когда б он был записан в полк в свое время, то был бы теперь уж сержант, а то и поручик! — досадливо заметил Василий Иванович.
— Время не упущено.
— Решено: запишу тебя, Александр, в полк! — стукнув по столу ладонью, сказал Василий Иванович.
Александр быстро взглянул на мать. Она заголосила, протягивая к сыну руки:
— Родной ты мой, галчоночек ты мой! Отнимают первенького моего от меня!..
— Ну, матушка, отнимут еще не сразу. Годика три дома поучится. Полно вопить… Достань-ка нам семилетнего травничку. Надо нового солдата спрыснуть. Да и поснедать пора — час адмиральский!
Авдотья Федосеевна, отирая слезы, ушла, чтобы исполнить приказание мужа.
— Ну, сынок, теперь ты доволен? — спросил Александра отец, когда мать вышла.
Василий Иванович опасливо поглядел вслед жене.
Ганнибал заметил это и усмехнулся:
— Да что откладывать — еще передумаешь. Пиши, сударь, прошение, пока государыня в Москве, я и устрою все это дело, — посоветовал гость.
— Сынок, подай перо и бумагу, — приказал отец.
Александр быстро принес из спальни ларчик, открыл его и подал отцу чернильницу, песочницу, гусиное перо. Отец, обмакнув перо в чернила, задумался.
— В какой же полк тебя писать? — задумчиво глядя на сына, спросил Василий Иванович. — В Преображенский? И дядя твой, Александр Иванович, в Преображенском, и я в Преображенском. Выходит, и тебе в Преображенский.
— Батюшка, — тихо сказал Александр, — пишите меня в Семеновский.
— В Семеновский? Почему же?
— Да мне матушку жалко стало: ей трудно со мной сразу расставаться. Преображенский в Петербурге, а Семеновский полк в Москве квартирует… Все ближе к дому.
— В Семеновский полк не напишут: у нас в Семеновском родни нет.
— А Прошка Великан? — напомнил Александр.
Василий Иванович усмехнулся.
— Кто же это будет Прошка Великан? — спросил Ганнибал.
— Прошка-то? Вы не знаете? — удивился Александр. — Его батюшка за то в солдаты отдал, что он кобылу огрел оглоблей да спину ей сломал. К тому же озорник. Все дрался: ударит, а мужик и с копыльев долой. Батюшка его и сдал. Царица послала его с другими великанами к прусскому королю Фридриху. А у Фридриха пушка в грязи завязла. Велел король своим солдатам пушку тащить — десять вытащить не могут. Отступились. Прошка подошел, крякнул, один пушку из грязи вынул да на сухое место и поставил. Только и сам повалился около пушки — у него жила лопнула. А когда жилу ему срастили, выходили, то отпустили его домой…
— Да как же Прошка с лопнутой жилой в строю?
— Да он ничего еще, только тяжелой работы не может.
— Чудо-богатырь! В Москве непременно погляжу на Прошку, — сказал, рассмеявшись, генерал. — А ты еще не знаешь, Василий Иванович, что Никита Соковнин в Семеновский полк вернулся?
— Неужто? Какой поворот судьбы! Никита Федорович Соковнин мне друг и приятель. Истинно ты, Абрам Петрович, чудесные вести принес!
ГЛАВА ВТОРАЯ
Жребий брошен
Морозным утром Василий Иванович Суворов стоял в стеганом ватном архалуке на покрытом инеем крыльце. Ключница сыпала курам из кошелки горстями житарь.[8] Куры ссорились и дрались. Вороватые воробьи норовили тоже клюнуть. Петух их отгонял, покрикивая: «Ты куда-куда? Пошел!»
Василий Иванович не отрываясь следил за одной хохлаткой — она клевала торопливо и жадно.
Ключница, вытряхнув из кошелки остатки зерна, сердито крикнула барину:
— Каждое зернышко считаешь?
— А тебе бы что — украсти? — ответил Суворов.
Он в самом деле считал. Ключницу он взял на замечание давно. На досуге пересчитал, сколько бывает зерен в гарнице житаря.
— Сто восемьдесят четыре… пять… шесть… А ты, жадюга! Все ей еще мало! Кш! Кш! — закричал он на хохлатку.
Василий Иванович поднял палочку и швырнул в кур. Они всполошились и разлетелись. Хохлатка вскрикнула, но не перестала клевать.
— Сто девяносто пять… шесть… семь…
В эту минуту ко двору подскакал верховой, соскочил с коня, привязал его к воротному кольцу и, сняв шапку, подал боярину письмо.
Взглянув на печать, Суворов узнал, что письмо от Ганнибала. Василий Иванович вскрыл пакет, пробежал письмо и велел нарочному идти в приспешную и сказать, что боярин приказал поднести ему вина.
Забыв про кур, Василий Иванович вошел в дом. В горнице Александр читал матери вслух из толстой книги в кожаном переплете житие благоверного князя Александра Невского. На полу возилась с лоскутками Аннушка, наряжая деревянную куклу.
— Оставь читать! — торжественно произнес Василий Иванович. — Ты стоишь у меты[9] своих желаний.
Он прочитал матери и сыну письмо. Генерал писал, что премьер-майор Соковнин снизошел к просьбе Василия Ивановича — прошение Суворова уважено.
«По сему господа полковые штапы[10] тысяча пятьсот сорок втором году октября двадцать второго дня приказали недоросля Александра Суворова написать лейб-гвардии Семеновский полк в солдаты сверх комплекта, без жалованья и со взятием обязательства от отца его отпустить в дом на два года. Он, недоросль Александр Суворов, имеет обучаться во время его в полку отлучения на своем коште указным наукам, а именно: арифметике, геометрии планов, тригонометрии, артиллерии, части инженерии и фортификации, тако ж из иностранных языков да и военной экзерциции совершенно, и о том, сколько от каких наук обучится, каждые полгода в полковую канцелярию для ведома репортовать».
По-разному приняли известие, полученное от Ганнибала, Александр и его мать.
Едва дослушав письмо до конца, Александр захлопнул книгу, закричал петухом, запрыгал по горнице, затем кинулся обнимать отца, хотел выхватить у него письмо, чтобы самому прочесть, за что получил подзатыльник. Александр выпрямился и, стоя с протянутой рукой посреди комнаты, возгласил:
— «Цазарь, стоя на берегу Рубикона и обратясь к приятелям, между коими был славный Азинний Полоний, сказал им: «Мы еще можем вспять возвратиться, но если перейдем сей мосточек, то надобно будет предприятие до самого конца оружием довести. Пойдем же, куда нас зовут предзнаменования богов и несправедливость супостатов наших. Жребий брошен».
— Ах ты, Аника-воин! — с горестной насмешкой воскликнула мать. — Да ты погляди на себя в зеркало, какой ты есть Юлий Цезарь!
Александр растерянно взглянул на мать и повернулся к зеркалу, откуда ему в глаза глянул не Юлий Цезарь в уборе римского всадника, а растрепанный, в затасканном тулупчике, невзрачный мальчишка с рыжеватой челкой, спущенной на лоб.
Александр отвернулся от зеркала, кинулся к матери и припал к ней, спрятав голову в ее коленях… Плечи его сотрясались: казалось, он плачет.
Мать, обливаясь слезами, приглаживала вихры сына. Аннушка бросила куклу и громко заплакала. Отец приблизился к жене, опустился рядом на скамью, обнял ласково, пытаясь ее «разговорить»:
— Полно-ка, матушка. Голиафа мы с тобой не породили. Эка беда! Не все герои с коломенскую версту. Принц Евгений Савойский тоже был мал ростом, но совершил великие дела. А звали его «маленький попик». Вот и тебя зовут, сынок, барабошкой. Одно скажу тебе, Александр: у человека два портрета, две персоны бывают — внутренняя и наружная. Береги, сынок, свою внутреннюю персону — она поважней, чем наружная. Будь такой, каков есть. Не для чего нам в зеркало глядеть. Мы не бабы.
Авдотья Федосеевна оттолкнула мужа:
— Поди прочь, Василий Иванович! Чует сердце мое: сложит Сашенька в поле буйну голову!
Василий Иванович встал со скамьи:
— Не все воины, матушка, на поле брани погибают. Некий филозоф, когда его спросили, что он почитает более погибельным: бездны ли земные, пучины ли морские, хлады несносные, жары палящие, поля бранные или мирные пашни, ответствовал тако: «Не утлая ладья среди бушующего моря, не скользкий край пропасти, не поле брани, а ложе ночное — самое смертное и опасное место для человека, ибо больше всего людей в кровати своей помирают. Однако мы каждый вечер в постель без боязни ложимся».
— А чего до поры до времени натерпится в учении солдатском? Сам ты Петровой дубинки не пробовал? А Ганнибал? А Головин Василий Васильевич? Чего-чего он не вытерпел! Чуть ума не лишился, горячкой занемог…
— Да, немало Василий Васильевич в Морской академии натерпелся!
— Вышел в отставку, — продолжала причитать Авдотья Федосеевна. — Кажись, ладно. И тут опять поганый немец Бирон его взял. Чего не натерпелся Василий Васильевич в руках палача: на дыбу его подымали, под ногами огонь разводили, лопатки вывертывали, по спине каленым утюгом гладили, кнутом били, под ногти гвозди забивали… Господи боже мой! И за что?
— Не стращай сына, мать. Сие время перестало. Бирона нет, а у нас ныне царствует дщерь Петрова, кроткая Елисавет. Что до Василия Васильевича, так царь Петр еще отца его не любил, да и как любить, ежели тот был другом царевны Софии? Бунтовщик! Вот ежели ты хочешь в сыне своем угасить ревность воинскую, возьми да свези его к боярину Василию — пускай-ка он ему и порасскажет, сколь горек корень военного учения. Авось он разговорит Александра. Да кстати спроси, запишет ли Головин и своего Васю в полк.
— И то! — согласилась утешенная мать Александра.
— Пошли Головиным сказать, что завтра у них будете. А теперь, Александр, довольно матери платье слезами мочить. Едем в поле. Собирайся.
Александр резво вскочил на ноги. Глаза его были сухи. Он, припрыгивая на одной ноге, пустился вслед отцу.
На дворе поднялся радостный лай собак. Егеря седлали коней. Затрубил рог. Суворов с сыном уехал в поле. Авдотья Федосеевна написала подруге своей, Прасковье Тимофеевне Головиной, записку, что завтра к ней прибудет с сыном, и, послав верхового, успокоилась совсем.
Александр с отцом вернулись домой в сумерках «с полем» — затравили на озимых двух русаков. И Василий Иванович и Александр были веселы и румяны. За столом Василий Иванович выпил порядочно и предложил сыну:
— Ну-ка, Александр, выпей первую солдатскую чарку.
Александр не решился.
— Пей, если батюшка приказывает, — поощрила его с насмешкой мать. — Он тебя всей солдатской науке наставит.
Александр отпил глоток из отцовской чарки, поперхнулся и, как бы нечаянно, пролил остаток вина. Отдуваясь, Александр высунул обожженный водкой язык и принялся вытирать его краем скатерти. Отец смеялся.
Утром на другой день Авдотья Федосеевна нарядилась в свое платье, пахнувшее листовым табаком и камфарой. Александра одели снова в его нарядный кафтанчик с золотыми пуговицами и белые панталоны.
Василий Иванович распорядился лошадьми. К крыльцу подали возок с лубяным верхом, запряженный тройкой.
Авдотья Федосеевна, в салопе и теплом чепце, с помощью Мироныча и сенной девушки долго устраивалась в повозке так, чтобы не помять своего роброна.[11]
Когда все устроилось, Александр подмигнул отцу, живо забрался в возок и уселся там бочком, стараясь не тревожить мать и не помять ее платье.
— Трогай! — крикнул Василий Иванович с крыльца.
Тройка подхватила, и возок выкатился за ворота.
Два века
…Печальные осенние поля лежали вокруг — колкое жнивье, где истоптанная скотиной озимь. Облетевшая листва деревьев местами устилала дорогу желтым ковром.
Хотя Головины и почитались Суворовым родней, Александра туда везли впервые. Он и радовался, и боялся — чего, сам не знал, — и торопил время. В одном месте дорогу тройке перебежала тощая, одичавшая за лето кошка. Она мяукала — вспомнив, должно быть, теплую печку — и страдала по легкомысленно покинутому дому.
— Кошка? Уж не лучше ли вернуться, — пробормотала Авдотья Федосеевна.
Александр понял, что мать чего-то боится.
— Кошка, матушка, не заяц! — попробовал Александр успокоить мать.
Кучер, не оборачиваясь, подтвердил:
— Кошка — к доброй встрече. Да ведь и то: бабьи приметы! Вот если попа встретишь — поворачивай оглобли. Это наверняка.
Часа через два на вершине холма над серым от зябкой осенней ряби прудом завиделась новая усадьба Головиных — высокий дворец с большими окнами, белыми колоннами и круглой беседкой над лепным фронтоном красной крыши. Кое-где еще виднелся неубранный строительный мусор — битый кирпич, бревна, доски. Зияли ямы известковых творил. Торчали стойки неубранных лесов. Дом только что закончился постройкой. Правым от подъезда крылом дворец вплотную приткнут к старому одноэтажному, тоже каменному дому с железными ставнями на маленьких оконцах, построенному, пожалуй, в начале прошлого века, — но дом стоял несокрушимо. Век нынешний и век минувший стояли плотно один к другому. Кое-где расцвеченный изразцами старый дом, видимо, обрекли на слом.
Авдотья Федосеевна велела кучеру подъехать к главному входу нового дворца. Тройка остановилась у дверей с зеркальными стеклами.
Из-за двери выглянуло чье-то испуганное лицо и спряталось. Долго никто не появлялся.
— Матушка, поедем назад, домой! — сказал Александр. — Нас не хотят пускать…
— Помоги мне выбраться.
Александр выпрыгнул из возка и подал руку матери. Она, кряхтя и бранясь, выбралась из экипажа.
— Смотри, — наставляла она сына, — не осрами меня в людях. Больше всего молчи. А если спросят, говори: «Да, сударь», «Да, сударыня».
— А «нет» нельзя? — спросил Александр.
Мать не успела ответить: зеркальная дверь отворилась, и оттуда хлопотливо выскочила сухая женщина, вся в черном, с пронырливыми светлыми глазами. Это была домоправительница боярина Головина, Пелагея Петровна.
— Батюшки мои! Да это, никак, Авдотья Федосеевна! — воскликнула Пелагея Петровна. — Пожалуйте ручку, сударыня. Здравствуйте, матушка боярыня. Давненько к нам не жаловали. Сашенька-то как вырос — и не узнать! Пожалуйте, пожалуйте!..
Пелагея Петровна пропустила гостей в переднюю, велела кучеру отъехать на конный двор и заперла дверь на ключ.
В передней не было ни дворецкого, ни слуг. В доме стояла глубокая тишина.
— Как здоровье Василия Васильевича? — спросила Авдотья Федосеевна.
— Слава богу…
— А здоровье Прасковьи Тимофеевны?
— Тоже слава богу…
— Да что же это я ее не вижу? — обиженно проговорила Авдотья Федосеевна.
В былое время подруга всегда выбегала ей навстречу, чтобы обнять на самом пороге дома.
— Да все ли у вас благополучно? Тишина в доме, словно все вымерли…
— Ох, боярыня матушка! Коли правду сказать, не в час вы к нам пожаловали. Преогромное у нас несчастье приключилося! Такое уж несчастье, что и не знаю, как сказать. Господь нас за грехи карает!
— Да не пугай ты, Пелагея Петровна, — вишь, у меня ноги подкосились. Сказывай же!
Авдотья Федосеевна грузно опустилась на диван, сгорая от любопытства.
— Любимый-то кот боярина, Ванька, залез в вятерь[12] с живыми стерлядями, пожрал их всех, назад полез да в сетке и удавился!
— Насмерть?
— Насмерть, государыня, насмерть. Совсем окочурился кот. Было это еще утром. Стерлядей паровых заказал боярин ради тебя, зная, что любишь. А теперь что мы будем делать? Как сказать про кончину котову? Матушка моя, да я и о твоем приезде доложить не смею… Покарал нас господь!
— Да неужто вы все тут с ума посходили? — рассердилась наконец Авдотья Федосеевна. — Не домой же мне теперь ехать! Дайте хоть согреться. Уж если хотите, я сама ему про Ваньку-кота доложу…
— Ой, государыня матушка! — воскликнула Пелагея, и на лице ее появился сначала испуг, а потом радость. — Тебя-то он, матушка, выпороть не смеет и в дальнюю ссылку не пошлет… Уж вот вызволишь ты нас! Побудь здесь одну секунду!
Пелагея Петровна убежала на цыпочках. Александр, осматриваясь, дивился и пышным завиткам лепного потолка, и узорчатому паркету, и высоким золоченым подсвечникам, в которых свечей еще ни разу не зажигали: от свечи к свече тянулись по фитилям пороховые зажигательные нити. Два рыцаря в латах, с опущенными забралами, в стальных перчатках сторожили, опираясь на огромные мечи, вход из сеней во внутренние покои… Над огромным мраморным камином стояли меж двух китайских ваз золоченые часы.
Стояла тишина, хладная, немая. Часы уторопленно тикали. Так прошло еще порядочно времени. Стрелка приблизилась к трем. Часы прозвонили семь. В доме, откуда-то из глубоких покоев, подобно морской волне, набегающей на плоский песчаный берег, пронесся, возрастая, шорох. Дверь на верху лестницы распахнулась, по бокам ее встали в белых париках, в голубых ливреях, шитых серебром, и в узких белых штанах два бритых лакея. Затем в дверях показался важный господин в голубом же кафтане. Авдотья Федосеевна подтолкнула Александра и встала с дивана.
Господин в голубом, несмотря на тучность, низко поклонился гостям и медленно и раздельно произнес:
— Добро пожаловать, боярыня Авдотья свет Федосеевна с наследником Александром Васильевичем!
— Это он? — шепотом спросил у матери Александр. — Кланяться?
— Что ты! Что ты! Это дворецкий, — ответила Авдотья Федосеевна. Она сама едва удержалась, чтобы не ответить дворецкому тем же низким поклоном.
— Здравствуй, Потапыч, — проговорила она, приосанясь. — В добром ли здравии боярин и боярыня?
— Вашими молитвами, боярыня…
Дворецкий еще раз низко поклонился, повернулся и пошел впереди. Мать пошла за ним, держа Александра за руку. В то мгновение, как закрылись двери в сени позади них, впереди распахнулись вторые. И стали по бокам еще два лакея в голубом посеребренном платье, в башмаках с пряжками. Первая пара лакеев обогнала гостей и пошла позади дворецкого. Затем открылось еще двое дверей, и наконец шествие, открываемое дворецким и шестью лакеями за ним, остановилось перед четвертой низкой одностворчатой дверью, обитой по войлоку рогожей и накрест драницей, точь-в-точь как у Суворовых при входе из сеней в прихожую. Дворецкий тихо стукнул в дверь и, по монастырскому уставу, прочел короткую молитву, прося разрешения войти.
— Аминь! — послышалось из-за дверей.
Дворецкий открыл дверь. Лакеи выстроились по сторонам ковровой дорожки и с низкими поклонами пропустили Суворову с сыном вперед. Авдотья Федосеевна вошла в следующий покой, у дверей она церемонно, с приседанием, поклонилась и прошептала сыну:
— Да кланяйся же, неуч!
Александр отвесил в ту сторону, куда кланялась мать, почтительный поклон, и когда поднял голову, то удивился. Здесь было почти темно. Скудный свет осеннего дня едва сочился сквозь густой, свинцовый переплет маленьких окон со слюдяными стеклами. Нависли расписанные травами своды, некрашеный, из шашек соснового паркета пол скрипнул под ногами дворецкого, который тихо попятился назад и пропал. Убранство покоя было очень просто. Те же дубовые скамьи, что в родном доме Александра, впрочем покрытые коврами. Наконец Александр увидел и того, кому, не видя, поклонился. В кресле-качалке сидел сам боярин Василий Васильевич Головин в зеленой шапочке. Из-под его сдвинутых, похожих на ласточкины крылья бровей смотрели, искрясь веселой насмешкой, карие глаза, румяные губы улыбались. Около старика, положив руку на его плечо, стояла высокая, статная боярыня в богатом синем с серебром роброне. Ее прекрасные пышные волосы, причесанные по моде, с буклями, казались с проседью от пудры. В ушах боярыни сверкали, соперничая с ее глазами, два яхонта с лесной орех. А рядом стоял, прижавшись к ней, мальчик в русской алой косоворотке, плисовых шароварах и козловых сапожках на высоких красных подборах.
Головин издали протянул руку. Авдотья Федосеевна, ведя за руку Александра, подошла и приложилась к руке, говоря:
— Здравствуй, государь мой Василий свет Васильевич!
— Здравствуй и ты, государыня Авдотья Федосеевна!
Головин ткнул рукой в губы Александра и промолвил:
— Прасковья, чего ж, не рада, что ли, гостям — пнем стоишь!
Произошло общее движение. Гостья и хозяйка кинулись одна к другой в объятия с восклицаниями и поцелуями. А мальчик подошел к Александру и, потянув за рукав, прошептал ему на ухо:
— А у нас кот Ванька удавился!
— Нам уже сказывали.
— Вот беда!
— Да какая же беда? Эка штука — кот!
— Да вить какой кот! Кто теперь батюшке скажет?
— А не все одно кто?
— Да вить он того пороть велит, а то и на торфы сошлет…
— Чего вы шепчетесь, Вася? — строго спросил сына Василий Васильевич.
— Да я, сударь батюшка, спросил, как его звать…
— Что ж, у него имя долгое — никак не выговорит?.. Ну, сударыня, — обратился хозяин к гостье, — угощу же я тебя сегодня! Сурскими стерлядями!..
Все, застыв, молчали.
Храбрец
Жена Василия Васильевича побледнела. Александр взглянул на нее и испугался. Он подумал: вдруг это она скажет про кота и старик велит конюхам выстегать ее плетьми! Хозяйка шевельнула губами, но Александр предупредил ее.
— Стерлядей-то кот съел! — сказал он, учтиво кланяясь хозяину.
— Как так? — вскочив с кресел, закричал Василий Васильевич. — Ванька? Подать кота сюда! А кто за котом смотрел?
Вася подбежал к матери своей и, ухватясь за ее платье, испуганно смотрел на храбреца. Авдотья Федосеевна искала глазами скамью: у нее подкосились ноги…
— Позвать Пелагею Петровну! Пелагея! Пелагея! — кричал Василий Васильевич.
Вбежала Пелагея и, видя, что боярин гневается, прямо бухнулась перед ним на колени и, стуча об пол лбом, лепетала:
— Не вели казнить, батюшка! Не знаю вины своей… Прости ты меня, нижайшую рабу твою… Не вели казнить…
— Перестань причитать! Это верно, что кот Ванька стерлядей съел?
— Верно, батюшка. Съел, окаянный, съел!
— Всех?
— Всех, батюшка боярин, всех.
— Поди принеси кота. Как это мог кот столько рыбы сожрать.
— Да он только испакостил: у той голову отъел, у другой хвост…
— Подай сюда кота!
Пелагея упала ничком перед боярином и, целуя сапог, молча мочила его слезами…
Александр выручил и ее.
— Кот-то, сударь, сам испугался да и убежал в рощу, — сочинил Александр.
— А ты откуда узнал?
— Да я сам видел: едем, а кот в рощу бежит…
— Какой масти кот?
— Да серый кот. Ну, малость хвост бурый. Огромный кот. С зайца.
— Верно. Да ты не врешь ли, малый?
— Он у меня на глаз такой быстрый, — похвасталась сыном Авдотья Федосеевна, — все сразу видит…
— Пелагея, встань! Кота, когда вернется, отправить в ссылку в Прозорово. Кроме вареной невейки, никакого продовольствия ему не отпускать. Пускай-ка поест черной каши.
— Слушаю, сударь.
— Ступай. Коли б ты сама сказала, ну, а гостя — выручил он тебя — пороть не приходится. Возрастай непытаный, немученый, ненаказанный. Грехи до семи раз прощаются. Прошу дорогих гостей в трапезную нашу палату.
Хозяин поднялся с кресел и пошел впереди в столовую. За ним последовала хозяйка, пересмеиваясь с Авдотьей Федосеевной и кивая на мужа. За ними шел Вася, ведя за руку Александра. Он прошептал:
— Какой ты смелый!
— А чего мне бояться? Ведь меня в Семеновский полк записали.
— Нынче пять кошек будут без обеда. Вот увидишь… Тоже «солдат»! Я матушку попрошу, и меня запишут. Ты смотри за столом помалкивай, а то худо будет.
Трапезная палата находилась тоже в старом доме. В низкой сводчатой комнате, освещенной множеством восковых свечей, в поставцах и на полках сверкали затейливые бутылки, стаканы, кубки из цветного стекла, серебряные ковши и чаши, высокие фарфоровые кувшины и кружки, оправленные в серебро. По коврам на стенах развешаны турецкие кривые ятаганы в ножнах, украшенных цветными каменьями, огромные великанские мечи и маленькие кинжалы, допетровские стрелецкие бердыши и боевые топорики, но не было ни одного мушкета и ни одного пистолета — видимо, хозяин не любил огнестрельного оружия.
Посреди трапезной, у круглого стола с семью ножками, стояло семь стульев с высокими спинками. За стульями навытяжку, по-солдатски, стояли лакеи в цветных кафтанах и париках. За стулом со спинкой повыше других стал сам дворецкий, в углу под иконой дожидался поп, тряся седой головой.
Александр сразу увидел, что на каждом стуле положено по шитой шелковой подушке. И на каждой подушке лежит сытая старая кошка. Каждая кошка привязана лентой к ножке стула.
Поп низко поклонился хозяину, прочитал молитву и ушел, все кланяясь. По знаку хозяина дворецкий и четверо лакеев отвязали пять кошек и вынесли их на подушках. Кошки, видимо, привыкли к этой церемонии и лежали на подушках спокойно. Два лакея остались за теми стульями, где, не тревожась, лениво дремали остальные две кошки. Хозяин молча указал каждому его место. По правую руку от него занял место сын, а правее его — хозяйка, по левую руку — Александр, а дальше — его мать. Все это творилось в полном молчании. Ни хозяин, ни сын, ни хозяйка, ни гости не проронили ни слова. Александр всему дивился, поглядывая на унылые, заспанные лица слуг, в померкшие, застывшие глаза Васи. Александр ему улыбнулся. Вася в испуге закрыл глаза. Взоры хозяйки и Александра встретились, и он увидел, что в глазах ее прыгают веселые зайчики смеха. Александр рассмеялся вслух.
— Вторая вина! Трапезуй в безмолвии. И вторая вина прощается, — с угрозой сказал хозяин.
Александр догадался, что хозяин во всем держится числа семь и, значит, ему можно безнаказанно совершить еще четыре преступления.
Дверь отворилась. Вошли семь поваров в белых колпаках и белых балахонах и поставили на стол семь блюд, сняли с них крышки и, поклонившись, молча вышли…
Снова открылась дверь, и в трапезную, шагая в ногу, вошли четырнадцать официантов в красных с золотом кафтанах, с напудренными волосами и длинными белыми полотенцами, завязанными галстуком на шее.
Обед начался. Официанты накладывали каждому из трапезующих по очереди из семи блюд. Первое блюдо оказалось щами. Александр, подражая хозяину, съел полную тарелку, дивясь, что остальные только отхлебнули по ложке. А две кошки, которым тарелку подносили официанты, только понюхали и отвернулись. Каждой кошке, как и людям, служили двое: накладывали из всех семи блюд поочередно, меняли тарелки и приборы. Ни второго, ни третьего, ни четвертого, ни пятого, ни шестого, ни седьмого блюда никто, кроме хозяина, даже не отведал, и казалось, что и обеду конец. Но официанты проворно убрали все, дверь снова раскрылась, и вошли опять семь поваров с мисками, поставили их на стол и, сняв крышки, с низкими поклонами удалились. Во второй перемене первым блюдом был поросенок с гречневой кашей.
— Мне только каши! — приказал Александр официанту.
— Третья вина! «Яждь то, что предлагается», — ответил на дерзость Александра боярин. — И третья вина прощается…
Дрожь охватила Александра. Хозяин ел неопрятно, нагромождая около своего прибора корки хлеба и кости. Много пил вина, не проглотив еще еды, соль брал из солонки перстами, а поросячью ножку взял прямо в руку и грыз ее, ворча что-то про себя и переступая под столом ногами.
Александр припомнил из «Юности честного зерцала», как отроку надо вести себя за столом, и скороговоркой, боясь, что его одернет мать, выпалил:
— «Будь воздержан и бегай пьянства, пей и яждь, сколько тебе потребно… Ногами везде не мотай, не утирай губ рукою, но полотенцем и не пей, пока еще пищи не проглотил».
Хозяин застыл с костью, поднесенной ко рту. Остолбенели официанты. Два лакея при кошках угрюмо улыбнулись, словно по команде, и посмотрели на дерзкого гостя ласково.
— Ну, еще что? — поощрил Александра боярин.
— «Не облизывай перстов и не грызи костей. Над яствой не чавкай, как свинья, и головы не чеши. Около своей тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и прочего. Когда перестанешь ясти, возблагодари бога, умой руки и лицо и выполоскай рот».
— Все? Четвертая вина! «Чти и не осуждай старших». Четвертая вина прощается.
Авдотья Федосеевна уже давно не рада была своей затее и поездке к боярину, но не смела прикрикнуть на сына, чтобы не нарушить церемониала и не навлечь на себя боярского гнева: вдруг хозяин и за ней начнет вины считать!
Из Васиных глаз на щеки скатывались слеза за слезой — он боялся за своего нового друга. Только одна хозяйка была весела. Она едва сдерживалась от смеха, и все ярче разгорались в ее глазах веселые синие огни.
Между тем обед продолжался. Повара вносили по очереди третью, четвертую, пятую перемену, и в каждой перемене семь блюд. Официанты убирали всё нетронутым. Из всех сидящих за столом один боярин ковырялся вилкой или пальцами в каждом блюде, вытирая затем руки о пышные галстуки официантов. Никто не хотел есть, никто не дивился искусству поваров, которые успели наготовить такое множество разных кушаний.
Раньше всех надоело кошкам: сначала одной, а затем и другой сделалось тошно, они жалобно замяукали, и лакеи их вынесли по знаку хозяина. Когда внесли и унесли нетронутой седьмую перемену, Александр просто и спокойно спросил боярина, как равный равного:
— А кто же, сударь, все это съест?
— Ага! — вскричал хозяин, стукнув о стол кулаком. — Пятая вина! — И, чтобы показать, что и он в свое время заучивал «Честное зерцало», прибавил: — «Молодые отроки не имеют быть насмешливы и других людей речи не превращать и ниже других людей пороки и похулки…» Ик!..
Отрыжка мучила боярина. Он громко икнул, отрыгнул, не кончив поучения, в смущении достал платок и громко высморкался.
— «Рыгать, кашлять и подобные такие грубые действия в лице другого не чини», — процитировал еще раз Александр правила приличия. И сам прибавил: — И шестая вина прощается.
Боярин посмотрел на дерзкого гостя очень внимательно и промолчал. Официанты убрали со стола, и вслед за тем семь смешных, уродливых карлов внесли на головах блюда с яблоками, грушами и виноградом и поставили их перед каждым пирующим. Самому боярину подали кофе в высоком фарфоровом кофейнике. Дворецкий налил кофе в чашку. Боярин не торопясь отхлебывал напиток маленькими глотками. Все сидели за столом куклами. Никто не притронулся к плодам, ожидая, когда же кончится эта пытка. Александр выбрал с блюда большое красное яблоко и покатил его по столу к Васе. Тот не осмелился подхватить. Яблоко упало на пол.
Хозяин грозно нахмурился, встал из-за стола и вышел из столовой. Прасковья Тимофеевна хлопнула в ладоши, кинулась со смехом к Александру, подхватила его на руки, как малого ребенка, и принялась целовать в губы, глаза, щеки, прижала его к груди. Прижавшись к жесткой парче ее платья щекой, Александр услышал, как горячо стучит сердце боярыни.
— Пойдем все ко мне, — сказала хозяйка, поставив Александра на пол. — Вася, где ты?
Вася лазил под столом, разыскивая красное яблоко, кинутое ему Александром.
— Вот оно!
Хозяйка выбежала из столовой, за ней побежали мальчишки и поспешила Авдотья Федосеевна.
За темным переходом распахнулась дверь в большой покой со сводами, подпертыми посередине круглым столбом. Здесь было жарко, шумно, суетливо. У Александра зарябило в глазах. Суетились смешные карлы, пододвигая гостям стулья. Вея лентами, перебегали, хихикая, с места на место девушки в пестрых сарафанах. Качаясь в кольце, сердито кричал, раздувая розовый хохол, большой белый попугай. На полу расхаживал, распустив долгий цветной хвост, павлин. Около него кружился, щелкая клювом, тонконогий журавль. Из угла слышался звон струн. На коленях у молодого статного черкеса лежали гусли.
— Девушки! — крикнула хозяйка, хлопнув в ладоши. — Гостей величать!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Колотушка
Девушки стали полукругом. Все стихло. Гусляр ударил по струнам, задавая тон. Но не успели певицы выдохнуть первое величальное слово, как в дверях показался дворецкий с зажженным канделябром в руке и громко сказал:
— Боярин просит Александра Васильевича Суворова-сына к себе.
Все замерли.
— Не бойся! Не бойся! Иди! — шепнула хозяйка Александру.
— А я вовсе и не боюсь! — ответил Александр и смело пошел за дворецким, не взглянув на мать.
— Растревожил ты боярина! Всю ночь спать не будет, — сказал Потапыч, погладив мальчика по голове.
Дворецкий провел Александра через темный, холодный зал, где гулко отдавались шаги, к знакомой уже ему рогожной двери и пропустил Александра вперед, плотно затворив за ним дверь.
Боярин сидел на прежнем месте в своей качалке. Пелагея Петровна возилась около вороха сена, накрытого ковром, в углу покоя — она готовила хозяину постель.
Перед Головиным на раздвижном пюпитре с горящей свечкой лежала большая книга. Боярин молча указал Александру на низенькую скамейку у своих ног. Суворов сел. Сердце его стучало беспокойно.
— Пелагея, ставни закрывать! — приказал боярин.
— Слушаю, государь!
И, подойдя к окну, домоправительница громко прокричала молитву.
— Амень! — хором ответило со двора несколько голосов.
Со страшным шумом и визгом в петлях захлопали железные ставни, загремели болты. Видно было, что люди старались нарочно делать как можно больше стука и грома. То же делалось во всем доме — грохот доносился со всех сторон.
Пелагея заложила чеками просунутые внутрь болты. Стало тихо. Вошел дворецкий и ввел старосту с бирками[13] в руке; с ним вместе вошли выборный караульщиков с кленовой колотушкой и ключник со множеством ключей на большом кольце.
Дворецкий поклонился боярину и, обратясь к выборному, начал говорить:
— Слушайте приказ боярский: смотрите всю ночь не спите, кругом барского дома ходите, колотушками громко стучите, в рожок трубите, в доску звоните, в трещотку трещите, по сторонам не зевайте и помните накрепко: чтобы птицы не летали, странным голосом не кричали, малых детей не пугали, на крыши бы не садились и по чердакам не возились. Слушайте же, ребята, помните накрепко!
— Слышим! — во всю глотку гаркнул выборный.
— Слышим! — глухо отозвалось со двора.
Выборный с низким поклоном подал боярину колотушку и поцеловал ему руку. Староста отдал бирки Пелагее Петровне. Дворецкий повернулся к старосте и прочитал ему наставление:
— Скажи сотским и десятским, чтобы все они, от мала до велика, жителей хранили и строго соблюдали, обывателей от огня неусыпно сберегали, глядели и смотрели: нет ли где в деревнях Целееве, Медведках и Голявине смятения, не увидят ли на небесах какого страшного явления, не услышат ли под собой ужасного землетрясения. Коли что случится или диво какое приключится, о том бы сами не судили и ничего такого бы не говорили, а в ту пору к господину приходили и все бы его боярской милости доносили и помнили бы накрепко!
Ключнику столь же складный и подробный приказ отдала, приняв от него кольцо с ключами, Пелагея Петровна.
Дворецкий махнул рукой. Выборный, староста и ключник вышли, за ними и дворецкий. Пелагея Петровна спрятала под подушку бирки и ключи, взбила попышней сено постели, потушила все свечи, кроме одной, на пюпитре с книгой, и, пожелав боярину сладко почивать, удалилась.
Настала великая тишина… Александр сидел у ног Головина, пока длилась странная церемония, и не смел шевельнуться, помня за собой уже шесть преступлений.
Головин положил Александру на голову тяжелую руку и спросил:
— Кота видел или соврал?
— Нет, не видел. Соврал.
— Зачем? Лги только в крайности, ради жизни спасения…
Головин помолчал и еще спросил:
— Чего за столом рассмеялся?
— У боярыни зайчики в глазах прыгали… Такие веселые!
— Бойся женских глаз, отрок. Почему одной каши спросил?
— А я поросенка не люблю: он на ребенка похож.
— Так. «Будь умерен в пище и питии». Это хорошо. Человек выше сытости…
— Коли нечего есть, так и каши запросишь…
— Ты спросил: «Кто все это съест?» Они! — Головин повел рукой вокруг. — Нынче ради тебя и матери, почитай, две сотни людей сыты.
Рука Головина все тяжелее давила на голову Александра. Он пытался и не мог выпрямиться. Боярин придавил голову Суворова почти к коленям:
— А за то, что невежей был, вот тебе!
Александр больно стукнулся носом о свою коленку. Из носа брызнула кровь. Он вырвался из-под руки Головина и закричал.
— Ох, батюшка, — всполошился старик, — да я тебе, никак, нос разбил? Ай-ай! Враг попутал… Прости ты мне, окаянному!
Головин схватил вдруг колотушку, подбежал к окну и застучал. В то же мгновение на дворе засвистели, закричали дозорные во много голосов, застучали колотушки, затрещали трещотки, затрубили рожки, забунчала чугунная доска.
Головин, повалив пюпитр с книгой, упал в кресло, закатив глаза. Свеча погасла. Светила теперь одна лампада в углу.
Александр испугался, кинулся к одной двери, к другой, но обе они оказались запертыми снаружи. Напрасно мальчик бил в двери ногами и кулаками. Никто не отзывался. Да и нельзя было услышать беспомощный стук средь грохота, гама и звона со двора.
Александр увидел, что убежать нет возможности. Он подошел к Головину. Боярин лежал в кресле с закрытыми глазами и, казалось, заснул.
Шум на дворе постепенно затихал и наконец прекратился. Александр поставил пюпитр, поднял книгу и положил на место, затеплил от лампады свечу и прикапал ее на место к пюпитру.
Осторожно Александр открыл книгу, стоя рядом с креслом, и радостно вскрикнул: об этой книге он мечтал, из нее много ему рассказывал отец, но нигде не мог достать, хотя и обещал давно. Книга Квинта Курция о делах содеянных Александра Великого, царя Македонского, переведена повелением Царского Величества с латинского языка на российский лета 1709-го и напечтана в Москве в 1711 году в декабре месяце.
Боярин, пробужденный от забытья радостным восклицанием Суворова, ласково положил ему руку на плечо и спросил:
— Здорово я тебе нос разбил?
— Ничего, ничего, сударь!.. Какая у вас книга!
— Сию книгу я читаю, когда мне не спится. Вот погоди…
Дрожащей рукой Головин открыл двадцать первую страницу и начал читать вслух:
— «…Александр мнози филозофы и риторы встречают, кроме Диогена, который тогда был в Коринфе, и Александра ни во что вменяя, в бочке живяше: удивлялся же ему Александр при солнце сидящему, прииде и вопроси, чего требует. Он же рече: «Требую, да того от меня не отъимеши, чего мне дать не можеше». Которым ответом Александр весьма утешился и, ко своим обратися, рече: «Хотел бы аз быти Диоген, аще не бы Александр был». И, паки обратясь к Диогену, Александр вопросил: «Неужто не могу ничего тебе дати?» Диоген ответствовал тако: «Усторонись несколько и не застанавливай мне солнце…»
Положив руку на страницу, Головин спросил:
— А ты кем бы хотел быть: Александром Великим или Диогеном? Что тебе сходнее?
Александр живо ответил:
— Диоген не мог стать Александром, сударь!
— Ну, а тот?
— Быв Александром Великим, стать Диогеном — нищим! После великих почестей и славы поселиться в собачьей конуре!
Головин засмеялся:
— Да, милый, такого не бывало… Вот слушай еще! — Головин перевернул несколько страниц.
— Давайте я буду читать, — сказал Александр, — а вы слушайте.
Головин согласился. Александр начал читать вслух и забыл все, что было кругом. Хозяин иногда забывался и дремал. Тогда Александр повышал голос. Головин испуганно открывал глаза, вскакивал с кресел, хватал колотушку и подбегал с ней к окну, неистово стуча. Со двора сейчас же отзывались свистом. Трещотки, колотушки, рожки, звон колокола, стук в чугунное било не смолкали несколько минут. Затем наступала тишина.
— Читай дальше! — приказывал боярин.
Александр читал все тише и тише. Головин наконец захрапел. Свеча догорала, и, хотя на столике лежало несколько запасных свечей, Александр закрыл книгу, улегся на пышной постели из сена, приготовленной для боярина. Свеча мигнула и погасла. Громко храпел хозяин. Должно быть, заснула и стража на дворе: стук и гром больше не повторялись. Заснул и Александр.
Село Семеновское
Авдотья Федосеевна возвратилась от Головиных совсем расстроенная. Боярин Василий Васильевич совсем из ума выжил, невесть что творит и не только не застращал Александра тягостями военной службы, а, наоборот, подарил ему любимую свою книгу Квинта Курция и, даря, говорил:
— Попытай быть и Александром Великим и мудрым Диогеном. Попытай!
Вася Головин простился с Суворовым в слезах и в минуту расставанья все просил отца, чтобы он и его записал в Семеновский полк солдатом.
— Ладно, — утешил он Васю, — лишь вырастешь до Суворова, запишу. Ну-ка, померяйтесь.
Александр и Вася стали затылками друг к другу. Семилетнему Васе (он, правда, старался вытянуть насколько можно шею) оставалось расти до Александра не более вершка. И опять Авдотья Федосеевна обиделась за свое хилое детище.
— Быть тебе в полку, — сказала она сыну, — в двенадцатой роте, левофланговым.
— Зато у нас в первой роте на правом фланге Прошка Великан, — ответил Александр.
Давно в усадьбе Головиных не видали боярина в таком добром духе: он сам вышел провожать гостей до нового парадного подъезда и вел под руку Авдотью Федосеевну. За ними шла хозяйка, ведя по одну руку Васю, а по другую шел Александр с книгой Курция под мышкой.
Слуги в парадных кафтанах выстроились в два длинных ряда от выходных дверей до суворовского убогого возка с лубяным верхом. Доведя Авдотью Федосеевну до экипажа, Головин сам подсадил ее в повозку.
Тройка побежала. Двадцать конных егерей в польских красных кунтушах, расшитых шнурами, в синих рейтузах и в сапогах с огромными медными шпорами поскакали за тройкой по два в ряд: им было приказано проводить гостей до пограничного столба головинских владений.
Всю дорогу домой Авдотья Федосеевна не сказала сыну ни одного слова. Александр, раскрыв книгу Квинта Курция, начал читать ее с того места, где остановился ночью, усыпив чтением боярина.
Ветер перелистывал страницы…
Когда открылась в долине замшелая крыша суворовской усадьбы, Авдотья Федосеевна вздохнула, потянулась к сыну, сжала ладонями его лицо и поцеловала:
— Бедненький мой солдатик!..
Начали собираться на зиму в Москву — учиться Александру «указным наукам» в деревне не у кого, да и книг нужных не достать.
На дверях амбаров и кладовок повисли большие калачи замков и восковые печати. Дядька Александра, Мироныч, — его не брали в Москву — с горя загулял и был наказан на конюшне.
Вперед отправился небольшой обоз с запасами: мукой, крупой, соленьями, медом и яблоками. За последней телегой плясал на привязи, косясь кровавым глазом, любимый жеребчик Александра, Шермак…
День спустя в Москву покатили на двух тройках и Суворовы: отец с сыном на одной, мать с дочерью на второй. Книги, увязанные в рогожу, лежали у Александра в ногах.
Морозным ранним утром Суворовы въехали в Москву. Столица встретила их колокольным звоном, криком и мельканьем галочьих стай. Близ Никитских ворот, невдалеке от городского дома, Суворовы нагнали свой деревенский обоз.
Александр первым выскочил из возка. Отец и мать захлопотались с разгрузкой возов и не скоро хватились сына.
— Где он? — всполошилась мать.
Ей доложили, что Александр отвязал Шермака, вскочил на неоседланного коня и ускакал неведомо куда. Родители, привычные к выходкам быстронравного сына, не очень обеспокоились. Мать безнадежно махнула рукой.
Александр, проскакав во весь опор мимо Кремля, городом вынесся в улицу села Покровского. За селом открылось Семеновское поле. Александр придержал Шермака и пустил его шагом. Эти московские места были до сей поры мало знакомы Александру, но его то и дело обгоняли верхами в сопровождении рейткнехтов[14] офицеры, а он обгонял военные повозки, караульные команды. Дороги не приходилось спрашивать: все стремились к одному месту — к большому, вытоптанному солдатскими сапогами плацу среди огородов и рощ. Оттуда слышались взвизги флейт, рокот барабанов. На плацу шло учение. Покрикивали командиры. Солдаты маршировали, выкидывали ружьями артикул.[15]
В обстроенном длинными магазинами квадрате полкового двора рядами стояли с поднятыми вверх дышлами полковые ящики: белые — палаточные; голубые — церковные, с крылатыми ангелочками по бокам; казначейский — желтый, на нем изображен рог изобилия, из коего сыплются золотые деньги; красный — патронный, на нем изображена пороховая бочка; аптечный — синий, с нарисованными на нем банками лекарств; артиллерийский — огненного цвета, с пылающими гранатами и громовыми стрелами; канцелярский — белый, с синими полосами, с изображением книги, а на ней чернильницы с воткнутым в нее гусиным пером. Далее виднелись белые с зеленым провиантские фуры с изображенным на боках золотым рогом изобилия, обвитым пышными колосьями. Извозчики, солдаты нестроевой роты, у длинных коновязей чистили рослых лошадей. У черной кузницы с пылающим горном ковали в станках коней.
В штабе
Александр налюбовался досыта ящиками, фурами, конями и направил Шермака к двухэтажному дому, угадав в нем полковую съезжую избу.
К этому дому то и дело подъезжали на конях офицеры и, бросив поводья денщикам, вбегали в раскрытую настежь дверь. Александр привязал Шермака к окованному железом (чтобы не грызли кони) бревну и вошел в избу. В сенях, в полной амуниции, двое караульных солдат сидели, верхом по концам скамейки, лицом один к другому. Середина скамейки расчерчена шашачницей. Караульные играли в шашки.
— Стой, малый! — взглянув на Александра, сказал первый караульный. — Куда лезешь? Зачем? Кто таков?
— Александр Суворов, недоросль, записан в полк солдатом. Явился определиться.
Караульный задумался над ходом. Александр хотел идти наверх по лестнице. Второй караульный, тоже глядя на доску, сказал:
— Погоди! Наверх нельзя — там штапы присутствуют.
— Да ведь мне туда и надо!
— Погоди, говорю! Сказано, нельзя! — Караульный сделал ход и тут же горестно ахнул: — Ах ты, язви тебя!
— Фук, да и в дамки! — воскликнул противник, стукнув шашкой по доске. — Гони денежку.
Выкинув из кармана медяк, караульный подманил Александра и, взяв его за ухо, сказал:
— Чего ты пристал? Вот я из-за тебя проиграл денежку. Чего тебе надо? Пошел вон! — И, ухватив его за ухо, солдат, поведя рукой, указал Суворову дверь наружу.
— Пусти ухо! — закричал Суворов. — Я сам солдат!
— Оставь малого! Чего ему ухо крутишь? — ставя шашки, сказал второй караульный. — Тебе ходить.
Караульный выпустил ухо Александра, повернулся к доске и сделал ход.
Александр больше не раздумывал — кинулся вверх по лестнице, скача через три ступеньки разом.
— Держи его! Держи! — крикнул, стукнув шашкой по доске, первый караульный.
— Держи его, держи! — подхватил второй, не подымая головы от доски.
Наверху Александр очутился в большой комнате, заставленной канцелярскими столами. Над одним столом сгрудилось несколько писарей, сдвинувшись головами. Так бывает в осенний день, если бросить окуням в пруд корку хлеба: собравшись стайкой головами к хлебу, окуни до той поры не разойдутся, пока до крошки не уничтожат хлеб. У каждого писаря за ухом торчало гусиное перо, свежеочиненное, еще не замаранное чернилами. Писаря навалились на стол, о чем-то шептались, порой давясь смехом.
Из соседней комнаты, куда вела плотно затворенная дверь, слышались громкие голоса, прерываемые взрывами веселого хохота.
Одиноко за столом у окна сидел старый писарь с головой, покрытой густой седой щеткой подстриженных бобриком волос. В зубах писарь держал гусиное перо и, одним пальцем осторожно прикасаясь к косточкам, словно боясь обжечься, клал на счетах. Старичок взглянул на Александра исподлобья. Суворов, сняв шапку, поклонился учтиво:
— Здравствуйте, сударь!
Старик кивнул. Вынув изо рта перо, обмакнул его в чернила, написал что-то в тетради и с насмешливой, непонятной Александру угрозой сказал:
— Здравствуйте, здравствуйте, сударь!
Затем старик, воткнув перо в стакан с дробью, достал из кармана табакерку, задал в обе ноздри порядочную порцию табаку и, держа наготове раскрытый платок, блаженно зажмурился.
— Апчхи! — громогласно чихнул старик в подставленный платок.
— Будьте здоровы, сударь! — сказал Александр, кланяясь.
— Здравия желаем, Акинф Петрович! — хором отозвались все писаря, не подымая голов.
Старик вытер нос и поманил к себе Александра.
— Что надо? Кто таков?
Александр объяснил, кто он и что ему надо.
— Так ведь ты, милый, записан сверх комплекта, без жалованья, и отпущен к родителям для обучения указным наукам на два года…
— Я хочу быть в полку.
— Мало ли чего ты еще захочешь! Ростом не вышел… Иванов! В какую роту зачислен недоросль Александр Суворов?
Один из писарей, чуть подняв голову, через плечо ответил:
— Осьмую…
— Так. Ступай-ка, милый, домой. Где живешь? У Никитских ворот? Эка! Ты через всю Москву драл. На коне? Ну, садись на своего коня и скачи домой. Наверное, мамаша по тебе плачет.
— Я хочу быть при полку.
— Придет пора — и в полк возьмут…
— А где же мне учиться?
— Если учиться, ступай в полковую школу. Как раз она при восьмой роте. Поди спроси съезжую избу осьмой роты. Там тебе все объяснят толком.
Александр хотел идти.
— Постой-ка! — остановил его старик. — Да у тебя есть в полку рука?
— Есть… Премьер-майор Соковнин Никита, моего батюшки приятель…
— Соковнин? Премьер-майор? — воскликнул старик, встав с табурета.
Все писаря вдруг поднялись от стола, вытянулись в струнку и повернулись к Александру.
Старик встал из-за стола, заложив за ухо перо, одернулся, подошел к закрытой двери и стукнул в нее, приклонив голову.
Смех и говор за дверью утихли. Старик приоткрыл дверь, протеснился туда бочком.
Писаря расселись по табуретам за столами, зашуршали бумагами, заскрипели перьями.
Половинка двери распахнулась, Акинф Петрович, выйдя, крикнул торжественно:
— Солдат Суворов, к премьер-майору…
Он пропустил Александра, закрыл за ним дверь и погрозил пальцем писарям.
В большой комнате, куда вошел Александр, облаком плавал трубочный дым. В углу, одетые в чехлы, стояли в стойке четыре знамени.
Прямо от входа, за большим столом, крытым зеленым сукном, сидел прямой и статный офицер, затянутый в мундир. Вокруг стола, в расстегнутых мундирах, молодежь покуривала трубки.
— Здорово, богатырь! — улыбаясь Александру глазами, молвил Соковнин.
— Здравствуйте, сударь! — ответил, кланяясь, Александр.
Все рассмеялись.
— Не так, не так отвечаешь! — поправил Соковнин, разглядывая Александра. — Надо стоять прямо и отвечать: «Здравия желаю, ваше высокородие!» Как здоровье батюшки?
— Очень хорошо. И вам того же желаем, ваше высокородие! — вытягиваясь, ответил Александр.
Соковнин улыбнулся:
— Вижу, из тебя выйдет бравый солдат. Поди ко мне ближе. Это Василий Иванович тебя в полк послал?
— Нет, я сам, господин премьер-майор.
— Давно ли в Москву возвратились?
— Сегодня утром, сударь.
— Вот как! И ты прямо в полк явился? Достойно похвалы. Чего ж ты хочешь?
— Нести службу ее величества, господин премьер-майор.
— Так тебе ж, красавец, надо сначала учиться. Если хочешь, я тебя велю записать в полковую школу… Акинф Петрович! — крикнул Соковнин.
На зов его вошел старик. Он стоял у двери навытяжку.
— Вели записать солдата Суворова в полковую школу, в солдатский класс. Да погоди-ка. Ганнибал Абрам Петрович сказывал мне, что ты, Суворов, горазд в науках. Уж не записать ли тебя прямо в инженерный класс?
— Нет, сударь, сначала в солдатский класс.
— Быть по-твоему. Там и сверстники твои сидят. А теперь ступай домой.
— А сейчас в школу нельзя?
— Сейчас? Ну что ж, охота пуще неволи. Акинф Петрович, вели его проводить в школу…
— Конь у меня, — вспомнил Александр.
— Ты на коне? Коня поставь в денник.[16] Акинф Петрович, распорядись. Прощай, солдат! Служи, учись!
Александр поклонился.
— Говори: «Счастливо оставаться», — шепнул Александру Акинф Петрович.
— Счастливо оставаться, господин премьер-майор!
Соковнин кивком отпустил Александра.
После его выхода из присутствия там снова поднялись смех и говор.
В канцелярии Акинф Петрович приказал:
— Иванов!
— Есть!
— Отведи солдата Суворова в полковую школу, в солдатский класс. Скажи Бухгольцу — Соковнин приказал. Коня Суворова поставить в денник гренадерской роты. Дать овса. Вычистить. Осмотреть подковы.
— Он у меня не кован, — сказал Александр. — Из деревни…
— Не кован — подковать.
— Слушаю. Идем.
Писарь взял Александра за руку и повел из канцелярии вниз.
Караульные в сенях по-прежнему бились в шашки. Увидев Александра, первый караульный сказал:
— Ага! Что я тебе говорил: наверх не ходить… Вот тебя сейчас и взгреют.
Писарь на ходу крикнул:
— Евонный родитель премьер-майору друг и приятель…
— Вот те на! — воскликнул второй караульный. — Так ты ему, милый, не сказал, чаю, что я тебя за ухо драл?
— Сказал, — не останавливаясь, ответил Александр.
— Так! Стало быть, не тебя, а меня взгреют! — И, оборотясь к доске, караульный прибавил: — Тебе ходить.
На дворе Александр показал писарю Шермака. Некормленный конь грыз железную обивку коновязи, «тебенюя» копытом.
— Вели, дяденька, напоить коня. Я его прямо с ходу взял…
— Ладно. Чего ты ездишь на неоседланном коне? Без седла и коню и всаднику тяжелей. Эх ты, деревня! Идем!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Полковая школа
Полковая школа, куда писарь привел Александра Суворова, помещалась в новой просторной двухэтажной избе.
Писарь ввел Александра прямо в солдатский класс, где шел урок арифметики. Александр увидел перед собой несколько некрашеных длинных столов; за столами на скамьях сидели ученики. Тут были и мальчики в вольных платьях и взрослые солдаты. Ученики скрипели грифелями по аспидной доске. Меж столов расхаживал учитель в зеленом мундире. Размахивая ферулой,[17] он диктовал задачу:
— Биль три бочка, полный вина. Один из них пустой. Две полный. Один тридцать ведра. Второй пятнадцать ведра. Третий десять ведра. Написаль? Десять ведра третий бочка. Написаль? Пустой бочка биль тридцать ведра. Так… Ты зашем пришель? — ткнув писаря в грудь ферулой, спросил учитель.
— По приказанию господина премьер-майора Соковнина пришел определить в школу солдата Суворова.
Учитель легонько ударил Суворова ферулой по темени и воскликнул:
— O dummer Kerl![18] Какой ты есть зольдат?
— Gewiss, ich bin ein Soldat![19]
— Um Gottes willen! Er spricht deutscn![20]
— Nicht viel, mein geehrter Herr![21]
— О, карош малшишка! Где тебе сесть? Ты такой малый. Сдесь!
Учитель указал ферулой на одну из скамей.
Взглянув туда, Александр радостно воскликнул:
— Прошка! Дубасов!
— Кому Прошка, а тебе еще Прохор Иванович, — буркнул густым басом огромный солдат.
Он подвинулся на скамье, чтобы дать Александру место. Суворов сел между ним и его розовощеким, упитанным соседом.
Схватив Прошку за руку, Суворов пытался ее пожать.
— Смотри не раздави, — усмехнулся Прошка, не отнимая железной руки.
— Так вы суть камраден?! — воскликнул учитель.
— Stimmt![22] — ответил Прошка, опускаясь рядом с Александром на скамью.
— Марш! — махнул учитель в сторону писаря ферулой. — Дубасов!
Дубасов встал.
— И ты, Сувор! Всталь!
Суворов молча встал вместе с Прошкой. Он был ему едва по пояс. Все ученики оборотились в сторону Суворова и Дубасова.
— Сувор! Всталь auf der Bank.[23]
Александр вскочил на скамью.
В классе раздались смешки: теперь голова Александра оказалась чуть выше плеча Прошки Дубасова.
— Все еще не хваталь! — причмокнул, пожалев, учитель, становясь перед Дубасовым. — Смотрель, киндер! Этот — высокий, и этот — низкий. Этот чердак очень высоко. Чердак хозяин никогда не ставиль хороший мебель. Разный хлам. Пустой…
Учитель потянулся и постучал ферулой по лбу Прошки, приговаривая:
— Бум! Бум! Бум! Пустой, как винный бочка.
Среди учеников несколько человек угодливо засмеялись. Особенно старательно смеялся визгливым голоском розовощекий сосед Суворова справа — парень лет пятнадцати, одетый богато, с кисейными брыжами на рукавах кафтана. Дубасов молча исподлобья смотрел на учителя. Бухгольц продолжал, издеваясь:
— Он был Берлин, был Потсдам. Он видел кайзер Фридрих-Вильгельм der Grosse[24] теперь кайзер там, — учитель показал линейкой вниз, — темный, сырой могил…
— А как же арифметика? — спросил Александр.
— Ага! Хорошо! Я буду повторять задач… Один хозяин имель три бочка, полный вина, один из них пустой. Он не имель мерка и захотель выпить пять ведер вина.
— Одному не выпить! — вставил Александр.
— Halt dein Maul![25] — Бухгольц подумал и прибавил: — Он будет приглашать друзей и с ними выпиваль.
— Sie werden begossen,[26] — возразил Александр.
— Halt die Schautze![27] — рявкнул Бухгольц, хлопнув по столу ферулой.
Он повторил условие задачи и прибавил:
— Очень простой задач. Если первый будет решить Дубас, Сувор получиль удар. Если Сувор решиль первый, получиль удар — о, не первый и не последний удар! — получиль Дубас. Все поняль?
— Поняли! Поняли! — хором закричали и маленькие и взрослые ученики, поняв главное: что задачу никому, кроме Дубасова и Суворова, не придется решать.
Розовощекий сосед Суворова плюнул на свою доску, стер с нее раньше написанное кисейной брыжей рукава и подсунул доску и грифель Александру.
— Скоро кончаль урок. Решать шустро, быстро! — приказал Бухгольц.
Дубасов заслонил громадной рукой свою доску от Александра и, наморщив лоб, приставил грифель к кончику носа. Александр на одолженной ему товарищем доске что-то начертил и подвинул доску соседу. Тот увидел нарисованного на доске поросенка с хвостиком, закрученным винтом. Внизу подписано: «Это ты».
Бухгольц, не обращая внимания на учеников, ходил перед столами по классу, размахивая ферулой и напевая себе под нос марш.
Стерев поросенка, сосед прошептал Александру:
— Рачьи буркалы! — и написал: «А ты рак».
Александр приписал две буквы спереди к слову «рак» и придвинул доску обратно.
Заметив эти проделки, Бухгольц крикнул:
— Юсупов Сергиус, не смель помогать Сувор! Он решаль сам!
Подобными развлечениями коротали конец урока и прочие ученики: кто играл в «крестики», кто в «заводиловку». Один Прохор Дубасов страдал над задачей и, вздыхая, ворочаясь на скамье, то озарялся, то мрачнел. Вся доска была у него исписана сложением и вычитанием одних и тех же цифр.
На дворе проиграл рожок, что обозначало конец урока.
Бухгольц первого спросил Дубасова:
— Что будем услыхать от вас, большой Дубасов?
— Чуть-чуть не решил, да тут горнист заиграл.
— О! Я говориль: высокий чердак плохо меблирт.[28] Ну, что ты скажешь, умный малютка? Я вижу несколько минут, ты уже имеешь результат.
Александр ответил.
— Нет, я не решил. И не думал решать…
— Что? Как ты смель?
— Невыгодно, сударь. Вы сказали: если я решу — быть биту Дубасову?
— Сказаль.
— А если он решит, быть биту мне?
— Сказаль.
— Так нам лучше обоим не решать: и бить некого…
Бухгольц в изумлении раскрыл рот, лицо его побагровело. Все ученики притаились и ждали, что учитель обрушится на новичка и примется колотить его по чем попало ферулой.
Вместо того Бухгольц вдруг расхохотался, хлопнув себя по лбу:
— О! Какой ты есть глупец, Иоганн!
Он легонько ударил Суворова по темени и ушел из класса сконфуженный.
Ученики окружили Дубасова и Суворова. Одни смеялись над Дубасовым, другие говорили, что новичок и сам ни за что бы не решил задачки. Особенно наскакивал сосед Суворова, Сергей Юсупов.
— Вперил рачьи буркалы! — кричал Юсупов. — Явно врешь — где тебе решить?
— Решу!
— Давай на спор?
— Кто спорит, тот гроша не стоит!
— Хвачу тебя раз — из тебя дух вон!
— А я об тебя и рук марать не стану!
— Ребята, расступись! — раздвигая учеников руками, сказал Дубасов. — Дай простор! Ну-ка, Саша, умой его.
Александр нагнулся быком, с силой ударил Юсупова в грудь головой и «смазал» по скулам справа и слева.
Юсупов повалился на пол.
— Вставай, князенька-красавец, — сказал Дубасов. — Ну-ка, еще разок!
Юсупов едва вскочил на ноги, как Суворов на него снова налетел, на этот раз неудачно: Юсупов прикрыл грудь левым кулаком, а правым ударил Суворова в зубы. Александр устоял на ногах и тычком расквасил Сергею нос. Они схватились снова и, ничего уже не видя, тузили друг друга. Товарищи поощряли их криками и свистом. Юсупов, отступая от наскоков Александра, изловчился, ударил Александра по виску. Из глаз Суворова посыпались искры. Он упал.
Внезапно настала тишина. Чья-то сильная рука подняла Суворова с пола и поставила на ноги. Александр открыл глаза. Ученики разбежались по углам, а перед собой Александр увидел отца, одетого в Преображенский мундир, и рядом с ним — премьер-майора Соковнина. Из-за их спин выглядывал Бухгольц.
— Что вы тут творите? — грозно крикнул Соковнин.
— Задачку решаем, ваше высокородие! — ответил Дубасов, поддерживая Александра.
Тот едва стоял на ногах.
— Кто с ним дрался?
— Красавец, выходи! — крикнул Дубасов. — Нечего за чужой спиной прятаться…
Сергей Юсупов вышел вперед.
— Хороши!
У Суворова под распухшим глазом светился огромный фонарь. У Юсупова был расквашен нос.
— Юсупов! В холодную. На трое суток. На хлеб-воду. Ступай!
Юсупов твердо ответил:
— Слушаю, господин премьер-майор!
— Суворов, ступай с отцом! Он с тобой сам сделает, что надо…
Соковнин повернулся и вышел. Отец схватил Александра за руку и подзатыльником указал ему дорогу к двери.
— И ты, Прохор, хорош — не мог сдержать мальцов! — попрекнул Дубасова Василий Иванович.
— Никак нельзя, ваше благородие: задачку надо было решать.
За дверями школы Александр увидел двух коней: своего Шермака и отцовского гнедого. Их держал на поводу семеновский гренадер. До блеска вычищенный Шермак, под новым гренадерским седлом, с чепраком нетерпеливо переступал ногами, недовольный тем, что копыта отяжелели — его успели подковать полковые кузнецы.
В молчании Суворовы возвращались домой верхами. Только у Никитских ворот отец оглянулся на Александра и с усмешкой спросил:
— Трудна была задача?
— Нет, батюшка, легка.
— Решил?
— Решил.
— А первое сражение выиграл или проиграл?
— Выиграл, батюшка, хотя с уроном, — ответил Александр, щупая опухший глаз.
— Что же мне теперь сделать с тобой?
— Равна вина, равно и наказание, батюшка.
— В холодную на хлеб, на воду на три дня?
— Да, батюшка.
— Что-то мать скажет! Ведь это она меня заставила тебя искать. Часу не хотела вытерпеть… Угадала, что ты в полк поскакал…
Не входя в дом, Василий Иванович отомкнул холодный чулан, запер там Александра и отправился к Авдотье Федосеевне с докладом.
Мать возмутилась, вырвала ключ от чулана из рук Василия Ивановича и кинулась освобождать сына.
Василий Иванович велел ей захватить для Александра «Римскую историю».
Александр наотрез отказался выйти из чулана. Мать попробовала вывести его силой. Александр упирался. Она его сгребла и хотела вынести на руках. Александр так яростно отбивался, что мать отступилась, захлопнула чулан, замкнула и ушла, крикнув:
— Замерзнешь — сам проситься станешь! Тогда не выпущу, проси не проси!
— Матушка! Как же я могу выйти? Сергей-то Юсупов в полку на съезжей в холодной сидит.
— Да что тебе Юсупов — брат? Он тебе глаз разбил.
— Брат! Я ему нос расквасил!
— Ну, коли так, сиди же! Ноги-то, поди, застыли. Погоди-ка!
Мать ушла и возвратилась с валенками:
— Сейчас же переобуйся!
Александр покосился на валенки и не шевельнулся. Мать обняла Александра и, тормоша его, говорила:
— Да в кого же ты у меня такой настойчивый вырос?
— В тебя, матушка! — ответил Александр.
Мать задвинула засов и нарочно гремела замком, запирая чулан.
При скудном свете осеннего дня Александр читал:
«Юношество римское, как скоро оно будет в способности к военной службе, научилось воинскому искусству, привыкая в стане своем к трудам самым жестоким. Прилежало оно не к пиров учреждению, но к имению хорошего оружия и добрых коней. Чего ради никакие трудности не устрашали сих людей, никакой неприятель не приводил их в робость, — бодрость и храбрость их все преодолевали…»
Уже кончался краткий день, настали сумерки, и в чулане сделалось темно. Ноги и руки Александра коченели. В сенях послышались голоса. Засов загремел. Дверь распахнулась. Перед Александром стояла мать с горящей свечой в руке, а рядом с ней Прошка Великан.
— Ну-ка, вылазь! — приказал Прошка. — Полно баловаться. Соковнин велел сержанта Юсупова из холодной выпустить…
Александр, обрадованный, закричал петухом, обнял мать и потащил ее за руку в комнаты.
— И книгу забыл? То-то! — попрекнула Авдотья Федосеевна.
Прошка захватил книгу, взвесил ее на руке и сказал:
— Поп читает, кузнец кует, а солдат службу правит…
В задней каморке у кухни Александр прижался к печке, согреваясь. На столе было приготовлено угощение. Авдотья Федосеевна усадила Прошку за стол и начала потчевать.
— Садись и ты! — пригласил Александра Дубасов. — Глотни винца, скорее согреешься.
— Неужто Юсупов — сержант? — спросил Александр.
— Сержант в брыжах. Да ты не завидуй! Кто в чин вошел лисой, тот в чине будет волком… За ваше здоровье, сударыня Авдотья Федосеевна!
— Кушай, Прохор Иванович, на доброе здоровье. Уж как ты меня обрадовал, что Сашеньку вызволил!
— А как же? Служить — так не картавить, а картавить — так не служить. Я думаю: как же это так? Соковнин сержанта выпустил, а мой товарищ в холодной сидит?!
— Да как же ты догадался?
— Птице — крылья, человеку — разум. Боярин Василий Иванович человек справедливый. Думаю, что он сынка не помилует, и верно; равен грех, равна и кара. Отпросился: пойду-ка обрадую боярыню.
— Спасибо, Прохор Иванович. Кушай!
— Ох, крепка!
— А ты ее рыжичком, груздочком… Трудно будет Сашеньке в солдатах…
— Что делать, матушка! Солдат — казенный человек: где прыжком, где бочком, где ползком, а где и на карачках.
Александр слушал захмелевшего Дубасова впросонках. Голова Александра клонилась к столу: одолевала дрема. Он клюнул носом. Прохор встал, поднял его на руки и понес в постель.
На действительной службе
1 января 1748 года явился в Санкт-Петербург из шестилетнего отпуска капрал восьмой роты лейб-гвардии Семеновского полка Александр Суворов. В Петербург полк перешел из Москвы в 1744 году. Суворов ехал в столицу на почтовых, а вперед был послан отцом Александра небольшой обоз с запасами и конь Суворова, Шермак, под присмотром двух хлопцев — парней из крепостных крестьян.
В это время командир полка Степан Федорович Апраксин целиком переложил бремя полкового хозяйства на премьер-майора Соковнина, которому и раньше очень доверял, проча его себе в преемники. Сам Апраксин, ведя широкое знакомство при дворе, метил выше.
Соковнину подали для подписи приказ о зачислении явившегося из отпуска Александра Суворова в третью роту. Премьер-майор вспомнил Суворова и пожелал его видеть. Ординарец пригласил Суворова в штабное присутствие.
Суворов вошел в кабинет премьер-майора и стрелкой стал у двери. Соковнин оглядел его со вниманием и усмехнулся:
— Здравствуй, Суворов! А ты почти не вырос за четыре года.
— Вырасту в полку сразу, ваше превосходительство.
— Зови меня по имени. Где это тебе мундир пригоняли?
— В солдатской швальне,[29] в Москве, господин премьер-майор.
— Неказисто. Что же, батюшка твой не пожелал заказать сыну первый мундир приватно?
— Одет, как все, Никита Федорович, лучше не надо.
— Скупенек Василий Иванович, скупенек! Как же он здравствует?
— Благодарствуйте, сударь. Батюшка в хорошем здоровье, приказали низко кланяться и вам желают доброго здоровья.
— Он в той же все службе? Прокурором?
— Так точно, сударь. Прокурором генерал берг-директориума.
— В строй не собирается вернуться?
— Службой доволен.
— И им довольны, хотя и не все. Казну бережет. Даже Сенат растревожил своими донесениями. В Питере начали говорить: Суворова-де надо поднять выше, чтобы меньше видел. Отпиши батюшке, что его ждет повышение. Растревожил он осиное гнездо. Ну, а как матушка твоя, Авдотья Федосеевна, здравствует?
— Матушка скончалась… После рождения младшей сестрицы моей, Машеньки.
— Вот горе какое! Не дождалась видеть тебя в офицерском чине.
— Ей горе было бы видеть меня и в сей амуниции, сударь.
— Проходил в отпуске указные науки?
— Да, сударь. После отбытия школы с полком в Санкт-Петербург занимался дома с родителем геометрией планов, тригонометрией, географией, фортификацией, инженерией.
— А из языков?
— Читаю по-немецки и несколько говорю по-французски.
— Где же ты все это успел?
— Два года в школе, сударь. По-французски у Лебонне, по-немецки — с Бухгольцем. А затем сам по книгам и с товарищами.
— А! — вспомнил Соковнин. — Бухгольц. Помню, как ты решал с ним задачку. В арифметике-то он был слаб. Ну, а языку своему мог научить… конечно… Спился он и умер прошлой осенью… Что же, и здесь будешь ходить в школу?
— Нет, сударь, мне надлежит пройти строй.
— Правда, школа здесь у нас теперь — это и тебе видно будет — плоха. Я проектирую при полку школу для солдатских детей. Откроется — назначу тебя кондуктором.[30] Пойдешь в учителя?
— Если служба позволит, господин премьер-майор.
— Солдатский сын каждый должен, так я разумею, и сам стать к возрасту солдатом. Нашему отечеству, России, нужна великая армия.
— Великое число из единиц составляется, сударь. Малое число, да из крупных единиц, больше, чем великое из малых.
— Да ты, батюшка, гляжу я, философ! Хлебнул из кладезя премудрости?
— Да, сударь, несколько читал.
— Много прочитал?
— Читал Вольфа, Лейбница, Руссо, Монтеня, Бейля, Монтескье.
По лицу Соковнина пробежала тень смущения: из перечисленных Суворовым имен философов едва ли не все он слышал в первый раз из уст своего унтер-офицера.
— Что же говорят эти мудрецы? Чаю, среди них есть и вольнодумцы? — с насмешкой молвил Соковнин.
До сих пор краткий и отрывистый в ответах, Суворов заговорил о философии так пылко, что Соковнин, несколько напуганный, остановил его движением руки:
— Довольно, друг мой, довольно! Поменьше философии, побольше практики… Танцевать умеешь?
— Люблю попрыгать, — ответил Суворов.
— Ну хорошо. Служи. Я буду держать тебя на мушке.
— Благодарю, сударь.
— Скажи все же, чего ты хочешь для себя?
— Славы воинской и славы отечества.
— Изрядно! Где ты остановился? Сколько хлопцев отпустил с тобой родитель?
— Остановился я у дяди моего, Суворова, капитана гвардии в Преображенском полку.
— Где же будешь жить?
— Хотел бы в ротной светлице. А батюшка велел у дяди…
— Живи лучше у дяди. В полку найдешь старых знакомцев: Ергольских, Дурново, Юсупова. С ним, помню, ты знатно дрался в первый раз.
— Потом мы подружились. Только, сударь, мне с ним не по пути.
— Что так?
— Гусь свинье не товарищ. Он богат — я беден. Он князь — я служивый. Он красавец — я, сударь, видите каков.
— Ничего, служи, — закончил свои наставления премьер-майор. — Пей — не напивайся, ешь — не наедайся, вперед не вырывайся, в середину не мешайся, в хвосте не оставайся. Помни, ты у меня на мушке. Ступай!
В смутном волнении Александр вышел из полковой избы. Шермак, стоявший у коновязи, увидев хозяина, поднял голову от кормушки и радостным ржанием приветствовал Александра.
Похлопав Шермака по шее, Суворов повторил только что полученное наставление:
— «Ешь — не наедайся, пей — не напивайся…»
Приехав в Петербург ночью, Александр еще не отдохнул от качки и тряски зимней ухабистой дороги на почтовой тройке. Все плыло в глазах у Александра, и земля качалась под ногами, словно он вернулся из долгого морского путешествия.
«Вот куда я попал! Вот куда я стремился!» — говорил себе Александр, осматриваясь кругом.
День стоял безветренный, морозный. Туман затягивал дали сизой мглой. Казалось, что небо низко и вершины елей достигают облаков. Вправо на север уходила только что начатая просека Загородной перспективы. Извозчики-солдаты тянулись вереницей, вывозя на санях бревна с нового проспекта. Из лесу с разных сторон слышался стук плотничьих топоров — рубили связи для солдатских светлиц: полк только еще обстраивался в новой столице.
Из лесу поперечными просеками выходили кучки солдат с мушкетами на плече, в плащах с подобранными полами. Накануне выпал глубокий снег. Солдаты шли вразброд, утопая в сыпучем снегу. Не слышно было привычного в московской Семеновской слободе рокота барабанов с подвизгиванием флейт.
Стойкий часовой
Дядя, Александр Иванович Суворов, был холост и жил в офицерском доме — простой избе, хотя и очень обширной. Преображенский полк обосновался в Петербурге давно. Срубы домов — на московский манер: без подклетей, с шатровыми крышами — приобрели уже от непогоды благородный серый цвет старого дерева. Сосны кое-где еще уцелели вокруг, но рощи поредели, уступив место огородам и молодым садам. Прямые улицы, пробитые в направлении к Фонтанке, застроены почти сплошь домами с флигелями и надворными постройками и длинными приземистыми «магазейнами». Дальше, к северо-западу, поднимались шпили церквей и выше всех, подобно голой мачте яхты, с черным вымпелом наверху, — крепостной шпиль. Облако черного дыма на закате указывало место Литейного двора.
Квартира дяди очень напоминала и размерами, и расположением комнат, и всем устройством деревенский дом в подмосковной Суворовых. О чем только пожалел Александр — в офицерском доме не нашлось каморки под крышей. Дядя отвел Александру маленькую комнату внизу, с отдельным входом из сеней, в одно окошко. Рядом, за стеной, находилась приспешная, где помещалась вся прислуга дяди; туда же вселились и двое хлопцев Александра.
Когда Александр вернулся, дяди не было дома. Поговорив утром с племянником за чаем едва четверть часа, капитан Суворов простился с ним, отправляясь в какую-то срочную посылку, и все еще не вернулся. Племянник даже не успел разглядеть дядю. Порядков дома Александр еще не знал — готовили или нет обед и будут ли без дяди обедать. Привычное для Александра время раннего обеда давно прошло. От нечего делать, в надежде, что дядя возвратится, Александр расшил рогожный тюк с книгами и принялся их расставлять. Все на полке они не уместились и заняли еще ломберный стол и стулья.
Уже начало смеркаться — раньше, чем в Москве. Александр пожевал дорожных коржиков, запивая водой; не зажигая свечи, разделся, лег, накрывшись простыней, и уснул до утра.
Утром его разбудили задолго до света хлопцы. Топая, они внесли в комнату Александра, по обычаю, заведенному еще в Москве, большую дубовую лохань и два ведра с ледяной водой. Печь весело пылала, стрекая угольками и освещая светлицу.
Суворов снял рубашку и нагнулся над лоханью. Хлопцы сразу с двух сторон начали лить ему на спину воду. Александр, поеживаясь и кряхтя, подставлял под ледяные струи то голову, то спину, то правый бок, то левый, фыркая, мыл лицо…
— Дядюшка вернулся? — спросил Александр, кончив умываться.
— Еще ввечеру. Спрашивал про тебя и не велел будить до утреннего чаю, — доложил один из парней.
Хлопцы вынесли лохань, Александр взял со стола «Парле Франсе»[31] и, бегая кругом по комнате, чтобы согреться, принялся твердить французские слова и фразы при танцующем свете из устья печки:
— Иль фо леве, иль э бьен тан… Иль фо леве, иль э бьен тан. Тут а ку же серэ прэт а ленстан… Же серэ прэт а ленстан. Же серэ прэт а ленстан…[32]
Так продолжалось до тех пор, пока дрова в печи не превратились в груду пурпурно-золотых углей и при их свете нельзя было уже разобрать слов. Хлопец внес свечу:
— Дядюшка встать изволили и просят кушать чай…
Александр проворно оделся, вышел в «залу», а вместе с тем и столовую. Дядя сидел при свечах за столом уже в мундире и ботфортах. И сегодня дядя встретил Суворова так, как будто они всегда жили вместе, хотя вчера встретились в первый раз.
Александр Иванович Суворов — младший брат, но он показался племяннику старше отца: в поредевших волосах, гладко зачесанных назад и заплетенных в косичку, блистала седина. Взор усталый и сумрачный. Говорил он отрывисто и глухо:
— В какую роту зачислен? Видел Соковнина? В роте был? Капитану Челищеву явился?
Александр отвечал так же обрывисто и просто. Они напились чаю почти в молчании, оделись, вместе вышли. Им подали коней. Вскочив в седло, дядя и племянник, приложив руку к шляпе, поскакали в разные стороны.
С первого же дня, проведенного в роте, Александр понял, почему премьер-майор Соковнин даже в праздники с рассвета в штабе. Приходилось спешить, чтобы подтянуть Семеновский полк в уровень с другими гвардейскими полками. Надо было налаживать наново полковое хозяйство и осваивать огромное лесное болото, отведенное полку для поселения за рекой Фонтанкой. Оно простиралось, гранича восточной стороной с Песками и Невской перспективой, а с запада — с большой Московской дорогой, за которой начинались уже владения Измайловского полка.
В ротах, раскинутых по светлицам в отдельных избах на большом пространстве, только еще складывался по-новому порядок. Многие из рядовых, женатые, вроде великана Дубасова, жили в отдельных избах. Прочие солдаты ютились в плохо сколоченных из сырого леса связях, жили скученно и, терпя нужду в овощах, хворали цингой. Солдаты из дворян — а их в полку считалась половина — жили на вольных квартирах, ближе к Адмиралтейству и дворцам, а некоторые из них, побогаче, имели там целые усадьбы и жили полным домом; эти отлынивали от строя и трудных посылок, сказывались, когда надо, больными.
Хлеб пекли даже и зимой в полевых печах под навесом. Ротные котлы топились в кое-как сколоченных сараях. Провиантское ведомство давало овес, сено, муку и соль, но капусты не хватало, и приходилось думать о своих, ротных, огородах, чтобы в следующую осень не остаться совсем без капусты, и о полковых луговых угодьях — сена также не хватало для коней.
* * *
Семеновский полк состоял наполовину из дворянских недорослей, наполовину из крестьян. Дворянская часть полка делилась на две партии. Солдаты победнее примыкали к премьер-майору Соковнину; служба со всеми ее тягостями являлась для них работой, а движение по службе — сообразно заслугам и отличию — единственной жизненной дорогой. Недоросли из богатых и знатных семей — их звали в полку «красавцами» — стояли на иной позиции. Они окружали командира полка Апраксина. Им нужен был внешний блеск. Они делали карьеру не в полку, а при дворе, ревнуя к любимому полку Елизаветы Петровны — Преображенскому. Еще бы: Преображенские солдаты посадили ее на трон! Им доставался весь блеск почестей, а второй из трех полков петровской потешной гвардии — Семеновский, равный по старшинству и заслугам, — выглядел пасынком. В дворцовые и знатные караулы, на вахтпарады и разводы семеновцам, однако ж, надлежало являться хорошо одетыми, в отличной амуниции, маршировать и делать построения и выкидывать артикул ружьем не хуже прочих. Из-за этого на Семеновский плац далеко за городом, близ Скотопригонного двора, на Московской дороге по утрам скакали в сопровождении денщиков блестящие кавалеры в касках с бобрами, в богатых плащах. Тянулись возки, запряженные шестерней, с форейторами впереди, с гайдуками на запятках. На плацу, меся грязный снег сапогами, солдаты маршировали, строились, выравнивали ряды, выкидывали ружьями артикул…
Здесь, на плацу, под рокот барабанов, с тяжелым мушкетом на плече, Суворов узнал будничную, трудовую изнанку строевой жизни, которая его, мальчика, в Москве пленила своей внешнею красой.
Капралы-«красавцы» на плацу были требовательны к солдатам, кричали на учителей и били их по лицу. Учителя били в свой черед солдат. По окончании учения «красавцы» уезжали в город, солдаты возвращались в светлицы к «кашам». После обеда и краткого отдыха их ставили на неотложные работы.
Александра Суворова капитан Челищев сразу отметил как «безответного» солдата. За зиму не случилось, чтобы Суворов отказался от наряда на работу или трудной посылки. Его отправляли принимать сено на барки против Тучкова буяна, муку и крупу на Калашниковскую пристань Александро-Невского монастыря, солонину из складов Петербургской стороны.
С раннего утра до ночи Александр оставался в ротах — обедал и ужинал у солдатского котла — и возвращался на квартиру к дяде в Преображенском полку в такой усталости, что оставалось только спать. С дядей, тоже очень занятым в своем полку, Александр виделся мельком, они мало говорили между собой, встречаясь только рано утром за чаем и изредка вечером, когда удавалось ужинать вдвоем. Как-то дядя сказал:
— Брат Василий спрашивает письмом, как ты здоров, как служишь. Жалуется, что ты ему давно не пишешь.
— Я ему все разом отпишу подробно.
— Напиши не отлагая.
Суворов тут же сел к столу, сдвинул в сторону книги, очинил перо и написал отцу:
«Здоров. Служу. Учусь.
Суворов».
Привезенные из Москвы книги ни разу не раскрывались, кроме «Парле Франсе». На книге Квинта Курция о делах Александра Македонского лежал рукописный устав полевой и караульной службы.
В марте полковые штапы баллотировали отличных солдат, и Александр Суворов, прекрасно аттестованный ротным командиром, получил капральство. Это прибавило ему забот. Пришлось заботиться о своем капральстве, следить, чтобы солдаты выходили в караул хорошо одеты и на постах не засыпали. Надлежало уравнивать наряды, посылки и работы, разбирать споры молодых солдат, дрязги старых солдат с женами и ссоры солдатских жен между собой. За всем тем оставалось еще водить караулы, ставить часовых, проверять посты и пикеты в полку и в городе, то в дому полкового командира, то у графа Лестока, лейб-медика Елизаветы, и, наконец, самому стоять часовым у Зимнего дворца на Мойке, при покоях великого князя Петра Федоровича.
Приближалась весна, а Суворову еще ни разу не пришлось встретиться со сверстниками своими, записанными вместе с ним в полк в сорок втором году в Москве. Князя Сергея Юсупова Александр видел только издали, когда он приезжал на плац в карете, поставленной на полозья. В ротах ни Юсупов, ни оба князя Волконских, ни Долгорукий ни разу не попались Суворову на глаза.
Ветры с моря приносили сырое тепло. Начались дожди. Набухали почки. И даже хмурые ели стали зеленее. Под ногой в полку везде хлюпала вода, под снегом побежали ручьи. Неву взломало. Прошел ладожский лед. Комендант санкт-петербургской крепости под грохот крепостных и корабельных пушек зачерпнул невской воды серебряным ковшом и внес его в Зимний дворец.[33] Открылась навигация. Начался светлый май. Гвардия уходила в лагеря.
Семеновцы тоже рассчитывали отдохнуть на лагерном приволье от тяжкой зимы. Однако объявили, что полк останется на все лето в городском своем расположении достраиваться и будет нести все караулы в городе. Двор Елизаветы Петровны отбыл в Петергоф. Однажды семеновцев послали в караул и туда.
У всех гвардейских полков имелись на Неве свои гребные флотилии. Семеновских солдат посадили в лодки на Фонтанке. У Лоцманского островка шлюпки вышли из устья Невы.
Ветер дул с моря. В заливе зыбь порядочно качнула лодки, и солдаты вышли на берег мокрые, иззябшие, с зелеными от приступа морской болезни лицами. Прямо с берега солдат развели на посты.
Суворову пришлось стоять на часах в петергофском парке, у Монплезира, любимого павильона Петра: отсюда открывался широкий вид на море. Финский берег тонкой синей зубчатой чертой показывал, где небо отделяется от моря. Одинокая финская лайба, раскрылив серые паруса, летучей мышью неслась в устье Невы. Рыбачьи лодки пятнали белесое море черными точками.
Ветер прохватывал часового насквозь, высушивая мокрую одежду, и, хотя солнце пригревало, Александра охватил озноб. Руки стыли. Зубы выбивали барабанную дробь. Суворов хотел уже вызвать свистком подчаска и просить смены, как услыхал за поворотом дорожки говор и смех. К Монплезиру по дорожке, усыпанной красным скрипучим песком, приближалась Елизавета Петровна, затянутая в рейтузы, в ботфортах со шпорами, в белом колете[34] и офицерской шляпе. Она звонко чему-то смеялась. А за ней, несколько отстав, шли, перекоряясь и бранясь, две старухи. Ветер вздувал их широкие платья колоколами.
Суворов вытянулся и сделал мушкетом на караул. Елизавета Петровна взглянула на Суворова, расхохоталась и, остановясь, указала старухам на часового. Старухи, подойдя, продолжали спорить. Они говорили по-французски громко, не стесняясь, полагая, что часовой не может их понять. Суворов немало удивился, узнав в одной из старух лейб-медика Елизаветы, француза Лестока, а в другой — канцлера Бестужева. В этот день при дворе была объявлена любимая игра Елизаветы Петровны — «метаморфоз»,[35] и дамам приказано быть в мужском, а кавалерам — в женском платье.
— Какая милочка! — сказала Елизавета Петровна, подойдя к часовому, и потрепала его по щеке. — Обратите внимание на эту девочку в мундире… Как тебя зовут?
— Александр Суворов, ваше императорское величество…
— Да ты уж не дочка ли гвардии капитана Василия Суворова, милашка?
— Сын… Так точно!
Лесток подошел к часовому и, взяв его за перевязь на груди, обратился к Бестужеву, продолжая с ним спорить:
— Вы гневаетесь, господин великий канцлер, ибо знаете, что неправы. В России все можно купить: генерала за сто тысяч рублей, ну, а этого солдата — за рубль. Вот и вся разница.
— Ах так! — воскликнула Елизавета Петровна. — Мы сейчас это испытаем, — продолжала она по-французски. — Алексей Петрович, дай рубль взаймы. У меня только червонцы.
Бестужев поднял юбку, достал из кошелька рубль и, сделав глубокий реверанс, подал монету Елизавете.
— Ты мне понравилась, милочка, — сказала по-русски Суворову царица, — возьми рубль…
— Нет, ваше величество: устав караульной службы запрещает часовым на посту брать подарки, тем более деньги.
— Но я тебе приказываю. Ведь ты знаешь, кто я?
— Тебе, дурак, царица дарит, бери! — прибавил Лесток, хлопнув Суворова по плечу.
Александр вспыхнул, отступил на шаг и крикнул по-французски:
— Если вы, сударь, еще раз коснетесь меня рукой, я вызову караул. Часовой — лицо неприкосновенное!..
— Ого! — в изумлении воскликнул Лесток, опустив руки. — Каков маленький капрал!
— Молодец! — похвалил Бестужев.
Елизавета Петровна кинула серебряный рубль на песок, к ногам Суворова, и сказала:
— Возьми, когда снимешься с караула… Видишь, граф, и в России есть непокупное.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Соблазн
Стать литератором — эта мечта многих юных не миновала Суворова. «Разговор Герострата с Александром Великим в царстве теней» — так называлась его первая попытка влиять на людей не прямым примером своей собственной жизни, а рассказом о жизни других.
Александр раскрывал тетрадь и читал написанное им самим, как нечто новое, незнакомое, чужое:
«А в которую ночь Олимпиада родила Александра, и в ту пору сгорело преславное капище Ефесской Дианы,[36] зажженное от некоего бездельника Герострата, который, будучи пойман, в розыске, сказал: что он учинил то не для иного чего, токмо чтоб каким-нибудь делом прославиться. Тогдашние ефесские волхвы столь срамное подеяние вменили в презнаменование большого разорения и весь город жалостным воплем наполнили: зажглась где-нибудь свеча, которая со временем для такой же причины (ради славы напрасной) пламенем своим весь восток выжжет…
Герострата казнили смертью. Умер и Александр Македонский. Встретясь с ним в царстве теней, Герострат так приветствовал героя:
— Здравствуй, подражатель славы моей!
А л е к с а н д р. Какое между нами сравнение? Я — победитель вселенной. А ты человек самый презренный.
Г е р о с т р а т. Не будь горд, Александр: царствование твое миновалось, и от всего твоего величества на свете только пустой звук остался, власть твоя прешла. Здесь все в одном положении, и нет никакого разделения между царя и невольника. Тамо ты страшен был, где тебе множество народа повиновалось и жертвовало страстям твоим, а здесь лишен ты скипетра, лишен окружающих тебя льстецов, лишен боящихся тебя, и больше гнев твой никому не вреден.
А л е к с а н д р. О боги! Герострат ругается Александру!
Г е р о с т р а т. Я не знаю, для чего ты много меня унижаешь. Та ж причина понудила меня разорить Ефесский храм, которая понудила тебя опустошить всю вселенную. Оба мы основанием дел наших имели тщеславие, и оба мы живем в истории: ты разорителем вселенной, а я разорителем Ефесского храма.
А л е к с а н д р. Я искоренил гордость царей персидских и привел Грецию в безопасность!
Г е р о с т р а т. Ты искоренил гордость царей персидских, а на место оное свою восстановил. Освободив ее от чаемой напасти, ввел и в действительную напасть, которую она, тобой обманута, своею купила кровью.
А л е к с а н д р. Победители никогда игоносцами не называются.
Г е р о с т р а т. Но часто бывают. А я хотел показать, что великолепие света вдруг в ничто обращается и что все на свете суета.
А л е к с а н д р. Мне свет и поныне удивляется.
Г е р о с т р а т. Но моему великому предприятию еще больше удивляются. Слава моя ненавистью моих неприятелей не остановлена, даром что я не имел Курция…
А л е к с а н д р. Я не Курцием прославлен. Вся вселенная гремит о делах моих.
Г е р о с т р а т. И о сожжении Ефесского храма вся вселенная вспоминает…»
Александр сжег свое писание на огне свечи.
От бумаги остался хрустящий пепел… Глядя на него, Суворов в задумчивости сказал:
— Великой славе подобает и цель великая…
Прошло больше десяти дней, проведенных Александром за чтением книг и в размышлениях. Затем к Суворову явился Сергей Юсупов и рассказал, что графа Лестока арестовали и заточили в крепостной каземат. Лесток отказался принимать пищу и ничего не говорил при допросах. Его бывший адъютант Шапюзо показал, что Лесток получал деньги из Пруссии и Франции и был близок с прусским и шведским посланниками. Председателем следственной комиссии состоял Апраксин. Комиссия решила допросить Лестока с «пристрастием». На первой пытке он ни в чем не признался и под кнутом страшно ругал Бестужева.
Дом Лестока Елизавета подарила со всей утварью, обстановкой и серебром Апраксину.
Александр решил поселиться в ротной светлице, где ему приходилось иногда ночевать и раньше, будучи дежурным. О своем решении Суворов сказал командиру роты и Соковнину. Ни тот, ни другой нимало не удивились, только Соковнин заметил:
— Не было бы это тебе, Суворов, через силу.
Он только подлил масла в огонь, паливший Александра. Поселясь в роте, Суворов отказался от услуг своих хлопцев и оставил под их присмотром у дяди в Преображенском полку Шермака. Он решил твердо стать «на свои ноги». Денег, полученных от отца, у него оставалось немного: он их послал на сохранение дяде и, получив за четыре месяца солдатское жалованье, увидел, что может расходовать на себя не более трех копеек в день. По табели 1720 года ему пришлось получить медью два рубля восемьдесят пять копеек; хоть и трудно, но надо было отказаться от чая с рафинадом, к чему он пристрастился с детства в отцовском доме.
Солдатский квас — его давали вволю — заменил Суворову чай. Бессменные кислые щи и каша, черный хлеб не являлись для Александра дивом — он и раньше столовался иногда у ротного котла, — но теперь ничего другого не было. От тяжелого солдатского корма у Суворова начались желудочные боли, против которых ничего нельзя было придумать, кроме добровольного поста. Он начал худеть и записал в своей тетради плохими французскими стихами:
Je suis maigre, acharne, comme ane sans etable, Pareil en toute a un squelette veritable, Ou a une ombre rampant dans la nature des aires, Comme un navire faible, engloute par les mers.[37]— Чудит барин! — говорили между собой солдаты.
…Настала зима. Елизавета Петровна недолюбливала невскую столицу и особенно не жаловала хмурую и слякотную петербургскую зиму. Как обычно, она и в эту зиму объявила «шествие» в Москву всем своим двором. Семеновцев отправили туда же, чтобы нести дворцовые караулы. Видя, что Суворову трудно, Соковнин приказал зачислить его в московскую команду.
— Соскучился, поди? Отдохни в родительском дому… Или ты не рад?
Суворов поблагодарил, но ничем не выразил радости. Он не мог, подобно другим, ехать в Москву на почтовых. Быть может, Василий Иванович и не отказал бы сыну в этом расходе, но Александру не хотелось ни о чем просить отца. Он решил идти в Москву вместе с батальоном походным порядком.
Первый поход
Знатные морозы сковали землю и реки. Выпадали глубокие снега. Вьюги заносили малоезженый тракт. Путь батальона лежал большей частью летником, лесами, а кое-где, для сокращения пути, — зимником, по ледяной глади озер и рек.
Солдаты шли «без выкладки» — амуниция и ружья ушли вперед особым обозом. Но все же вначале батальон сохранял вид войска. Через заставу семеновцы шли строем по четыре в ряд, под барабаны и флейты, ротные командиры ехали перед ротами на конях, сержанты, капралы и унтер-офицеры находились на своих местах, под фурьерами[38] плескались пестрые значки.
После первой же дневки батальон преобразился. Батальонный, пропустив солдат, вернулся с адъютантом в карете обратно, ротные командиры, все обер- и унтер-офицеры сели в ямские возки и поскакали вперед на тройках с колокольцами. Вслед за тем солдаты достали из саней извозчичьей роты кто валенки, кто душегрейку, кто башлык, кто овчинный полушубок, кто суконные рукавицы, кто варежки. У многих на головах появились вместо треугольных шляп бараньи шапки, у кого не было шапок, те обвязались поверх шляп бабьими платками.
Извозчичья рота ушла с дневки вперед, а за нею двинулся кое-как, вразброд, батальон; роты, взводы и отделения скоро перепутались. Суворов, нахлобучив шляпу, засунул руки в узкие рукава плаща, пошел вначале быстро, чтобы согреть ноги, обутые в нагольные сапоги, и оказался далеко впереди батальона. Он обогнал батальон и шел не оглядываясь. Привыкнув с детства ездить на коне, он никогда не ходил много и не знал, что значит сыпучий снег на плохо укатанной дороге. Ноги согрелись, но в левом сапоге сбилась портянка. Следовало, хоть и мороз, переобуться. Дорога вступила в лес. Суворов огляделся. Обоз, шедший впереди батальона, скрылся, оставив на снегу глубокие следы и конский помет. И батальона за поворотом дороги не видно. Суворов сел на пенек, чтобы переобуться. Сапог заскоруз на морозе и не поддавался.
— Что, барчук, уж с копыльев сбился? — услышал Суворов над собой насмешливый вопрос.
Подняв голову, Суворов увидел незнакомого семеновского солдата с седыми усами. Глаза его дружелюбно искрились из-под насупленных бровей.
— Помоги, братец! Не могу сапог стянуть.
— Изволь. Держись крепче за пенек… Хоп!
Солдат сдернул сапог с ноги Суворова. Пока Александр перекручивал портянки, солдат мял сапог голыми руками и дышал в голенище, приговаривая:
— А я-то гляжу — отважно мальчик шагает: как бы его одного в лесу волк не съел. Чего же ты, чудак, пошел с нами и отбился. В народе теплее. Держи-ка сапожок. — Солдат подышал еще в голенище и подал сапог Суворову.
Обувшись, Александр сказал:
— Спасибо! Как тебя звать, какой роты?
— Звать меня, господин капрал, Сидоров, роты тринадцатой. Гляди, ушли мы от товарищей, а они нас с тобой настигли. Братцы, давай нам с господином капралом теплое место.
Солдаты на ходу расступились, и Сидоров с Суворовым очутились в середине. Батальон шел широкой просекой в облаке морозного пара от дыхания и табачного дыма носогреек. Шли, тесно сплотясь. В тесноте можно идти только в ногу. Само собой вышло так, что сильные очутились впереди и утаптывали снег следующим за ними. Кто плохо одет да послабее, оказался в середине, охваченный стеной тепло одетых товарищей, а позади батальон прикрывался от ветра самыми богатыми солдатами. Они шли лениво в тяжелых тулупах.
Суворову сразу сделалось теплей. Близился вечер. Мороз креп. Солдаты подогревали себя перебранкой. Слабые бранили сильных за то, что те скоро идут, сильные слабых — за то, что не дают идти быстрее. Солдаты в казенных плащах бранили тех, кто был одет в меха, «господами», а те, в свой черед, обзывали их «пропойцами». Доставалось и унтер-офицерам, ускакавшим вперед на почтовых, и фурьерам (они всегда с извозчиками первые в тепле), и командирам, и Апраксину; ругали втихомолку и царицу, придумавшую поход в зимнюю стужу.
Шаг разладился, дружное шествие распалось, батальон опять начал растягиваться по дороге. Ледяной ветер снова забрался под полы суворовского плаща и выжимал из глаз Александра колючие слезы.
Сидоров из тринадцатой роты молча шел рядом с Суворовым, не выпуская из стиснутых зубов давно погасшей трубки.
Тринадцатую по счету роту полка, по совести, надо бы звать первой. Она состояла из старых солдат, участников петровских баталий, — они-то и являлись хранителями славных преданий полка. Поглядывая на Сидорова искоса, стремясь с ним равняться шагом, Суворов гадал, сколько же Сидорову лет. Не менее семидесяти, наверное, а он крепок, статен и попирает землю твердой ногой.
Батальон растянулся. В сумерки откуда-то пахнуло соломенным дымом. Лес оборвался. На холме открылась небольшая деревенька. Около нее в дыму костров с навешенными над огнем котлами копошился народ. Виднелись сани с поднятыми оглоблями, распряженные кони извозчичьей роты.
Солдаты с криком и свистом побежали к деревне. Из волоков изб тянул дым: фурьеры позаботились о тепле для товарищей. У дверей болтались цветные флажки, показывая, кому где отведен ночлег. Но никто не смотрел на значки. Солдаты врывались в распахнутые двери изб. В одну минуту избы наполнились народом. Деревенька не могла вместить и половину батальона. Когда Суворов с Сидоровым подошли к первой избе, в нее нельзя было уже вобраться; то же и во второй, и в третьей, и во всех остальных.
Сидоров с суровой усмешкой сказал:
— Попробуй, барин, распорядись. Здесь ты один начальник.
Он отошел к костру, набил трубку и закурил от уголька.
Между тем к избам подтянулся хвост батальона. Среди отсталых были обмороженные. Солдаты теснились к кострам, но большая часть напирала в избы. Около Суворова очутился парень в форменном плаще, с головой, обмотанной посконной тряпкой. Солдата поддерживали двое товарищей: у него одеревенели ноги. Тусклый взор парня встретился с глазами Суворова. Парень злобно выкрикнул:
— Одна вошь да сыскалась на солдатском теле!
Но вдруг на лице парня появилась широкая улыбка.
— Да ведь это Суворов!
Александр узнал в молодом парне солдата своего капральства Петрова, весельчака и плясуна. Суворов рассмеялся:
— А ты, Петров, сплясал бы, а то без ног будешь!
— Ох, ноженьки мои резвые пропали! — повисая на руках товарищей, заголосил Петров.
Внезапная мысль блеснула в голове Суворова, и сразу пришло озорное решение:
— Не унывай, Петров! Еще спляшешь, и я с тобой!
Суворов кинулся к соседним саням и выхватил из-под морды коня охапку сена. Приказав двум товарищам стать у стены избы, Суворов взгромоздился на спины солдат и плотно закрыл охапкой сена волок избы. Изнутри послышались крики: изба сразу наполнилась дымом. Из двери избы посыпался народ. На Суворова накинулись. Кто-то на него замахнулся.
— Не тронь нашего капрала! — взвизгнул Петров. — Выкуривай из всех изб дармоедов!
Предложение понравилось. Со смехом, забыв усталость, слабые принялись выкуривать сильных изо всех изб. Суворов распоряжался. Его теснили недовольные. Рядом с ним стал и заслонил его собой Сидоров из тринадцатой роты.
— Семеновцы, стой! — закричал он. — Срам какой! Дорвались до тепла, товарищей забыли! Идите к каптеру,[39] берите топоры — дрова рубить! Скорей нагреетесь!
— А там и каша! — прибавил Суворов.
— И то! — согласился первым тот солдат, который замахнулся было на капрала.
Солдаты выбрали у каптенармуса инструмент. В лесу весело застучали топоры. В избах из открытых волоковых окон снова потянулся дым. Слабые наполнили избы кашлем, чиханьем и стонами. Суворов приказал растирать обмороженные руки и ноги. С Петрова скинули сапоги и посадили на скамью ногами в ушат с ледяной водой.
— Чуешь ноги? Шевельни-ка! — сказал Суворов.
— Эх, милый ты мой, век не забуду! Спляшем еще, господин капрал! — Петров, притопывая ногами в ушате, запел: — «Гренадеры молодцы, други-братья удальцы! Запоем мы трыцко хватско про житье-бытье солдатско!» Ой, мамынька! Пропали мои ноженьки, не шевелятся!..
К ночи на гумнах деревни с подветренной стороны пылало множество костров. От огня оплывал и оседал снег. Поспели каши, заправленные салом и сдобренные щедро стручковым красным перцем. Солдаты наелись и повеселели. Послышались песни. Уж никто не хотел оставаться в дымных избах, все выбрались на волю, к огням. Меж костров шныряли в полушубках, подметая полами снег, босые мальчишки и девчонки. Суворова звали от одного огня к другому: «Поди, сударь, и у нас погрейся!» Внезапно перед Суворовым предстал Петров, веселый, в чьих-то стоптанных валенках и хмельной: видно, в деревне сыскалось и вино.
— Вот он, наш капрал! Ура! Спляшем, друг! Знаешь «Слушай, радость!»?
— Как же не знать, знаю. В деревне рос!
— Ребята, становись кругом!
«Слушай, радость!»
Образовался широкий круг. Посредине меж двух костров оставались только Суворов и Петров.
— Девкой будешь или кавалером? — спросил Петров.
Суворов, не отвечая, приосанился и, сняв шапку, церемонно поклонился Петрову.
— «Слушай, радость, одно слово! — запел он басом. — Где ты, светик мой, живешь? Там ли, где светелка нова? Скажи, как ты, мой свет, слывешь? Как и батюшку зовут, расскажи все, не забудь. Что спешишь теперь домой? Ах, послушай! Ах, постой, постой!»
Петров по-бабьи метнул глазами на Суворова, потупился и повернулся к нему спиной.
— «Полно, полно, балагур! — ответил он тоненько притворным голоском. — Мне пора идти домой, загонять гусей и кур, чтоб не быть битой самой. Тебе смехи ведь одни, не подставишь ты спины. Поди, поди, не шути, добра ночь тебе, прости, прости!»
Суворов приложил шляпу к сердцу:
— «Ты не думай, дорогая, чтобы я с тобой шутил. Для тебя, моя милая, весь я дух мой возмутил. Что спешишь теперь домой? Ах, послушай! Ах, постой, постой!»
— Уговаривай! — поощряли Суворова из круга.
Но «девка» не сдавалась… Петров сделал уморительную старушечью рожу и, жуя конец посконной тряпки, повязанной на голове, шамкал:
— «Господин ты мой изрядной, как ты можешь говорить со мной, девкой неученой: я не знаю в свете жить. Я советую тебе выбрать равную себе. Поди, поди, не шути, добра ночь тебе, прости, прости!»
Петров низко поклонился Суворову, коснувшись пальцами земли. Суворов лихо закрутил воображаемый ус, обошел Петрова кругом вприсядку и возобновил ухаживание. Он пел:
— «Ах, свирепа, умилися, не предай меня в тоску. Не хочу слышать про ту, про притворну красоту. Что спешишь теперь домой? Ах, послушай! Ах, постой, постой!»
— Держи ее, держи! — кричали из круга одни солдаты.
— Девка, не сдавайся, беги! — советовали другие.
Петров кинулся бежать. Суворов за ним гнался. Петров хотел с разбегу пробить головой круг и вырваться на волю. Его со смехом отшвырнули. Упав навзничь, он плачущим голосом напевал, дрыгая ногами:
— «Отпусти меня, пожалуй, мне с тобой не сговорить. Мне делов еще немало: щи варить, бычка доить, масло пахтать,[40] хлебы печь, овес шастать,[41] братцев сечь… Поди, поди, не шути, добра ночь тебе, прости, прости!»
Вскочив на ноги, Петров напрасно искал спасения, с визгом бросаясь во все стороны. Его отталкивали, он валился в снег под ноги Суворову и сбивал его наземь. Наконец Суворов крепко обнял Петрова за плечи, и тот, вспыхивая, пропел последний куплет:
— «Убирайся, не шути! Поди, бешеной, прости, прости!»
Суворов равнодушно отвернулся. Петров жалобно закричал:
— Ванька!
— Здеся! — отозвалось из круга с разных мест.
— Поди сюда!
— Иду! — рявкнуло сто глоток со всех сторон.
Суворов стал в кругу подбоченясь:
— Выходи, выходи, Ванька!
Все кинулись из круга к нему, сшиблись, валясь друг на друга с криком: «Мала куча!» Поднялась веселая возня. Суворова подняли и начали подбрасывать. Он изнемог и взмолился. Еле живого от встряски, его посадили к самому огню. В костер подбросили сухих дров. Ветер утих. Высокое пламя вздымалось вверх столбами, сизый дым завивался над ними кольцами, рои искр вились в дыму. Казалось, что среди снегов у темной стены угрюмого леса чудом вырос и расцвел веселый сад невиданных деревьев с пламенно-желтыми стволами, синею курчавою листвой и багровыми пахучими цветами, а вокруг деревьев летают несметные тучи золотых пчел.
Гомон у огней улегся. К костру подошел Сидоров и, став стрелкой, почтительно спросил:
— Какие будут приказания, господин капрал?
На лице Сидорова Суворов не уловил и тени насмешки. Александр понял, что его приказания будут выполнены. Он встал и отдал распоряжение ночевать батальону тремя очередями.
Сидоров из тринадцатой роты кивком одобрил распоряжение капрала и закричал:
— Ефрейторы, ко мне!
Суворов сел к огню и задремал. Наутро Суворов объявил новый порядок похода. Возы переложили, удвоив на груженых санях тяжесть. Много саней освободилось. На них Суворов посадил слабую команду с инструментом: топорами, заступами и лопатами, погрузили котлы с дневным запасом. Этой части обозов приказано было ехать вперед со всяким поспешением до следующего по расписанию ночлега, нарубить там дров, разгрести сугробы, настлать вокруг костров лежбища из еловых лапок. Кашевары обязывались изготовиться так, чтобы батальон пришел к готовым кашам. Веселой рысцой на восходе солнца эта часть обоза покинула первый ночлег батальона. За ним следовал колонною батальон поротно, и наконец двинулся тяжелый обоз.
До Москвы батальону предстояло пройти более семисот верст. Порядок похода на пути менялся частично, но, в общем, оставался установленный Суворовым для второго перехода. Суворова слушались. Несогласных убеждали товарищи. В шутку говорили: «Батальонный приказал!» Строптивым грозили: «Ужо он Соковнину доложит!» Смеясь, солдаты удивлялись: «Виданное ли дело: гвардейским батальоном капрал командует! Хоть бы сержант!» Потом стали шутливо кликать: «Ефрейторы, к поручику!», «Майор зовет!» И кого звали, тот бежал к Суворову.
— Этак придем мы в Москву, — говорил Александру Сидоров, — товарищи тебя в гвардии полковника произведут, скажут Апраксину: «Довольно ты, сударь, поцарствовал, полно! У нас свой полковник». От матушки-государыни ты, Суворов, о милости такой не скоро услышишь…
Батальон пришел в Москву. Распоряжения Суворова на походе получили одобрение Соковнина. Благодаря самозваному командиру батальон закончил поход до срока, без отсталых и беглых. Апраксин, узнав об этом, захотел видеть расторопного капрала. Суворов уклонился от свидания с ним и сказался больным, когда его в очередь назначили к Апраксину ординарцем. Все это было нарушением субординации, но Апраксин не тронул строптивого капрала: он видел в Александре сына генерала Василия Суворова.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Армия
Карьера Василия Ивановича Суворова возобновилась. Он быстро шел в гору, обновив старые придворные связи и знакомства во время пребывания Елизаветы Петровны в Москве. В 1751 году Василий Иванович занял должность прокурора Сената, а в 1753 году, произведенный в генерал-майоры, получил назначение членом Военной коллегии.[42] Могло показаться, что Василий Иванович делает карьеру ради сына или вступил в состязание с ним, задавшись мыслью показать на своем примере, как надо служить. Возвышение отца и впрямь помогло Александру. Сын опального, если не ссыльного мелкопоместного дворянина превратился в сына влиятельного сановника. Суворовы переехали в Санкт-Петербург.
Еще в 1750 году, видя, что Александр изнемогает под добровольно наложенным на себя солдатским ярмом, отец упросил Соковнина взять Александра к себе бессменным ординарцем. В 1751 году Александр Суворов достиг возраста гражданского совершеннолетия — двадцати одного года, и его произвели в чин сержанта — последний высший солдатский чин, а в 1752 году отец выхлопотал сержанту Суворову почетную командировку за границу: курьером с депешами в Дрезден и Вену. Многие из недорослей в гвардии желали этой посылки. Выбор пал на Суворова, потому что он знал лучше многих немецкий и французский языки.
Несколько месяцев провел Александр Суворов около русских посольств при саксонском и «цесарском»[43] дворах. Здесь все говорило, что в скором времени предстоит большая война: прусский король Фридрих Второй строил завоевательные планы, накапливал средства и силы и главный удар собирался нанести России.
Возвратясь в Петербург, Суворов убедился, что Россия не даст застать себя врасплох. Василию Ивановичу Суворову Военная коллегия поручила изыскивать денежные средства для снабжения армии, так как государственная казна, разоренная взбалмошной императрицей, пустовала. Монету приходилось чеканить из пушечного металла и медью платить жалованье не только солдатам, но и офицерам.
А между тем в меди и бронзе остро нуждалась артиллерия. Подавляющая сила орудийного огня оценивалась после Полтавской победы Петра очень высоко его учениками. Из них оставались в живых и находились у дел Абрам Петрович Ганнибал, его друг Василий Васильевич Фермор, тоже бомбардир Петра I, да Василий Иванович Суворов. Ганнибал и Фермор ведали пушечным делом и готовили сюрприз прусскому королю: налаживалось производство новых гаубиц для навесного прицельного огня в десять калибров длиной.
В доме Ганнибала Александр Суворов познакомился с Фермором.
— У Василия Васильевича ум чистый, без узлов, — рекомендовал Фермора сыну старик Суворов.
При домашних встречах у стариков возникали часто споры о том, что всего важнее на войне. Александр осмеливался, если его спрашивали, высказывать довольно резкие суждения. Ганнибал требовал от Военной коллегии как можно больше пороху, пушек, картечи, гранат. Василий Иванович считал, что не менее нужны холст, кожа, соль, мука, крупа. А главное, в чем прав прусский король, говоря, что для войны нужны три вещи: «деньги, деньги и деньги». Фермор прибавлял:
— И еще люди и человек нужен… Как ты думаешь? — неизменно обращался Фермор к Александру.
Александр отвечал, что он скорей согласен с Фермором, чем с отцом и Ганнибалом. Конечно, солдат должен быть сыт, здоров, удобно и хорошо одет, снабжен всей амуницией и превосходным оружием, но главное — надо солдата воспитать и обучить. Не только полевые войска, а и гвардия плохо обучена, забыла уроки петровских побед. Теперь это не солдаты, а мужики в солдатских мундирах: «сто голов одной шапкой накрыто». А командиры — те же помещики. Молодые солдаты видят в командире прежде всего барина, а не боевого товарища. И командир почитает солдата мужиком, своим крепостным, слугой своим, а не слугой отечества.
Василий Иванович поеживался, выслушивая смелые суждения сына.
— Вот выпустят тебя в полк, там увидишь, насколько дело трудно. Руками беды не разведешь.
Ни втех, ни в сех
С декабря 1752 года первый батальон Семеновского полка пребывал в Москве, куда снова перебралась со своим двором Елизавета Петровна.
25 апреля 1754 года при очередном выпуске солдат из гвардии в полевые войска в числе прочих был произведен в поручики сержант Александр Суворов.
Василий Иванович, узнав о приказе заранее, сиял, словно его самого, а не сына произвели в первый офицерский чин. Ганнибал подарил Александру свой боевой палаш.
— Ты как будто не рад. Скажи же, чем ты недоволен? — спрашивал отец Александра.
— Нет, батюшка, — улыбаясь отцу, ответил Александр, — мне должно радоваться уже потому, что радуетесь вы.
Почтительный ответ сына не успокоил Василия Ивановича. Он продолжал допытываться:
— Ты завидуешь Илье Ергольскому, что и тебя не выпустили капитаном? Так ведь Ергольский Илья — артиллерист, а в них у нас настала нужда. Артиллерия важна, она со временем станет еще важней. Недаром Петр Алексеевич и сам себя именовал бомбардиром, да и тех, кого любил, ставил к пушкам.
— А все же полем будут владеть всегда пешие войска… — возразил Александр.
— Или ты завидуешь, что твой старый друг Сергей Юсупов, минуя чин сержанта, прыгнул из фурьеров в подпоручики? Запомни: кто прыгает смолоду, к старости будет бродить курицей…
— Юсупов-то, батюшка, не допрыгнул — он подпоручик, а я поручик.
— Вот то-то! Чего же нам с тобой грустить!
Василий Иванович широко развел руками, словно собираясь кого-то заключить в объятия, но вдруг руки его упали, и Александр увидел, что на лицо отца набежало темное облачко печали. Александр понял, что отец вспомнил свою Авдотью Федосеевну.
— Мы, батюшка, с вами радуемся, а матушка и нынче горевала бы…
— Ан нет. Дал маху. И она — ну, пролила бы слезы: бабы и от радости плачут…
— Чему же ей радоваться?
— А хотя бы тому, что ты так легко прошел солдатство. Шутка сказать, чуть ли не двенадцать лет… Что ты не сдюжишь, вот чего она страшилась да и тебя пугала. А нынче дивилась бы, на тебя глядя: «Да посмотрите на него, люди добрые, что за красавец из него вышел! Да ты, сынок, сам на себя в зеркало взгляни!»
Александр взглянул на отца и потупился. Нет, лицо отца не могло быть верным зеркалом того, что совершалось в глубине души у сына. В холодном стеклянно-серебристом блеске зеркала недостает чего-то, какого-то огня. И если бы перед Александром в эти торжественные дни появилось сияющее радостью и восторгом и в то же время дышащее тревогой лицо матери, молодой офицер почел бы, что это зеркало вернее отражает его.
Каждый, кто надевает офицерский мундир со знаками, отличающими его от солдата, на всю жизнь запоминает мальчишескую радость этих дней. Хочется и можно бы дать козла, но новое высокое звание и мундир офицера это запрещают. И вот они стоят по двое, по трое в кремлевском саду, картинно опираясь на саблю или держа руку на эфесе палаша, и гордо, с каким-то вызовом поглядывают кругом. Каждый не прочь благосклонно ответить отдавшему честь солдату. А то можно и остановить его, легонько распечь за расстегнутый мундир, пригрозить кордегардией[44] и милостиво отпустить. Или, со своей стороны, оказать должные знаки субординации встречному генералу. А в ответ на быстрый любопытный девичий взгляд приосаниться и звякнуть шпорами, у кого они есть.
Прочно сложившийся обычай позволял накануне производства тем, кто был в этот вечер «ни в тех, ни в сех», и пошалить и кутнуть. В тех кабачках, где обычно можно было застать только кутящих офицеров, в этот вечер толпились одни солдаты — и те, кто завтра станет офицером, и те, кому суждено век вековать в рядовых.
К шалостям завтрашних офицеров в вечер и в ночь перед производством начальство относилось снисходительно: и в самом деле, если сегодня отправят под арест солдата, то завтра все равно придется сложить наказание или заменить взыскание более тяжелым офицеру. К чести солдатской, надо заметить, что шалости эти редко превращались в буйство — захмелевших удерживали товарищи. Что за беда, если солдаты (завтрашние офицеры), подметив, что кучер кареты у дворца вельможи задремал, подмигнут часовым у дверей и выдернут чеку из задней оси. Вельможа выйдет и важно усядется в карету. Выездные гусары вскочат на запятки: «Пошел!» Кони рванули с места, колесо скатилось с оси, гусары повалились в грязь, карета накренилась, и разгневанный вельможа видит, что окружен веселыми семеновцами. Откуда взялись — а подоспели кстати. С возгласами сочувствия и сожаления солдаты помогают вельможе выйти из кареты. Он еще не успел опомниться, а уже солдат катит колесо, потерянное позади, другой несет чеку, хвастаясь, что нашел ее в грязи. Тяжелая карета дружными усилиями солдат поставлена, колесо надето на ось. Вельможа в карете. Ему остается одно: благодарить, что семеновцы выручили его из беды.
По обычаю полагалось целиком прокутить последнее солдатское жалованье за треть года. Все оно, примерно три рубля на брата, шло в общий котел. Пирушка вышла по необходимости скромной. При погашенных свечах сварили жженку в большой чаше. На двух скрещенных шпагах истаяла в мертвенном пламени спирта глыба рафинада, роняя в жгучую влагу капли леденца. Пели песни о славе, доблести, счастье, любви. Клялись в вечной дружбе, обнимались и целовались и опять клялись в том, что вечно не забудут солдатской жизни, а кто «выскочит», будет «тянуть» отставших однополчан.
Шумной ватагой высыпали семеновцы из кабачка на площадь и предались озорным забавам.
Звон московский
К рассвету семеновцы приустали; выдумка истощилась. Буйная ватага редела, и на рассвете майской ночи на мосту, что вел из Замоскворечья к Василию Блаженному, оказались трое: Суворов и два князя Волконских — Николай[45] и Алексей, записанные в полк в один день с Суворовым; они, как сверстники, держались вместе всю ночь.
На крутом горбу моста остановились. Кремль перед ними сиял золотыми шапками соборов, а на высокой главе Ивана Великого уже блистало солнце.
Все трое устали, но озорная лихорадка еще трясла обоих Волконских. Алексей внезапно для брата и Суворова швырнул в реку солдатскую шляпу и стал расстегивать куртку…
— Что ты делаешь? — испуганно спросил Николай.
— Хочу все бросить в Лету — реку забвения…
— Зачем? — спросил Александр.
— Затем, что сегодня я уже не солдат!..
— Да, ты офицер! Как же ты явишься среди бела дня в таком безобразном виде?
— Постойте, друзья! — воскликнул Николай. — У меня другая мысль…
— Какая?
— Идем в Кремль и ударим в набат.
— Зачем? — опять спросил Суворов.
— Идем! — застегивая куртку, сказал Алексей. — Ударим в большой Успенский, соберем вече, а там увидим…
Суворов последовал за братьями, чтобы остановить их, если дело зайдет слишком далеко…
У входа на звонницу уже стояли кучкой звонари и входили один за другим в узенькую дверь, чтобы по крутой темной каменной лестнице, цепляясь за веревочный поручень, взойти на верхний ярус.
— Вы, служивые, чего взыскались? — спросил семеновцов старший звонарь.
— Хотим в большой колокол ударить, — ответил Алексей Волконский.
— В самый большой, — прибавил Суворов.
— Что ж, кстати и нам подмога: у меня трое загуляли. Милости прошу, вздымайтесь.
Лестница крутая, и ступени ее поистерлись. Ход узок до того, что двум встречным не разойтись. Под темным бронзовым шатром большого Успенского, считая и семеновцев, собралось двенадцать человек.
— Замерз, старик? — ласково хлопнув по боевому краю колокола ладонью, поздоровался с ним старший звонарь. — Ночью-то, видно, морозец был. Сейчас мы тебя, старик, согреем.
Суворов коснулся медного тела колокола рукой и ощутил острый холодок.
Подручные звонаря разобрали ременные поводки, привязанные к стопудовому, кованному из железа языку колокола, и стали на две стороны. И Суворов с Волконскими взялись каждый за свой поводок.
— Господи, благослови! — тоном команды сказал звонарь.
Натягивая и попеременно отпуская ремни по шестеро враз, звонари начали раскачивать язык колокола. Размахи все больше: вот-вот язык своим отполированным боком коснется пятна, высветленного на краю колокола за сотню лет миллионами ударов. Старший звонарь, лежа грудью на каменном парапете, смотрел вниз, на угол Успенского собора. Из храма выбежал соборный солдат и, дернув за веревку «кандии» — сигнального колокольца, подал знак. Звонарь взмахнул рукой, и в то же мгновенье язык своей тяжелой шишкой легонько коснулся боевого кольца. Грозный гул наполнил бронзовый шатер. И снова мерно закачался язык, не касаясь краев. Звонарь перешел к северной арке звонницы и не то слушал, не то смотрел туда, где на иззубренной кромке земли еще не угасли алые цвета майской зари. Москва еще молчала. Звонарь глубоким басом молвил:
— У Сергия ударили в «царя».
Зазвонный тряхнул головой, и снова грозный гул наполнил звонницу. Суворов понял: звонарь говорил о том, что Москве ответил Троицкий монастырь; Александр усомнился, можно ли такой низкий звук (самый низкий из возможных) услышать на расстоянии шестидесяти верст. Но, если звонарь и не слышал, он знал, что так оно и было.
Когда гроза второго удара утихла, звонарь сказал:
— Звенигород ударил! Повтори!..
Третий удар Москвы замкнул великий треугольник московской обороны: Иван, Сергий, Савва — главные сторожи[46] Москвы.
— В оба края! — скомандовал звонарь.
И мерный благовест в оба края (три секунды — удар) поплыл над Москвой. Тут же отозвались форты ближней внутренней обороны: Симонов, Андроний, Никола Угреши, Новодевичий.
Звонарь говорил не для своих подручных, им все это довольно известно, а для трех семеновских солдат, по всей видимости барчуков. Из них троих только один Суворов мог вполне понять и оценить то, что говорил звонарь.
Во время своего пребывания в Москве Елизавета Петровна совершила из Москвы пешее шествие на богомолье к Троице. Она и точно сделала эти шестьдесят верст на своих ногах, с длинным посохом паломника в руке. Сделав версты три с роздыхами, дебелая царица изнемогала; ее усаживали в карету и отвозили или на пройденный ночлег, или на ночлег предстоящий. А пункт, достигнутый благочестивейшей государыней, отмечался тем, что на нем становились биваком семеновские солдаты. На следующий день царицу привозили сюда в карете, и она со вчерашнего места продолжала шествие. Звон в Москве и у Троицы и на пути не прекращался. Сержант Суворов будил своих дремлющих у догорающих костров солдат по первому удару благовеста в Москве. По мере того как паломники уходили на север, по лесной дороге, звон большого Успенского слышался все слабее. Стоя биваком у переправы через реку Учу, на полдороге между Троицей и Москвой, Суворов первый раз услышал явственно через несколько секунд после первого удара в Кремле ответный удар Троицкого «царя». Тогда он вспомнил, как мальчиком однажды на охоте ранним летом он ночевал с отцом в избе лесника. Отец поднял его с постели до зари и повел из избы на высокий безлесный холм.
«Молчи и слушай», — сказал отец, возведя сына на самую макушку, откуда открывалось до края неба застывшее море взволнованной московской земли.
Стояла тишина. Быть может, оживленные рассветным ветром, и шумели у подножия холма сосны и ели, — сюда их шум не достигал.
«Слышишь?» — тихо спросил отец.
Даже если бы он спросил полным голосом, он не заглушил бы непонятного звука. Александру показалось, что это вздохнула сама московская земля, пробужденная пригревом ласкового солнца.
«Это ударили в ответ Кремлю у Троицы. Чу?!»
И снова как бы вздохнула земля.
«А это Звенигород».
Поместье Суворовых — в Дмитровском округе, меж Троицей и Звенигородом. Тут на полпути меж тремя вершинами треугольника Москва — Троица — Звенигород когда-то стояли конные караулы, чтобы вовремя дать воеводам знать о тревоге.
Благовест кончился. Большой Успенский от последнего удара долго гудел, переходя от басовых аккордов к почти неуловимым для уха звукам.
— Согрелся, старик? — ласково хлопнув по наружному краю колокола, спросил звонарь.
И колокол ответил ему чуть слышным гулом.
Суворов коснулся бронзы рукой: и в самом деле, колокол нагрелся.
— Вот чудеса: бей его кулаком со всей силы — молчит, ударь ласково ладонью — отвечает. Попробуй, если хочешь, сам, — говорил Суворову звонарь.
Суворов попробовал и убедился, что звонарь говорит правду.
— Спасибо, служивые, за помогу. Заработали на троих денежку. Ступайте к свечному ящику, скажите — я послал.
Спускаясь по темному ходу вниз, Суворов нечаянно коснулся стены рукой — камни стен саженной толщины еще трепетали.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Приближение войны
Суворов получил назначение в пехотный Ингерманландский полк.
В гвардейском Семеновском полку даже небогатые солдаты из дворянских недорослей имели при себе хлопцев из своих крепостных. Произведенный в офицеры, Суворов немедля отправил в деревню двух хлопцев, вывезенных им из деревни восемь лет назад. К молодому офицеру явился бывший в «великанах» у прусского короля Прохор Дубасов и неотступно просил взять его из Семеновского полка к себе, ссылаясь на то, что покойная боярыня Авдотья Федосеевна взяла с него перед смертью своею клятву: «Не покинь, Прошенька, моего Сашеньку — ведь он ребенок малый, береги его». Суворов согласился, и великан списался из гвардии в тот же полк.
Солдат в Ингерманландском полку одевали и кормили плохо. Обучение их велось в полку лишь для формы. Многие из них ухитрялись заниматься мастерством: чеботарили, вили веревки, плели рыбачьи сети, резали деревянные ложки.
Осмотревшись в полку, Суворов увидел, что из этой толпы молодых людей, насильно собранных в одно место, никто не думает создавать боевую силу. Попытки Суворова говорить об этом с полковником и офицерами были встречены общим недоумением.
— Откуда такой чудак к нам явился? — удивлялись новые товарищи Суворова.
Он воззвал к чести полковника. Указывал, что близится война, что полковник, обладая неограниченной властью, может и должен привести свой полк в хорошее состояние. Полковник отвечал добродушно:
— Что я, батюшка мой, могу поделать? Везде так! Все так! Полк мой, верно, не из лучших, так ведь он караульный, его в поле не выведут. А что до пайка солдатского, до сукна, то кормлю и одеваю тем, что дают. Это дело провиантское. Вот где корень зла. Тебе, сударь, по твоей склонности не в строю служить, не ротой командовать, а пойти бы тебе по провиантской части, — с насмешкой посоветовал полковник Суворову. — Ежели ты, сударь, Геркулес, то там и есть для тебя подвиг: очистить сии авгиевы конюшни.[47]
Суворов убедился, что в полку ему не место, и, вняв насмешливому совету полковника, перешел из строя в провиантмейстеры. С помощью отца он получил должность обер-провиантмейстера в Новгороде, где основалась большая база по снабжению армии. Суворов и здесь прослыл чудаком: он воевал за каждую казенную копенку и с чиновниками и с подрядчиками.
Поставщики с одной стороны и казнокрады — с другой ополчились против Суворова, стараясь опутать и его своими сетями, хитро сплетенными канцелярскими крючками. Суворов изнемог в неравной борьбе с ними. Бывая по службе в Петербурге, Суворов ищет там новых знакомств, сходится с литераторами, посещает Общество любителей российской словесности и, наконец, решает стать сочинителем. Пишет стихи. Восстанавливает из пепла разговор Александра с Геростратом. Сочиняет еще один загробный разговор «в царстве теней» — между мексиканским царем Монтезумой и испанским завоевателем Кортесом.
Оба «разговора» Суворова, прочитанные им в Обществе любителей российской словесности, понравились слушателям. Суворову льстили, равняя его с поэтом Сумароковым, которому молодой автор явно подражал. Сумароков напечатал «разговоры» Суворова в сборнике Академии наук. Приближение войны помешало литературным занятиям Суворова.
Победы Петра I над шведами и основание Петербурга — главной военной и морской опоры на Балтике — обеспечили навсегда правый стратегический фланг России.
Не так успешно шло обеспечение левого фланга, где еще не было сломлено могущество Турции и предстояла долгая борьба, чтобы стать при Черном море твердою ногой. Неустойчивый левый фланг создавал для молодой Российской империи большую опасность и в середине стратегического фронта.
У Прусского королевства были еще более сложные отношения и задачи на юге и западе обширной германской равнины. «Священная империя» со столицей в Вене смотрела на притязания прусского короля как на недопустимую дерзость. С точки зрения венских политиков, Австрия, и только Австрия, могла взять на себя задачу объединения Германии, раздробленной на множество мелких государств. Задача эта стояла и перед Пруссией, а между тем далеко не все государства расчлененной Германии соглашались без спора признать за Пруссией первое место и значение. Она должна была это положение завоевать. Между Пруссией на востоке и Баварией и другими княжествами на западе имелись серьезные различия. Пруссия была страной аграрной, помещичье-крестьянской, с крепостным строем хозяйства. Саксония — страной, где начинала развиваться горнорудная промышленность и вырастали заводы, требующие умелых рабочих рук. В Баварии же вокруг старинных замков и у подножия католических монастырей цвели богатые ремесленные города с прочным бюргерским укладом жизни. Баварцы даже отказывались признавать свое кровное родство со «вшивыми» пруссаками. «Тем хуже для вас», — сказал по этому поводу король прусский. Овладев Бранденбургом, пруссаки вбили острый клин в глубь Германии. На «пустом месте» начал расти город Берлин[48] — будущая столица объединенной немецкой земли.
Пока Пруссия вооружалась, ею были пущены в ход испытанные средства наступательной политики: прямой и косвенный подкуп, династические браки, интриги и заговоры в столицах соседей, предательские договоры и соглашения о разделе плохо защищаемых земель.
Так шло до тех пор, пока прусским королем оставался Вильгельм. Его сын и наследник Фридрих Второй с детства мечтал о великих завоеваниях. Отец его, находя, что время раскрыть карты еще не настало, держал сына в ежовых рукавицах, сурово охлаждал его пыл и даже запретил ему произносить самое слово «война». Фридрих молчал, думал о войне и смотрел на отца волком. Король сослал строптивого сына в Кюстрин на должность лесничего в своем имении. Наследник престола, обреченный на жалкую, почти голодную жизнь мелкого чиновника, на досуге думал все о том же. Он понял, чего страшится отец: если Пруссия раньше времени прибегнет к оружию, ей придется столкнуться с Англией. Британцы ревниво следят за ростом прусского могущества, угадывая в объединенной Германии опасного соперника для своей промышленности и торговли. А за Рейном и Альпами кипела и бурлила Франция, готовясь сбросить оковы феодализма. Если власть окажется там в руках торговцев, промышленников и банкиров, то еще раньше, чем с немцами, английским купцам придется столкнуться с Францией — она станет искать новых рынков для своих товаров и новых торговых путей.
Агрессор
«Нужно заставить себе служить ад и небо, — откровенно говорил Фридрих Второй. — Раз должно произойти надувательство, то шельмами должны быть мы». И правда, такого откровенного до бесстыдства политика не видывала Европа давно.
В 1756 году прусские войска вторглись в Саксонию без объявления войны. Затем Фридрих Второй, также не объявляя войны, вторгся в Чехию и занял Прагу. Курфюрст Саксонский был вместе с тем и королем польским. Он бежал в Варшаву. Его армия, не готовая к походу, сдалась в плен. Не теряя времени, Фридрих переодел саксонские войска в прусскую военную форму и включил их в свою армию. Сделать это было не трудно: и у Фридриха и у курфюрста Саксонского армия состояла из наемных солдат — звонкие талеры заставляли служить тому, у кого их больше.
Европейские политики ахнули в изумлении перед дерзостью прусского короля. Оправдывая себя, Фридрих писал: «Что касается имени столь страшного — агрессор, то это пустое пугало, которое может воздействовать лишь на робких духом… Истинный агрессор, кто вынуждает другого вооружаться и начинать предварительную войну, чтобы тем избегнуть более опасной, ибо из двух зол следует выбирать меньшее». Этими словами он бросил вызов всем своим возможным противникам.
Король-агрессор предвидел, что против Пруссии образуется коалиция. Она и возникла в виде союза Австрии, Франции, Швеции и России.
Король-агрессор считал наименее опасным противником Россию, которой он не знал и не понимал.
Прошло более пяти веков с той поры, как Александр Невский разбил рыцарей Тевтонского ордена в тех местах, где Петр I в первые годы XVIII столетия основал Петербург. На льду Чудского озера Александр Невский вторично разгромил рыцарей, надолго отбив у немцев охоту к походам на восток. К XVIII веку в сознании немцев затуманились эти уроки. Они забыли, что Россия, грудью заслонив европейские народы от нашествия кочевых орд, нашла в себе еще довольно мощи, чтобы защитить свою самобытность от натиска с запада. Свежие в памяти успехи Петра I могли бы вызвать тревогу даже в головах самых тупых немецких политиков. Но Фридрих этим не тревожился — его успокаивала уверенность, что Россия, как он полагал, начала онемечиваться. Династические браки между отпрысками немецких князьков и лицами русского царствующего дома усиливали самоуверенность людей, окружающих короля. Захудалый голштинец под именем Петра Федоровича сделался наследником русского престола. «Dummer Kerl», — думал о нем прусский король. Зато он высоко ценил ум и хитрость жены наследника престола, Екатерины. От Петербурга через Кенигсберг в Потсдам тянулись нити тонкой, но прочной паутины. Попросту говоря, у Фридриха Второго в Петербурге были очень осведомленные шпионы в лице людей, льнувших ко двору цесаревича.
О русской армии Фридрих Второй заносчиво говорил: «Москвитяне суть дикие орды, они никак не могут сопротивляться благоустроенным войскам». В том, что его собственные войска благоустроены, Фридрих не сомневался. Находились даже серьезные люди, разделявшие с прусским королем эту уверенность и считавшие прусскую армию лучшей в Европе. Противники же Фридриха Второго могли радоваться, что его благоустроенная армия невелика — при нападении на Саксонию она насчитывала едва тридцать тысяч солдат. «Потсдамский развод![49]» — усмехались в Европе. Однако не все было глупо и в том, что небольшие по численности войска Фридриха прошли муштровку на Потсдамском плацу: они искусно и быстро перестраивались, ходили скоро, заряжали ружья с автоматической сноровкой и, владея улучшенными мушкетами (с железным шомполом), могли заряжать и стрелять чаще, отвечая на каждые десять выстрелов пятнадцатью. Пехота прусская, скованная немецкой дисциплиной, являлась бы очень серьезной силой в поле, если бы в самой силе своей не таила слабости. Связанные только одной дисциплиной, лишенные чувства долга и воинской чести, люди без отечества и национальной гордости, будучи разбиты, потеряв стройность, солдаты Фридриха рассыпались, превращались в стадо, охваченное единственным чувством страха за свою шкуру, и бежали, не считая бегство с поля битвы постыдным. Если же они одерживали верх над менее стойким противником, то проявляли истинно звериную жестокость к поверженному врагу.
Конницей своей Фридрих Второй гордился еще более, чем пехотой. Вынужденный наносить быстрые удары из центра к разным точкам окружности, король-агрессор нуждался в легких войсках, способных в короткий срок покрывать расстояние из края в край страны, к счастью для полководца не очень большой. Он не мог обходиться без конницы. Драгуны — «ездящая пехота» — и конные гренадеры, не являясь изобретением Фридриха, занимали видное место в его войсках.
Фридрих Второй мечтал воевать конной армией, соединив в ней достоинства пехоты и кавалерии. Но мечта эта так и осталась мечтой. Ни вооружить, ни обучить достаточное количество кавалеристов у короля-агрессора не было возможности: не хватало времени, не хватало и коней.
Тем не менее он извлек из конницы все, что мог, стараясь подавлять пехоту противника быстротой и массой конной атаки.
Наименьшее значение король придавал артиллерии, хотя и знал, что в России усиленно занимаются улучшением пушек и готовят нечто новое и неожиданное.
Фридрих Второй ввел в тактику некоторые новые, остроумные приемы. Построение его войск уже не было прежним — «линейным». Вместо атаки лицом к лицу Фридрих изобрел «косвенный порядок» боевого построения для удара под углом на избранный фланг противника; это вело к обходу неприятеля и разрушению всего его фронта. Вначале, пользуясь этим приемом, пруссаки одержали несколько побед.
От генералов своих Фридрих не требовал самостоятельных решений, даже когда это вызывалось необходимостью. Офицеры же должны были слепо подчиняться высшему начальству и поддерживать строй суровой дисциплиной даже во время боя, когда успех часто зависит от инициативы и находчивости отдельных солдат.
Преждевременный триумф
Саксония, стремясь тоже к первенству в Германии, видела в Пруссии соперника. Поляки имели основание ждать, что Пруссия, недавно еще покорный вассал Польши, не остановится перед захватом западных польских областей. Швеция с тревогой следила за Фридрихом, который мечтал получить естественные богатства Скандинавии. Французы опасались появления пруссаков на Рейне близ своих восточных границ. Эти опасения объединили против Пруссии почти всю Европу.
В 1756 году против Пруссии объединились Австрия, Франция, Польша, Саксония и Швеция. Россия вступила в этот союз.
Русская армия собиралась и обучалась в Лифляндии и Курляндии. В 1757 году военные приготовления закончились. Главнокомандующим русской армии Елизавета Петровна назначила командира Семеновского полка Степана Федоровича Апраксина, возведенного в фельдмаршалы. Это назначение сильно огорчило Суворовых: они надеялись, что главнокомандующим будет Фермор.
Апраксин отправился к армии. Она сосредоточилась под Ригой. Все поля вокруг города белели палатками полков. Прибывали артиллерия и обозы. Скакали по всем направлениям казаки и ординарцы. Играли трубы, били барабаны. Армии предстояло переправиться за Двину, чтобы через союзную Польшу вторгнуться в Пруссию.
Переправа совершалась в конце апреля. Перед мостом на берегу Двины поставили два великолепных шатра, расписанных и раззолоченных. Под одним шатром находился фельдмаршал Апраксин, окруженный блестящей свитой и генералами. Другой шатер назначался для дам и знатных гостей, которые во множестве съехались в ставку главнокомандующего: одни — чтобы проводить мужей и сыновей в поход, другие — просто полюбоваться пышной церемонией. Городские валы близ моста, дома, обочины дороги — все было усеяно народом.
По церемониалу шествие войск открылось маршем бригадных фурьеров, которым предстояло за рекой разбить для армии первый походный лагерь. Фурьеры шли с распущенными цветными значками.
За фурьерами следовали полковые штапы на выхоленных скакунах. В шляпах офицеров с новыми цветными кокардами зеленели листья лавровых ветвей, добытых в оранжереях Риги.
Далее конюхи вели сменных коней бригадного генерала, прикрытых попонами, размалеванными под парчу. На попонах красовались золотые вензеля и гербы генерала.
За генеральскими конями везли пушки с зарядными ящиками. За артиллерией ехал на боевом коне бригадный командир, открывая шествие своих полков. С развернутыми знаменами, с барабанным боем, под музыку полковых оркестров старательно маршировали солдаты. У каждого из них за лентой на шляпе были воткнуты зеленые ветви: знак побед, которые еще предстояло совершить.
Фельдмаршал Апраксин стоял у своего шатра, пропуская войска. Перед ним склонялись знамена, опускались шпаги командиров. Войска переходили по мосту Двины и становились лагерем за рекой.
На следующий день фельдмаршал Апраксин в золотой карете, запряженной восьмеркой белых коней с султанами из страусовых перьев, отправился к армии, предшествуемый конными гренадерами в лаврах. По бокам кареты скакали ординарцы. Эскорт из генералов, полковников и штабных офицеров следовал за каретой фельдмаршала во всем блеске парадных мундиров, в орденах и лентах. Пышный выезд фельдмаршала напоминал не отправление в поход, а возвращение и встречу триумфатора после победной войны…
Затерянный в толпе зевак, наблюдал пышное шествие фельдмаршала обер-провиантмейстер полевых войск премьер-майор Александр Суворов, прибывший накануне в Ригу с транспортом продовольствия.
В запыленном, порыжелом мундире, в измятой шляпе, грязных сапогах, усталый от ночи, проведенной на коне, осипший от руготни с извозчиками, Суворов оставил коня на заезжем дворе и прямо с дороги явился к генералу Фермору.
Фермор был уже на выходе, в парадной форме, готовый присоединиться к шествию Апраксина, когда ему доложили о прибытии Суворова. Суворов остановился у двери и отчеканил кратко и сухо, что транспорт продовольствия для корпуса, назначенного идти на Мемель, прибыл благополучно.
Фермор протянул руки к Суворову, не сгибая стана:
— Помилуй бог, Александр Васильевич, зачем так сурово? Дай мне тебя обнять.
— Боюсь, сударь, замарать ваш мундир.
— Полно шутить. Подойди, я тебя расцелую…
Александр кинулся к Фермору, они обнялись и расцеловались.
— Вижу, ты, Александр Васильевич, едва на ногах стоишь, — сказал Фермор, — но усаживать в кресла не стану: мне пора. Я говорил Апраксину, что Суворов просится в армию. «Который Суворов — старик или молодой?» — «Александр». — «У места был бы больше Василий», — ответил он мне.
— Он отказал? Я не ждал иного…
— Не совсем. «Так молодой Суворов хочет в армию? Добро! — сказал он. — Я прикажу записать его в армию. Ну, хоть для начала пускай он будет при запасных батальонах в Курляндии. Чем успешнее он их приведет в должный вид, тем скорее попадет в Пруссию». Больше ничего я не мог от него добиться. Надо выждать время.
— Василий Васильевич, вы мне второй отец! Возьмите меня к себе…
— Не могу, сударь, ты знаешь Апраксина: он упрям. Мне пора. Не унывай. Не вешай головы.
Суворов встрепенулся.
— Вот так-то лучше. Ручаюсь тебе, друг мой, что при первом случае ты будешь в армии… Прощай. Назначаю тебе рандеву[50] в Мемеле…
Он еще раз обнял Александра, и они расстались. Посмотрев на триумфальный выезд фельдмаршала, Суворов вернулся на постоялый двор, оседлал Шермака и выехал обратно на ту мызу, где оставил Прохора Дубасова с повозкой и поклажей.
Ехать пришлось глубоко вспаханной целиной, так как дорогу занимали бесконечной вереницей армейские обозы. Шермак то и дело спотыкался на глыбах земли, поднятой тяжелыми немецкими плугами…
— Состарились мы с тобой, дружище, — трепля по шее Шермака, сказал Суворов и повернул коня от большой дороги на боковую, к мызе.
Шермак тяжко водил тощими боками, кашлял, задыхаясь. Он давно страдал астмой от необузданных скачек в молодости.
Суворов не «посылал» коня, но Шермак вдруг сам пошел крупной рысью, а затем вскачь, храпя и потряхивая головой на скаку.
Напрасно уговаривал его седок — Шермак скакал все быстрей. Суворов дал ему волю. Внезапно Шермак свернул с дороги, перемахнул через дорожную канаву и упал на колени.
Суворов перелетел через голову коня, вскочил на ноги и повернулся к Шермаку. Конь повалился на бок. Из оскаленного рта коня клубилась розовая пена. Он бил и передними и задними ногами. Подойти к нему, чтобы расстегнуть подпругу, было опасно. Суворов видел, что Шермак издыхает… Конь опрокинулся на спину, перевалился на другой бок и вытянул ноги. Окруженные седыми волосами губы Шермака перестали вздрагивать. Суворов снял шляпу и, склонив голову, стоял над конем, с грустью наблюдая, как постепенно тускнеют его большие добрые глаза.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Измена
Армия выступила в поход с некомплектными полками. Медлить с пополнением не приходилось и часа. Суворов отправился в Смоленск и там сразу с головой окунулся в дело формирования третьих батальонов, не думая более ни о чем.
На это ушло все лето. Суворов скакал между Ригой и Смоленском, между Смоленском и Новгородом. Пополнения приходили пестрые, частью из плохо обученных солдат, частью из рекрутов. Офицерами назначали недорослей из гвардии. Большинство из них ничего не смыслило в военной службе. Они не только не могли учить солдат, но сами не умели стрелять, а многие даже боялись взять в руки ружье, а от холостого выстрела из пушки приходили в трепет. Суворов требовал присылки старых солдат, чтобы их поставить в батальон учителями. Военная коллегия отказала, ссылаясь на то, что старые солдаты нужнее в действующей армии. К отзыву этому член Военной коллегии генерал Василий Иванович Суворов присоединил в письме к сыну свой совет: «Сделай из них хоть видимость войска. А там понюхают пороха — неволей станут солдаты». Но немало забот требовалось и на то, чтобы придать запасным батальонам хоть видимость войска: для этого надлежало по крайней мере обуть солдат в сапоги и одеть в мундиры, а сапог и солдатского сукна не хватало и для действующей армии.
С театра войны шли дурные вести. Русские войска под командой Апраксина двигались медленно, к выгоде прусского короля, который, обороняясь, наносил короткие удары каждой из союзных армий в отдельности. Русская армия вступила в пределы Прусского королевства. Фермор взял Мемель, оставил там гарнизон и присоединился к главным силам русской армии. Первая большая битва с пруссаками произошла на Гросс-Егерсдорфском поле, куда вывел свою армию Апраксин, встревоженный налетом гусарского разъезда пруссаков. Поле было обширно. Армия русская выстроилась, словно на большой парад. Сам Апраксин выехал перед войсками почти с той же пышностью, с какой покидал Ригу. Впрочем, на этот раз он был не в карете, а на боевом коне; за ним вели еще несколько запасных коней в расписных попонах, ибо предполагалось, что под фельдмаршалом может быть в сражении убит не один, а два или три коня…
Позиция, выбранная по совету Фермора при Гросс-Егерсдорфе, была удобна для боя.
Казаки выскочили вперед и завязали с пруссаками перестрелку. Те отвечали из леса редкими выстрелами. День склонялся к вечеру. Неприятель не показывался. Наконец Апраксин убедился, что противник не хочет принять бой, и приказал армии отступить в лагерь.
— Мы кое-чего достигли, Василий Васильевич: враг нас боится, — сказал Апраксин Фермору.
— Да, — согласился тот, — но и они тоже кое-чего добились: они нас сосчитали точно до одного. А знаем ли мы, кто перед нами и сколько их? И где они очутятся утром?
В сумерках русские войска уже находились в палатках. Из-за леса грохнула пушка и послышались барабаны: в прусском лагере били зорю. Очевидно, король расположился на ночь, находя, что место для него удобно.
К темну неожиданно отдали приказ: вывести солдат на фронт, снабдить провиантом на три дня, полками ночевать в ружье.
Намерение фельдмаршала знали и понимали не многие. Наутро оказалось, что он решил обойти пруссаков, укрытых за лесом, и принудить их к бою. Движение началось по узкой дороге и частью прямо лесом. Предполагали, что немцы остаются в своем вчерашнем положении, но, к удивлению, выйдя в поле, убедились, что пруссаки, покинув лагерь, заняли те самые удобные позиции, на которых русская армия стояла вчера. Немцы провели Апраксина. Завязался бой и продолжался до вечера. Русский фельдмаршал не мог ввести в сражение и половину своих сил. Победа склонялась на сторону пруссаков. Потери русской стороны возрастали от меткого огня прусской пехоты и атак кавалерии. Солдаты русские гибли, но не пятились. Бой решили два русских пехотных полка. Они шли по задуманному Апраксиным плану — в обход леса. Фермор вернул их и повел прямо густым лесом к полю битвы. Выйдя из леса, полки построились и без выстрелов ударили в штыки. Внезапная атака с фланга смешала ряды пруссаков. Первая их линия отступила поспешно. За дымом и пылью во второй линии пруссаки своих приняли за русских и открыли огонь. Все смешалось. Пруссаки отступали, бросая пушки и зарядные ящики.
Апраксину советовали продолжать преследование врага, что было возможно сделать, введя в бой свежие войска. Фельдмаршал приказал остановиться. Прусский главнокомандующий Левальд отошел с остатками разбитого своего корпуса к Велаве, в укрепленный лагерь.
После победы при Гросс-Егерсдорфе русской армии открылась дорога к главному и богатейшему городу Восточной Пруссии — Кенигсбергу. Идти туда настаивал на военном совете Фермор, но Апраксин на это не решился.
В Петербург поскакал курьер с донесением о победе. Похоронив убитых, русская армия через несколько дней услыхала на заре, что бьют не зорю, а генерал-марш. И солдаты и офицерская молодежь обрадовались: они рвались вперед. Но, пройдя не более пяти верст, Апраксин приказал остановиться. Такими черепашьими переходами русская армия достигла реки Лань, за которой открылся прусский лагерь при Велаве. И лагерь и город пруссаки успели защитить редутами и батареями.
Прошло несколько дней в поисках переправ. 29 августа Апраксин внезапно отдал приказ отступать. Известие это всех поразило. Солдаты и офицерская молодежь открыто роптали. Говорили об измене генералов. Началось отступление. Оно велось с поспешностью, всех изумлявшей. Дисциплина в армии пошатнулась. Войска расстроились. Артиллерия и конница не вмещались на дорогах, топтали и уничтожали посевы. Армию останавливали лишь для служения по разным поводам торжественных молебнов, после чего производили пальбу из пушек и ружей, не жалея пороха.
Наступила осенняя распутица, а затем первые холода. Армия остановилась на зимние квартиры в Курляндии. Из Петербурга прискакал курьер с повелением Апраксину сдать команду генерал-аншефу Фермору и самому со всем поспешением ехать в Петербург, чтобы лично дать объяснения своим поступкам.
От курьера разгласилась в армии причина столь разительной перемены в судьбе надменного фельдмаршала, и поспешное отступление русской армии из Прусского королевства сделалось понятным.
После сражения при Гросс-Егерсдорфе Апраксин получил тайное известие о том, что Елизавета Петровна опасно заболела. Полагали, что она не выживет. После нее русским царем должен был стать Петр Федорович, принц Гольштейн-Готторпский. Наследник русского трона и его жена Екатерина были против войны с Пруссией. Поэтому-то Апраксин и поспешил загладить гросс-егерсдорфскую победу отступлением.
Петербургские политики ошиблись, Елизавета Петровна выздоровела.
От Апраксина в армии все отшатнулись. Фельдмаршал сдал командование Фермору. Провожаемый молчаливой кучкой штабных офицеров, Апраксин сел в простую ямскую кибитку, запряженную тройкой почтовых: его венская золоченая карета не могла бы выдержать далекого и скверного пути.
Прощаясь со своим штабом, Апраксин невнятно лепетал:
— Простите, судари, простите!
В кибитку с фельдмаршалом сел его адъютант Сергей Юсупов. На второй тройке вслед Апраксину поскакали его медик-итальянец и денщик.
Ехал Апраксин, почти скрываясь, избегая дорожных разговоров. Навстречу ему из столицы катилась волна новых тревожных слухов.
Апраксин от этих слухов занемог, понимая, что едет навстречу гибели.
В Нарву фельдмаршал прибыл больным. Здесь Апраксину объявили повеление не допускать его до Петербурга и, арестовав, судить в Нарве. Следственная комиссия столицы находилась тут же. Она не могла приступить к следствию — Апраксин впал в беспамятство.
Суд не успел вынести никакого приговора — через несколько дней Апраксин умер.
Перелом
Война продолжалась. Фермор, выждав, когда замерзнет Куриш-гаф, по льду перешел залив и подступил к столице Восточной Пруссии — Кенигсбергу. Гарнизон крепости мог сопротивляться, и кенигсбергское купечество, предвидя близкий конец царствования Елизаветы Петровны, а с тем и конец войны, согласилось с прусскими помещиками, и кенигсбергское правительство изъявило полную покорность русскому командованию, боясь в противном случае разгрома столицы. Русские войска торжественно вступили в Кенигсберг. Во всех немецких кирках звонили колокола, на башнях города играли оркестры трубачей. Главнокомандующий занял королевский замок. Население присягнуло Елизавете Петровне. В Кенигсберг назначили русского генерал-губернатора, однако же немца, барона Корфа. Пруссия была присоединена к России.
Фридрих ничего не предпринимал для освобождения Кенигсберга. Прусского короля более заботила судьба Бранденбурга, и особенно главного города — Берлина, где находились военные промышленные заведения, пороховые заводы, фабрика солдатского сукна и большие склады амуниции. Сюда союзники могли направить решительные, сосредоточенные удары.
Фермор вынес ставку русской армии из стен Кенигсберга, чтобы скрыть от пруссаков свои намерения: Кенигсберг наполняли шпионы. Сам барон Корф, сторонник великого князя Петра Федоровича, взял на себя обязанности почтальона между наследником царицы и прусским королем, пересылая с доверенными лицами письма в обоих направлениях: из Петербурга — прусскому королю и от Фридриха — великому князю. Большой охотник весело пожить, к тому же человек богатый, Корф пленился женой одного из прусских магнатов, графиней Кайзерлинг, и стал игрушкой в ее руках. Корф задавал балы, устраивал маскарады, спектакли, гулянья. Помещики с семьями съезжались со всей Пруссии веселиться. Около пышного двора русского генерал-губернатора кишели шпионы. Графиня Кайзерлинг искусно выпытывала у Корфа военные секреты.
Если к этому прибавить, что вся переписка между Военной коллегией в Петербурге и штабом главнокомандующего Фермора шла через канцелярию барона Корфа, то неудивительно, что не только общие замыслы русских, но и все подробности о русской армии делались достоянием штаба прусского короля. Фридрих имел достаточно оснований не считать Россию главным своим противником. И вдруг, находясь при армии в Богемии и намереваясь идти на Прагу, он получил известие, что русские у крепости Кюстрин готовятся перейти главными силами через реку Одер, чтобы вторгнуться в Бранденбург. С четырнадцатью отборными батальонами пехоты и тридцатью тремя эскадронами конницы Фридрих бросился на выручку крепости.
За четырнадцать дней отряд Фридриха сделал невероятно быстрый марш, около ста двадцати миль,[51] но во Франкфурте король услышал пушечные выстрелы — русская артиллерия громила Кюстрин. При каждом выстреле Фридрих нюхал табак и отчаянно бранился. Кто бы мог подумать, что русские задумают переправу под тяжелыми пушками этой крепости! В несокрушимости Кюстрина никто не сомневался: со всей округи в крепость съехались со своими ценностями богатые люди.
Фридрих узнал, что Кюстрин, зажженный снарядами, пылает и покинут жителями и гарнизоном. Тогда король предпринял шаг отчаяния. Присоединив к своим войскам отряд фельдмаршала Дана, король ниже Кюстрина поставил мосты, перешел реку, думая застать русских на переправе и ударом в спину опрокинуть и реку.
Фермор угадал намерения Фридриха, отошел от города и занял боевой порядок при Цорндорфе. Русские построились в «ордер баталии» — четырехугольником, с обозами и конницами внутри. Фридрих считал такое построение самым неудобным для обороны и выгодным для нападающей стороны: он радовался, предвкушая легкую победу. Прусская артиллерия начала бить в середину четырехугольника, что вызвало в строе русских войск смятение и беспорядок; обозные кони бесились, нарушая построение пехоты, переброска бойцов с одного места на другое сделалась затруднительной.
Приказав уничтожить мосты и гати, чтобы отрезать русским обозам отступление, Фридрих послал свою пехоту в атаку на правый фланг русских — он знал, что тут находились молодые солдаты, еще не бывшие в боях. Правое крыло русских подалось под натиском пруссаков. В это время Фермор приказал открыть дорогу коннице из середины каре — русская кавалерия напала на прусских гренадеров. Тогда старые полки, бывшие на левом русском крыле, обрушились на пруссаков.
Завязался ближний бой. Порох кончился у обеих сторон. Бились штыками, саблями и шпагами. Фридрих до начала боя приказал не щадить русских. «Их надо не побеждать, а уничтожать, иначе они снова и снова возвращаются», — сказал он. Но это-то как раз оказалось не по силам пруссакам. Бой разбился на множество отдельных боев и даже поединков. Обе стороны очутились в равных условиях. Русские кучками и в одиночку отчаянно бились с врагом.
Наступила ночь. Обе армии остались под ружьем на поле битвы. Утром Фридрих отошел к Кюстрину.
Цорндорфская битва решила судьбу всей кампании. Фридрих отошел со своей армией. Он выигрывал время, чтобы вновь собраться с силами. Русские его не преследовали.
В армии роптали, обвиняли Фермора в неумении. Австрийцы жаловались на него в Петербург.
Военная коллегия назначила главнокомандующим Салтыкова. Фермора у него оставили начальником штаба. Все дивились назначению Салтыкова: он командовал до того на Украине полками ланд-милиции, то есть ополчением. Новый главнокомандующий ничем не был знаменит, но Фермор знал его, и Салтыков знал Фермора.
Путь Салтыкову из Петербурга в армию лежал через Мемель, где пребывал в должности русского коменданта премьер-майор Александр Суворов.
Прибыв в Мемель, новый главнокомандующий смотрел утром вахт-парад гарнизона, а затем внимательно обследовал его хозяйство. Перед отъездом Салтыков приказал построить гарнизон во взводные колонны и подозвал к себе офицеров.
— Так, сударь мой, — заговорил он, обращаясь к Суворову, — вижу, что ты не чураешься новизны. В атаку твои солдаты ходят браво. Примера сквозной атаки я доселе еще не видывал… Что же тут сидишь?
— Хочу в чисто поле, да лестница крута…
— Вот что, сдавай-ка сегодня же должность кому посмышленей. Едем со мной в Кенигсберг!
Суворов просиял.
— Барабаны! — крикнул он звучно. — К кашам!..
Заиграли горнисты, зарокотали барабаны. Салтыков подошел к группе офицеров и сказал:
— Господа! Огорчу вас несколько — я забираю у вас командира…
Лица у офицеров прояснились. Один из них не мог сдержать легкое восклицание радости.
Салтыков угадал: офицеры не любили взыскательного командира.
— А теперь спросим солдат, — сказал Салтыков. — Солдаты! Довольны вы вашим комендантом? — крикнул он, подходя к фронту.
По рядам пробежал ропот.
— Ага! — Салтыков повернулся к Суворову: — Слышишь, как они тебя хвалят? Видно, ты им в шашки не давал играть. Хороший у вас командир, братцы, — продолжал Салтыков, — бережет вас, но я у вас его беру себе. Он в армии будет нужнее…
Глухой ропот, который можно было принять за выражение недовольства Суворовым, сменился общим криком солдат. В смысле того нельзя было сомневаться: солдаты не хотели расставаться со своим командиром.
Салтыков махнул палкой. Крики смолкли. Не слышно было и ропота.
В наступившей тишине Салтыков сказал:
— Ну уж нет, братцы. От слова не отступлюсь. Вините тех лодырей, что ворчать вздумали. А теперь покормите меня обедом у артельного котла.
— Ура! — крикнул Суворов.
— Ура! Ура! — отозвалось в рядах.
Суворов ликовал — в его жизни совершился перелом.
Победа
Корф приготовил Салтыкову пышную встречу. Главнокомандующий отклонил все торжества, отказался от большого, пышного парадного обеда и бала в замке. В три дня, в сопровождении Дубасова, Суворова и своего адъютанта, Салтыков обошел город и всему дивился:
— Ай-ай! Такой город — и ни одной церкви!
— Вот же кирка, — указывал Суворов.
— Да что это за церковь? Наверху петух вместо креста! А богато живут!..
Никем не замеченный, Салтыков покинул Кенигсберг и направился к армии.
Место сбора всех русских сил назначалось в Познани. Здесь Салтыков произвел смотр, и в тот же день пробили генерал-марш. Армия в составе шестидесяти тысяч человек направилась к границам Бранденбурга. На соединение с русскими шел Лаудон с двадцатитысячным австрийским корпусом, в котором преобладала конница.
Фридрих послал молодого генерала, своего любимца Веделя, помешать соединению русских с австрийцами. Пылкий и решительный Ведель не задумался со своими небольшими силами кинуться на русскую армию при Пальците, разбился о массу русских войск и отступил в беспорядке, оставив в руках победителей знамена, штандарты, пушки, пленных. Соединение русских и австрийцев произошло после этого беспрепятственно.
Заняв Франкфурт-на-Одере, армия Салтыкова готовилась к переправе. Можно было ждать, что король сам явится с войском, чтобы остановить угрожающее Берлину движение русских.
Суворов и Фермор встретились во Франкфурте, как старые знакомые.
— Я возьму его к себе дежурным майором, если только он согласен, — сказал в присутствии Салтыкова Фермор.
Суворов молча поклонился.
Ожидание, что король явится сам во главе сильной армии, чтобы помериться силами с русской армией, оправдалось. Разведка определила силы, с которыми идет король, в пятьдесят — шестьдесят тысяч.
Фермор и Суворов объехали на конях окрестности Франкфурта и предложили главнокомандующему Салтыкову встретить Фридриха на высоком берегу Одера, у деревни Куннерсдорф.
По диспозиции, русские войска располагались в две линии в таком порядке: на правом фланге высоты над обрывом занимал испытанный в боях корпус Фермора; ниже, посредине, предполагали поставить обстрелянные полки Румянцева, а на левом фланге, под обрывом глубокого оврага, — новый корпус Голицына, образованный из тех самых батальонов, которые формировал и обучал по-своему в Курляндии Суворов, чтобы придать им хотя бы «видимость» солдат.
Здесь, над гребнем буерака, Фермор показал место ретраншемента: рва и вала для батареи из восьмидесяти орудий и окопов для пехоты.
Начерченное на бумаге расположение русской армии, усиленной австрийской конницей под командой Лаудона, очень походило на большую косую букву «Т». В старинной русской азбуке букву «Т» называли словом «твердо».
— Мы стоим твердо, — говорил Суворов. — Пусть король попробует атаковать нашу позицию.
Буква «твердо» на чертеже пересекала своей вертикальной чертой селение Куннерсдорф. Плечи буквы лежали на прибрежных высотах. Стрела острием вправо указывала течение реки. Слева от «Т» простиралась большая топь с болотистой речонкой посредине, сбегающей к Одеру. Через топь шла гатью дорога с переброшенным через нее мостом. Справа от буквы «Т» находились труднопроходимые, пересеченные места, высоты и лесистые холмы перемежались долами. Нижним своим концом буква «Т» опиралась на гребень обрывистого оврага, укрепленный 80-пушечной батареей. Противоположный берег оврага, покатый, исчезал в густом лесу.
Приготовление поля сражения к бою закончилось. К ночи на 1 августа русская армия стала в боевом порядке по намеченной диспозиции.
Суворова волновали неизъяснимые чувства. До сих пор он читал описания или слушал рассказы о сражениях, некогда бывших, теперь он воображал себе битву предстоящую, и то, что совершалось на его глазах, мало походило на все описания. Ни на одной картине прошлых боев армии не стояли так, как русская армия стояла тут, но выбранное им с Фермором место предписывало ставить войска так, а не иначе.
Наступила ночь. Загорелись костры. Русская армия стояла открытым биваком, не маскируя своего расположения. С вершины холма Шпицбергена, увенчанной короной звездообразного редута, где посредине поставили шатер Салтыкову, ясно вырисовывалась линиями огней кривая буква «твердо». Здесь стояли новые, так называемые шуваловские, гаубицы.
Ночь прошла спокойно.
На рассвете казаки донесли, что прусская армия, совершив обход по левому берегу Одера, переправилась на правый берег, не выше Куннерсдорфа, как ждал Фермор, а значительно ниже Франкфурта — у Кюстрина, и без отдыха двинулась усиленным маршем вверх по реке. Фридрих шел, по обыкновению, без обозов. Пруссакам пришлось идти то в гору, то под гору, обходя встречаемые на пути озера.
— Так он потеряет половину людей в пути, — сказал Салтыков. — Задумается.
— Он будет атаковать нас с чем пришел, — ответил Суворов.
День настал безветренный и жаркий. Солдаты короля шли в облаке пыли, изнемогая от жары и жажды. Только к полудню армия прусского короля достигла окрестностей Куннерсдорфа.
Фридрих с вершины холма увидел открытый бивак русской армии и не мог скрыть смущения и гнева.
— Это как шахматная доска, — сказал он любимцу своему Веделю.
— Но фигуры стоят неправильно. Я вижу в их построении новизну. Это совсем не то, что при Цорндорфе.
Фридрих убедился, что первоначальный план его, простой и ясный, невыполним. Он предполагал атаковать русскую армию с трех сторон разом, чтобы прижать ее к реке и уничтожить. Но по самой численности своей соединенные силы русских и австрийцев (их вместе было более восьмидесяти тысяч) занимали настолько обширную площадь, что для охвата и трехсторонней атаки не могло быть достаточно сорока тысяч солдат, которыми располагал бы король, если бы он мог ждать отставших.
Оставалось найти в позиции русской армии слабое место, чтобы, ударив по нему, проникнуть на пространство, занятое русскими.
Боевой порядок русских показывал, что они согласны принять сражение. Фридрих пришел, чтобы дать битву. Ретироваться без боя — значило подвергать прусскую армию, утомленную длинным маршем в знойный день, опасности разгрома, потому что русская и австрийская конницы превосходили прусскую числом.
Решение требовалось быстрое. Фридрих заметил, что левый фланг русских прикрыт со стороны оврага батареей; но этот овраг позволял пруссакам накопить силы для атаки.
Тяжелые пушки пруссаков, взятые Фридрихом из Кюстрина, начали бить по ретраншементу над гребнем оврага, на левом фланге русского расположения. Намерение Фридриха стало ясно. Под прикрытием артиллерийского огня прусские гренадеры вышли из леса и двинулись через пологий скат оврага в атаку…
Прусские гренадеры под картечным огнем русской батареи перебегали овраг. Многие из них пали мертвыми. Но за первым рядом последовал второй и третий. Из леса выбегали всё новые солдаты, и в полчаса под защитой крутого яра, где их не могла достичь картечь, накопилась большая сила. Фридрих, находясь в лесу за оврагом с конницей, послал гренадерам приказ идти в атаку. Яростно кинулись пруссаки вверх по крутому склону. Их встретили в упор картечью, а потом из окопов — ружейным огнем. Но пруссаки овладели ретраншементом и отбросили в поле два голицынских полка.
Голицын находился в первых линиях и с хладнокровием, которого от него не ожидали, отдавал приказания, развертывая первую линию своих полков вправо, вторую — влево.
В этот решающий момент к нему подскакал Суворов. Именем главнокомандующего Суворов приказал увозить полковую артиллерию и ставить ее по холмам.
Буква «твердо» опрокидывалась. Там, где был раньше ее слабый нижний конец, вырастали могучие плечи.
Пруссаки теснили голицынские полки. Вскоре корпус Голицына был оттеснен почти до деревни Куннерсдорф, и у короля явилась возможность вывести на поле битвы всю наличную свою пехоту и часть конницы. Но высоты над рекой и Шпицберген оставались в руках русских. Румянцевский корпус только вступил в бой. Корпус Фермора еще не двинулся.
Фридрих тем не менее считал битву решенной. Прижатой к реке русской армии оставалось, по мнению короля, отступать через болото, где единственный мост уничтожили сами русские. Тесный понтонный мост, наведенный ими на левом берегу Одера, не мог серьезно помочь переправе. Отступление в сторону Франкфурта тоже представлялось невозможным. Отступать к Франкфурту — значило подвергнуть армию губительному удару во фланг…
День клонился к вечеру. Фридрих появился на поле битвы в сопровождении своих генералов. Среди дня в штаб короля явился курьер от Фердинанда, герцога Брауншвейгского, с известием о том, что им разбиты французы при Миндене.
— Оставайтесь здесь, чтобы отвезти герцогу в ответный комплимент известие о нашей нынешней победе, — сказал король посланцу герцога.
В нетерпеливом ожидании, что вскоре с русской стороны явится трубач с парламентером для переговоров о сдаче, Фридрих поторопился отослать герцогу Брауншвейгскому его курьера с известием о полном разгроме русской армии.
Трубач не явился. Бой затихал. И понятно: первыми Фридрих ввел в битву гренадеров, которые раньше пришли к месту боя, сделав пятнадцатичасовой марш. То были самые выносливые люди. Они овладели левофланговым русским укреплением. Но лучшая часть их пала, исколотая штыками молодых суворовских учеников. К Фридриху подходили отставшие, менее стойкие части пехоты. Он их немедля, без передышки, посылал в атаку. Конница в боях Фридриха обычно следовала за первой атакой пехоты. Сегодня пришлось изменить этому тактическому приему: большую часть кавалерии, из-за усталости коней неспособную к бою, Фридрих послал вправо и влево в охват русского расположения, думая этим убедить русских, что им нет отступления вдоль реки. При себе король оставил только лучшие гусарские эскадроны. Между тем у русских легкие войска Тотлебена и Лаудона сохранили свежими коней. А на высотах стояли вне огня прусских орудий несокрушимые, хотя и стесненные силы Румянцева и Фермора.
Король не хотел и не мог удовлетвориться полупобедой.
— Русские сжимаются пружиной, — сказал Фридрих. — Если эта пружина сорвется, то ударит больно. Что вы думаете, Зейдлиц? — обратился Фридрих к своему старому генералу.
— Ваше величество, ваши солдаты истощены маршем, зноем и боем. Продолжать сражение опасно.
— Что ж, я должен отойти? Одержав победу? А что ты скажешь, Ведель?
— Атаковать, государь! Мы их всех загоним в реку и в болото! — ответил Ведель, видя, что Фридрих желает продолжать битву.
— Итак, марш вперед! — воскликнул Фридрих.
Он сам повел полки в атаку. Первой целью он назначил покинутую русскими батарею на еврейском кладбище. Овладев этой высотой, можно было снова начать артиллерийский обстрел противника. Но здесь на пруссаков обрушилась конница Тотлебена и Лаудона. Русская пехота двинулась за ней.
Заговорили шуваловские гаубицы, поражая пруссаков навесным огнем. Огонь тяжелой русской артиллерии явился для Фридриха полной неожиданностью. Пруссаки дрогнули и смешались.
Под Фридрихом снарядом убило лошадь. Ружейная пуля ударила в грудь короля, и только готовальня в золотом футляре спасла его от смерти: пуля расплющилась о футляр.
Фридрих в бессильной ярости воткнул шпагу в землю. Он в первый раз за всю свою боевую жизнь видел, что его войска постыдно бегут. Да, не отступают, а бегут.
— Неужели для меня не найдется ядра? — воскликнул Фридрих.
Ему подали нового коня. Он медлил садиться. Налетели австрийские гусары. Королю грозил плен. Встречная атака эскадрона прусских гусар спасла короля от постыдного плена. Австрийцы целиком изрубили гусар, но схватка эта все же дала королю время ускакать с поля битвы. Ему осталось одно: спасаться в потоке перемешанных, бегущих прусских полков, преследуемых конницей противника.
Смеркалось, когда Салтыков со своими генералами направился верхом обозревать поле битвы. Барабаны и горны звали рассыпанные русские полки под знамена. Местами солдаты кидали вверх шапки и кричали генералам «ура». Множество солдат бродило по боевому полю, опознавая убитых, поднимая раненых. Казаки сгоняли пленных в одно место.
Объехав поле битвы, Салтыков вернулся в свой шатер на Шпицбергене. Его поздравляли с блестящей победой.
— Да, да, победа! — отмахивался Салтыков. — Вы скажите лучше, что нам теперь делать?
— Я пошел бы тотчас на Берлин, — пылко воскликнул Суворов, — и войне конец!
— «На Берлин, на Берлин»! — передразнил Суворова Салтыков. — Тебя, молодой человек, не спрашивают. Поеду-ка я лучше в Питер да спрошу самое царицу.
В то время, когда шел этот разговор в ставке Салтыкова, в Берлин уже скакал курьер с письмом от короля.
«Уезжайте из Берлина с семейством, — писал Фридрих своей жене. — Архивы следует перевести в Потсдам: возможно, что столица будет занята врагом».
Своему брату в Берлин Фридрих написал:
«Из сорокавосьмитысячной армии я в настоящее время не имею и трех тысяч. Все бегут, а я теряю мужество. Стряслось ужасное несчастье. Я не вижу выхода из положения и, чтобы не солгать, считаю все потерянным. Прощай навеки!»
Ночь прекратила преследование пруссаков русской конницей. Сделав распоряжение, чтобы утром обломки разбитой армии переправились обратно за Одер, Фридрих устроился на ночь в пустой, разоренной халупе с выбитыми окнами. Он заснул не раздеваясь, закрыв лицо шляпой, с обнаженной шпагой под рукой. В ногах его на голой земле устроились на ночлег два королевских адъютанта.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Суздальский полк
В следующем, 1760 году в конце кампании, ознаменованной несколькими победами русской армии, Салтыков заболел и сдал командование Фермору. Предложение Суворова о походе на Берлин теперь могло осуществиться: на его стороне были Фермор, Румянцев, Чернышев и Тотлебен. Фермор собрал военный совет в Каролате. Совет решил предпринять поход на Берлин, пользуясь тем, что французы отвлекли Фридриха на западную границу Пруссии. Корпус генерала Чернышева двинулся на Берлин. Впереди шел авангард из русских легких войск под командой Тотлебена, который раньше жил в Берлине и хорошо знал тамошние порядки. В авангарде Тотлебена находился подполковник Суворов.
В полдень 22 сентября (3 октября) Суворов во главе драгунского эскадрона появился на высотах перед Галльскими воротами прусской столицы. На склоне дня пришел и весь отряд Тотлебена.
Трубач с требованием о добровольной сдаче столицы поскакал к городским воротам. Пруссаки ответили отказом. Хотя берлинский гарнизон насчитывал едва тысячу человек, но ему на помощь спешил принц Евгений с пятью тысячами человек померанских войск и восьмитысячный отряд генерала Гильзена. Тотлебен начал бомбардировать Берлин и послал гренадеров штурмовать окопы перед воротами столицы. Бой продолжался до ночи. Принц Евгений подоспел к Берлину и на следующее утро оттеснил гренадеров Тотлебена. К русским войскам подошел корпус Чернышева. Пруссаки усилились отрядом генерала Гильзена. Мог завязаться большой бой.
Берлинские бюргеры уговорили своих генералов, во избежание гибели столицы, прекратить сопротивление и сдать город русским. Королевские войска покинули столицу. Магистрат Берлина принял условия сдачи, продиктованные русскими, ворота города растворились, и глава магистрата коленопреклоненно поднес на блюде ключи Берлина русскому генералу.
Русская конница с развернутыми знаменами появилась на улицах немецкой столицы.
Наложив на Берлин дань в полтора миллиона талеров, уничтожив пороховые мельницы, королевские амуничные фабрики и военные запасы, союзники покинули Берлин.
Салтыкова на посту главнокомандующего сменил Бутурлин, один из последних денщиков Петра I. Назначение Бутурлина приписывали жене Петра Федоровича, великой княгине Екатерине Алексеевне. Оно удивило армию еще больше, чем назначение Салтыкова. Прусские отряды старались затруднить снабжение неприятеля: нападали на русские обозы, делали налеты на места, где находились склады продовольствия и амуниции. Австрийцы и русские отвечали тем же: налетами и набегами.
В эту пору войны Суворов покинул штаб армии, перешел в кавалерию, получил драгунский полк и вскоре сделался в войсках более известен, чем многие генералы. Бутурлин хорошо знал Суворова-отца, благоволил и к сыну. Не раз Бутурлин писал Василию Ивановичу, хваля подполковника Суворова. С небольшими силами конницы и пехоты Суворов совершал отчаянно смелые набеги, не задумываясь нападать внезапно на более сильного противника. «Удивить — победить», — говорил он. Удача неизменно сопутствовала Суворову в его отважных предприятиях.
Василий Иванович в конце войны тоже находился в действующей армии. Сначала он заведовал продовольствием, а затем получил назначение на место Корфа — генерал-губернатором Пруссии в Кенигсберг. Но умерла давно хворавшая Елизавета Петровна, русским царем сделался Петр Федорович, принц Гольштейн-Готторпский. Новый царь преклонялся перед Фридрихом Прусским, видя в нем и великого полководца и образец государя. Петр III не только отказался продолжать войну, но даже заключил с Фридрихом военный союз. Армия русская еще оставалась в пределах Пруссии, и русским генералам и солдатам было трудно усвоить такой крутой поворот.
Старика Суворова вызвали в Петербург. Он получил назначение в Сибирь тобольским губернатором, что равнялось ссылке. Гвардейцы роптали: Петр III круто принялся вводить в гвардии строевые прусские порядки. Против нового царя образовался военный заговор. В нем участвовал и Василий Иванович Суворов, задержавшийся в столице и не уехавший в ссылку. В июле 1762 года произошел переворот. Василию Ивановичу поручили обезоружить голштинцев, личную охрану Петра.
Василий Иванович явился в Ораниенбаум с отрядом гусар, арестовал голштинских генералов и офицеров и отправил их в Петропавловскую крепость, а рядовых перевез в Кронштадт. Лишенный своей единственной защиты, Петр хотел бежать, но был схвачен и убит. Гвардия посадила на престол его жену, Екатерину: она участвовала в заговоре против мужа. Чтобы не раздражать армию, Екатерина отказалась от союза с Фридрихом, но не захотела продолжать войну. Без России союзники не могли бороться с прусским королем. Семилетняя война кончилась.
Екатерина отменила почетную ссылку Василия Ивановича Суворова. Он остался в Петербурге членом Военной коллегии. Александр Суворов находился в это время при армии в Пруссии. После переворота его послали курьером с депешами в Петербург, где его ласково приняла новая царица. Собственноручным приказом Екатерины 26 августа 1762 года Суворов, произведенный в полковники, назначался временно командиром Астраханского полка. А весной следующего года полковник Суворов получил в командование Суздальский пехотный полк, стоявший в Новой Ладоге.
Приближались светлые майские ночи. В Суздальском полку ожидали приезда нового полковника, молва о котором далеко обогнала его самого. Старый военный устав еще не отменили, и Суздальскому полку предстояло первому испытать преимущества нового, еще не введенного устава. Новый полковник уже слыл за человека скорого и твердого в своих решениях, смелого и отважного командира, пылкого и основательного критика старых армейских порядков; штапы Суздальского полка и прочие офицеры, привыкнув жить и служить по старинке, надеялись, что новый полковник тем скорее свернет себе шею, чем горячей примется вводить новизну. Так всегда бывает при крупных общественных переменах — люди, враждебные новизне, говорят: «Это ненадолго». Старый полковник готовился к сдаче команды и был озабочен не тем, чтобы показать своему преемнику в блестящем виде людей и хозяйство своей части, — он возложил приготовление к смотру всецело на ротных командиров, сам же с казначеем поспешно приводил в порядок полковую отчетность, стараясь свести концы с концами: не хватало денег и документов, запасов и вещей.
Солдаты, готовясь к смотру, штопали дыры мундиров, чинили сапоги, чистили до блеска амуницию, чтобы ее сиянием на смотру прикрыть убогое состояние, в каком пребывал полк.
В день, когда ожидался приезд в Новую Ладогу Суворова, погода испортилась. Новый полковник утром в назначенный час не приехал. Суздальцы стояли на полковом плацу, выстроенные для смотра. Шквалистый ветер с моря гнал по небу густые облака. Они опускались все ниже. Среди дня сделалось сумрачно. С озера доносился шум прибоя, как гул далекой канонады. Хлынул секущий холодный дождь.
Суворова ждали с часу на час, с минуты на минуту. Он все не приезжал. Офицеры спрятались от непогоды в полковой избе. Солдаты мокли под дождем и роптали. Они просили позволения зажечь костры, чтобы согреться. Старый полковник не разрешал. Приближался вечер. Решили, что с Суворовым на Шлиссельбургском тракте стряслась какая-либо беда: лопнула ось или сломалось колесо. Полковник приказал бить вечернюю зорю. Барабанщики и горнисты вышли перед фронт. Пробили зорю. Унылая окрестность под вой ветра и шум дождя огласилась пением «Отче наш», и роты разошлись по светлицам, чтобы обсушиться, обогреться и поесть.
Настала ночь. В полку перекликались часовые. Угомон погрузил людей в тяжелую дрему, но не успели люди в светлицах и первый сон увидеть, как на полковом дворе снова грянули барабаны — они били генерал-марш, что означало поход. Обер-офицеры с ружьями и фонарями в руках бегали по светлицам и будили сержантов, сержанты — капралов, капралы поднимали унтер-офицеров, унтер-офицеры — рядовых. Поднялась суматоха. Солдаты поспешно одевались, разбирали из стоек мушкеты и выбегали на волю. На полковом дворе сновали с факелами фурьеры. Ветер срывал и уносил с факелов клочья пламени.
Дождь барабанил по крышам. С озера ясней, чем днем, доносилась канонада шторма.
У распахнутых растворов магазинов извозчики грузили, укрывали и увязывали возы. Фыркали кони.
Раздалась команда, полковой обоз пошел и скрылся в темноте.
Полк строился в походные колонны; унтер-офицеры скликали свои отделения… Скомандовали «направо», и солдаты, повернувшись, увидели перед фронтом группу всадников, освещенных беспокойным и смутным мерцанием багровых факельных огней. Тут были штаб-офицеры полка. Впереди них на рослом коне, в офицерской шляпе и плаще виднелся огромного роста человек. Привстав на стременах, великан скомандовал полку громовым голосом:
— Ступай!
Великан поскакал вперед, офицеры за ним. Факелы погасли. Барабаны ударили фельдмарш. Полк вышел за город, провожаемый лаем всполошенных дворовых псов, и вступил дорогою в лес.
Никто из суздальцев не знал, зачем их подняли ночью так экстренно. Переговариваясь, солдаты гадали: что же такое случилось? Уж не новое ли происшествие в столице, вроде летошнего, когда гвардия поставила на место царя Петра его жену Екатерину? Никто не сомневался, что великан на рослом коне и есть новый полковник. Если он приказал обозу идти вперед, значит, поход дальний — наверное, в Петербург. Кому-то из солдат взбрело на мысль, и он сказал товарищам в ряду, что новой царице недолго царствовать: новый полковник ведет суздальцев ставить в цари вместо нее младенца Павла, сына Петра III. Товарищи посмеялись. Однако догадка понравилась солдатам: они передавали ее по рядам из своего взвода в другой, из роты в роту, из батальона в батальон.
— Зря на такие дела не пускаются! Не шутка — полк в поход поднять…
— Так это как бы, братцы, у нас с гвардией сурьез не вышел: ведь гвардия вся за царицу!
— Пожалуй!
Говор в рядах стих. Не оттого, что солдаты призадумались над неизвестной целью внезапного похода, а потому, что дорога лесная была очень трудна: по мокрой глине разъезжались ноги, под сапогами все время хлюпала вода, сверху, с елей, порывы ветра стряхивали целые ушаты воды. Безмолвие в рядах сменилось ропотом. Солдаты бранили и старого полковника, и нового, и царицу Екатерину, и ее сына Павла, и все начальство сверху донизу. Никакой команды больше не подавалось. Обер-офицеры шли молча впереди взводов с мушкетами на плече, не останавливая ни ругани, ни говора солдат. Подняв воротники плащей и нахлобучив шляпы, ехали на конях ротные командиры.
В разрывы облаков глянули бледные звезды. Дождь перестал. Сделалось светлее. Полк на марше растянулся. Солдаты шли вразброд, с подоткнутыми полами плащей, обрызганные по пояс грязью; с плащей струилась вода. В одном месте на полянке суздальцы встретили на коне, обрызганном по пах грязью, солдата в синем намокшем плаще; голова солдата обвязана платком — видно, шляпу у него сбило веткой в лесу или снесло ветром. Солдат был чужой.
— Эй, служба! — крикнули ему из рядов. — Не знаешь, куда нас ведут?
— Знаю! — ответил солдат. — Прибавь шагу… Скоро! Скоро! Скоро!
Солдат, оглядывая угрюмые лица суздальцев, пропустил несколько взводов, хлестнул коня нагайкой и ускакал вперед.
Дорога расширилась. Полк вышел на открытое место, подтянулся. Скомандовали:
— Стой!
Солдаты увидели перед собой большую поляну. Вдали, у края леса, — старинный монастырь, окруженный белой каменной стеной. На колокольне били в малый колокол к заутрене. Ворота под колокольней заперты.
Перед полком на бугорке стояли кружком на конях штаб-офицеры, сняв шляпы, и старый полковник, сердитый, в шляпе, нахлобученной на глаза; все они смотрели мокрыми курицами. А среди них — встреченный полком в лесу на рассвете солдат в синем плаще, с обвязанной платком головой. Он что-то говорил, рубя левой рукой, а в правой, опущенной, — нагайка. Офицеры в смущении молчали. Поодаль на рослом жеребце сидел ночной великан. Это был Прохор Дубасов. Тот же, кого суздальцы приняли за солдата, оказался новым их полковником.
Суворов резко оборвал речь, огрел нагайкой коня и подскакал к полку:
— Здорово, братцы суздальцы!
Полк отозвался невнятным, нестройным гулом.
— Хотел я, суздальцы, привести вас к готовым кашам. Палатки приказал здесь на поле загодя поставить. Да, вишь ты, обоз с дороги сбился — не туда пошел. Не мудрено: в такую непогоду — статочное дело. Ну, что делать!.. Гляди-ка, братцы! — Суворов указал нагайкой на монастырь. — Печь в братской кухне топится. Отцы святые блины печь собрались. Сем-ка, я попрошу у них погреться!
Рокот смеха пробежал по рядам. Суворов ударил коня и поскакал к воротам монастыря.
С любопытством смотрели солдаты вслед Суворову. Туда же обернулись и командиры на конях, но никто из них не двинулся с места.
Суворов подскакал к воротам и постучался в них кнутовищем. Из калитки вышел монах. Суворов ему что-то говорил. Монах отмахнулся, развел руками и ушел назад, затворив за собой калитку. Суворов ждал. Монах вернулся и с поклоном что-то доложил.
Суворов постоял минуту, взвил коня на дыбы и поскакал к полку.
— Вот, суздальцы, беда! — весело крикнул Суворов, осадив коня перед фронтом. — Зовет меня архимандрит с господами офицерами на блины и чашку чая. А вас-то, слышь ты, много, пустить не хочет. Признаться, я люблю чаек, да вас мне жалко…
Суворов опустил голову, как бы задумавшись. Встряхнулся, расцвел улыбкой и крикнул:
— Приказываю взять монастырь штурмом! Прапорщики, со знамен чехлы долой!
Развернулись, защелкав на ветру, полковое и батальонные знамена. Командиры подскакали к своим ротам. Послышалась команда: «Бегом — ступай!» Суворов поскакал к монастырю. Суздальцы, взяв ружья наперевес, побежали к монастырю с криками и смехом вслед Суворову. За ним скакал Дубасов. На холме остался один старый полковник. Он сделал из руки козырек, не веря глазам своим. Потом покачал головой, тронул коня с места и поехал прочь от монастыря, обратно в Ладогу.
Солдаты сгрудились у монастырских ворот и криками требовали, чтобы им открыли. Оттуда не отзывались. Не принимая дела всерьез, офицеры перестали командовать. Солдаты окружили монастырь муравьиной хлопотливой толпой, не зная, как и к чему приступиться. Суворов указал нагайкой на кучу бревен, заготовленных для монастырских надобностей. Один из суздальцев уловил жест Суворова, бросился к бревнам с криком:
— Бери, ребята!
— Спасибо, удалец! — крикнул Суворов. Как звать?
— Иван Сергеев, — отозвался солдат. Эй ты, великан, слезь с коня, подсоби! — крикнул Сергеев Дубасову.
Прохор соскочил с коня и приподнял бревно с комля. К нему пристало еще несколько солдат. Солдаты с мерным криком начали бить бревном в ворота. Ворота затрещали. Из монастыря послышались крики.
— Ну-ка, раз! Еще маленький разок! Еще раз! — кричал Дубасов.
Откуда-то взялась высокая стремянка. Солдаты приставили ее к стене и полезли вверх.
На колокольне ударили в большой колокол всполох. Пустынная окрестность не отозвалась набату даже отголоском. Никто не бежал монастырю на помощь. Ворота сорвались с петель и рухнули.
Суворов скинул с головы платок и сбросил на руки Дубасову плащ. Солдаты увидели на Суворове полковничий мундир и боевой орден. Дубасов подал Суворову шпагу. Вложив шпагу в портупею, полковник обнажил ее и въехал в ворота. Барабаны ударили. За барабанщиками пошли прапорщики с развернутыми знаменами и двинулись, равняясь на ходу, солдаты.
Монахи бегали по двору черными тараканами.
На церковном крыльце стоял в полном облачении седой игумен с крестом в руке, дрожа от злости.
Суворов остановил коня перед крыльцом, скомандовав полку: «Стой!» Барабаны смолкли. Дубасов крикнул на колокольню, помахав шляпой:
— Брось колотить — всю медь вызвонишь!
Колокол умолк, но долго еще гудел ворчливо. Вложив шпагу в ножны, Суворов соскочил с коня, поднялся на крыльцо и преклонил колено. Игумен осенил его крестом, все еще дрожа. Приложившись к кресту, Суворов сказал:
— Ваше преподобие, не огорчайтесь! Сие не есть нашествие варваров, а практика военная. Дозвольте моим солдатам обсушиться, обогреться. Полковой обоз с дороги сбился. Накормите нас…
Сверлящими глазами игумен смотрел в лицо Суворова. Самообладание возвратилось к монаху.
— Добро, добро, сударь! — с угрозой заговорил он. — Вы за деяние ваше ответите… И перед богом и паче перед своим начальством.
— Сего не миную! А убытки и расходы вам вернутся из полковых сумм трижды!
— Ежели только так! — озаряясь вдруг улыбкой, ответил игумен. — Прошу вас вторично и господ офицеров ко мне на чашку чая. А братия позаботится о ваших солдатах, полковник! Отец казначей, проводи полковника в мою келью. А я пока разоблачусь. Ворота придется новые сделать…
— Постараемся, ваше преподобие, дайте срок.
Суворов приказал полку составить ружья. Поставив, где нашли нужным, часовых, ротные развели солдат по кельям. Монахи молча указывали, куда идти. В общежительных кельях, в трапезной, в братской кухне, пекарне — всюду до отказа набилось солдат. Сухие скудные запахи монастыря утонули в махорочном аромате, запахе мокрой шерсти и вкусном духе горячего черного хлеба, которым монахи наделяли солдат…
Отдохнув в монастыре, полк в тот же день пошел домой, в Новую Ладогу, провожаемый благословениями игумена: Суворов оставил ему форменную расписку, щедро отблагодарив за гостеприимство… Поручив полк на возвратном походе командиру первого батальона, Суворов поскакал, сопровождаемый Дубасовым, по лесной дороге прочь от Ладоги. Все недоумевали: куда он? Полк вернулся в Ладогу к ночи.
Светлицы полка гудели разговорами о новом полковнике. Нашлись среди солдат такие, кто знал отца Суворова, Василия Ивановича, и говорили, что если бы сын в отца пошел, то солдатскую денежку беречь должен, а он сразу монахам сумму за разбой отвалил. Другие — и таких оказалось большинство — остались очень довольны штурмом монастыря.
— Этот научит города брать!
Все сходились в одном: служить с новым полковником будет трудновато — наступают иные времена.
В полковой избе наутро после похода в ожидании Суворова собрались офицеры со старым полковником и тоже обсуждали странные, на их взгляд, поступки Суворова. Никто не сомневался, что игумен сделал только вид, что помирился с небывалым своевольством Суворова, а, наверное, пожалуется и губернатору, и архиерею, и в Военную коллегию. Большая часть командиров считала, что начало службы Суворова в Новой Ладоге будет и ее концом. Молодежь молчала, быть может сочувствуя новому командиру.
Новый полковник
Напрасно прождали командиры Суворова — день прошел, а он в Ладогу не возвратился. Старый полковник сделался мрачнее тучи и отпустил офицеров. Они разошлись по домам, недоумевая, что же случилось.
А Суворов пустился разыскивать полковой обоз. В тот день, когда его ожидали, выстроив полк для смотра, Суворов оставил свою повозку с пожитками у попа на попутном погосте, объехал с Дубасовым окрестности Новой Ладоги, выбрал место для лагеря и послал Прохора Ивановича с письмом к старому полковнику. К письму был приложен приказ выступить полку, часа не медля, вперед послать обоз, чтобы к приходу полка разбить лагерь.
Обоз заблудился. Дорог по лесам вокруг Ладоги не много, и Суворову после штурма монастыря не составило труда настигнуть обоз. Он стоял праздно. Командир извозной роты, не получая никаких приказаний, остановил обоз в лесу.
— Как это, сударь, вы меж трех сосен заблудились? — спросил командира Суворов. — По этой ли дороге вам приказано ехать?
— По той, где я стою, господин полковник! — угрюмо ответил командир.
— Дорога эта, сударь, ведет в Сибирь!
— И в Сибири люди живут! — мрачно ответил командир извозной роты.
— Ко дворам-то дорогу найдете? Не заблудитесь? — спросил Суворов, прощаясь с обозной ротой.
Командир ответил, что не собьется.
Возвратясь в Ладогу, Суворов приступил к приему полка от старого полковника. В денежном ящике у полкового казначея недостающую наличность покрывали долговые расписки офицеров, в том числе и командира полка.
— Не делайте меня, сударь, несчастным! — ответил старый полковник на немой вопрос Суворова. — Это жизнь. Вы молоды, а я стар. Карьера моя окончена…
Суворов опечатал ящик сургучной печатью и предложил полковнику осмотреть и проверить вместе с ним магазины.
Суздальский полк мало чем выдавался среди других. Числясь полевым, Суздальский полк в Семилетней войне не был, да и не мог быть, по запущенному своему состоянию.
Новый полковник задумал превратить Суздальский полк в боевую силу. Уроки Семилетней войны не пропали даром для русской армии — в ней начинались реформы. Вместо старого строевого устава, основанного в главных своих частях на регламенте Петра I, составлялся новый. То, что старый устав считался почти отмененным, а нового еще не ввели, дало Суворову возможность поставить Суздальский полк по-своему.
Приходилось, искоренив воровство, заново налаживать полковое хозяйство, поднимать расшатанную дисциплину, устанавливать субординацию.
Прежде всего Суворов сломал дурные барские привычки командиров. Взяв себе в денщики Фомку Кривого и Наума Рыжего, Суворов произвел первого в «обершенки», а второго в «лейб-медики». В новом звании главного повара Фомка Кривой легко управлялся, так как полковой командир неизменно кушал каждый день одно и то же: щи и гречневую кашу. Наум тоже оказался мастером: он не только умел брить и бритвы править, но и кровь отворять, пиявки ставить и многое другое не хуже ротного фельдшера. На попечение Наума Суворов отдал и своего донского жеребца: конь засекал ноги. Прохор Иванович, в звании камердинера, правил полковничьим домом, оставив себе священнодействие приготовления Суворову утреннего чая и вечером — постели.
Прочие денщики старого полковника, двадцать человек, вернулись частью в строй, а мастеровые — кто в швальню, кто в кухню, кто в столярню, кто в шорную, сапожную полка. Офицеры, поневоле принужденные последовать примеру нового командира, расставшись с даровой прислугой, роптали. Они привыкли считать солдат своими дворовыми людьми. Командиры ждали и надеялись, что Суворову не пройдет даром штурм монастыря. Хотя Суворов велел полковым плотникам сделать в монастыре новые ворота и щедро заплатил за угощение солдат, игумен не преминул пожаловаться архиерею. Он написал в жалобе, что сам Суворов и все солдаты его при штурме были весьма пьяны и осквернили обитель всяческим непотребством. Архиерей переслал жалобу в Синод. Обер-прокурор доложил о случае Екатерине. Она спросила отца Суворова, Василия Ивановича, верно ли, что сын его, полковник Суворов, сильно пьет. Василий Иванович ответил, что его сын по слабости желудка испивает вина весьма мало: разве одну рюмку в день за обедом. Екатерина не вняла жалобе игумена и сказала про командира Суздальского полка: «Оставьте его в покое. Я его знаю».
Известие, что в Петербурге только посмеялись, узнав про штурм монастыря, обескуражило офицеров Суздальского полка. Им осталось одно: подчиниться воле крутого полковника и приняться по его указанию за обучение солдат.
Полку предстояло идти в Петербург для летней караульной службы. Суворов неотступно смотрел за снаряжением к походу полкового обоза. Приказал наново вылудить котлы. Сварили новый квас, потому что старый перекис. Крупу взяли из вновь полученного транспорта. Насушили свежих сухарей. Починили палатки, конскую сбрую, хомуты. Вопреки правилам, Суворов приказал одеть солдат для похода в мундиры первого срока и выдать новые сапоги. По объявленному для похода приказу, дневки и ночлеги в полку назначались не в попутных селениях, а на биваках и в лагере. Штаб-офицеры без исключения идут с полком походом на конях. Обер-офицеры, как им полагается по старому уставу, пешие, с мушкетами на плече. Полковой лекарь и ротные фельдшеры следуют с полком.
Для солдат в полку все это было новостью. Обоз шел впереди полка. Становясь на бивак, солдаты находили готовую пищу. Приходя к месту, выбранному Суворовым для лагеря, солдаты видели, что палатки поставлены, а костры горят. Как в военное время, в лагере расставлялись сторожевые посты, отдавался пароль, часовых проверял сам полковник. Подымать полк с ночлега Суворов приказал с первыми петухами, что очень озаботило на первом ночлеге полкового адъютанта.
— Господин полковник! До ближнего селения десять верст, — доложил адъютант Суворову. — Боюсь, что петухов мы не услышим.
— Не беспокойтесь, сударь, я-то уж наверное услышу. Прикажите барабанщикам стать к моему шатру поближе…
Адъютант не мог уснуть. Едва задремлет, слышится петушиный крик. Вскочит, прислушается: все тихо. Еще рано было вставать, но адъютант поднялся, вышел из палатки и велел барабанщикам подсушить отсыревшие барабаны около костра. Алая заря, пламенея, двигалась над лесом вправо. Адъютант, засунув руки в рукава, ходил перед шатром Суворова и напрасно напрягал слух, надеясь услышать дальнее пение петуха. Ничего не было слышно, кроме досадного звона комаров.
Вдруг где-то совсем рядом захлопал крыльями петух.
— Кукареку!
Адъютант в испуге оглянулся и увидел выставленные меж пол шатра ладони… Ладони захлопали. В щель просунулась голова Суворова…
— Кукареку! — пропел он снова. — Кукареку!
— Генерал-марш! — крикнул адъютант.
Барабаны грянули поход. Раздвинув полы шатра, Суворов вышел из палатки уже одетый, в шляпе, шпорах и с нагайкой в руке. Полк поднялся. Пока нестроевая рота снимала лагерь и грузила фуры, Суворов приказал полку построиться и произвел небольшое учение. Обоз ушел вперед. После отдачи пароля двинулся взводными колоннами полк. Солдаты шли по приказу в амуниции с полной выкладкой, в ранцах, со штыками, примкнутыми к ружьям.
Суворов, пропуская мимо себя весь полк, требовал:
— Шире шаг! Шибче!! Шибче! Десяток отломаешь — отдых!
Затем, стегнув коня, Суворов обогнал полк обочиной дороги.
Полк растянулся на марше на две версты. Между взводами и ротами образовались большие разрывы. Когда голова колонны прошла десять верст, Суворов скомандовал первому взводу:
— Отбой! Снимай ветры![52] Кто устал — ложись. Кто нет — гуляй, играй, пой песни, пляши!
К первому взводу подошел второй, третий, рота за ротой, батальон за батальоном.
Дав первому взводу часовой отдых, Суворов скомандовал:
— Бегом! Ступай!
Пробежав шагов сто, взводный командовал: «Шагом!» — и тогда подымали следующий взвод. Так с перерывами двигался полк, то растягиваясь по дороге, то сжимаясь в тесную колонну. Через три часа перехода солдаты видели впереди бивачные костры; артельные старосты, выбивая ложкой трели по деревянной крышке котла, приглашали солдат к завтраку, а Суворов скакал вперед за головной частью обоза — выбирать место для лагеря на ночь.
Таким порядком полк пришел в Петербург и занял светлицы Семеновского полка, ушедшего в лагерь близ Красного Села.
Считалось, что караульный полк, неся сторожевую службу, тем самым делает все, что ему полагалось. Поэтому в военном кругу столицы немало дивились, увидев, что свободные от нарядов капральства Суздальского полка занимаются упражнениями на Семеновском плацу с раннего утра до завтрака и перед вечерней зарей.
До дивизионного, генерал-фельдмаршала Бутурлина, дошло, что в Суздальском полку занимаются и не по старому и не по новому уставу. Бутурлин послал Суворову сказать, что приедет смотреть полк на плацу инкогнито, как бы невзначай, и что вместе с ним совершенно секретно прибудет одна высокая особа. «Особа» просит, чтобы на нее никто не обращал внимания… Встречи не делать, почестей не отдавать.
В назначенный час Бутурлин явился на плац, и с ним Павел Петрович, сын Екатерины. Оба приехали на конях и остановились на краю дороги, как бы мимоездом, привлеченные зрелищем, которое им представилось. Суворов никому, даже полковому адъютанту, и словом не обмолвился о том, что предстоит смотр полку, хотя и негласный. Бутурлин и Павел показались на дороге, когда полку дали роздых. Ружья стояли, составленные в козлы по нескольку десятков, на земле валялись сброшенные ранцы. Одни солдаты стояли кружками — оттуда слышался веселый смех, там плясали, в другом месте пели, в третьем — боролись, даже дрались на кулачки.
Бутурлин и Павел переглядывались с изумлением — то, что они видели, не походило на унылую скуку, царившую на плацу во время учений гвардии.
Суворов, завидев фельдмаршала с его спутником, подъехал к ним и снял шляпу.
— Давненько, братец, я тебя не видал! — сказал Бутурлин.
— С кампании шестьдесят первого года, ваше сиятельство!
— Да. Так ты опять командуешь полком пехотным? А ведь ты лихой наездник!
— Надо знать одинаково все роды оружия, ваше сиятельство!
— Говорят про тебя, что ты все чудишь. Гляди — у тебя и одеты солдаты не по-людски. Они и на солдат не похожи.
— Граф, — воскликнул Суворов, вспыхнув, — я служил в лейб-гвардии солдатом! Семеновский полк мог построиться едва в час, а мои солдаты…
— Хотел бы посмотреть, — пробурчал Бутурлин.
Суворов поднял руку. К нему подскакал полковой адъютант.
— Капитан, прикажите полку строиться по батальонам взводными колоннами.
С явной насмешкой Бутурлин достал из кармана камзола брегет.[53]
Барабанщики ударили сбор. Поле мгновенно преобразилось. Суздальцы поспешно разбирали ружья, закидывали ранцы на спины, затягивали друг другу ремни. Флигельманы[54] заняли свои места. Командиры сзывали свою часть. Суета постепенно улеглась, крики смолкали. Из бесформенного скопления людей складывались плотные кирпичи взводных колонн. Штаб-офицеры заняли свои места. Барабаны смолкли. Бутурлин снова взглянул на часы и не мог удержать одобрительный возглас:
— Отменно! Но что это, милый, за фрунт? Где равнение в рядах? Что за интервалы? И что это в строю у вас, полковник, все шевелятся, головами вертят? У одних ружье на плечо, а у тех — у ноги. Во фрунте — все, как один, и каждый стой как мертвый.
— А у меня во фрунте все живые, — ответил Суворов.
Павел смотрел на Суворова и на солдат с любопытством.
— Граф Александр Борисович, представьте мне полковника.
Бутурлин повел рукой с поклоном в сторону Павла и назвал его имя.
Суворов дал шпоры коню и натянул поводья. Конь его встрепенулся, подобрался и стал как вкопанный, струнно трепеща каждой жилкой. Суворов сорвал с головы шляпу и опустил ее в руке к стремени.
Вытаращив глаза, наморщив лоб и хлопая веками, Суворов широко раскрыл рот. Лицо его молниеносно менялось, выражая то восхищение, то недоумение, то радость, то испуг. Павел слегка закинул голову назад, прищурился и самодовольно улыбнулся. Бутурлин все испортил. Взирая на уморительные рожи, которые строил Суворов, фельдмаршал не мог удержаться от веселого утробного смеха. Он схватился за живот, раскачивался в седле и гоготал на все поле. Вслед ему рассмеялся и Суворов.
Павел обиделся и, хмурясь, заговорил с Суворовым по-немецки:
— Сделайте, сударь, из вашей шляпы должное употребление. Она — для головы.
— Благодарю, ваше высочество, сегодня очень жарко! — ответил Суворов, обмахиваясь шляпой, как веером.
— Да нет же, полковник, поверьте мне — очень холодно. Дует северный ветер!
— Действительно, ваше высочество, скорее холодно, чем жарко.
— Накройтесь, сударь. Я разрешаю вам быть при мне с покрытой головой.
Надев шляпу, Суворов сказал:
— Мы почти слово в слово разыграли сцену из шекспировской трагедии о Гамлете, датском принце.
Лицо Павла озарилось. Он потянулся к Суворову, тронул к нему коня и шепотом спросил:
— Вы читали эту книгу, сударь?
— Да, только, к сожалению, в немецком переводе.
— Моя мать запретила мне читать эту книгу. И никто не хочет мне ее достать. Вы можете мне ее прислать? Это останется между нами… Я вас очень, очень прошу!.. Я вам приказываю!
— Мой долг повиноваться, ваше высочество.
— Смотрите же, вы мне обещали!
Павел кивнул головой и с места поднял коня в галоп. Суворов смотрел ему вслед. Лошадь Павла с кавалерийским седлом казалась чрезмерно большой. Бутурлин, слушая разговор Суворова с Павлом, перестал смеяться. Почти не понимая немецкой речи, фельдмаршал, наморщив лоб, старался уловить хоть общий смысл. Когда Павел ускакал, Бутурлин, теребя Суворова за рукав, потребовал ответа:
— Почему он рассердился? Вас фюр эйн бух?
— Бух — книга. Это не по вашей части, граф.
— Смотри ты, «бух»! Ты у меня чего-нибудь не бухни! Бухнешь ты, а отвечать-то мне придется.
Фельдмаршал погрозил Суворову пальцем и, грузно плюхая в седле, пустился вслед Павлу.
Учение на плацу продолжалось. Суворов смотрел на эволюции полка рассеянно, не подавал никакой команды и уехал до роспуска полка по светлицам. Дома он взял с полки томик Шекспира и прочитал трагедию о датском принце с начала до конца, как новую и незнакомую. Закрыв книгу, Суворов решил не посылать ее Павлу.
На следующий день Суворов узнал, что представление трагедии «Гамлет» недавно запрещено и что ни в книжной лавке Академии наук, ни в Английском магазине на углу Невского и Морской нет в продаже Шекспира.
Красносельские маневры
Лето прошло. Осенью Екатерина захотела посмотреть Суздальский полк, о котором все в столице говорили. На смотру в свите Екатерины находилось немало боевых генералов. Одни нашли, что суздальцы делают ружейные приемы нечисто, как-то уж очень просто, «без бряку и стуку». Другие говорили, что зато суздальцы заряжают ружья чуть ли не вдвое быстрее гвардейских егерей, а при проверке ни у одного солдата после заряжения не отскакивал шомпол: пуля прибита крепко. Маршировали суздальцы шибко, широким шагом — вразвалку, при скором шаге — почти бегом, на слегка согнутых коленях. В примерные атаки полк ходил с веселым воодушевлением. Особенно Екатерине понравилось фехтование ружьями с примкнутыми штыками. Солдаты показывали двойной и тройной поединок, когда один отбивается штыком от двоих и троих.
— Они владеют штыком, как шпагой! — воскликнул кто-то в свите царицы, заметив, что она довольна.
Екатерина благодарила Суворова, допустила офицеров полка к руке, что почиталось великою милостью. Суворову Екатерина сказала:
— Вашему полку, Александр Васильевич, не караулы вести, а показывать пример другим. Это школа для полевых войск. Вы готовите учителей для всей нашей армии…
— С суздальцами никакой неприятель мне не страшен! — пылко воскликнул Суворов.
Екатерина улыбнулась.
Оценка, данная Екатериной работе Суворова в Суздальском полку, возбудила к новому полковнику недоброжелательство и зависть. Своими словами Екатерина поддразнила стариков. В том, что она говорила, не заключалось прямого указания освободить полк Суворова от караульной службы. Полк получил приказ выступить на свои «непременные квартиры» в Новую Ладогу, а на следующее лето суздальцев снова вызвали для несения караульной службы в столицу. Но теперь уже никто не обращал внимания на то, чем занимался Суздальский полк на Семеновском плацу: по новому уставу обучались и гвардия и полевые войска. Суворов не получил ни повышения, ни нового назначения. Милостивое отношение к нему Екатерины в предыдущем году отразилось на Василии Ивановиче Суворове: он получил чин подполковника лейб-гвардии Измайловского полка, коего полковником считалась сама императрица. Но звезда Василия Ивановича уже клонилась к закату. Его прочили в Сенат — значит, на покой. Ганнибал был уже в отставке «за старостью». Фермор дряхлел и утратил всякое значение. Над Бутурлиным смеялись, называя его «старой пушкой», ни к чему не пригодной. Александр Васильевич Суворов терял своих старых покровителей и не приобретал новых.
Осенью Суздальский полк опять вернулся в Ладогу. Про Суворова в столице стали забывать. Но скоро до Петербурга начали доходить слухи, что полковник в Новой Ладоге продолжает чудить… По слухам, он изнурял солдат непосильными работами. Выстроил руками солдат школу для солдатских детей и церковь, разводит на голом месте плодовый сад. В школе сам полковник преподает по-своему закон божий, для чего сам написал и учебник; кроме того, сделал сцену и устраивает для солдат спектакли, заставляя офицеров разыгрывать пьесы по своему выбору, никем не разрешенные к представлению.
О Суворове опять заговорили. В Новую Ладогу послали губернатора. Он осмотрел полк, познакомился с хозяйством, побывал на солдатском спектакле и всем остался доволен.
Наветы на Суворова рассеялись как дым, когда Суздальский полк в 1765 году явился по вызову на большие маневры в Красное Село. Вместо изнуренных непосильной работой людей в красносельский лагерь явилась бодрая, подтянутая войсковая часть. С живостью, всех удивившей, солдаты поставили не похожий на другие плотный и сомкнутый лагерь и предались своим обычным упражнениям.
Маневры начались. 15 июля войска вступили в лагерь. Войск, гвардейских и полевых, собралось семнадцать пехотных и семь кавалерийских полков. Они разделялись на две армии. Одной командовала сама Екатерина, другой — Панин. Эта вторая армия состояла из гвардейской дивизии под командой Бутурлина и полевых войск князя Голицына. Измайловским лейб-гвардии полком у Бутурлина командовал Василий Иванович Суворов.
При своей армии Екатерина сформировала легкий разведочный корпус. В его состав вошли, кроме кавалерии, батальон и гренадерская рота Суздальского полка, прославленного своей подвижностью. Этот корпус произвел разведку неприятельского расположения. Прикрывая фланги корпуса, кавалерия потеснила передовые посты противника. Но Суворов повел суздальцев в наступление столь быстро, сбивая противника с занятых им высот, что Екатерина перепугалась и приказала отходить…
Маневры продолжались десять дней. В день переворота (его называли «день восшествия на престол») генералитет обеих армий пригласил Екатерину со двором на бал, устроенный в огромном полотняном шатре. В списке приглашенных находился и полковник Суворов. Екатерина, прибыв на бал, проходила об руку с Павлом Петровичем между двумя рядами ее встречавших. Она останавливалась и кидала то одному, то другому несколько слов.
— Я слышала, полковник, — обратилась она к Суворову, — что у вас в Новой Ладоге театр. Что вы там разыгрываете? Уж не Шекспира ли?
Суворов не успел ответить, как Екатерина прошла дальше. Кто-то тихонько тронул Суворова за обшлаг. Подняв голову, он увидел перед собой Павла Петровича. Он отстал от матери. Подмигнув Суворову, Павел тихонько сказал:
— Вы, сударь, не исполнили моего приказания! Хорошо же! А я книгу все-таки достал! Теперь я все знаю!
Павел повернулся вслед матери.
Суворов встрепенулся, разыскал среди гостей Бутурлина и в упор спросил:
— Это вы, фельдмаршал, сказали государыне, что я будто бы передал цесаревичу книгу о датском принце?
Старик вскипел:
— Ты, сударь, с ума спятил! Я никогда ушенадувателем[55] не был… И какой такой датский принц?.. А, вспомнил: «бух». Вот тебе и «бух»!
Ждали, что после блестящего представления Суздальского полка на маневрах Суворов получит высокое назначение. Для этого находились и основания. Многие слышали, что полковника Суворова Екатерина по-французски называла «мой маленький генерал». В реляциях о маневрах имя Суворова с похвалой упоминалось наравне с генералами; кроме полковника Суворова, не был назван ни один штаб-офицер. Ожидания не оправдались. После маневров Суворов получил приказ вернуться с полком в Новую Ладогу.
Здесь, на «непременных квартирах», продолжалась подготовка полка к испытанию войной. После красносельских маневров Суворов мог без боязни отдаться боевой подготовке полка. В 1764 году явилась в свет «полковничья инструкция», и по ней обучали солдат во всех полках. Суворов, отвергая разные уставные «чудеса», шел в своем преобразовательном рвении гораздо дальше мнительных старцев Военной коллегии, авторов «полковничьей инструкции». Взгляды свои он изложил в особом наставлении, дав ему название «Суздальское учреждение». В этом наставлении Суворов писал: «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу, но единственно смешенное с оною военное искусство». На притязание выставить свои взгляды и свои воспитательные приемы рядом с «полковничьей инструкцией», но отдельно от нее командир Суздальского полка имел неоспоримое право. Военная мысль Суворова уже приобрела ту прозрачную ясность, которая впоследствии, после многолетнего богатого боевого опыта, позволила понятие «военное искусство» заменить более точным: «наука побеждать».
Суворову исполнилось тридцать четыре года. Он вступил в пору сурового мужества, когда человека одолевают житейские заботы. Василий Иванович уже не раз говаривал сыну:
— Не пора ли тебе, сударь, остепениться?
Александр знал, что понимает отец под словом «остепениться», и отвечал:
— Поздно, батюшка. Жениться надо не полковником, а поручиком.
— Пора подумать о роде. Неужели ты останешься старым бобылем и наш род угаснет? Надо жениться.
— Рано, батюшка. Я женюсь генералом.
Отец рассмеялся, что с ним редко случалось.
— То поздно, то рано! Генералом? И то дело.
— Мое светило только встает из темноты…
Разговор на том и кончился. Александр знал, что отец к этому разговору вернется, но наверняка не раньше, чем сын получит генеральский чин.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Туртукай
Россия воевала с Турцией на Дунае. Успех склонился на сторону России. Русской армией командовал Румянцев.
Мирные переговоры с Турцией после заключения в мае 1772 года перемирия затягивались. Турки не соглашались на главное требование России — признание независимости от Турции Крымского ханства. Весной 1773 года военные действия на Дунае возобновились.
Из Петербурга требовали решительных операций, предлагая перевести войну за Дунай. Румянцев просил об усилении своей армии и грозил, если его просьбу не исполнят, уйти с должности главнокомандующего.
4 апреля 1773 года Суворов получил назначение в действующую армию, чего добивался два года, «причем пожаловано ему на дорогу 2000 рублей». Отправляя Суворова на Дунай, Екатерина надеялась, что появление его в действующей армии взбодрит унывающих генералов. Суворов полностью оправдал эти ожидания. Он прибыл в Яссы раньше, чем туда пришло с курьером высочайшее повеление о его назначении. Румянцев встретил его холодно. Суворов повторил, что Румянцеву было хорошо известно: в столице ждут решительных действий. Румянцев ответил тем, что писал в Петербург, жалуясь на недостаток войск.
— И с малыми силами можно совершить великие дела! — воскликнул Суворов.
Румянцев усмехнулся. И, как бы предоставляя Суворову случай на деле доказать высказанную им сентенцию, главнокомандующий послал Суворова в корпус Салтыкова командиром небольшого отряда к монастырю Негоешти, на реке Арджише, в семидесяти верстах от впадения ее в Дунай. На правом берегу Дуная, против Ольтениц (при устье Арджиша), стояла сильная крепость Туртукай, занятая четырехтысячным отрядом турок. В отряде Суворова считалось пятьсот штыков пехоты и неполная сотня казаков.
По указанию Румянцева надлежало произвести, когда последует о том приказ, поиск на Туртукай, чтобы отвлечь внимание турок к этому пункту от других мест фронта, где намечались более серьезные операции. Суворов, прибыв на место и оценив обстановку, решил действовать немедленно. 6 мая 1773 года он рапортовал Салтыкову:
«По ордеру вашего сиятельства от 5 сего месяца я в Негоешти прибыл. В повеленную экспедицию вступить имею и о главных мероприятиях донести не премину. Генерал-майор
Александр Суворов».
На Арджише у Суворова были парусные лодки и гребные дощаники для переправы через Дунай. Турки сторожили устье Арджиша и обстреливали его из орудий — прямо отсюда на Туртукай переправа была затруднительна. Суворов решил переправиться верстах в трех ниже по течению Дуная и перевез туда лодки на подводах. Переправа и атака назначались в ночь на 10 мая.
Суворов дал подробную диспозицию предстоящей переправы и боя. Поиск на Туртукай явился для него «первоучинкой» — впервые за свою службу он имел возможность и время составить план и расписание сражения. В успехе Суворов не сомневался: он предписывал обратную переправу «по окончании действия и разбития турок во всех местах». Захваченную артиллерию приказывал, «сколько возможно», погрузить на паром для перевозки на свой берег, а «в прочем топить». «Туртукай весь сжечь и разрушить палаты так, чтоб более тут неприятелю пристанища не было. Весьма щадить жен, детей и обывателей, хотя б то и турки были, но не вооруженные, мечети и духовный их чин для взаимного пощажения наших святых храмов».
Туртукайский поиск увенчался полным успехом. Вот как рассказывал об этом деле один из суворовских солдат:
«Всякому своя планида. Екатерине не всякий угодить способен. Где бы надо ей уважить, Суворов такую штучку отмочит, хоть вон из дворца беги. Екатерина и нос зажмет: «От вас, генерал, солдатом отдает». — «Что делать, матушка государыня, я сам солдат». Суворова в ту войну генералы не хотели в армию пускать: знали, что он всех забьет. Не боялся Суворова один Румянцев. Хоть до Суворова и далеко, а генерал боевой. Только ведь у нас при матушке Екатерине как водится: над хорошим генералом непременно поставят плохого. Так и в ту войну первую руку отдали не Румянцеву, а фельдмаршалу Голицыну, тому самому, что в Пруссии плохо воевал. Однако правда свое возьмет. Голицыну пришлось уступить первое место Румянцеву, да тут Потемкин начал силу брать. Румянцева опять затерли. Он рукой махнул на все: посмотрю, как у вас без меня дело пойдет. И устранился. А Суворов давно к нему просился: «Сижу без дела, устал, дали б хоть немного отдохнуть, выпустили б в поле». Александр Васильевич недолго думая явился к самой царице и говорит: «Давай паспорт и две тысячи прогонов, поеду на Дунай, покажу твоим командирам, как надо воевать. А то они на этом берегу топчутся, на ту сторону Дуная шагнуть боятся. Если скиня рукава воевать, народу сгубишь вдесятеро больше». — «Да и казну разоришь», — сказала Екатерина. А он ей: «А что им казна? Им выгоднее, чем ни дольше война: генералы на армию сами подряды берут, казну грабят…» — «Тише, тише ты, Александр Васильевич, еще кто услышит. Ну, поезжай в армию». Суворов взял паспорт, две тысячи прогонов и явился в армию прямо к Румянцеву. «Так и так, говорит, с царицей я беседовал. Ее величество желает, чтобы мы воевали сильно, крепко и скоро». — «Силы у нас мало, а у турок много», — отвечает Румянцев. «И с малой силой, сударь, при уменье можно делать великие дела». Нахмурился Румянцев, не любо ему такие слова слышать. «Хорошо, сударь. Вот вы нам и покажите, как надо с малыми силами действовать. Назначаю вас, генерал, наблюдать турок у крепости ихней Туртукая. Извольте туда ехать немедля и принять команду». Суворов стал стрелкой, руку к шляпе, повернулся, вскочил на коня и поскакал к Туртукаю.
Встретили мы Суворова честь честью: в барабаны били, из пушек палили, музыка играла, колокола звонили, попы молебен пели.
Видит Суворов — всё старые знакомые, надерганы роты из разных полков: астраханцы, ингерманландцы, суздальцы, гренадеры, карабинеры, казаки. Стоим без дела, комарье нас ест, лихорадка почти всех трясет. И его самого схватила — через сутки начала бить. Плохое дело!
Посчитал он нас. «По спискам больше должно быть». Мы ему объяснили: «Дело вам, Александр Васильевич, давно известное: коих побили в боях, кои от лихорадки померли. А на убитых да на умерших и жалованье и паек идет, командирам доход. Иных уж и кости в земле истлели, а их будто и кашей кормят и сапоги и мундиры новые на них шьют. А мы, хоть и живы, наги и босы». — «Нехорошее дело, — говорит Суворов. — Однако так ли, сяк ли, Туртукай надо брать. Много ль турок?» — «Да вшестеро против нашего». — «Что скажете, богатыри?» — спрашивает Суворов молодых. Те мнутся: «Маловато-де нас». Тогда он ко мне самолично: «Помнишь, что Первый Петр турецкому султану сказал? Объясни-ка молодым». А вот что, товарищи, было. Хвастал перед Петром турецкий султан, что у него бойцов несметная сила. И достал султан из кармана шаровар пригоршню мака: «Попробуй-ка, сосчитай, сколько у меня войска». Петр пошарил у себя в пустом кармане, достает одно-единственное зернышко перцу да и говорит:
— Мое войско не велико, А попробуй раскуси-ка, Так узнаешь, каково Против мака твоего.Тут и молодые согласились Туртукай брать. Суворов приказал: «Взять Туртукай штурмом». Приказ вышел, как помню, на Николу-вешнего,[56] а штурмовать — ночью.
Изготовились мы, переплыли в лодочках Дунай. Берег на той стороне крутой, размытый, кустами порос. Выстроились в две колонны. В первой сам Суворов. Турки с батареи подняли пальбу. Мы на штыках ворвались в батарею, турок перекололи. Суворова ранило. Турки одну пушку впопыхах плохо пробанили, ее разорвало, осколок и угодил Александру Васильевичу в ногу. Ну, да ничего.
К рассвету прогнали мы турок из крепости. Хорошая была добыча! Шесть знамен взяли. Шестнадцать пушек. Да лодок больших тринадцать, а малых и не считали. Велел Суворов нам переправиться обратно, а крепость и город уничтожить до основания порохом и огнем.
Еще солнце не взошло — Суворов пишет Румянцеву рапорт. Посылает казака. Прискакал казак, отдает Румянцеву маленькую бумажку, да она еще у казака за пазухой пропотела. Что такое? Читает Румянцев: «Слава богу. Слава Вам. Туртукай взят, и я там».
Румянцев сильно разгневался. Он со всей армией без последствий на берегу Дунай-реки сидит, а тут прискакал какой-то — и готово! Приказал Румянцев Суворову немедленно явиться в главную квартиру. Повезли Суворова еле живого: лихорадка его бьет и рана мучает. Все-таки пересилил себя, надел мундир — ввели его к Румянцеву под руки. Покачнулся свет Александр Васильевич и упал бы к ногам фельдмаршала, да генеральс-адъютант подскочил, поддержал. А Румянцев кричит: «Оборви его!» Оборвал генеральс-адъютант с Александра Васильевича генеральский эполет и аксельбант с карандашиком, коим он рапорт в Туртукае писал, снял с Суворова шпагу — подает Румянцеву. «Под арест! — кричит Румянцев. — Созвать полевой суд!»
Собрался полевой суд. Одним генералам жалко Суворова, другие из зависти рады, а по силе регламента Петра Первого подлежит он разжалованию в солдаты и смертной казни за то, что самовольно, без приказа, крепость взял. Так и порешили. Послали Екатерине решение суда на подпись. Румянцев-то вскоре остыл и пожалел Суворова. Велел из-под ареста выпустить, отдал назад шпагу и говорит: «Вот теперь я вам, сударь, приказываю взять Туртукай». — «Как так?» — «Очень просто!» Пока Суворов под арестом сидел, турки поправили крепость да и засели опять в ней чуть ли не в десяти тысячах.
Суворов не отказался взять Туртукай и еще раз. Жалостно было на Александра Васильевича смотреть. Два гренадера водили его под руки. Голосу не слыхать: он командует, а адъютант его команду повторяет. Ох, уж взяло нас за сердце! Ворвались мы в крепость. Отняли мы у турок все пушки, опять много лодок всяких забрали. Суворов прямо хотел идти Дунаем на лодках да уж заодно взять и Рущук.
Румянцев велел назад воротиться. Послушался на сей раз Александр Васильевич — суд-то вспомнил. А тут и от Екатерины решение пришло. «Победителя не судят!» — написала она поперек приговора. И велела дать Суворову крест за храбрость: Георгия Победоносца второго класса».
* * *
Легенды и анекдоты сопровождали движение «планиды» Суворова, как серебристый шлейф комету в ее стремительном полете около Солнца. Солдатский рассказ о Туртукайском поиске, в общем, верно передает события. Истоки указывают только, что часть легенды о том, как Румянцев велел «оборвать» Суворова и предать его суду и будто бы суд приговорил его к смертной казни, а царица простила, не соответствует фактам, как не соответствует истине и то, что Суворов дважды брал Туртукай. «Этого не было, — скажет историк да еще прибавит: — И не могло быть». Но рассказчики не могут быть так строги к народным преданиям. Пусть суда над Суворовым за блистательную победу не было. Допустим, что и «не могло быть». Что же тогда остается от недостоверной легенды? Остается прежде всего она сама: вот что рассказывали солдаты про Суворова, это записано еще при его жизни и напечатано после его смерти! Остается больше, смысл рассказа у бивачного костра. В таких рассказах, на роздыхе в походе, солдаты не только передавали о том, что было или не было, но и то, что должно быть, и то, чему быть не следует. Рассказчик потому и повторяет недостоверную легенду, что в ней верно и точно передается оценка событий солдатами. Они видели, что к Суворову относятся несправедливо, что ему не дают ходу, преуменьшают его заслуги, клевещут на него. «Вот до чего это могло дойти», — говорит солдатский рассказ.
Мы знаем, что Суворов любил и чтил Румянцева. А Румянцев? Быть может, он тоже любил Суворова, но это не помешало ему после Туртукая перевести Суворова в резерв.
Суворов сам боялся, что сделал под Туртукаем куда больше, чем от него требовали, и что это повредит его карьере. Румянцев перевел Суворова в резервный корпус, а затем в Гирсово, пункт, занятый русскими на правом дунайском берегу. Румянцев считал этот пункт «не важным», не веря, чтобы турки на него ударили. Но Суворов, прибыв туда, рапортовал главнокомандующему, что удар турок на Гирсово непременно последует и лучше всего предотвратить их наступление встречным ударом на Карасу, соединив в одну группу все русские отряды на правом берегу. Румянцев не согласился — он продолжал еще сомневаться в том, что турки предпримут энергичные действия. Дальнейшее подтвердило, что главнокомандующий ошибся, а Суворов прав. В ночь на 3 сентября на дороге из Карасу в Гирсово появился большой отряд турецкой конницы. Утром турки подошли на пушечный выстрел к крепости, остановились, поджидая, когда подтянется пехота.
Крепость молчала. Верный своей испытанной тактике, Суворов решил выждать полного сосредоточения сил противника, чтобы решить дело разом.
Турки приготовили для нападения на Гирсово огромные силы, обученные французскими инструкторами на европейский лад. Они подступили к Гирсову, строясь в три линии, с кавалерией на флангах. Суворов, увидев это, усмехнулся.
— Оттоманы[57] хотят биться строем, — сказал он. — За то им будет худо.
Число турок Суворов определил на глаз в десять — двенадцать тысяч. У Суворова было всего три тысячи. Чтобы придать неприятелю отваги, Суворов выпустил в поле казаков, приказав им после короткой перестрелки обратиться в притворное бегство. Казаки так и поступили. Турки осмелели и развернулись перед крепостью параллельно Дунаю, опираясь правым флангом на реку Боруй. Они наступали правильными рядами, ничто не мешало им развертывать по указанию французских офицеров свои силы в открытом поле перед русскими укреплениями. Пушки на русских батареях молчали. Турки поставили батареи и открыли огонь по выдвинутому в поле шанцу,[58] где находился сам Суворов. Амбразуры пушек были замаскированы. Обманутые этим, думая, что укрепление защищается одной пехотой, турки бросились на штурм. Из амбразур выставились дула орудий. Грянул залп картечью, затрещали ружейные залпы. Неприятель усеял поле мертвыми телами. Суворов вывел из шанца пехоту и ударил в штыки. Бригада Милорадовича,[59] наведя понтонные мосты через реку Боруй, ударила на правый фланг турок. Конница Суворова на полном скаку врубилась в центр турецких линий. Янычары привыкли к встрече с русской пехотой, а тут им пришлось иметь дело с конницей. Турецкие кавалеристы, лихие в одиночных схватках, тоже отступили перед щетиной грозных штыков суворовской пехоты.
Не выдержав натиска, турки дрогнули и побежали, бросая оружие и амуницию. Пехота Суворова не могла за ними угнаться, конница преследовала их до полного изнеможения своих коней.
Турецкий обоз и все пушки достались победителям. Турки потеряли только убитыми, не считая пленных, больше тысячи человек. А у Суворова из трех тысяч бойцов было убито и ранено около двухсот человек.
Генерал-фельдмаршал Румянцев, довольный победой, приказал во всей армии отслужить благодарственные молебны, а Суворову прислал полное изысканных комплиментов письмо.
Женитьба
На боевом фронте снова наступило затишье. Василий Иванович нашел, что пора возобновить разговор о женитьбе. Он жаловался сыну в письмах, что стареет и ему все труднее вести хозяйство. Имения Василия Ивановича умножались, раскинувшись в разных отдаленных местах. Из дальних деревень являются ходоки, жалуются на притеснения старост и управителей, докладывают, что приказчики обворовывают хозяина, а те, воры и мошенники, со своей стороны докладывают, что мужики разленились, бегают, рубят хозяйский лес.
И о продлении рода Александр должен подумать. «Спустить еще лет десять, какой из тебя будет муж, хоть бы и генерал-аншеф». Василий Иванович писал, что еще надеется подержать на руках внука и уж тогда сказать: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром».
Последнего своего разговора с сыном о женитьбе Василий Иванович не забыл и напомнил его обещание жениться, когда дослужится до генеральского чина. И невесту ему отец уже нашел. «Не понравится — другую найдем, нынче в Москве невест достаточно: повыбило на войнах женихов». Василий Иванович заклинал сына памятью матери не откладывать дольше. В заключение письма отец сообщил, что «для молодых» он поновил усадьбу в Елохове[60] и обставил ее на нынешний манер. Даже посаженую мать рачительный отец присмотрел для сына, «а кто она, сам увидишь». Все слажено — хоть завтра свадьбу играть…
Суворов взял месячный отпуск из армии для поездки в Москву с намерением жениться, чем и была обоснована просьба об отпуске. В ноябре жених выехал в Москву. Раз все там слажено до мелочей, генерал считал, что месячного отпуска вдосталь хватит и на дорогу туда и обратно и на самое дело.
В Москве все незамысловатые загадки отца быстро разгадались. Первым делом отец повез ему показывать поновленный дом в Елохове. Там их встретила высокая, статная старуха с голубыми, как яхонт, глазами.
— Вот твоя посаженая мать. Не узнаешь Прасковью Тимофеевну?
Суворов, досадуя на себя, внезапно оробел.
— Не мудрено и не узнать! Почитай, двадцать годков не видались. Забыл? Ну, вспомни же, как яблоко по столу покатил… — спрашивала генерала старуха, мерцая синими глазами.
По этому чудесному мерцанию Суворов все вдруг вспомнил: и старый уютный головинский дом близ Влахернской, приткнутый к новому, пустому дворцу, и кота Ваньку, и пытку за обедом, и жаркий покой боярыни, где расхаживал, щелкая клювом, ручной журавль, павлин распускал свой сказочно великолепный хвост, гусляр настраивал струны… И только-только веселые и нарядные девушки, все в лентах, собрались величать гостей, как в покой вошел с зажженным канделябром в руке важный дворецкий и возгласил: «Боярин просит Александра Васильевича Суворова-сына к себе…»
Генерал-майор Суворов кинулся к посаженой матери. Она тотчас подхватила его, как малого ребенка, — обняла и принялась целовать в губы, глаза, щеки, прижала к груди. И Суворов услышал, что сердце боярыни стучит хоть неровно, но крепко.
В глазах Прасковьи Тимофеевны блеснули слезы:
— Ну вот, ну вот, узнал-таки старую «птичницу». Меня теперь так вся Москва честит: только тем и занимаюсь — всем гнезда вью, устраиваю, учу птенчиков выводить. Ведь я давно вдовею: Василий-то Васильевич волею божиею помре… Ну, пойдем, погляди, какое я тебе гнездо свила.
Она повела Суворова по комнатам, взяв за руку, как ребенка. Василий Иванович следовал за ними, счастливо улыбаясь.
Все покои были вытоплены, но на окнах не виднелось слезливых потоков, и в воздухе не было запаха холодной гари, какой всегда бывает, если пустой дом истопили лишь только к приезду хозяина.
— Ну что, нравится? — спрашивала Суворова посаженая мать.
— Да… Уж очень много всего…
Головина рассмеялась:
— Тебе всего много, а невесте мало покажется.
— Кому, матушка, кто она?
— Не сказал Василий Иванович? — попрекнула отца посаженая мать. — Ну, ин так, будем в загадки играть. Приезжай завтра с отцом в мой п т и ч н и к. Так и быть, покажу тебе невесту. Вот и смотрины будут…
На другой день Суворовы приехали в усадьбу Головиной над Яузой. Дом Головиной стоял на откосе реки, в большом, десятин на двадцать, саду. Чернели среди сугробов стволами старые яблони. Щетка ольх, стриженых кустов жимолости окаймляла разметенные дорожки. Выше, в полугоре, стеклянно стучали оледенелыми ветвями белые березы. Двухэтажный дом, весь в лепных завитках, был весел и наряден. В саду всюду порхали, чирикая и посвистывая, снегири, чижики, синицы и воробьи. Из голубятни, поднятой от кошек высоко на одном столбе, высыпали на приполок разномастные голуби и на солнцепеке ворковали по-весеннему. Стая галок на белых березах напоминала крупную черную листву. Белобокая сорока восторженно застрекотала, извещая о появлении гостей, и, перелетывая с куста на куст, проводила Суворовых до самого крыльца.
«Птичница» ждала гостей. Василий Иванович церемонно поцеловал ей руку. Александра она, как вчера, расцеловала и, взяв за руку, повела:
— Идем, я покажу тебе твою птицу. Да не упирайся, чего ты?
— Вы очень скоро идете, — пожаловался Суворов.
— Поди-ка! — удивилась хозяйка.
Она вела его какими-то темными переходами и внезапно распахнула дверь. Оттуда хлынул вместе с ярким январским солнцем разноголосый птичий гам. Александр зажмурился и уперся на пороге. Посаженая мать потянула его за руку, остановилась:
— Раскрой очи. Смотри, да не ослепни…
Александр послушно открыл глаза. Перед ним стояла, смущенно улыбаясь, высокая девушка. Русая коса, перекинутая на грудь через плечо, тяжело свисала до пояса. Девушка от смущения зарделась, а глаза ее, глубокие и темные, смотрели спокойно и строго. Видимо, она не знала о встрече. Обе руки у нее были заняты. Она зачерпнула перед внезапным появлением гостей из кадушки пригоршню воды и поила из лодочки своих маленьких цепких рук египетского голубка. Другой голубок сидел у девушки на плече и старался выклевать камушек из серьги. Девушка разжала руки, вода пролилась на пол, голуби испуганно вспорхнули.
— Остолбенели оба! — сердито молвила Головина. — Да хоть поклонитесь друг другу!
Девушка низко, по-старинному, поклонилась. Александр ответил таким же поклоном и, поднимая голову, ощутил легкое щекотанье: пушистые волосы чуть-чуть коснулись его лица.
— Ну вот, чуть лбами не стукнулись! — проворчала посаженая мать. — Да поцелуйтесь, что ли.
Суворов осторожно коснулся сухими губами жарких губ девушки.
— Приложился! — сердито молвила Головина.
Невеста рассмеялась глубоким, бархатным смехом. И Суворов поймал себя на том, что ничуть не обиделся и даже сейчас готов выкинуть нарочно что-нибудь забавное, чтобы вызвать еще раз смех невесты.
Птицы перелетывали в высокой вольере перед стеклянной стеной, защищенной частой рыбачьей сетью и повитой изумрудным на просвет диким виноградом. Где-то заливались серебряным колокольчиком канарейки; раздувая хохол, верещал какаду, качаясь на огромном листе раскидистой пальмы. А рядом с этой великолепной пальмой подымалась из зеленой кадки стройная елочка, и на ее вершине какая-то невзрачная русская птичка неведомой породы неустанно повторяла коротенькую руладу из пяти меланхолических нот.
Дело порешили быстро. 10 декабря был сговор, 18-го генерал-майор Суворов помолвился с княжною Прозоровской Варварой Ивановной, дочерью отставного генерал-аншефа; 22 декабря — обручение, 16 января нового года играли свадьбу.
Все время до свадьбы Александр Васильевич прожил в тихом, почти умиленном состоянии. Был необычайно серьезен. Даже походка его стала более плавной, как будто он неосторожным, резким движением боялся расплескать свое чувство. Все обычаи и обряды, сопряженные с браком, он исполнял с такой серьезностью, что окружающие, едва сдерживая смех, улыбались.
Как-то ненароком Василий Иванович поглядел, что сын смотрится в зеркало, изучая свое лицо. Старик отошел на цыпочках и, улучив минутку, решил в последний раз поговорить с Александром. Дело еще стояло на той черте, когда и жених мог, не пороча девушки, отказаться и невеста — указать «от ворот поворот», не срамя жениха.
— Что-то ты, сынок, стал очень задумчив, — начал Василий Иванович. — Мальчишник, что ли, устроить? Погуляй напоследях.
— Зачем людей смешить, батюшка! Я не мальчишка. Я не о том думаю.
— Правду сказать, молода она для тебя.
— Зачем молода? Засиделась в девках. Молодой майор ее не возьмет.
— Красавица…
— А что же? И я не урод.
— Верно: «молод, да смород, а и стар, да басок».[61] Больше пяти тысяч в приданое, кроме рухляди, из старика не выжать. Разорились они.
— Зато мы, батюшка, богаты…
— Кабы не стала транжирить. Покупать она любит. Вещи любит.
— Все в дом, а не из дома…
Александр повторял все прежние доводы отца, когда тот думал, что сын колеблется.
— Стало, так: «Жребий брошен»… А ты знаешь, ведь я у Головиной — помнишь Пелагею? — так я ее вам купил. Триста рублей дал.
— Какую Пелагею, батюшка?
— Вот на! И Пелагею забыл! Да помнишь, у Василия Васильевича домоправительница была, все его причуды до тонкости знала. Всем домом вертела, проныра баба.
— Та старушонка, серая и юркая, как мышь?
— Она. Пелагея. Не мудрено: если Прасковью Тимофеевну не сразу признал, то Пелагею и подавно.
Суворов поежился. Бывая с отцом в новом доме, он приметил Пелагею, хотя и не узнал. Низко кланялась и исчезала, не проронив ни слова. Вот она-то, оказывается, и вертела новым домом, а казалось, что он вертится сам собой.
Кубок Венеры Флорентийской
На третий день после свадьбы молодые, по обычаю, делали визиты. Маршрут составляли Василий Иванович с Прасковьей Тимофеевной так, чтобы, не делая лишних концов, управиться к вечеру: предстояло объехать пол-Москвы. Последний визит — в усадьбу посаженой матери.
Стоял крепкий морозный день. Карету, поставленную на полозья, запрягли шестерней с выносными и форейтором на первой паре. «Молодые едут собирать подарки» — так во дворе определили главную цель визитов. По дедовскому обычаю, в каждом доме, посещенном молодыми, им что-нибудь дарили.
Дарили иногда и ценные вещи, а то отделывались и пустяками. Старались не дарить новокупленных вещей, хотя иногда покупали вещи нарочно для свадебного подарка. Смысл обычая заключался в том, что подаренные вещи, переходя «из дома в дом», роднили людей между собой.
К концу дня зазябли кони, форейтор, кучер и выездные казаки. Зазябли и сами молодые: визиты были по необходимости краткие, и Суворов с Варварой Ивановной, выслушав поздравления, пожелания, поймав в них иной раз тонкую насмешку, перекинувшись двумя-тремя словами о том, что настали лютые морозы — «да тепло ль у вас в новом-то дому?» — не успев оттаять, прощались и торопились одеваться: Варвара Ивановна в соболью шубку, Александр Васильевич в генеральский плащ с бобрами. Казачок выносил за ними новый подарок. «Пошел!» Карета, визжа полозьями по снегу, грузно катилась дальше. И люди Суворовых не успевали отогреться на кухне или в ближнем кабаке и, коченея, проклинали все на свете.
В карете стало тесно от подарков. В ногах у молодых горою высились ларцы, ящики, пестрядинные мешки, рогожные кулечки, узелки в шелковых платках, узлы, тюки и даже целый цибик, с китайским чаем, зашитый в телячью шкуру шерстью внутрь. На ухабах подарки дребезжали. На поворотах гора их оплывала, распадалась. Рискуя заморозить пальцы, молодая поправляла вещи и вслух повторяла:
— В голубой ширинке — от Шихматовых. Кулечек — от Долгоруких. Это — от Голицыных. А от батюшки — знаю, что…
И она возвращала в который уже раз на самый верх пирамиды небольшой узкий полированный ящик, похожий на футляр для флейты, — подарок тестя молодому. Но ящик упорно сползал к ногам молодой. Что в нем? Не все дарили открыто, затем чтобы дома молодые могли ахнуть от изумления или посмеяться…
— Оставь, пожалуйста, ты заморозишь руку! — сердито молвил наконец молодой.
Предпоследний визит по маршруту — к свекру, в старый дом у Никитских ворот, и последний — к «птичнице», названой свекрови, на Яузу, и оттуда наконец домой.
Василий Иванович, вручив Варваре Ивановне небольшой футляр (наверное, бриллианты!), предложил молодым отогреться и выпить чаю. Оба отказались — «дома отогреемся». Скорей домой!
В прихожей Василий Иванович снял с вешалки и накинул на плечи Александра новую доху из пыжиков — свадебный подарок сыну.
— А что тестюшка подарил милому зятю? — спросил старик.
Молодая весело засмеялась:
— Что спрашиваете, батюшка! Сами знаете — нашу знаменитую родовую…
Василий Иванович покачал головой.
Храпя и дыша морозным стылым паром, поводя опавшими заиндевелыми боками, кони едва влекли тяжелую карету к дому «птичницы»…
— Не скидывайтесь, идите прямо в шубах! — крикнула Головина молодым с верху лестницы.
Молодых ввели в прохладную столовую. В камине жарко пылали березовые поленья. На столе кипел самовар. Вокруг молодых суетились сенные девушки Головиной.
— Шубы на лежанку! — командовала Прасковья Тимофеевна. — Девки, давайте сюда горячие валенки. Варюша, скидай свои заячьи полусапожки, и туфли долой. Девки, стащите сапоги с генерала… Ногу давай. Ну? В валенках бы и визиты делать. К огню не подходите. Садитесь к столу. Главное, ноги согреть, а руки что…
Согревая руки о горячий стакан с чаем, Суворов слушал веселое щебетанье женщин. Названая свекровь выспрашивала, как где принимали, кто и что подарил. Молодая перечисляла подарки, сделанные открыто.
— Репнины — цибик чаю.
Головина всплеснула руками.
— Долгорукие — кулек, наверное с венгерским из своего погреба.
— Та-ак! А тесть что?
— Ну, само собой: нашу прозоровскую родовую…
И молодая и названая свекровь обе расхохотались.
— А что же это за «прозоровская родовая»? — спросил молодой, отхлебывая с блюдца чай.
— Плеточка, сынок, жену учить, — нараспев ответила Прасковья Тимофеевна. — Да ты не хмурься: один символ. Уже сто лет, пожалуй, прозоровская родовая ничьей спины не обжигала… Да, выпустил Прозоровский нагаечку из рук, чует, что род угасает… Ну, а старуха Олсуфьева что?
— Куклу. Такая прелесть! Глаза закрывает, — похвасталась молодая.
— Мальчик?
— Нет, девочка.
— Надо бы мальчика. Ну, а Голицыны?
— Голицыны, — раздельно и торжественно произнесла Варвара Ивановна, — подарили нам кубок Венеры Флорентийской…
Прасковья Тимофеевна даже ахнула.
Чеканный серебряный кубок Венеры Флорентийской попал в Россию в начале XVI века. Его приписывали знаменитому мастеру Бенвенуто Челлини. Уже больше двух столетий кубок обращался среди московской знати, переходя «из дома в дом», из рода в род в качестве свадебного подарка. И если случалось, что кубок попадал в руки молодоженов из рода, до сей поры незнатного, это означало, что тем самым владельцы кубка включаются в круг знатнейших семейств Москвы.
— Цени это, Сашенька, — смахивая набежавшую слезу, говорила Прасковья Тимофеевна. — Да, и я вам приготовила подарок. Коли отогрелись, домой поезжайте подарки смотреть… Я сейчас…
Хозяйка проворно ушла. И Суворов и Варвара Ивановна, переглядываясь, улыбались друг другу. Они ждали последнего подарка с терпеливым любопытством.
Прошло минут десять. Из дверей показалась Головина с большой круглой золоченой клеткой. В ней бились, испуганно стрекоча, два маленьких красногрудых попугайчика с большими черными выпуклыми глазами.
— Неразлучники, — объяснила «птичница», — вечно вместе. Вы мне их не застудите, они холода не любят… Везите домой скорее, — заторопила гостей хозяйка. — А валенки не в счет, не надо переобуваться. Домой! Домой!
Молодые поспешно облачились. Варвара Ивановна жарко целовала Прасковью Тимофеевну. Та передавала поцелуи названому сыну, обнимая их сразу обоих: молодую правой, Суворова левой рукой. Клетку, обернутую темной тафтой, казачок вынес вслед молодым в карету.
Как на грех, форейтор куда-то отлучился. Суворов сунул клетку в руки молодой, скинул доху и плащ, выскочил из кареты, захлопнул дверцу, взлетел в форейторское седло и зычно крикнул:
— Пошел!
Шестерка рванула. Выносные гикнули. Кучер стегнул коней. Испуганные галки посыпались с берез — казалось, что внезапный вихрь сорвал с ветвей и развеял черную листву.
Дома первым делом внесли в тепло клетку с попугайчиками и налили им в пойку воды. Челядь перетаскала в зал подарки и разместила по столам.
Молодые остались одни, лицом друг к другу. Варвара Ивановна, блистая взглядом, говорила:
— Вот ведь какой! Говорили — озорник, а он был все смирный-смирный. Наконец сорвался — созоровал.
Лицо Суворова засветилось изнутри и сделалось прекрасным. Он освободил свои руки от рук молодой, преклонил колено и, не отрывая глаз от лица жены, сказал, повторяя слова знаменитого рыцаря из Ла-Манча:
— Прекрасная дама, я свершу тысячу сумасбродств, чтобы доказать вам мою любовь.
Варвара Ивановна не имела ни малейшего понятия о Дон-Кихоте, но она, величаво коснувшись плеча Суворова, ласково сказала:
— Встаньте, кавалер. Я недостойна, чтобы вы стояли передо мной на коленях.
О форейторе забыли. А он, не догнав кареты, прибежал в диком испуге домой — в слезах и взмокший. В людской поварне кучер, выездные казаки и выносные, товарищи форейтора-мальчишки, выпив вина, хлебали щи. Прямо с разбегу форейтор повалился в ноги Пелагее и завопил:
— Пелагеюшка! Матушка! Петровнушка! Смилуйся…
Пелагея пнула его ногой:
— Встань, срамник! Пойду доложу, спрошу, что с тобой делать.
Она вышла, постояла в темном переходе, затем вернулась и сказала:
— Боярыня приказала — дать ему вина. Садись обедай!
Форейтор вытер мокрое лицо шапкой и сказал, ухмыляясь:
— Премного благодарим.
Стряпка налила ему вина. Пелагея ворчала:
— Срам какой! Завтра вся Москва будет говорить: «Прозоровская-то какова! Сразу муженька обротала: посадила в одном мундире, в орденах да еще в валенках форейтором!»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Украденная победа
— Поздравляю!
— Позвольте вас поздравить!
— От души поздравляем и желаем…
— Имею честь поздравить, ваше превосходительство, — сказал смотритель калужской заставы, возвращая Суворову подорожную, где было прописано, что генерал возвращается к действующей армии.
— С чем? — сердито спросил Суворов, думая, что и сюда достигла весть о его «вступлении в законный брак».
— С возвращением к действующей армии, ваше превосходительство, — ответил смотритель, пристукнув деревяшкой отнятой ноги.
Суворов просиял:
— Вот спасибо!.. Где ногу потерял?
— Под Франкфуртом, ваше превосходительство.
— Дай мне тебя обнять, братец.
Смотритель почтительно позволил себя обнять и крикнул:
— Раздвинь!
Рогатка раздвинулась. Тройка поскакала. Хорошее настроение овладело Суворовым: впереди до самых Ясс никто не знает и никому нет дела до того, что генерал-майор Суворов женился на княжне Прозоровской. Поток поздравлений, сопровождаемых глуповатыми, на что-то намекающими улыбками, оборвался.
Суворов убедил себя, что женитьба его вовсе не означает такого крутого перелома в его жизни, как ему это казалось в ночных размышлениях перед поездкой в Москву. Отец доволен тем, что он устроил судьбу наследника-сына. Тесть доволен тем, что устроил дочь почти без приданого. Варвара Ивановна тоже должна быть довольна тем, что не осталась в старых девах. Сам Суворов доволен потому, что исполнил по желанию отца «закон». Все обошлось как нельзя лучше. И то, что он скачет теперь из Москвы, вовсе не похоже на бегство с поля одержанной победы. Просто кончился отпуск — о том, что отпуск краткий, что генерал-майору Суворову недолго придется тешиться с молодой женой, знали и отец, и тесть, и новобрачная. Прощаясь с мужем, Варвара Ивановна, как положено, обливалась слезами. Теперь — в этом Суворов не сомневался — слезы уже все высохли и Пелагея гадает молодой на червонного короля, как раньше гадала на бубнового. И выпадает дорога — червонная шестерка, — вот и он скачет, «червонный король», на тройке почтовых. И червонный туз на сердце червонной дамы — это значит, что венчанный супруг Варвары Ивановны получит чин или крест, чему она весьма обрадуется. Но «в глазах» у червонной дамы нет восьмерки той же масти — значит, ей не предстоит скорого свидания с червонным королем. Варвара Ивановна грустно вздохнет да вдруг и скажет: «А погадай-ка мне на бубнового короля». — «Что ты, матушка, в уме ли? Ведь ты замужем, забыла?» И Варвара Ивановна рассмеется своим глубоким смехом. И на расстоянии тысячи верст бархатный смех жены нет-нет и прозвучит у Суворова в ушах и сладко и больно царапнет сердце.
Суворов торопился — от встречных он узнавал, что турки вот-вот запросят мира, осталось только их к этому поощрить.
— Дать хорошего раза, да и край! — так выразился ямщик на последнем этапе.
Этот словоохотливый старик чуть было не испортил Суворову настроение. Ямщик слыхал, что Румянцев повел всю армию на Шумлу — чтобы разом кончить войну, «а то, слышь, Екатерина угрозила его сместить да на его место посадить Гришу Потемкина…»
— Гони! — оборвал ямщика Суворов.
Старик для видимости шевельнул вожжами, махнул кнутом и снова повернулся на козлах лицом к Суворову:
— Чего гнать-то? Почитай, приехали. Не к милой едешь… А поди жалко было, что кинул…
— Кого? Чего жалко? — сердито спросил Суворов.
— Да расставаться жалко с ней. В такую-то пору…
— С кем «с ней»?
— Да с армией. Вдруг без тебя все там и порешат.
— Гони!
— Ничего, сынок, успеешь. Без нас, стариков, дело не обойдется.
Суворов приказал ямщику, никуда не заворачивая, ехать прямо в главную квартиру.
В штабе Румянцева не удивились, увидя, что Суворов, запорошенный пылью, вышел из возка и резво взбежал по лестнице дворца. Казаки подхватили скинутый генералом пыльник. Мальчишка-казачок с двумя сапожными щетками в руках пал на колени перед Суворовым, с невероятной быстротой привел ботфорты Суворова в блестящий вид и проворно заиграл щетками по паркету фельдмарш, в то время как старик дневальный обмахивал мундир Суворова жестким веничком, приговаривая: «Со счастливым прибытием, заждались вас, батюшка Александр Васильевич».
Перед Суворовым распахнулись двери. Румянцев прервал разговор с генералом Каменским. Генерал-фельдмаршал пошел навстречу Суворову с раскрытыми объятиями. Они обнялись и расцеловались.
— Поздравляю! — сказал генерал-фельдмаршал.
Суворов отпрянул:
— С чем?
Румянцев улыбнулся:
— С производством. Поздравляю вас с чином генерал-поручика!
Суворов просветлел:
— Благодарю, граф! Спасибо, батюшка. Заслужу вашу милость…
— Садитесь, господа. Вы прибыли, Александр Васильевич, как раз. Мы с Михаилом Федоровичем вас только что поминали…
— Поздравляю! — протягивая руку Суворову, сказал Каменский.
Суворов взглянул в глаза генералу и сразу понял, что Каменский только сейчас, когда Румянцев поздравил его с чином генерал-поручика, узнал об этом и что Каменскому это неприятно именно сейчас. Почему — тотчас объяснилось.
— Благодарю, Михаил Федорович, — сказал Суворов, пожимая руку Каменскому, — вот мы с вами и сравнялись.
— Однако я годом старше! — сварливо отозвался Каменский, грузно опускаясь в кресла.
Румянцев поморщился и, взвесив что-то в уме, заговорил:
— Так вот что, Александр Васильевич: мы решили предпринять на Шумлу. Императрица нас торопит. Надо привести дело к благополучному концу. Оттоманы мнутся — им еще невнятно, что они проиграли войну. Надо им втолковать. Михаил Федорович стоит, как вам известно, угрожая на Базарджик. Михаил Федорович прямо за минуту до вашего появления говорил — ну как в воду глядел: «Если бы Суворов был здесь, ему следовало бы отдать опять Гирсово, не допускать переправы турок у Силистрии. Тогда я буду спокоен за свое правое крыло»…
— Хорошо! — поспешил Суворов, перебивая фельдмаршала. — Я согласен. Дальше!
Румянцев, не обижаясь, что его перебили, продолжал:
— Весьма рад, что вы сразу согласились… Михаил Федорович сомневался… а я ничуть. Оба вы генералы опытные, привыкли действовать смело. Друг друга мы знаем все трое с Семилетней войны… — И, лукаво улыбнувшись, фельдмаршал прибавил: — Да и чин теперь на вас один. Приступим.
На столе лежала развернутая карта. До появления Суворова главнокомандующий с Каменским успели наметить в главных чертах наступательный план. Румянцев, указывая на карте селения и города и проводя карандашом по извилинам рек и дорог, говорил быстро. Каменский, склонясь над картой, ревниво следил за тем, чтобы Румянцев ради Суворова не внес каких-либо изменений в то, о чем они уже договорились. Один раз даже осмелился и отвел руку Румянцева.
— Чего вы? — удивился тот.
— Нет-нет, всё так, — поспешил извиниться Каменский. — Прошу прощения, Петр Александрович, продолжайте!
Суворов сидел в развалистых креслах спокойно; он откинулся на мягкую спинку и внимательно слушал быструю речь Румянцева. Карту плацдарма и дороги, ведущие к Шумле — стратегическому центру страны, Суворов изучил подробно. Только один раз Суворов остановил Румянцева: когда его карандаш перед Козлуджей вдруг свернул в сторону от прямой дороги.
— Прямо, прямо!
Румянцев поднял голову:
— Да ведь если прямо, тут, Александр Васильевич, узкая дорога… Дефиле.
— И опасная, — прибавил Каменский. — Дорога в густом лесу, мочажина.
— Поэтому и надо по ней идти: туркам невдомек, что генерал Каменский идет по опасной дороге. Они будут думать — он вон где, околесицей, а генерал им как снег на голову… Скорей-скорей — конница «марш-марш»! Пехота «ступай бегом». Орудия с передков — «картечь»!
— Позвольте, Александр Васильевич, мне самому знать, где и как идти, — заметил Каменский, угрюмо взглянув в глаза Суворову.
— Точно, батюшка, так. Ведь я не спорю.
Суворов умолк. Ему надо было одно — убедиться, что главные линии наступления намечал не Румянцев, а Каменский. И потому главнокомандующий не станет гневаться, если в походе генералы в чем-либо разойдутся.
Суворов, выслушав Румянцева, предложил, не выжидая поступков противника, самим его искать и разбить в поле. Для этого надо идти на Базарджик и Козлуджу. И, если тут неприятеля не окажется, скрытно двинуться на Шумлу, прикрывая свои истинные намерения ложным движением к Варие.
— Шумлу штурмовать! — закончил свое предложение Суворов.
— А буде штурм не удастся, идти к Силистрии, — прибавил Каменский.
Румянцев, склоняясь к плану Суворова, внес все же некоторые изменения. Если Суворов и Каменский двинутся разом, то Каменский прикроется им при походе на Базарджик демонстрацией на Варну, а Суворов покажет вид, что угрожает Силистрии, и двинется параллельно с Каменским.
Оба генерал-поручика согласились с Румянцевым. Он предоставил каждому из них действовать по своему соображению, отдав решающий голос Каменскому как старшему по производству, Главнокомандующий, однако, не подчинил ему Суворова.
Румянцев знал характеры обоих генералов: неуклюжий и неповоротливый Каменский являлся как бы отрицанием ловкого, подвижного Суворова. И в уменье управлять людьми, пользуясь не только их достоинствами, но и недостатками, Румянцеву нельзя было отказать. Соревнование Суворова и Каменского могло только улучшить, а не испортить дело.
Что предугадал Румянцев, то и случилось. Суворов проявил неожиданную медлительность. Каменский двинулся по своему маршруту, а Суворов сообщил ему, что дожидается полков, назначенных к нему для усиления. Каменский, не обнаружив досады, начал движение. Суворов, выждав время, изменил условленный маршрут, чтобы дольше сохранить свою независимость; он не известил об этом Каменского и пошел к Базарджику с несвойственной ему медлительностью; эта медлительность могла быть оправдана тем, что Суворову на избранном им пути пришлось идти более трудными дорогами. Связь между Суворовым и Каменским прервалась. Каменский, обеспокоенный этим, рапортовал Румянцеву, что Суворов находится неизвестно где, действует вполне самостоятельно и не слушается его предписаний. Румянцев лукаво ответил Каменскому, что он сам должен найти и Суворова и «способы заставить его повиноваться».
Каменскому не стоило труда догадаться, где искать Суворова: именно на том труднейшем участке пути, который до его приезда Каменский предполагал обойти сторонкой, — на трудном и опасном дефиле от Юшенлы к Козлудже. Каменский туда и устремился. И точно, у Юшенлы Каменский нашел Суворова и оказался позади него… Оставалось найти способ заставить Суворова повиноваться. Суворов не стал ждать, когда Каменский придумает такой способ, и, находясь в авангарде, без согласия с Каменским вступил с кавалерией в опасное дефиле в уверенности, что стоящий позади Каменский не откажет в поддержке.
Не доходя до Козлуджи, Суворов встретил сильный отряд турок, они поспешно отступали. Кавалерия вынеслась за бегущими из тесного лесного дефиле на открытую равнину и попала в засаду. На конницу Суворова кинулись турки, угрожая отрезать ей путь отступления. Суворов, яростно преследуемый, поспешно отступал той же узкой и тесной дорогой, уверенный, что у Козлуджи находятся крупные силы противника, и очень обрадованный этим.
В теснине дефиле турок остановила пехота, построенная в каре. Перед грозной щетиной штыков турки отхлынули назад. Суворов повел в атаку свои войска; выйдя из дефиле, отбил несколько атак, пока не подошла артиллерия, задержанная трудной лесной дорогой.
Три часа подряд выставленные Суворовым батареи громили позиции турок. Они отвечали все слабее. Суворов послал в наступление развернутую по фрунту кавалерию. Пехота двинулась за нею.
Повторные атаки били в турецкий лагерь тараном. Подошла артиллерия. Суворов велел пушкам стрелять по центру турецкого лагеря и затем бросил в атаку кавалерию.
В турецком лагере все пришло в полное расстройство. Бросив палатки, орудия, обоз, турки бежали. Суворов занял турецкий лагерь, захватив 29 орудий и 107 знамен. День был из ряда вон знойный, многие солдаты пали от солнечного удара. Суворов весь день провел на коне. В одной рубашке, с обнаженной головой, безоружный, с нагайкой в руке, он появлялся в разных местах боевого поля под неприятельским огнем — отдавал приказания, командовал, ободрял солдат веселыми шутками.
Вся честь победы принадлежала Суворову, хотя несомненно и то, что Каменский поддержал его, подтянув на поле битвы свои воинские части. Однако Каменский поспешил отправить Румянцеву донесение, в котором выдвигал себя на первое место и приписывал всю честь победы одному себе. Суворов разгневался и поймал себя на мысли, что раньше, до женитьбы, он не отнесся бы так ревниво, как теперь, к коварному поступку товарища по службе. Некоторые командиры были на стороне Суворова, находя, что реляция Каменского неверно излагала события дня, а солдаты со свойственной им прямотой откровенно говорили, что Каменский украл у Суворова победу.
Суворова снова трепала жестокая лихорадка. В пылу горячки он предложил Каменскому продолжать поход на Шумлу и перенести войну на Балканы. У Каменского явилось опасение, что Суворов двинется на Шумлу один и увлечет и его за собой. Каменский прибег к верному способу подчинить себе Суворова: он созвал военный совет, на что имел право по старшинству. Совет высказался против предложения Суворова.
Малярия замучила Суворова. Во время приступов он едва держался на ногах. Убедившись, что с Каменским не сговориться, Суворов сдал ему команду и без разрешения Румянцева уехал в Бухарест. 30 июля Суворову разрешили отпуск в Россию для лечения.
Победой у Козлуджи Суворов положил конец не только кампании, но и войне в целом. Турция исчерпала свои силы и согласилась на мир.
10 июля 1774 года в Кучук-Кайнарджи, за Дунаем, Румянцев подписал с Турцией мир, выгодный для России. Крымское ханство стало независимым от Турции и, естественно, подпадало под влияние могущественного северного соседа — России. Согласно мирному договору, Россия приобрела в Крыму Керчь и крепость Еникале — на другом берегу Керченского пролива, то есть свободный выход из Азовского моря в Черное. Кроме того, турки отдали крепость Кинбурн в устье Днепровско-Бугского лимана, но более сильная крепость — Очаков — на берегу лимана осталась за турками. Русские торговые суда получили право свободного плавания по Черному морю и через проливы Босфор и Дарданеллы. Наконец, турки обязались выплатить России четыре с половиной миллиона рублей.
Суворов мог гордиться тем, что таким успешным окончанием войны правительство Екатерины обязано в большой мере ему.
В кампанию 1770 года Румянцев с армией в двадцать пять тысяч человек разбил при Ларге восьмидесятитысячную турецкую армию, а при Кагуле одержал победу над противником, в десять раз сильнейшим. В Туртукае, Гирсове и Козлудже Суворов нанес противнику не менее чувствительные удары. Победы Суворова знаменательны еще и тем, что при Ларге и Кагуле фельдмаршал Румянцев обладал всей полнотой власти, а Суворову приходилось не только побеждать неприятеля, но еще завоевывать право на самостоятельность, побеждать косность, преодолевать козни завистников. Эти победы давались ему труднее, чем победы на полях сражений, и уносили много здоровья и сил.
Смена
В августе 1775 года Суворов, находясь в армии, получил одно за другим два известия из Москвы: первое — радостное, что у него родилась дочь, названная при крещении Наталией; второе — печальное: умер в Рождествене его отец.
Получив отпуск для принятия наследства, Суворов приехал в Москву, где находилась в то время императрица Екатерина. Она приняла его ласково и предложила Суворову командование Петербургской дивизией, что требовало от него переезда в Петербург. Пост, предложенный Суворову, был очень почетным — после командира гвардейской дивизии командир Петербургской дивизии является в военном окружении царицы самым приближенным к ней лицом.
Но Суворов отказался принять предложенный ему пост, объяснив, что ему нужен по крайней мере год, чтобы привести в порядок дела наследства. Екатерина не настаивала на своем предложении и согласилась дать Суворову просимый отпуск.
Отказ Суворова удивил и рассердил Варвару Ивановну и послужил причиной их первой и очень серьезной ссоры. Она, не обинуясь, назвала отказ от почетного назначения «непроходимой тупостью».
— Вам угодно, — быстро говорила она, — всю жизнь быть в роли поддужного у разных рысаков вроде Румянцева или Репнина? Вы хотите, чтобы я в Москве закисла и сделалась «тетёхой» вроде вашей «птичницы» Прасковьи Тимофеевны? Кстати сказать, ваши попугаи-неразлучники сдохли — чего-то не то съели, а может быть, Пелагея им нарочно чего подсыпала… Нет, сударь, довольно мне вас встречать и провожать, а между тем, всем на смех, слыть «соломенной вдовой»!..
Если говорить кавалерийским языком, Варвара Ивановна «закинулась» и «понесла», торопясь разом выпалить все, что накипело в сердце…
Онемев от изумления, Суворов слушал жену. И в самом деле, ведь не прошло еще двух лет со дня их свадьбы, а жена его три раза провожала и три раза встречала. И за эти неполные три года Варвара Ивановна стала совсем другой.
Суворов хладнокровно выдержал первый налет семейного противника, подобно тому как войска его выдерживали бешеные налеты турецких спагов.[62] Он спокойно начал представлять свои резоны:
— Отец умер…
— Дай ему бог царствие небесное! — вставила Варвара Ивановна с явной издевкой. — Но ты же сам теперь отец! — добавила она так быстро, что нельзя было сказать: «Не перебивай».
— Что же мне, бросить наследство, запустить хозяйство или профинтить, пустить на ветер?
— Ты теперь стал богаче, чем сам считаешь! — загадочно ответила жена.
Суворов развел в недоумении руками и посмотрел вокруг, оглядывая множество ненужных ему вещей. Их и в день свадьбы было уже много, а за время отлучек мужа Варвара Ивановна еще кое-что прикупила. Вот, например, год тому назад не было той великолепной горки с зеркальными стеклами кругом. В горке, меж фарфора и серебра, Суворов увидел и кубок Венеры Флорентийской и другие свадебные подарки. Среди них сидела и кукла — подарок старухи Олсуфьевой; она, деревянно вытянув из-под белых панталончиков ноги в розовых чулках и красных полусапожках, смотрела прямо перед собой широко открытыми глазами, а к правой ее руке привязана узкой ленточкой извлеченная из футляра «родовая прозоровская» плетка; рукоятка ее, оправленная в золото и самоцветы, явно показывала, что нагайка неприменима ни при верховой езде, ни для чего иного, а только чтобы «учить»… «Символ», — вспомнил он брошенное Прасковьей Тимофеевной словечко, когда они к ней последней приехали с визитом… Кукла напомнила ему о Наташе — вот неотразимый довод, чтобы покорить мать…
— А ты бы поехала со мной в Петербург?..
— Не думала бы ни минуты! — загораясь надеждой, живо отозвалась жена…
— Да как же зимой, в морозы маленькую везти…
— А! «Маленькую»! — жестко, почти злобно проговорила жена. — А обо мне ты не подумал…
Суворов умолк.
Он почувствовал, что терпит поражение в серьезной схватке с сильным противником, и кинулся за советом и помощью к Прасковье Тимофеевне. После женитьбы он виделся с нею всякий раз, когда приезжал в Москву, но лишь теперь разглядел, что Головина за короткое время сильно «сдала», — перед ним была дряхлеющая старуха.
— Жаловаться приехал? Вот то-то, — говорила старая «птичница», усадив гостя после приветствий, объятий и поцелуев в кресла. — Без матери рос, а покойный Василий Иванович, не тем будь помянут, мало тобой занимался. Не мудрено, что нашу сестру не понимаешь.
— Мне некогда было заниматься женщинами.
Головина рассмеялась, лицо ее помолодело.
— Ну, вот теперь, милый, займешься. Одну поймешь — и всех поймешь…
— А попугаи сдохли, — некстати брякнул Суворов.
«Птичница» махнула рукой:
— Я-то, старая дура, подарила «неразлучников», а он, наш милый, прямо чуть не из-под венца убежал в армию!..
— У меня был краткий отпуск. Я и так просрочил целый месяц.
— Еще бы не просрочить!.. А куклу видел?
— Это вы придумали, Прасковья Тимофеевна?
— Ан нет. Сама она, сама. Я даже пеняла ей. И с тех пор меж нами ровно кошка пробежала. Показаться ей на глаза не смею. А по Наташеньке скучаю. Дочка вся в тебя.
— Как будто так.
— Не «как будто так», — рассердилась Прасковья Тимофеевна, — а вылитая ты! Перо в перо!.. Да! Не пришлось Василию Ивановичу внучку понянчить!..
Суворов молчал.
— Эх, Саша, сердце у тебя нежное, только ты на нем солдатской лямкой мозоли натер.
— Она меня не любит! — неожиданно для самого себя воскликнул Суворов.
Поездка Суворова по имениям отца откладывалась со дня на день. Не то чтобы он откладывал ее нарочно, но и не торопился. Да и хлопоты по утверждению за ним наследства отца задерживали. Дело, само по себе простое и ясное, из-за канцелярской волокиты обращалось в сложное и запутанное: приходилось ходить по нескольку раз в одно и то же место, доказывать очевидное и несомненное. У Суворова не было искусства в подобного рода делах; того, чем владел Василий Иванович в совершенстве, не хватало сменившему его сыну. Суворов мог бы ускорить дело незначительными подачками мелкой канцелярской сошке, но это было ему противно. Он мог бы обратиться к помощи влиятельных друзей покойного отца или пустить в ход свои новые связи, приобретенные женитьбой на княжне Прозоровской, но этого-то он избегал больше всего. Пойти и поклониться тестю сначала мешала Суворову застенчивая гордость. А старик Прозоровский, сбыв с рук дочь и подарив зятю нагайку, уехал осенью в подмосковную и предался любимому занятию — псовой охоте. Скакать по полям на коне старик уже не мог, охота, по бедности, у него была плохая, он все же ездил в поле на бегунках, кричал, увидя зайца, и приказывал кучеру гнать дрожки по кочкам, заходясь в охотничьем азарте. На замерзших кочках вспаханного пара ему и «выбило душу». Однажды старого князя привезли с охоты домой без памяти; теперь он лежал в усадьбе, разбитый параличом, и медленно поправлялся.
Варвара Ивановна отнеслась к несчастью отца безучастно — она вся погрузилась в заботы о «маленькой». После разговора с Головиной Суворов старался открыто выражать свою нежность к ребенку. Сидя за бумагами, счетами и планами, он часто забывал про свои дела, прислушиваясь к тому, что делалось в спальной. Варвара Ивановна возилась с дочерью, все время с ней разговаривая.
А в горке со свадебными подарками сидела кукла с исступленно глупым ясным взглядом неподвижных глаз и «родовой прозоровской» плеткой в руке…
Суворов с циркулем в руке прислушивается. Затем начинает прикидывать по плану своего имения в Костюше (во Владимирском наместничестве), нельзя ли там уничтожить чересполосицу, выкупив у соседа землю, клином вошедшую в суворовские пашни. Надо бы съездить туда, посмотреть своими глазами, какие там угодья. Зеленые барашки на плане означают лес или луга с кустами; синие черточки — болото; а может, это заболоченный луг и можно его осушить?..
Разлад
В молодости Суворов немало помогал Василию Ивановичу в его деревенских делах да и сам рос в деревне, так что сельское хозяйство не являлось для него невидалью. Имения, полученные им в наследство, считались «благоустроенными». Кроме имений, Суворов получил от отца порядочную сумму денег да и сам за двадцать пять лет военной службы успел немало сберечь.
Скромность житейских привычек суворовской семьи вначале объяснялась бедностью, а там превратилась в привычку и укрепилась заботой и тревогой за будущее семьи и рода. Александр Васильевич далеко превзошел отца спартанской суровостью привычек. За двадцать пять лет военной службы Александр Васильевич не получил от отца и сотни рублей и все-таки успел сберечь примерно столько же денег, сколько скопил за всю жизнь отец.
Сложив свои деньги и деньги отца да прибавив пять тысяч приданого, Александр Васильевич мог распорядиться довольно крупной суммой. Но как распорядиться, какое дать ей применение? И Суворов снова обратился мыслями к жене…
Дверь в спальную плотно затворена. Наташа, утомленная разговорами с матерью, наверное, спит. А мать? Может быть, убаюкав дочь, она тихо плачет и говорит себе, что, выйдя замуж за «старика», «сгубила молодость»?.. Пойти к ней, поговорить?.. Или позвать ее и спросить совета:
«Вот, Варя, мы располагаем такими деньгами… Тут и приданое твое. Как нам поступить?»
Хорошо, если она ответит:
«Я же говорила, нам надо переезжать в Петербург. Еще не поздно…»
«Да ведь на эти деньги дворец в Петербурге не построишь и не купишь…»
«Попроси у царицы. Мало ли там пустует дворцов…»
Можно и так поступить с женой. Позвать и сказать:
«Вот твое приданое. К нему я прибавляю еще пять тысяч… Делай с деньгами, что знаешь, они все твои».
Она, наверно, надменно ответит:
«Мне твоих денег не надо».
Или:
«Эти деньги не мои, а Наташи»…
От отца генерал-майор Суворов получил в наследство около трех тысяч душ крестьян.
Устроив дела наследства, выделив замужним сестрам их доли, Суворов объездил все поместья, кроме далеких от Москвы — новгородских, уничтожил там, где еще были ее остатки, барщину, заменив ее ярмо оброком, прогнал вороватых управителей и старост, притеснявших и разорявших крестьян.
…В начале крестьянской войны Екатерина вызвала Потемкина из действующей против турок армии и поручила ему общее руководство борьбой против Пугачева.
В следующем, 1774 году Потемким был назначен вице-президентом Военной коллегии. В 1776 году Потемкин получил назначение генерал-губернатором, а затем наместником губерний Астраханской, Азовской и Новороссийской. Перед ним были поставлены две задачи: усмирить казачью вольницу и степных кочевников и обеспечить безопасность всей южной границы от покушений со стороны Турции, для чего в первую очередь необходимо было прочно закрепить за Россией Крым.
В ноябре 1776 года Суворов получил командировку «к полкам Московской дивизии», входившим в корпус Прозоровского, свойственника Александра Васильевича по жене.
Предстояла новая разлука с семьей. Суворов предложил Варваре Ивановне ехать с ним в Крым. Она удивилась:
— Ведь там ждут войны! Странное дело — боялся ребенка простудить по дороге из Москвы в Петербург, а теперь хочет везти под пули!
Он сказал, что ему не хочется расставаться с семьей. Войны в близкое время не будет.
— А крымская лихорадка?
— Мы поселимся там, где ее нет…
Варвара Ивановна не сдавалась. Порешили на том, что они с Наташей поедут под Полтаву (где у Прозоровских находилось родовое имение) и поселятся в Опошне. Там будет хорошо для Наташи. Ей нужно солнце, тепло, приволье. От Крыма до Опошни вчетверо ближе, чем до Москвы, и отцу будет легче, получив отпуск, повидаться с дочкой…
В Крыму Суворову, из-за болезни генерал-аншефа Прозоровского, пришлось принять в командование весь корпус. Турецкий флот не появлялся у крымских берегов. Крымские татары держались спокойно. Поведение крымского хана Шагин-Гирея также пока не внушало опасений. Суворов томился бездействием. Малярия в жарком климате вернулась и снова его мучила.
Только летом 1777 года Суворов вырвался на побывку и приехал в Опошню. Варвара Ивановна встретила его холодно. Наташа не узнала отца. Отчужденность супругов стала увеличиваться из года в год.
Александр Васильевич неоднократно пытался примириться с женою. Иногда это ему удавалось, но ненадолго. В апреле 1784 года у Суворовых родился сын, названный, по желанию матери, Аркадием. Вскоре после этого между супругами вновь наступил разлад. Примирить их было некому: Прасковья Тимофеевна умерла. Разрыв стал неизбежен.
Они разошлись, поделив детей: Аркадий достался матери, Наташа — отцу. Он отдал ее на воспитание в Смольный институт, а сам отправился в деревню к тестю, где тот влачил жалкие дни в ожидании второго удара, и заставил его принять обратно приданое Варвары Ивановны. Возвратил он старику и его свадебный подарок — «прозоровскую родовую».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Гулянье
В 1785 году Суворову исполнилось пятьдесят пять лет.
В марте следующего года Суворов в порядке старшинства получил чин генерал-аншефа, то есть стал «полным» генералом. В «Артикуле воинском» Петра I генерал-аншеф означал чин главнокомандующего. При Екатерине Второй, по новому воинскому уставу, высшим воинским чином был генерал-фельдмаршальский. Суворов ценил каждый чин как ступеньку к полноте власти, необходимой ему для проявления своего таланта полководца. Чин же генерал-фельдмаршала он мог получить только на полях битв. Но и этот высший чин и высшее военное звание нужны были Суворову только как последняя ступень, на которой начиналось самое широкое из возможных поприщ: командование всеми вооруженными силами России.
Но сейчас войны не было. Оглядываясь на последние двенадцать лет своей «мирной жизни», Суворов испытывал все возрастающее беспокойство. Все, что он сделал за это время, представлялось ему ничтожным, а мечта детства совершить нечто великое не погасла, как это бывает с годами у многих людей.
В одном из писем к Потемкину Суворов мимоходом обронил фразу:
«Будущее управляет настоящим…»
Суворовым управляло будущее: он знал, что совершит великие воинские подвиги и это его будущее неразрывно связано с будущим России.
«Жизнь моя — для Наташи, смерть моя — для отечества», — писал он в эти дни.
Смерть?! Суворов сотни раз доказал, что он не боится смерти. Для деятельной натуры смерть если и страшна, то как образ бездействия.
В 1785 году Суворов писал Потемкину:
«Служу больше сорока лет, и мне почти шестьдесят лет, но одно мое желание — кончить службу с оружием в руках. Долговременное мое бытие в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей. Препроводя мою жизнь в поле, поздно мне к свету привыкать… Исторгните меня из праздности — в роскоши жить не могу…»
Вторая турецкая война стояла на пороге. Турки не могли помириться с утратой Крыма и с падением своего господства на Черном море. Что война неизбежна, было ясно и той и другой стороне.
В это время Потемкин устроил для стареющей Екатерины «гулянье», то есть шествие во вновь приобретенный Россией край. Говорилось, что он намерен показать императрице природные богатства Новороссии и все сделанное им за краткий срок управления этим краем. Такова была официальная мотивировка путешествия; но замысел Потемкина был более широк…
Он внял просьбе Суворова и назначил его в Екатеринославскую армию командиром Кременчугской дивизии.
Суворову надлежало в короткое время подготовить к путешествию царицы образцовую армейскую часть и показать ее на смотру. Суворов отправился в Кременчуг охотно.
Новый командир Кременчугской дивизии был готов приняться за ее обучение с таким же рвением, как двадцать с лишком лет назад взялся за дело новый командир Суздальского полка…
В холщовом пыльнике, на таратайке, в палящий зной на пустой степной дороге Александр Васильевич вспоминал, как тридцать пять лет назад, в зимнюю крещенскую стужу, капрал Суворов самовольно принял командование над брошенным офицерами батальоном Семеновского полка во время мирного похода из Петербурга в Москву.
«Ты отличись сначала перед солдатом, тогда тебя и начальство отличит», — говорил тогда капралу Суворову старый солдат из роты петровских ветеранов.
«А что ж? Генерал-аншеф Суворов у солдат на отличном счету. Да и начальство, нельзя бога гневить, отличает», — сказал Прохор Дубасов, подслушав, как генерал-аншеф рассуждает вслух сам с собой.
В Новой Ладоге полковнику Суздальского полка никто не давал прямых указаний, что надо делать. А теперь даже самое назначение указывало генерал-аншефу Суворову, что давно взвешена и положительно оценена работа полковника Суздальского полка, признано, что Суворов двадцать лет назад действовал правильно. Больше того: признано, что Россия обязана своими победами Суворову наряду с Румянцевым и другими, менее заметными преобразователями армии. Суздальский полк прославлен на вечные времена.
Однако новому полковнику Суздальского полка никто не ставил сроков, потому что никто не задавал ему урока. Теперь же новому командиру Кременчугской дивизии предлагали: изготовить дивизию к смотру «в кратчайший срок».
Для Суворова была ясна простая цель военного воспитателя: она заключается в том, чтобы создать победоносные воинские силы, ибо полководец должен побеждать.
С такими мыслями Суворов явился к Потемкину — в душе сержант, а по знакам отличия генерал-аншеф, счастливый тем, что опять вступает на свой путь, оставленный по необходимости за тринадцать лет до того.
Потемкин встретил Суворова ласково. Он был в хорошем расположении духа, охваченный мыслями по поводу уже совершенных и еще только задуманных им дел.
Сейчас предстояло ему на пустынном берегу Днепра заложить город Екатеринослав. По первоначальному проекту, город должен был занять площадь около двухсот квадратных верст; улицы его были намечены шириною в тридцать сажен. В этом городе предполагалось построить фабрики и заводы, завести школы, гимназии, консерваторию, университет.
В Ахтиаре (на юго-западном берегу Крыма) и на Ингуле Потемкин с яростной быстротой строит флот. В ближайшем будущем Ахтиар — это город славы Севастополь, а в устье Ингула вырастет Николаев — крупнейшая в России корабельная верфь.
Херсон, заложенный в Днепровском устье девятью годами раньше, уже превращался в крупный торговый порт.
Потемкин разводил и сажал в черноморских степях леса, сады, виноградники.
Он ставил себе очень трудные цели, разбрасывался, многое начинал и бросал незаконченным, не щадя при этом ни денег, ни труда, ни людей. То, что он сделал, было лишь малой частью замыслов его безудержной, хвастливой, склонной к самообольщению натуры. И потому все это стоило государству неимоверных средств…
Потемкин с горячностью стал объяснять Суворову положение:
— Турки готовы броситься на нас. Шведы к ним пристанут. В Европе считают, что Россия на волосок от гибели…
Он перешел на французский язык и продолжал:
— Казна разорена войной и роскошью двора, армия расстроена. Ее нечем кормить и не во что одеть. Для новых контингентов нет оружия. Не забудьте еще и Польшу. Станислав-Август — наш, но где гарантия того, что он не переметнется на сторону пруссаков? Или вдруг французы вскружат ему, бедному шляхтичу, голову — посулят независимость и миллион франков? Не будем прятать голову в кусты. Опасность велика. Наши слабости преувеличивают, но они есть!
— Еще бы! — согласился Суворов.
И тут Потемкин приоткрыл завесу над второй, и более важной, стороной задуманного им для царицы зрелища:
— Надо показать гостям императрицы, что все эти россказни вздор. Россия сильна! Готова отстаивать себя и твердой ногой стоит на Черном море! Нам нужны союзники для предстоящей войны!
Суворов вспыхнул и сказал по-русски:
— Стало быть, для того чтобы приобрести союзников, вы, краснобай-купец, показываете, как образец товара, мою дивизию?
— Вы покажете царице и ее гостям — посланникам, королю Станиславу и императору Иосифу — рядовую армейскую дивизию: вот, на дороге у нас стояла, ниоткуда ее не пригоняли; а не то что выбрали получше да нарядили на парад.
И, видя, что Суворов еще хмурится, Потемкин многозначительно прибавил:
— Еще скажу: ведь не вечно нам только с турками сражаться!
Последний довод возымел желанное действие. Суворов больше не спорил и заговорил о подробностях дела. Условясь с Потемкиным обо всем, он взялся за подготовку дивизии к смотру: времени у него оставалось немного — всего шесть месяцев…
В начале следующего, 1787 года Екатерина отправилась в путешествие. Ее сопровождала огромная блестящая свита. В ней находились три посла — австрийский, французский и английский. До Днепра огромный поезд царицы двигался на перекладных: на каждой станции его ожидала подстава из нескольких сотен лошадей.
В попутных селах и городах поезд встречали и провожали толпы пестро наряженных обывателей. В помещичьих усадьбах палили из пушек. На озерах и реках плавали в лодках девушки, одетые в яркие, веющие лентами сарафаны, распевая песни. Вдоль дороги на зеленых лугах паслись тучные стада. Их ночью перегоняли вперед…
В Каневе к поезду Екатерины присоединился польский король Станислав-Август со своей пышной свитой; в селении Кайданы — австрийский император Иосиф Второй.
По Днепру триумфальное шествие Екатерины следовало на галерах: почти целую сотню их построили нарочно для этого случая. На каждой галере находились хор и оркестр. По ночам на попутных холмах вспыхивали огромные транспаранты с вензелем Екатерины и десятки тысяч ракет рассыпались в небе разноцветными огнями «римских свечей».
Однако этот блеск ослепил далеко не всех гостей императрицы, австрийский император, человек приметливый, обратил внимание на то, что три дня подряд в каждом стаде он видел пестравку, хромавшую на левую переднюю ногу. Он заметил и то, что постройка новых селений на пути шла напоказ, а нарядные толпы были похожи на театральных статистов. Все же он выражал свое восхищение:
— Это галлюцинация! Или я вижу волшебный сон? Колоссаль!..
В Кременчуге Потемкин предложил посмотреть маневры суворовской дивизии. Этот смотр заставил умолкнуть скептически настроенных иностранцев. И австрийский император убедился, что не все им виденное — феерия, рассчитанная на дурной вкус.
Суворов показал свои обычные сквозные атаки: пехота на пехоту, конница на пехоту, пехота на конницу, построение в боевые порядки, рассыпной строй, строй колоннами, притворные ретирады для заманивания противника и преследования бегущих, наконец, фехтование, одиночные бои на ружьях, на саблях, пиками и дротиками. И тут Суворов показал чудеса. Конница неслась марш-маршем в развернутом строю на пехоту, идущую колонной. И вдруг по легкому мановению руки Суворова, вместо того чтобы построиться в квадрат (каре) и ощетиниться на все четыре фаса штыками, пехота кинулась вперед бегом врассыпную. Рассыпалась и конница «противника», пропуская свою пехоту с той стороны в интервалы. Через несколько мгновений все поле, насколько хватал глаз, покрылось тысячей поединков. Тут пехотинец яростно отбивался ружьем от сверкающего палаша драгуна и всадник чертом вертелся вокруг него на коне, там сражались два пехотинца, фехтуя ружьями. Направо два улана скрестили копья с пестрыми значками, словно два рыцаря в средневековом турнире, налево казак повалил своего коня и выпалил из-за него в налетающего гусара; гусар притворно свалился с коня и кинулся на казака, выстрелив из пистолета, а его коня поймал пехотинец и, вскочив в седло, скачет на выручку казаку, чтобы с коня штыком сколоть гусара. И посреди всей этой сумятицы — на коне Суворов в гренадерской каске. Вот он поднял руку. Заиграли трубы, загремели барабаны. Вмиг бой прекратился. Ветерок уносит дым и пыль, и через поле лицом к лицу выстроились два полка пехоты плотными квадратами, а за ними и тут и там — эскадроны. И среди поля все так же стоит недвижимо на коне Суворов с обнаженной головой.
Смотр ошеломил не только гостей, но даже самого Потемкина, великого мастера празднеств и представлений.
А Екатерина написала в Париж своему корреспонденту Гримму: «Мы нашли здесь расположенных в лагере пятнадцать тысяч человек превосходнейшего войска, какое только можно встретить».
Гримм, которому писала Екатерина, ловкий дипломат-доброволец и журналист по призванию, издавал в Париже для монархов Европы рукописную газету. Она имела всего шестнадцать подписчиков, в числе которых находились: шведский король, русская царица, польский король и турецкий султан. Гримм наполнял свою газету не только известиями о литературной, художественной и театральной жизни Парижа (у него сотрудничал Дени Дидро), но также и сообщениями об общественной жизни, придворными сплетнями и политическими слухами. Екатерина давала Гримму разные поручения, щедро оплачивала его услуги. Она могла быть уверена, что подробности ее путешествия станут известны всем европейским дворам, если не из газеты Гримма, то из его частных писем…
От Кременчуга Суворов следовал до Херсона в свите царицы. Екатерина осыпала его знаками внимания. Австрийский император удостоил его милостивой беседы. Английский посланник очень подробно расспрашивал о турецких делах.
После смотра в Кременчуге путь следования Екатерины волшебно изменился. Больше не было блестящих фейерверков, хоров, музыки, нарядных народных толп. По пыльной дороге тащились слепые лирники, держась за поводырей — босоногих мальчишек. Встречные чумацкие обозы не очень охотно сворачивали при встрече с пышным поездом царицы. По бокам дороги чернели распаханные квадраты. Желтела, колосясь, пшеница. Обжитые села попадались регулярно через каждые двадцать — тридцать верст.
Херсон, основанный всего десять лет назад, показался давно построенным бойким торговым городом.
Австрийский император был окончательно побежден, когда на Севастопольском рейде увидел эскадру из пятнадцати линейных кораблей и двадцати фрегатов. По сигналу с флагманского корабля суда снялись с якоря, оделись парусами и в кильватерном строе, эскадрами по семи судов, пошли в море, салютуя высоким гостям выстрелами с обоих бортов. Нет, это не было ни волшебным огнем, ни галлюцинацией.
Екатерина высказала желание еще раз посмотреть войска Суворова на обратном своем пути в столицу. Суворовские войска были поставлены лагерем на поле славной Полтавской победы. Для гостей воздвигли шатер на вершине кургана Шведская Могила. Маневры на этот раз точно воспроизвели Полтавский бой, причем русской стороной сражения командовал генерал-майор Михаил Кутузов…
Второй смотр суворовских войск прошел так же блестяще, как и первый. Екатерина провозгласила Потемкина «светлейший князем Таврическим». «А я, — писал Суворов Наташе в Смольный, — за гулянье получил золотую табакерку».
Кинбурн и Очаков
Путешествие Екатерины, повторенный на Полтавском поле смотр суворовских полков и смотр флота в Севастополе с выходом кораблей в море турки в Константинополе сочли за прямой вызов.
Русскому послу Булгакову турки предъявили дерзкие требования, сводившие на нет все выгоды, приобретенные Россией по миру в Кучук-Кайнарджи. Россия отвергла требования Турции. Тогда 12 августа 1787 года турки схватили русского посла и заключили его в Семибашенный замок (обычная манера турок объявлять войну).
Австрия присоединилась к России.
Главнокомандующим русской армии Екатерина назначила Потемкина, предоставив ему защищать Крым и Новороссийский край. Этим назначением царица как бы признавала Потемкина владетельным князем.
Начало войны ознаменовалось неудачей. Флот, вышедший из Севастополя в море, разметало бурей; один русский корабль занесло в Босфор, где его захватили турки; на суше неприятель одержал над австрийцами несколько побед.
Суворов получил в свое командование самый важный в начале войны Херсонский район. Основной целью турок являлось овладение крепостью Кинбурном и возвращение турецкому султану протектората над Крымским ханством. Значительный флот, войска, обученные французами высадкам с кораблей на берег с боем, назначались для решения поставленных турками задач.
Суворову не впервые пришлось заниматься береговой обороной: в 1778 году он организовал оборону всей линии крымских берегов.
Приняв командование, он принялся за усиление укреплений Херсона и Кинбурна, вместе с тем неустанно приучая войска к действиям на узкой и длинной Кинбурнской косе.
Турецкий флот не замедлил появиться перед Кинбурном и стал в линию вдоль противоположного берега под стенами Очакова, вне пушечного выстрела с русской стороны. До конца сентября военные действия под Кинбурном ограничивались бомбардировкой с маневрировавших кораблей противника и ответной канонадой кинбурнских батарей.
В эти полные тревог и забот дни Суворов находил отраду в переписке с Наташей. Он писал ей шуточные письма, как будто еще продолжалось прошлогоднее «гулянье»:
«Милая моя Суворочка! Письмо твое я получил; ты меня так утешила, что я, по обычаю моему, от утехи заплакал. Кто-то тебя, мой друг, учит такому красному слогу?.. Какой же у турок по ночам в Очакове вой! Собачки поют волками, коровы охают, кошки блеют, козы ревут. Я сплю на косе: она так далеко в море, в лимане. Как гуляю, слышно, что турки говорят; они там около нас, очень много на таких превеликих лодках, — шесты большие, к облакам, полотны на них на версту, видно, как табак курят; песни поют заунывные. На иной лодке их больше, чем у вас в Смольном мух, — красненькие, беленькие, синенькие, серенькие. Ружья у них такие большие, как камора, где ты спишь с сестрицами».
После Ильина дня (20 июля) Суворов писал дочери:
«В Ильин и на другой день мы были с турками в столовой. Ай да ох! Как же мы потчевались! Играли, бросали свинцовым большим горохом да железными кеглями с твою голову величиной. У нас были такие длинные булавки да ножницы кривые и прямые — рука не попадайся: тотчас отрежет, хоть и голову. Ну, полно с тебя, заврались! Кончилось, иллюминациею, фейерверком, — с праздника турки ушли, ей, далеко богу молиться по-своему и только: больше нет ничего».
…Приближалась бурная на Черном море осень. Снабжение у турок шло морем. Зимовать в замерзающем лимане флот не мог. Туркам оставалось одно из двух: или потерять кампанию и уводить флот домой, простояв перед Кинбурном лето понапрасну, или попытаться взять русскую крепость штурмом. Турки решились на второе. В ночь на 1 октября они открыли сильный пушечный огонь по косе и Кинбурну и под его прикрытием высадили на самые оконечности косы в расстоянии десяти верст от Кинбурна инженерные части и начали строить эстакаду,[63] чтобы облегчить высадку с лодок на береговую отмель. На следующий день они приступили к десанту.
День был праздничный. Суворов стоял в церкви за обедней. Ему доложили, что турки начали высадку.
— Не мешайте. Пускай вылезут, — спокойно ответил он.
Не встречая никакого сопротивления, турки высадили на косу около пяти тысяч человек и, простираясь к гласису[64] крепости, поспешно окапывались поперечными ложементами.[65] Впереди они выставляли против конницы рогатки.
Обедня кончилась. Суворову подали к церкви казачьего коня.
Сражение начали турки. Выйдя из-за рогаток, янычары двинулись на приступ.
В донесении Потемкину «о происшедшей баталии при Кинбурне и одержанной совершенной над неприятелем победе» Суворов так описывает события дня:
«Вашей светлости имел я честь донесть вчера о сильном неприятельском бомбардировании и канонаде до глубокой ночи. Сего числа оное паки[66] им на рассвете обновлено было гораздо жесточее по Кинбурнской крепости, галере «Десна» и ближним лагерям. Внутри крепости земляной вал и лагерные палатки претерпели некоторый вред, и ранено несколько солдат. В 9-ть часов утра в верху лимана, 12-ть верст от Кинбурна, при Биенках, оказались с турецкой стороны пять судов… Генерал-майор и кавалер Рек отправился туда. Сии суда от наших войск были отбиты с уроном.
Между тем против утра усмотрено было довольно турок на мысу Кинбурнской косы, которых число перевозимыми с кораблей непрестанно умножалось, и видно было, что они с великою поспешностью работали в земле для приближения к крепости. Я учинил следующую диспозицию: в первой линии быть Орловскому и Шлиссельбургскому полкам; во второй линии — Козловскому; легкому батальону муромских солдат, стоявшему от Кинбурна в 14-ти верстах, когда прибудет, и двум легкоконным резервным эскадронам Павлоградского и Мариупольского полков; донским казачьим полкам Орлова, Исаева и Сычева приказано быть с флангов. В крепости оставил я две роты шлиссельбургских и при вагенбурге,[67] за крепостью, по одной роте Орловского и Козловского полков; Павлоградскому и Мариупольскому легкоконным полкам, стоявшим от крепости в 78 метрах, и Санкт-Петербургскому драгунскому — в 36 верстах, — приказал с нами сближаться.
Видя многосильного неприятеля, подступившего к Кинбурну на одну версту, решился я дать баталию!
Храбрый генерал-майор и кавалер Рек, выступя из крепостных ворот с первою линиею, атаковал тотчас неприятеля, который с не меньшею храбростью защищал упорно свои ложементы… Подкрепляли атаку генерала Река резервные эскадроны и казачьи полки. Скоро прибыл и Козловский полк, начальник которого, подполковник Марков, поступил отлично. Поспешно неприятельский флот сближился к лиманским берегам и в близости стрелял на нас из бомб, ядер и картечью. Генерал Рек одержал уже десять ложементов, как был ранен опасно в ногу. Майор Булгаков убит, Муцель и Мамкин ранены. Неприятель непрестанно усиливался перевозимым ему войском с судов. Наши уступили и потеряли несколько пушек.
Позвольте, светлейший князь, донесть — и в низшем звании бывает герой. Неприятельское корабельное войско, какого я лучше у них не видел, преследовало наших; я бился в передних рядах Шлиссельбургского полку; гренадер Степан Новиков, на которого уж сабля взнесена была в близости моей, обратился на своего противника, умертвил его штыком, другого, за ним следующего, застрелил… они побежали назад. Следуя храброму примеру Новикова, часть наших погналась за неприятелем на штыках; особливо военными увещаниями остановил задние ряды сержант Рыловников, который потом убит. Наш фронт баталии паки справился, мы вступили в сражение и выгнали неприятеля из нескольких ложементов. Сие было около 6-ти часов пополудни.
Галера «Десна» (лейтенант Ломбард) наступила на левое крыло неприятельского флота, сбила несколько судов с места, крепостная артиллерия исправностью артиллерии капитана Крупеникова потопила у неприятеля два канонерных судна.
В то время приближались к нам под самый берег две неприятельские большие шебеки,[68] при начале их огня наша артиллерия одну потопила, другую спалила.
Но чрезвычайная пальба неприятельского флота причинила нам великий вред. Войско их умножилось сильнее прежнего; я был ранен в левый бок картечью легко; наши паки начали уступать. При сем случае наша одна 3-фунтовая пушка за расстреливанием лафета и колес брошена была в воду.
При битве холодным ружьем пехота наша отступила в крепость; из оной мне прислано было две свежие шлиссельбургские роты; прибыли легкий батальон, одна орловская рота и легкоконная бригада. Орлова полку казак Ефим Турченков, видя турками отвозимую нашу пушку, при ней одного из них сколол, с последуемым за ним казаком Нестером Рекуновым скололи четверых. Казаки сломили варваров. Солнце было низко! Я обновил третий раз сражение.
С отличным мужеством легкий батальон муромских солдат под предводительством капитана Калаптаева (который ранен пулей и картечью) шлиссельбургские и орловские роты на неприятеля наступали. Варвары в их 15-ти окопах держались слабо. Уже была ночь, как они из них всех выбиты были, опровержены на угол косы, который мы одержали; тут, вдали нас, стреляли из неприятельского флота паче картечью и частью каркасами[69] и пробивали наши фланги. Оставалась узкая стрелка косы до мыса — сажен сто, мы сбросили неприятеля в воду за его эстакад…
Ротмистр Шуханов с легкоконными вел свои атаки по кучам неприятельских трупов, все оружие у него отбил. Победа совершенная. Поздравляю вашу светлость. Флот неприятельский умолк. Незадолго пред полуночью мы дело кончили, и перед сем я был ранен в левую руку навылет пулею. По объявлению пленных, было варваров 5000 отборных морских солдат, из них около 500 спастись могло. В покорности моей 14 их знамен пред вашу светлость представляю…
Кинбурнский комендант полковник Тунцельман содержал во все время крепость в оборонительной исправности, и под его дирекцией крепостная артиллерия потопила два неприятельских судна…
Генерал Александр Суворов».
«Суворочке» после боя отец написал о своей победе кратко:
«У нас была драка посильнее той, когда вы друг друга дерете за уши. И как мы танцевали! — У меня в боку картеча, на руке от пули дырочка да подо мною лошади мордочку оторвало. То-то была комедия, насилу через восемь часов с театра отпустили».
За победу на Кинбурнской косе Суворов получил высший русский орден — Андрея Первозванного. Орден этот входил в число царских «регалий», имея всего одну, п е р в у ю, степень; награжденный им становился тем самым кавалером еще четырех орденов.
Турецкий флот ушел восвояси, чтобы весной вернуться под стены Очакова: крепость все так же грозно возвышала свои стены и башни над крутым двадцатисаженным обрывом берега, — с моря и с лимана она была недоступна. Вскоре после сражения Екатерина писала Потемкину: «Важность Кинбурнской победы в настоящее время понятна, но думаю, с той стороны не можно считать за обеспеченную, донеже Очаков не будет в наших руках».
Несмотря на прямое указание, Потемкин не решался атаковать Очаков. Половина лета 1788 года прошла в удачных действиях Суворова против турецкого флота. Батареи, установленные Суворовым на берегу лимана, при поддержке легких русских кораблей потопили пятнадцать турецких судов.
Потемкин только в начале июля приступил к Очакову, чтобы начать осаду.
По солдатскому рассказу, дело обстояло так:
«Катерина пишет Потемкину: «Жалко, старика ранило, а то бы он со своими солдатами и Очаков взял». Каково Потемкину такое письмо читать? Пригнал он всю армию к Очакову, обложил кругом, думает: турки теперь испугались, без боя крепость сдадут. А турки и в ус себе не дуют, сидят в Очакове в сухости и тепле. Всего у них много, запаслись на два года. А мы — в землянках сырых. Дров нет. Пищи нет. Фуражу нет. Мрет народ. Кони падают. Суворов говорит: «Надо Очаков штурмом брать, а так вся армия погибнет. Одним гляденьем крепость не возьмешь». Потемкину Суворова послушать?! Да ни за какие деньги! Сидит Потемкин в роскошном шатре, пирует, веселится. На Очаков в подзорную трубу глядит.
Турки осмелели. Делают из крепости вылазку. Суворов смекнул, да весь свой корпус — на них. Прогнали мы турок. Они выводят резервы. Мы напираем. Добрались до вала. Суворов просит у Потемкина: «Подсоби, ударь на крепость со всех сторон. Возьмем Очаков». И все генералы тоже. Один генерал даже на колени стал перед Потемкиным. А он от злости инда заплакал: вдруг да Суворов самосильно Очаков возьмет! Посылает к Суворову одного офицера — капитана, второго — премьер-майора, третьего — полковника: «Прекратить дело». А как его прекратить, коли турки чуть не весь гарнизон в поле вывели!
Суворова опять ранило. Сидит он на камне, лекарь ему рану смотрит. Скачет от Потемкина четвертый курьер — генерал. «Как вы, — говорит, — сударь, осмелились такое важное дело самочинно завязать?» А Суворов ему: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу!» Поскакал генерал обратно с ответом. А мы турок тем временем уже назад в крепость загнали. Потемкин зовет Суворова к себе и начал его при всех пушить. Суворов ему: «Дозвольте уехать для лечения». Потемкин рад. Суворов уехал!..»
Настала осень. Осада Очакова продолжалась. Ненастная погода прогнала из ставки Потемкина охотников веселиться. Пиры и балы у него прекратились.
Потемкин делался все мрачнее: осадной армии предстояла зимовка в сырых землянках. А зима, как на грех, наступила лютая, с крепкими морозами, сильными буранами и глубоким снегом. Не было топлива. Открылись болезни: цинга, тиф. В обозе и кавалерии лошади падали от бескормицы.
Солдаты наконец начали роптать и, когда Потемкин явился осматривать лагерь, потребовали штурма.
Потемкин решился и 6 декабря отдал приказание штурмовать Очаков. Штурм продолжался всего час. Солдаты ворвались в крепость и истребили почти весь гарнизон Очакова, который насчитывал пятнадцать тысяч человек. Потери русских при штурме были ничтожны в сравнении с тем, которые понесла огромная армия Потемкина от морозов и болезней осенью и в начале зимы. Если бы Потемкин послушал вовремя Суворова, этих потерь могло не быть.
Фокшаны и Рымник
Турки начали новую кампанию наступлением против австрийцев. Австрийская армия левым крылом соприкасалась с русской армией Румянцева.
Перед наступлением в турецкой армии разнесся слух, что у русских снова появился грозный Топал-паша, то есть «хромой генерал», — так в турецкой армии прозвали Суворова: он ходил вприпрыжку, припадая на раненую ногу. Турки хорошо знали Суворова: где русскими командовал Топал-паша, там турки неизменно терпели поражение. После раны под Очаковым Суворов исчез с театра войны, и турки считали его убитым. Так думал и турецкий главнокомандующий, начиная наступление на австрийцев. Первая же битва показала, что Топал-паша жив, находится в армии и стал еще грозней.
Австрийцами командовал принц Кобург, мягкий, робкого склада человек. Он просил у Суворова помощи. Ничего не отвечая, Суворов выступил. За двадцать восемь часов Суворов прошел со своим корпусом около восьмидесяти километров и ночью присоединился к австрийцам. Принц Кобург, не веря, что такой быстрый переход возможен, захотел тотчас увидеть Суворова. Ему ответили, что Суворов спит в солдатской палатке. На следующий день принц Кобург напрасно добивался свидания с Суворовым, а ночью получил от него коротенькую записку на французском языке:
«Войска выступают тремя колоннами: среднюю составляют русские. Неприятеля атаковать всеми силами, не отвлекаясь мелкими поисками вправо и влево. Говорят, что перед нами турок тысяч пятьдесят, а другие пятьдесят стоят дальше. Жаль, что они не все вместе: лучше бы покончить с ними разом».
Принц Кобург подчинился распоряжению Суворова.
У городка Фокшаны произошла битва. Бой продолжался десять часов. Турки, разбитые наголову, бежали. Только после окончания боя Суворов и Кобург встретились.
Турки решили повторить удар в стык русской и австрийской армий — фокшанский урок не пошел им впрок. На этот раз они с огромными силами в начале сентября перешли Дунай под предводительством самого великого визиря.[70] Ему пришлось иметь дело на реке Рымник снова с Топал-пашой.
Суворов действовал опять совместно с австрийскими войсками Кобурга. Силы турок в четыре раза превышали объединенные силы русских и австрийцев. Суворов предложил атаковать турок. Кобург заметил, что у турок огромный перевес сил и атака рискованна. Суворов возразил, что именно поэтому быстрая, смелая атака обещает успех. «Все же их не столько, чтобы заслонить солнце», — прибавил он. Кобург не соглашался. Суворов в раздражении заявил, что атакует турок один и разобьет их, — так был уверен Суворов в своих солдатах.
Они в ту пору уже сложили и распевали песню:
С предводителем таким Воевать всегда хотим.Угроза подействовала. Принц Кобург еще раз подчинился Суворову, согласился напасть на турок, вместо того чтобы ждать атаки с их стороны.
Суворов и на этот раз оказался прав. Стотысячная турецкая армия потерпела при Рымнике полный разгром. А турецкий визирь, разбивший в прошлом году австрийцев два раза, так был уверен в победе, что приготовил заранее цепи для заковывания пленных. Цепи эти попали в руки победителей.
У турок отбили сто знамен, восемьдесят орудий, несколько тысяч повозок с разным добром, большие стада скота и множество коней.
Суворов приказал своим солдатам украсить шляпы зелеными ветками и держал к ним речь.
— Чудо-богатыри, — сказал он, — мы пойдем туда, где растут лавры! Победа! Слава! Слава!
Теперь к прозвищу «Топал-паша» прибавилось новое: австрийские солдаты прозвали Суворова «генерал Форверст», то есть «генерал Вперед».
Екатерина наградила Суворова титулом графа Российской империи со званием «Рымникский». Он получил орден Георгия первого класса. Австрийский император возвел его в графы Римской империи.
Потемкин сгорал от зависти. Чтобы поправить свои дела, он осадил Бендеры, подкупил турецкого коменданта крепости, и тот сдал ее без боя.
Суворов поздравил Потемкина с победой, прибавив, что в первый раз за целое столетие сильная турецкая крепость сдалась русским «так приятно».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
День Александра Невского
В 1790 году русские войска осадили Измаил — самую большую и самую сильную турецкую крепость на Дунае. Русскими войсками под Измаилом командовали генерал-поручики Самойлов и Павел Потемкин (родственник «светлейшего»). Главного начальника фельдмаршал Потемкин не назначил. Генералы совещались, спорили, препирались меж собой, не зная, на что решиться. А от фельдмаршала ясных указаний не было.
Настала осень, близилась зима. В русском осадном корпусе появились болезни. Продовольствие кончалось; топлива не заготовили. Солдаты хворали в сырых землянках. В конце ноября генералы собрались на военный совет и решили снять осаду крепости.
Суворов стоял со своим отрядом в Бырладе, в ста верстах от Измаила, и томился бездействием. Настал день памяти Александра Невского — именины Александра Васильевича. Своим патроном, или «ангелом», Суворов избрал Александра Невского сам. По семейному преданию, это случилось так.
Суворов явился на свет полуживым: не дышал, не открывал глаз, не шевелился, не кричал. Повивальная бабка прибегла к испытанному средству: нашлепала младенца. Он ожил, открыл глаза и басовито крикнул: «А-а-а-а!» В первом взгляде ребенка повитуха прочла радостное изумление, о чем не замедлила поведать отцу, показывая ему новорожденного после купанья. К удивлению бабки, младенец, родившийся полуживым и недвижимым, непрестанно шевелился, двигал руками и ногами, ворочал головой, когда бабка принесла его показывать Василию Ивановичу.
«Настоящий «перпетуй мобиль», — сказал, смеясь, отец. Это прозвище с первого часа жизни пристало к ребенку. Отец утром справился: «Ну, как наш перпетуй… а?» — «Да слава богу, — отвечала повитуха, — одна беда: не хочет пеленаться». И точно: новорожденный не терпел свивальника и, когда его туго повивали, превращая в «пеленашку», орал не переставая, пока его не освобождали. Освободясь, он успокаивался и начинал шевелиться и ворочаться. «Ясно, перпетуй мобиль! — повторял отец. — Не пеленайте его, пусть так и живет!» И мать и повитуха ахнули, но подчинились. А чтобы ребенок не исцарапал себе лицо, Василий Иванович велел сшить и надеть ему на руки холщовые рукавички. Так наследник Суворова завоевал себе в первые же дни свободу.
Вторая стычка из-за сына случилась у отца с матерью при наречении младенца: не звать же его вечно Перпетуем — такого мужского имени и в святцах нет. Имена детям давались со смыслом и толком. Ожив, мальчик твердо сказал: «А!» Мать и ее товарки видели в этом знак желания, чтобы его имя начиналось с буквы «А». Заглянули в святцы. Среди близких ко дню рождения мальчика святых оказались на «А» — Анастасий, что в переводе с греческого на русский значит: «воскресший из мертвых». На 30 августа в один день приходились три Александра: Римский, Свирский и Невский. Отец, держа в уме Невского, пожелал назвать сына Александром. Мать хотела назвать его Анастасием: она боялась, что сын, обязанный подражать своему покровителю Александру Невскому, пойдет по его стопам. Батюшка-священник, коему предстояло крестить сына Суворовых, политично посоветовал матери согласиться на «Александра» с тем, что, когда мальчик подрастет, он сам выберет себе покровителя из трех Александров. Двое из них были люди мирные: один древний «святитель», то есть архиерей, а другой, Александр Свирский, как говорит предание, оставил богатый дом родителей молодым, ушел в монастырь на острове Валааме, жил там в пещере и тридцать лет подряд упрямо долбил для себя могилу в граните, да так ее и не кончил. Богобоязненная мать доверилась совету батюшки. Мальчика окрестили Александром, что значит «мужественный помощник».
Александр вырастал, окруженный ревнивой любовью родителей. Под сердитую руку и мать иной раз кричала: «Ну, ты, Перпетуй, посиди хоть минутку на месте!»
Александру уже исполнилось семь лет, а именин его еще ни разу не праздновали. Ему устроили первый экзамен: в присутствии отца, матери и учителя-попа дали ему прочесть вслух подряд два жития — Александра Свирского и Александра Невского, чтобы он выбрал себе одного из этих знаменитых русских людей «ангелом», как образец для подражания. Выбор Александра был уже сделан. Долбить всю жизнь для себя могилу в граните казалось мальчику скучным и глупым. Того же, что Александр Свирский ушел от богатого отца, чтобы жить в бедности, мальчик не мог постигнуть. Зачем это делать? От матери и от дворовых он слышал не раз, что отец скупенек. «У него каждая копейка гвоздем прибита», — говорили суворовские мужики про Василия Ивановича. И мать все жаловалась на скупость мужа: «При богатстве в бедности живем». Можно, стало быть, оставаться бедным и при богатстве; зачем же уходить из отцовского дома? Тоже глупо. Зато образ князя Александра Невского пленил мальчика.
Прочитав вслух оба жития, Александр на вопрос матери твердо, не задумываясь, ответил, что выбирает своим покровителем Александра Невского. «А в монастырь я пойду, когда состарюсь», — прибавил он, утешая мать.
Матери оставалось одно: подчиниться выбору сына. В дополнение к житию Василий Иванович в день первых именин сына рассказал ему, что царь Петр построил в Петербурге монастырь на том самом месте, где Александр Невский разбил шведское войско Биргера; место это и называлось Виктория. Незадолго до своей смерти Петр перевез в этот монастырь на открытой ладье гроб с останками великого новгородского полководца. Сам Петр стоял на руле ладьи, а гребцами были генералы и высшие сановники. «Стало быть, так: мы, русские, — прибавил Василий Иванович, — никогда и никому не отдадим невских берегов…»
Суворов праздновал свои именины в Бырладе; ему исполнилось шестьдесят лет. Служили молебен с провозглашением многолетия. Потом последовал особенно торжественный вахтпарад. Заметили, что именинник не в духе: не пожелал сам читать за церковной службой «Апостола», не раз за службой срывался с места, подбегал к певчим, бранил их и громко поправил попа, когда тот что-то прочел не так. И вахт-парадом остался недоволен: вместо обычной похвалы солдаты услышали чуть ли не первый раз от Суворова хулу вахт-параду. Особенно рассердило его поведение подполковника Остен-Сакена. Недавно прибыв из столицы, Остен-Сакен рассчитывал сразу получить батальон. Суворов медлил с назначением, присматриваясь к новичку. На вахт-параде Остен-Сакен командовал батальоном в первый раз. В учебную атаку батальон шел примерно, но в конце атаки произошел конфуз. Ряды расстроились, что, вообще говоря, за грех у Суворова не считалось. Остен-Сакену это не понравилось: он любил прусский строй. Когда батальон остановился, батальонный приказал солдатам, выбежавшим далеко вперед, после команды «стой» равняться по отставшей массе батальона. Барон Сакен не знал или забыл суворовское правило: согласно с ним, следовало подтянуть весь батальон к тем солдатам, которые после атаки оказались впереди.
Суворов, разбирая вахт-парад, обратился к солдатам:
— Плохо, братцы! Сижу я с вами в мокрой дыре, учу вас без палок и чудес. Чего бы! Учил я вас отступным плутонгам?[71] Для чего они надобны? Ни шагу назад, чудо-богатыри: хоть один впереди, — к нему. Вперед, не выдавай! Бодрость. Смелость. Храбрость. Победа. Слава!
После отдачи пароля Суворов пригласил всех офицеров к себе на обед.
«Суп вавилонский, ассирийская каша, французский пирог с грибами. Ром-гром. Чай» — такое было объявлено меню парадного обеда. Каждого из приглашенных просили захватить с собой прибор: ложку, вилку и нож.
В небольшой зале дома, где жил Суворов, солдаты, под командой Дубасова, составили несколько столов, накрыли собранными у соседей скатертями, вперемешку белыми, суровыми и цветными, расставили тарелки, кому оловянные, кому фарфоровые, кому из серебра. Разнокалиберные чарки красовались перед приборами. Посредине стола стояла незатейливая закуска: дунайские сельди, копченая тарань, грибы и блюда с черным солдатским хлебом, нарезанным большими ломтями. Стульев, занятых у соседей, все же не хватало, их дополнили простыми скамейками и табуретками. В углу жарко пылал камин. Комната до тесноты наполнилась гостями. В ожидании хозяина гости беседовали стоя. Молодежь, смеясь, точила принесенные с собой ножи и шутливо фехтовала ими, как шпагами. Полковник Мандрыкин, адъютант Суворова, исполняя обязанности церемониймейстера, указал гостям их места, соображаясь с чином. Хозяйское место и стул рядом остались без назначения.
Окинув последним взглядом сервировку стола, полковник Мандрыкин сделал знак гостям и отправился пригласить к столу именинника. Гости притихли. Вошел Суворов. Одетый на вахтпараде в серую куртку из солдатского сукна, Суворов явился к обеду в мундире генерал-аншефа, украшенный всеми своими орденами, в орденской георгиевской ленте через плечо. Он молча поклонился гостям и обвел их взором из-под опущенных век: Суворов кого-то искал…
— Барон, пожалуйте сюда! — сказал Суворов, найдя в ряду гостей Остен-Сакена, и указал на стул во главе стола, а сам, по обычаю, сел справа на углу.
Остен-Сакен вспыхнул, поклонился и занял указанное ему место. Гости шумно рассаживались за столом, громко болтая. Суворов требовал, чтобы гости у него за столом непрерывно говорили. По знаку Мандрыкина наступила тишина. Два гренадера вошли в пиршественный зал, неся на подносе большое конское ведро с водкой. За ними шел с «крючком» в руке седой капрал Фанагорийского полка Припасов. Зачерпнув крючком водки из ведра, капрал налил первую чарку Остен-Сакену, вторую Суворову. Затем наполнились по очереди и чарки гостей. Суворов следил за тем, чтобы при этом не нарушалось старшинство. Припасов знал всех гостей и не сделал ошибки.
Два курьера
Суворов встал и поднял чарку за здоровье императрицы Екатерины. Гости закричали: «Ура!» Близ дома грянула пушка. Стекла в окнах зазвенели. Капрал налил по второй чарке, и под громовой раскат выстрела по приглашению Суворова выпили за здоровье Потемкина. Настала очередь тоста за здоровье хозяина. Снова наполнились чарки. Дверь растворилась, в зал вошел Прохор Дубасов с серебряным подносом в руке — на подносе лежал пакет.
Дубасов торжественно возгласил:
— Прибыл курьер от светлейшего князя Таврического, фельдмаршала Григория Александровича Потемкина с письмом к его сиятельству графу Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому!
Суворов взял пакет, вскрыл и пробежал письмо глазами. Затем прочел вслух:
— «Ваше сиятельство! Милостивый друг Александр Васильевич! Поздравляю тебя, граф, со днем тезоименитства вашего в день славного полководца русского Александра Невского, имя коего своими победами вы носите с великой честью. Не нахожу слов изъяснить, сколько я чувствую и почитаю вашу важную службу. Молю бога за твое здоровье, да хранит он вас, граф, на многие-многие лета. Григорий Потемкин».
Мандрыкин поднял чарку за здоровье именинника. Раздались крики «ура». Подали пироги с грибами и «вавилонский суп», то есть щи из кислой капусты. Все принялись за еду с аппетитом.
Перед Суворовым поставили два отдельных горшочка с «ассирийской», то есть гречневой, кашей и с тем же «вавилонским супом». За стулом Суворова стоял Прохор Дубасов.
Чарки наполнялись и пустели уже без соблюдения старшинства. Припасов наливал тем, кто хотел. Сакен опрокидывал чарку за чаркой. Суворов покосился на него.
Закурили трубки. Принесли бутылки с ромом, чай и кипяток в закопченных медных чайниках. Об имениннике забыли. Суворов достал из кармана табакерку, понюхал и заговорил с бароном Сакеном по-немецки.
— Господин барон, ведь вы и ваши предки — рыцари Ливонского ордена? Тевтоны?
— Возможно, граф. Наша фамилия весьма обширна. Сакены служили в разных странах.
— Вы знаете, барон, кто Александр Невский, имя которого я ношу?
— Да, граф.
— Вы, конечно, слышали про сражение на Чудском озере?
— Конечно! Это было сражение тринадцатого века, если не ошибаюсь.
— Рыцари были разбиты наголову. Почему? Как вы думаете?
— Я думаю, что они оказались слабее.
— Почему же?
— Строй русских в этой битве оказался для них почти новостью. А русские уже знали тевтонский клин.
— Не по полену клин, господин барон.
— Вы совершенно правы, господин генерал.
Беседа Суворова с Сакеном прервалась. Внезапно вошел солдат и громко доложил:
— Курьер от его светлости фельдмаршала!
— Второй курьер?!
Возгласы изумления сменились тишиной.
Прибытие второго курьера из главной квартиры действующей армии означало нечто чрезвычайное. Получив утром первое письмо, Суворов догадался, что в нем, наверное, одни поздравления, и поэтому согласился на придуманный Мандрыкиным церемониал: вскрыть и прочесть письмо фельдмаршала во время именинного обеда.
— Позови курьера сюда, — приказал Суворов.
Все взоры обратились к двери. Вошел забрызганный по пояс дорожной грязью ординарец светлейшего, сержант Пахомов. Он явился к Суворову по форме и протянул пакет. На этот раз Суворов вскрыл пакет без всяких церемоний. В нем заключалось предписание фельдмаршала.
«Турецкая флотилия под Измаилом почти вся истреблена, — писал Потемкин, — остается предпринять на овладение городом, для чего, ваше сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в вашу команду».
Суворов вскочил на ноги, кинулся обнимать и целовать ординарца, пачкая свой мундир о его забрызганный грязью плащ.
— Дубасов, пирогов! — кричал Суворов. — Припасов, водки! Садись, мой друг. Вот уж истинно получил я подарок! Вот спасибо тебе, друг любезный! Садись, закуси, выпей. Ведь я сегодня именинник…
Усадив курьера к столу, Суворов, блестя потемневшими глазами, воскликнул:
— Господа офицеры!
Все смолкли, ожидая, что Суворов объявит содержание письма. Он поднял письмо вверх, отпихнул ногой стул, подбоченился и, помахивая письмом, как машет платочком в пляске баба, пошел кругом, припевая:
Ах кафтан ты мой старой, Всюду ты, кафтан, пригожаешься, А бывает, что порой И под лавкою валяешься…— Ну, старик нашел самого себя, — шепнул один из гостей соседу. — Вот теперь он именинник!
— Ваше сиятельство, да объявите же нам радостное известие. Сгораем от любопытства! — просил Мандрыкин.
— Мандрыка! — крикнул Суворов. — Свеженькое дело. Я еду под Измаил. Предписание его светлости.
Крики изумления, возгласы поздравлений, недоумения — все слилось в общий гул.
Суворов остановил крики отстраняющим движением руки:
— Мальчики, довольно! Погуляли — и будет. Пора за дело. Прохор! Перо, бумагу, песочницу, печать!
Суворов схватил за угол скатерть, приподнял ее и одним движением сгреб всю посуду со стола подальше от себя. Прохор принес и поставил перед генералом старинный ларец с письменным прибором, полученный им в наследство от отца.
Суворов склонился над бумагой с пером в руке, в задумчивом молчании. Гости, кланяясь ему, покидали зал шумными группами. Хотел уйти и Остен-Сакен. На его поклон Суворов ответил безмолвным жестом: «Останьтесь!»
Комната опустела. На другом конце стола, упав головой на стол, храпел курьер Потемкина. Он успел осушить под шумок целую бутылку рома. Его хотели разбудить. Суворов не велел:
— Пусть отсыпается — ему ведь скакать еще сто верст.
При Суворове остались только его штапы. Комната являла собой вид покинутого поля битвы. Валялись опрокинутые стулья, хрустело под ногой разбитое стекло.
Около Суворова сел его письмоводитель Курис, с другой стороны — полковник Мандрыкин.
Не написав ни слова, Суворов положил перо на стол, закрыл глаза и, словно погружаясь в дрему, тихо заговорил:
— У генералов под Измаилом накрывают на восемь человек, а сыты бывают двое. А солдаты? Слышь ты, неоткуда взять, не на чем везти. Да казак на седле два пуда привезет. Коню пуд не тяга, а пудом сорок сыты. Неоткуда? У тебя два сухаря — один отдай товарищу. Торговцы из Измаила откочевали — нету-де в армии денег. Кабы знали!
Курис, сделав в воздухе круг пером, возгласил:
— Суворов приказал! — склонился к столу и побежал пером по бумаге.
Суворов, казалось, задремал и смолк. Но лишь у Куриса перо перестало скрипеть, Суворов заговорил опять:
— Фанагорийцы, поди, под Галацем соскучились… Лодки… Шанцевый инструмент. Хотел Галац брать. Лестницы штурмовые…
Суворов открыл глаза и, взглянув на Сакена, прибавил:
— Барон, прикажите седлать коня…
Курис воскликнул:
— Суворов приказал!
И начал писать.
Приказ вручили Остен-Сакену. Суворов предлагал ему, не упуская часа, отправляться в Галац с приказом командиру Фанагорийского полка тотчас идти к Измаилу.
Самому Сакену Суворов приказал озаботиться отправлением из-под Галаца к Измаилу маркитантов с товарами.
— Буде на дороге по пути встретите торговцев, откочевавших от Измаила, разглашайте, что я туда прибыл. Сих не надо понуждать. Сами оборотятся. Весь шанцевый инструмент должно отправить на лодках к Измаилу. Лестницы тоже.
Остен-Сакен, приняв пакет от Суворова, откланялся. Через четверть часа он в сопровождении десятка казаков скакал по направлению к Галацу на Дунае.
В комнату входили и выходили, получив приказы, ординарцы. Наконец Суворов обмакнул перо в отцовскую чернильницу, усталый взор его застлала слеза. Суворов смахнул ее бородкой пера и написал:
«Получа сего числа повеление, отправляюсь к стороне Измаила… Суворов».
Разбудили потемкинского курьера. Его едва растолкали. Пахомов пробудился совсем, только когда его подняли и поставили на ноги. Он с изумлением обвел сонными глазами комнату, зевнул и потянулся.
— Конь твой напоен и накормлен, — сказал Суворов. — Да и ты, друг, всхрапнул порядком. Потрудись еще, братец, — свези письмо фельдмаршалу: мои-то люди все в разгоне.
Пахомов принял письмо из руки Суворова, сунул его в сумку и откозырял. У крыльца его ждал конь, вычищенный и отдохнувший. Ординарец вскочил на коня и ринулся в вечернюю мглу.
Над голубым Дунаем
Прискакал из Ясс в Бырлад новый курьер от Потемкина с печальными вестями. Генералы под Измаилом, еще не получив приказа о назначении Суворова, собрались на военный совет и решили из-за голода в войсках снять осаду. Генерал-поручик Павел Потемкин, двоюродный брат фельдмаршала, первый ушел из Измаила. Вице-адмирал де Рибас собирается с речной флотилией к Суворову под Галац.
«Предоставляю вашему сиятельству, — кончал свое письмо Потемкин, — поступать тут по лучшему вашему усмотрению, продолжением ли предприятия на Измаил или оставлением оного».
Суворов решил не медлить. Сделав последние распоряжения, он послал генерал-поручику Павлу Потемкину приказ вернуться с войсками к Измаилу и поскакал с конвоем казаков туда же. Он торопился. На полпути покинул свой конвой и вдвоем с одним казачьим урядником пустился прямиком к Дунаю.
Перед рассветом 2 декабря к русским аванпостам у Измаила подъехали два всадника: Суворов, а с ним казак с узелком, притороченным к седлу. В узелке заключался весь багаж полководца.
Рассветало. Суворов остановил измученного коня. Ночь неохотно отступала под сонным натиском серого дня. Все окрасилось в серо-голубые краски. Налево и направо голубели два озера лимана. Над голубым Дунаем серой холстиной расстилался туман. Излучину реки закрывали серые валы и бастионы Измаила. Сизые дымки поднимались над крепостью тонкими стебельками, расцветая в высоте алыми отсветами зари.
Из долины чуть доносились барабаны и рожки: играли зорю.
Суворов чухнул коня, и казацкий конь, поняв, что седок не спешит, побежал неторопливой рысцой.
Дорога спускалась вниз. Крепость приближалась. Справа от нее, на русской батарее, из амбразуры выпрыгнул огненный сноп с клубом дыма. Грянул и прокатился пушечный выстрел. За ним — другой, третий.
Впереди на дороге показалась на рысях группа всадников. Вышло из облака солнце. Засверкало золото мундиров.
Суворова ждали. Старшие командиры выехали его встречать. Впереди ехал генерал-поручик Самойлов. Он отсалютовал Суворову шпагой. Суворов, не останавливая коня, приложил руку к каске.
Значок на шесте около загородного дома, покинутого измаильским пашой, указал Суворову место ставки. Перед ставкой стоял караул от гренадерской роты Суздальского полка. Приняв рапорт, Суворов поздоровался с караулом, молча прошел вдоль фронта, обнял и поцеловал левофлангового, поклонился солдатам и усталой походкой направился к дому. Строй караула смешался. Гренадеры, сняв каски, воздели их на штыки и, высоко вздымая ружья, с криками «ура» устремились вслед Суворову.
Суворов остановился на крыльце, еще раз поклонился солдатам и вошел в дом.
Генералы и старшие командиры последовали за Суворовым в низкий, обширный, с маленькими оконцами покой. Суворов стоял среди покоя, устало закрыв глаза. Генерал-поручик Самойлов начал представлять командиров, называя их имена. Первым подошел де Рибас. Суворов открыл глаза и обнял де Рибаса. Они расцеловались.
Самойлов назвал следующее имя.
Суворов обнял бригадира Платова.
Когда Самойлов назвал имя генерал-майора Голенищева-Кутузова, Суворов внимательно посмотрел в лицо Кутузову: тот был с черной повязкой на правом глазу — он потерял его в прошлом году в бою под Журжей. Обняв Кутузова, Суворов прошептал ему на ухо:
— Назначаю тебя комендантом Измаила!..
Сверкнув глазом, Кутузов усмехнулся, но вдруг стал серьезен и с поклоном во всеуслышание ответил:
— Спасибо, граф. Оправдаю ваше доверие…
Представление окончилось. Суворов прошел к следующей двери, обернулся и поклонился всем:
— Господ генерал-поручиков, генерал-майоров и бригадиров прошу сюда.
Он пропустил перед собой тринадцать человек, последним вышел из зала сам и плотно затворил за собой дверь. Открылся военный совет.
Суворов спрашивал о числе и состоянии русских войск у Измаила. Ему отвечали: численность — до двадцати тысяч, из них половина казаков, вооруженных только пиками. В войсках много больных, изнуренных лихорадкой, продовольствия — на десять дней.
Суворов спрашивал о боевых запасах. Ему отвечали, что артиллерия имеет только по одному комплекту зарядов: ружейных патронов тоже мало.
Суворов интересовался уже произведенными осадными работами. Ему отвечали, что начали вести апроши,[72] но бросили. На флангах крепости возведены полевые редуты, но осадные орудия с них сняты и увезены Павлом Потемкиным.
Суворов задал вопрос: сколько турецких войск заперлось в Измаиле? Он узнал, что не более сорока тысяч, но и не менее тридцати. Войска турок обеспечены и фуражом и продовольствием на всю зиму, если даже не считать скрытых запасов мирных жителей.
Суворов спрашивал: каков дух турецких войск? Ему отвечали, что комендант Измаила на предложение сдать крепость ответил: «Я не вижу, чего мне бояться».
Суворов спрашивал: велика ли у турок артиллерия и обеспечена ли она огневыми припасами? Ему отвечали, что в отличном состоянии, а ничтожный вред, причиненный огнем русских осадных орудий, тотчас исправляется турками.
Слушая ответы, Суворов сидел в кресле с закрытыми глазами. Изборожденное глубокими морщинами лицо его хранило каменное спокойствие. Бледные руки, брошенные на стол, не шевельнулись ни разу. Суровая складка от крыльев носа к углам губ, столь характерная для людей, привыкших повелевать, постепенно смягчалась, и наконец по лицу Суворова разлилась широкая, блаженная улыбка, которая так пленительна у засыпающего после смертельной опасности человека и так пугает и волнует у мертвых. Суворов открыл глаза и одним словом выразил чувство, которое можно было прочесть на лице у каждого:
— Срам!
Не отдав никаких распоряжений, Суворов отпустил генералов. Удаляясь, они предполагали, что Суворов ляжет отдохнуть после стоверстной скачки по осенней слякоти. Суворов приказал подать коня, пригласил с собой инженера де Волана, Кутузова и де Рибаса на разведку измаильских укреплений.
Все поняли, что штурм решен.
Измаил представлял собой важнейшую турецкую крепость на Дунае. Военная тактика турок, хорошо изученная Суворовым, опиралась на крепости. Турки в открытом поле привыкли действовать натиском огромных масс. Если противник выдерживал их атаку, они рассеивались. Румянцев и Суворов в первую и вторую турецкие войны научили русскую пехоту стойко отражать первый натиск турецкой орды,[73] а конницу русскую — неутомимо преследовать бегущих. Для повторной атаки янычары, разбившись о глыбу русской пехоты, не годились. Попытки французских инструкторов привить туркам европейский боевой строй не удавались. Туркам после ряда поражений пришлось изменить свою тактику, разделяя армию на отдельные корпуса, чтобы наносить противнику повторные удары свежими войсками. Эти отдельные корпуса турок опирались обычно на отдельные укрепленные лагери. Своих неутомимых гренадеров Суворов приучил не только отражать повторные удары свежих турецких войск, но и атаковать без передышки первую, вторую и третью орды. Разбитые в поле турки укрывались, чтобы отдохнуть и устроиться для новых битв, в многочисленные свои крепости.
В Измаиле укрылась целая турецкая армия, включая остатки гарнизонов из других взятых русскими крепостей.
Старый Измаил стоял над обрывом Килийского рукава Дуная, на левом его берегу. Крутая излучина Дуная прикрывала Измаил с тыла. Французские инженеры окружили старый Измаил новой оградой неприступных сооружений от берега до берега Дуная.
Зубчатым длинным треугольником простирались высокие валы с глубокими рвами, кое-где полными водой. Возвышались старые каменные бастионы, включенные искусной рукой в систему новой линии обороны. Местами валы одеты камнем.
Болтливый француз де Волан, следуя за Суворовым по правую руку, указывал ему на разные особенности измаильских укреплений, с большим вкусом говорил об их оборонной силе, как будто он строил их сам и для себя. Кутузов и де Рибас, несколько отстав, беседовали между собой.
Суворов слушал де Волана молча. Порой его тонкие губы змеились усмешкой. Наконец он кинул как бы про себя:
— Вобановы школьники!
Де Волан осекся и замолк. Французские слова, которыми он сыпал, не были новостью для Суворова, он их узнал еще ребенком.
Суворову вспомнилась переведенная отцом книга Вобана. Он остановил коня и проговорил по памяти:
— «Фортификация есть художество укреплять городы… для того чтобы неприятель такое место не мог добывать без потеряния многих людей, а которые в осаде, могли бы малолюдством против многолюдства стоять».
Здесь было наоборот: в Измаиле заперлось многолюдство.
Де Волан почтительно молчал, полагая, что Суворов читает молитву.
— Крепости строят для того, чтобы… — строгим тоном учителя спросил Суворов де Волана, устремив ему в глаза взор.
— …чтобы их защищать! — поторопился ученик.
Суворов покрутил головой:
— Галлы обходили римские крепости… Потемкин любил держать крепости в осаде? — продолжал учитель «наводить» ученика. — Ну-те, ну-те, сударь?
— Штурмовать! — воскликнул де Волан, наконец догадавшись.
— Хорошо, господин инженер! — сказал Суворов и тронул донского жеребца.
Объезд крепости по линии вне картечного выстрела продолжался. Турки высыпали на валы и следили за небольшой кавалькадой. Там уж, наверное, знали от лазутчиков и перебежчиков, что к Измаилу прибыл грозный Топал-паша.
Там и здесь по дороге встречались отряды и группы солдат: одни стройно маршировали, другие шли на работу с песнями, неся на плечах лопаты и топоры. При встрече с Суворовым смолкали песни и слова команды. А затем мгновенная тишина взрывалась криком «ура» — и солдаты шли дальше.
От одного взвода отстал молодой солдат. Он остановился на дороге и, сделав лопатой на караул, смотрел на Суворова во все глаза.
Суворов придержал коня:
— Что ты? Чего стал?
— Лестно взглянуть на ваше сиятельство…
— Как тебя звать?
— Гусёк, ваше сиятельство…
— Ну, гусек, от старых гусей не отставай!
Гусек расхохотался и побежал догонять свой взвод.
— Взвод, стой! — скомандовал капрал. — Вольно!
— Дядя Никифор! — кинулся Гусек к капралу. — Вот так так! Ну уж и генерал! Жеребчик под ним ледащий… Сам-то худ!..
— А голова с пуд! — оборвал Гуська капрал. — Мужик ты был, Гусек, мужиком и остался. Кто же это лопатой честь отдает? Осрамил ты меня, Гусек! Перед Суворовым! Ну-ка позовет меня да скажет: «Как же это ты, брат, Никифор? Чему молодых учишь? Как же это? Ай-ай!»
Гусек вдруг заплакал. Солдаты сурово молчали.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Штурм Измаила
Письмоводитель Курис, диктуя писарям приказы генерала, неизменно предварял текст приказа словами: «Суворов приказал».
Такое начало попало в текст нескольких приказов, и с той поры приказы по войскам объявляли, начиная непременно этими словами, хотя бы их в тексте и не было.
Суворов приказал резать по ильменям сухой камыш на топливо, посылая на эту работу слабые команды. «От безделья в сырых землянках больше люди хворают», — пояснял приказ. Задымились трубы камельков в давно не топленных землянках. В сырых убежищах солдатских стало веселее, суше и теплее. Число дымов в русском лагере умножилось. Турки, видя это, думали, что под Измаил прибыли новые крупные силы. У страха глаза велики: перебежчики сообщали — в крепости думают, что Топал-паша привел к Измаилу сто тысяч солдат.
Суворов приказал направить под Измаил маркитантов и подвозить продовольствие, хотя бы во вьюках на казачьих конях. Маркитанты прибыли и открыли свои палатки. Снова у лавок толклись армейские поручики, хлопцы майоров, денщики полковников, камердинеры генералов.
Суворов приказал снять с застав пикеты и рогатки, «ибо нам никто отсель не угрожает». К Измаилу из глубины страны, казалось дотла разоренной, потянулись скрипучие возы. Молдаване навезли необмолоченной кукурузы. Распечатались полковые денежные ящики. В артельных котлах варили пшёнку, мамалыгу. Солдаты грызли пареную кукурузу и похваливали. Число маркитантских фургонов возрастало. Прикочевал огромный табор цыган. Около их черных палаток зазвенели наковальни. Старухи цыганки гадали, покуривая трубки. Молодые цыганки стайкой бродили в толпе солдат меж возами, блистая черными глазами, звеня монистом кос.
Товару много — денег мало. Так часто бывает на ярмарках. В полковых денежных ящиках не на всех хватило денег, и солдаты больше бродили по базару, чем покупали. Там, где торговали «с рук», бродил, что-то выискивая, молодой солдат Ваня Гусек. В сумке у него гремело несколько медяков, а в руке он зажимал как некий талисман, выданную ему после усиленных просьб ротным писарем бумажку. На ней было написано четыре слова:
«Суворов платит три рубля».
Гусек ходил по толкучке, выискивая то, что ему до зарезу было нужно. И наконец нашел. Какой-то смуглый человек — грек ли, турок ли, а может быть, и перс из Закавказья — держал в руках новую уздечку с серебряным набором. Гусек остановился, разглядел уздечку и спросил цену. Смуглый человек молча показал пальцами «пять». Гусек, подняв один палец, сказал: «Целкового за глаза довольно!»
Смуглый помотал головой. Гусек принялся его уговаривать. Их окружили. Какой-то гусар, похвалив уздечку, просил Гуська:
— Да зачем тебе, пехота, узда? Знаешь ли ты, где у кобылы хвост, где голова?
— Знаю! — уверенно ответил Гусек и показал смуглому человеку два пальца.
Тот поднял три пальца и на этом уперся. Солдаты стали на сторону Гуська и убеждали смуглого человека согласиться на два рубля. Тот молча показывал свое: три пальца.
Гусек вздохнул и согласился. Потянул к себе уздечку и сунул в руку смуглому бумажку. Смуглый развернул бумажку и в недоумении огляделся вокруг.
— «Суворов платит три рубля», — прочел какой-то грамотей у него из-за плеча. — Бери! Чего тут. Это денег стоит!
— Бери! Чего там! — сердито кричали солдаты.
Смуглый нехотя выпустил из рук уздечку.
Счастливый, оторопелый Гусек стоял и любовался своей покупкой.
— Суворов платит! — крикнул один из солдат. — Хо! Хо!..
Тем временем по приказанию Суворова сделали в поле, подальше от глаз неприятеля, копию измаильского вала с глубоким рвом; перед ним вырыли волчьи ямы. Молодых солдат учили тут, как застилать плетнем волчьи ямы, забрасывать фашинами ров и штурмовать вал. У берега Дуная с обоих флангов крепости Суворов приказал поставить за укрытием по батарее из сорока полевых пушек в каждой, чтобы скрыть от турок приближение штурма, обманув их надеждой на долгую осаду.
5 декабря к Измаилу возвратились войска генерал-поручика Павла Потемкина. 6 декабря из-под Галаца пришел Фанагорийский полк. 7 декабря Суворов послал коменданту крепости письмо фельдмаршала Потемкина, полученное семь дней назад. Потемкин предлагал сераскиру Айдос-Магомету сдать крепость без боя во избежание пролития крови и обещал отпустить войска турецкие и жителей Измаила за Дунай со всем имуществом. В противном случае фельдмаршал предрекал Измаилу участь Очакова и сообщал о назначении Суворова. К пространному письму фельдмаршала Суворов присоединил послание от себя:
«Сераскиру, старшинам и всему обществу.
Я с войсками сюда прибыл.
Двадцать четыре часа на размышление — воля; первый мой выстрел — уже неволя; штурм — смерть.
Что оставляю вам на размышление.
Александр Суворов».
Сераскир Айдос-Магомет ответил:
«Скорее Дунай потечет назад и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил».
Хитрый паша вместе с тем просил десять дней на размышление. На следующий день он прислал парламентера спросить, согласен ли на это Суворов. Суворов отвечал, что, если в тот же день на валу Измаила не появится белое знамя — знак сдачи, — будет штурм.
Белое знамя не появилось.
Суворов собрал военный совет. На нем присутствовали генерал-поручики Потемкин и Самойлов, генерал-майоры Львов, Ласси, Мекноб, Кутузов, Арсеньев, вице-адмирал де Рибас, гвардии майор Марков, бригадиры Вестфален, Орлов, Чепега, Платов. Суворов обратился к генералам со скупой и краткой речью:
— Господа! По силе четырнадцатой главы воинского устава я созвал вас. Политические обстоятельства я постигаю как полевой офицер. Австрияки замирились с турками. Поляки двояки и переменчивы. Пруссаки вооружились против нас. Англия всех мутит. Франция помогает оттоманам. Мы с турками одни — лицом к лицу. России нужен мир. Измаил наш — мир и слава! Нет — вечный срам!.. Его светлость фельдмаршал прислал снаряд и желает нам счастья. Осада или штурм — что отдаю на ваше рассуждение…
По правилам военного устава, первым должен был высказаться младший. Им в совете являлся бригадир Платов, донской атаман.
— Штурм! — просто сказал он.
Все повторили это слово. Совет постановил единогласно:
«Приближаясь к Измаилу, по диспозиции приступить к штурму неотлагательно, дабы не дать время неприятелю еще более укрепиться, а посему нет надобности относиться к его светлости главнокомандующему. Сераскиру в его требовании отказать. Обращение осады в блокаду исполнять не должно. Отступление предосудительно победоносным ее императорского величества войскам».
Суворов назначил штурм в ночь на 11 декабря.
Турки держались начеку. Беглецы из крепости сообщили, что там ждали штурма каждую ночь. Половина гарнизона, не раздеваясь, ночевала в землянках близ валов. Сераскир объезжал войска три раза в сутки. Ночью объезды совершали командиры янычар. Дозоры ходили по валам и всему городу. Айдос-Магомет и все его генералы решили обороняться до крайности. Войска разделяют их решимость. Султан объявил, что он отрубит всем командирам головы, если Измаил падет.
Суворов приказал объявить эти малоуспокоительные известия по войскам всем, начиная от высших начальников до рядовых.
С рассветом 10 декабря началась сильнейшая бомбардировка крепости с фланговых батарей, с дунайской флотилии и с острова за рекой. Турки отвечали канонадой из всех орудий. Артиллерийская дуэль длилась весь день до ночи. Сотни орудий гремели с обеих сторон непрерывно, изрыгая дым и пламя.
Русские снаряды причиняли крепости большой ущерб. Сильно пострадал и город. На русской стороне урон понесла речная флотилия. Одну бригантину турки удачным выстрелом взорвали, больше ста человек экипажа погибло в волнах Дуная.
К ночи турецкие пушки замолчали. Все реже стреляли и русские. Ночь, непроглядно темная, накрыла землю. Ударил легкий морозец и сковал осеннюю грязь.
В три часа ночи взвилась сигнальная ракета, русские войска поднялись, по второй ракете заняли назначенные по диспозиции места, по третьей — задолго до рассвета в грозной тишине бросились на крепости со всех сторон одновременно.
Диспозиция штурма, в главных чертах намеченная лично Суворовым, обладала удивительной ясностью и простотой. Крепость имела в плане вид треугольника. Против каждой из трех сторон крепостного треугольника назначались три штурмовые колонны. Три колонны на правом фланге, с короткой, но очень сильной западной стороны, — под общим командованием генерал-поручика Потемкина. Три колонны, против самой длинной стороны, северо-восточной, объединял под командой своей генерал-поручик Самойлов. Три колонны, под начальством генерал-майора де Рибаса, назначались для действия с третьей, речной стороны. Им предстояло, переплыв на судах Дунай, при поддержке батарей на острове Чатала и пушек речной флотилии атаковать крепость со стороны Дуная.
Из девяти штурмовых колонн трем приходилось штурмовать три вершины крепостного треугольника, наиболее сильные точки Измаила. Эти три колонны состояли из отборных батальонов старых суворовских полков, прославленных его победами. Команду этих трех колонн Суворов вручил трем генералам, в мужестве, храбрости и отваге коих Суворов не сомневался. На правом крайнем фланге штурмовой колонной командовал генерал Львов. Здесь, у берега Дуная, вздымался серой глыбой камня старый редут Табия. Колонне под командой генерала Макноба поручался штурм второй вершины треугольника, северо-западной, — здесь валы и стены достигали высоты двенадцати сажен.[74] Штурмовой колонной против восточной вершины крепости командовал генерал-майор Михаил Илларионович Кутузов. Крепость примыкала в этом месте снова к берегу реки, выдаваясь вперед тремя бастионами.
Кавалерийский резерв в 2500 сабель, под командой Вестфалена, занимал такое место, чтобы поспеть в случае вылазки турок к любым из четырех крепостных ворот.
Диспозицию во всех подробностях объяснили всем: офицерам и солдатам.
Штурмовые колонны имели впереди себя стрелков и рабочих с топорами, кирками и лопатами. Солдаты несли на плечах фашины, волокли плетни, застилая ими волчьи ямы. Фашинами забрасывали рвы.
Венец победы
Гребень измаильских валов опоясался линией ружейных огней. Загромыхали турецкие пушки, осыпая штурмующие колонны картечью. Русские стрелки били турок по головам, целясь на вспышки ружейных выстрелов. Под прикрытием ружейного огня солдаты перешли рвы. Началось восхождение на крутые и высокие валы. К отвесным каменным стенам старых редутов приставляли лестницы. Цепкими муравьями карабкались люди по лестницам и крутым склонам валов, подталкивая слабых сзади, вытягивая спереди; с яростными криками взбирались солдаты все выше и выше. Передовые падали, сраженные выстрелами в упор и под ударами сабель, но снизу снова катилась прибойная волна. Еще в глубокой тьме штурмовые колонны взошли в нескольких местах на вал и разливались по нему в обе стороны, тесня турок.
Редут Табия взять лобовой атакой оказалось невозможным. Генерал Львов первый перелез через палисад между редутом и берегом реки, подав пример фанагорийским гренадерам. Преодолев палисад, гренадеры, следуя за Львовым, ворвались в крепость и атакой в тыл захватили береговые батареи. Из редута турки сделали вылазку. Янычары ударили в сабли. С редута неумолчно гремели пушки, осыпая фанагорийцев картечью. Львова ранило. Фанагорийцы ответили на вылазку штыковым ударом. Янычары рассеялись. Под взрывами ружейных гранат фанагорийцы обошли редут, дорвались до ворот, отворили их, впустили резерв и соединились со второй штурмовой колонной генерал-майора Ласси, уже овладевшей на своем участке гребнем вала. Башня редута еще держалась.
Третья штурмовая колонна, под командой генерал-майора Мекноба, штурмовала угловой бастион Измаила. Чтобы взобраться до вершины редута, пришлось связывать в длину по две лестницы в шесть сажен каждая. Передовых смельчаков турки свергали вниз сабельными ударами. Их место занимали новые бойцы. Стрелки поддерживали внизу неумолчный огонь по головам турок. Отчаянный отпор турок заставил Мекноба ввести в бой весь свой резерв. Генерал во главе резерва взошел на бастион по штурмовой лестнице и здесь пал, смертельно раненный. Сломив упорство турок, солдаты Мекноба утвердились на бастионе и овладели соседними куртинами.
Большой урон терпели плохо вооруженные казаки четвертой и пятой штурмовых колонн на самом длинном фасе крепости. Янычары перерубали ятаганами древки казачьих пик, и обезоруженные казаки погибали сотнями. Части четвертой колонны, предводимой бригадиром Орловым, все-таки удалось взобраться на вал, как вдруг отворились Бендерские ворота Измаила, и турки, выйдя из крепости, ударили в крыло штурмующей колонны, разрезав ее пополам. Казаки смешались. Янычары бурным натиском опрокинули их в ров. Если бы не вытребованный кавалерийский и пехотный резерв, дело здесь могло окончиться плохо. Сабельными ударами гусары, штыками пехотинцы прогнали турок обратно в крепость. Ободренные помощью, пришедшей вовремя, казаки повторили штурм и стали на валу твердой ногой.
Пятой штурмовой колонне бригадира Платова пришлось переходить крепостной ров по грудь в воде, а затем взбираться на крутой вал, одетый камнем. Втыкая пики в расщелины меж камней, казаки Платова упорно карабкались на вал под ружейным огнем турок. Дурной оборот дела в четвертой колонне, крики смятения оттуда, возгласы «алла» вне крепости при вылазке турок смутили и напугали казаков, они отхлынули. Посланный им на помощь батальон пехоты повернул дело. Колонна возобновила штурм и, прочно завладев валом, вошла в связь с четвертой.
За рекой дело шло очень удачно. Прикрывшись завесой артиллерийского огня с батарей острова Чатала, все три колонны де Рибаса на судах речной флотилии подошли к берегу и высадились. Флотилия тоже гремела по городу из своих медных фальконетов. Под грозный говор пушек колонны пошли в атаку и овладели пушками южных крепостных батарей.
Стальной обруч неудержимо стягивался вокруг Измаила. Сомкнуть его концы в венец победы предстояло шестой штурмовой колонне генерал-майора Кутузова. В шестой штурмовой колонне у Кутузова находился батальон, пришедший из Бырлада. Батальон этот по второй ракете двинулся на место, ему назначенное, так стремительно, что оказался впереди других, а ему следовало по диспозиции быть в резерве. Командир выстроил батальон по передовым, не осаживая его назад.
Из-за этого батальон суздальцев оказался позади, а по диспозиции ему следовало быть в первой линии. В кромешной тьме произошла небольшая суматоха. Явился Кутузов.
— Я не отойду ни на шаг назад! — упрямо заявил Кутузову батальонный.
— Значит, такова ваша судьба, — ответил Кутузов, — вы пойдете в атаку первым.
По третьей ракете батальон кинулся на штурм с беззаветной отвагой под перекрестным огнем с валов, образующих здесь три исходящих[75] угла.
Раскаты «ура» и ответные вопли «алла» с вершины вала говорили о том, что там идет беспощадная рукопашная схватка.
Суздальцы в резерве роптали. Ваня Гусек, с обмотанной по поясу под мундиром новокупленной уздечкой, прилепился неотступно к своему учителю, Никифору Кукушкину, и сдавленным голосом спрашивал его:
— Дядя Кукушкин, как же мы без дела остались?
— Делов на всех хватит! Без нас не обойдется, — спокойно ответил капрал.
Отпор янычар был яростный, жестокий. Батальон потерял почти три четверти людей. Командир с рассеченной ударом ятагана головой упал, но под руку его попала брошенная сабля. Он схватил ее, вскочил и ринулся в бой; кровь, стекая из раны, застилала ему взор.
Положение на участке шестой штурмовой колонны сделалось критическим. Суворову сообщил об этом прискакавший от Кутузова казак.
— Скачи назад! Скажи генералу: «Приказ подписан!»
Казак замялся:
— А боле ничего?
— Не перепутай: «Приказ подписан!» — повторил Суворов.
Казак поскакал обратно и на скаку кричал, чтоб не забыть загадки: «Приказ подписан! Приказ подписан!» — и с этим криком подлетел к Кутузову.
Уже брезжил туманный рассвет. Кутузов сам с суздальцами пошел в атаку. Они бросились через ров с криком: «Приказ! Приказ!», хотя никто не знал и не мог знать, что за приказ подписан. Суздальцы знали, что у Суворова один приказ: вперед!
Гусек не отставал от Кукушкина. Втыкая штык в землю, он карабкался рядом с дядькой на скользкий от крови вал и кричал, поощряя себя:
— Гусек! От старых гусей не отставай!
Ставя ногу на ровный гребень вала после крутизны, Гусек оступился. Он упал бы, если б его не подхватил Кукушкин…
Что было потом, Гусек плохо помнил. У него зашлось восторгом сердце. Он куда-то бежал вместе с другими, держа ружье наперевес и крича: «При-ка-а-аз!» Вдруг он почувствовал на штыке своем неподъемную тяжесть. В голову ударило. Завертелись в глазах огненные колеса. Гусек упал.
Когда он очнулся, уже рассветало. Прислоненный к брустверу, Гусек сидел, держа в руках ружье. Кукушкин снял с головы убитого турка белоснежную чалму и принялся длинным полотном обматывать голову Гуська. Сквозь полотно сочилась кровь.
— Дядя Никифор, ты чего это делаешь? — спросил Гусек в недоумении.
— Турка из тебя, дурака, делаю!
— Дядюшка, а Измаил наш?
— Твой наполовину. А мою половину надо еще взять.
— Дядюшка, — воскликнул со слезами в голосе Гусек, взглянув на штык своего ружья и на свои окровавленные руки, — а я, никак, одного неприятеля сколол!
— Мало одного: дюжину! Ну, и он тебя поцарапал. Долг платежом красен!
— Ура! Суворов платит! — закричал Гусек, встав на ноги.
— Молчи, дурень! — строго прикрикнул Кукушкин.
Озираясь, Гусек удивился строгой тишине. Пушки замолчали. Прекратилась и ружейная трескотня. Над рекою стоял туман. Но город уже выплывал из тумана. Казалось, что дома, минареты и башни оторвались от земли и поднимаются ввысь. Бесчисленные стаи голубей, всполошенных штурмом, носились в безоблачном фарфорово-синем небе, их крылья вспыхивали порой алой кровью; там, в высоте, уже светило солнце.
По валам, насколько хватал взор, ходили русские солдаты, склоняясь на убитыми, поднимая раненых.
— Дядя Никифор! Когда же твою половину Измаила брать будем? — спросил Гусек.
— Коль скоро Суворов велит, тогда и возьмем.
Вторая половина штурма оказалась трудней во много раз, чем первая. Овладев к солнцу всем поясом измаильских укреплений, русские войска сильно расстроились, потеряв очень много убитыми и ранеными. Почти все офицеры получили раны, в большинстве тяжелые. Турки, занимая центральное положение, собирались в тесных улицах Измаила. Численный их перевес был еще значительней после убыли в русских штурмовых колоннах, к тому же атакующие образовали растянутую линию, а турки сплотились.
Суворов приказал войскам, отдохнув, продолжать атаку, не давая туркам опомниться. Колонны построились и двинулись в город. Туман рассеялся. На улицах и площадях города завязался снова бой, вернее, сотни кровавых боев. Затихая в одном месте, выстрелы и боевые крики вспыхивали в другом. Все дома Измаила, каменные, с толстыми кирпичными стенами, превратились в блокгаузы. Из окон домов, из-за стен летели пули. Большие дома, казармы янычар, высокие «ханы» — гостиницы — приходилось штурмовать, как цитадели, применяя артиллерию. Вдобавок ко всему сераскир приказал спустить с коновязей всех кавалерийских лошадей; конница турецкая не могла теперь действовать на узких и кривых улицах. Тысячи взбешенных разнузданных коней носились по улицам и площадям. Выстрелы и штыки не могли их остановить. Русские солдаты падали, смятые и растоптанные конскими копытами.
Суворов приказал вступить в город всем резервам, пехотным и кавалерийским. Конница охватила город кольцом по линии укрепления, уничтожая тех турок, которые пробились сквозь штурмовые линии и не хотели сдаваться.
К часу дня русские войска достигли середины города. В руках турок оставались только две мечети и неприступный редут Табия. Но когда из мечетей турок выбили, редут выкинул белый флаг.
Сераскир Айдос-Магомет с двумя тысячами янычар затворился в самом большом доме. Батальон фанагорийских гренадеров по приказанию Павла Потемкина атаковал последнее убежище коменданта Измаила. Из дома фанагорийцев встретили картечью — у турок в их «цитадели» нашлись и пушки. Подвезли артиллерию и ядрами выбили ворота «хана»; фанагорийцы ворвались внутрь.
Суворов приказал кавалерии очистить город от остатков неприятеля.
Назначенный комендантом Измаила, генерал-майор Кутузов принял город и крепость в свое распоряжение. Над редутом Табия развернулся русский флаг. Караулы стали в различных местах. Важнейшие караулы занял Фанагорийский полк.
Комендант крепости Кутузов приказал казакам собирать брошенное оружие и патронные сумки, в особенности пистолеты. Караулы из крепостных ворот никого не впускали в город. Разного люда — пешего и конного — ко дню штурма под Измаилом накопилось множество. У Бендерских ворот караул, поставив рогатки, едва сдерживал напор толпы. Сержант пошутил: «Мы штурмовали, а вы хотите на даровщину. Лезьте через вал». Шутку приняли за разрешение. Толпа кинулась в ров и с криками полезла на валы. Ни окрики часовых с вала, ни их выстрелы в упор не остановили этого второго штурма. В воротах толпа мадьярских и волошских крестьян опрокинула рогатки, смяла караул и ворвалась в низложенный оплот ненавистных поработителей. Кутузов приказал защищать мирное население.
Вахт-парад
Опоясанный поверх мундира зеленым знаменем, сорванным с древка, с незаряженным пистолетом в руке, с головой, окутанной чалмою, Гусек сначала следовал за старым капралом, но затем от него отстал.
Гусек брел по кривой улице. Статный червонно-золотой масти жеребец, забежав в тихий переулок, мирно выщипывал из расщелин каменной ограды порыжелую траву. У Гуська радостно стукнуло сердце…
Достав из-под мундира уздечку, Гусек тихо подошел к жеребцу и сказал:
— Тпру! Тпру! Не бойся, Смирный!..
Коню, видно, прискучила одинокая воля — он храпнул, раздув ноздри. Запах Гуська коню понравился: конь дался ему спокойно.
— Вот так у нас дело пойдет, — обротав коня новой уздечкой, приговаривал Гусек, выбирая из конской гривы репья.
Разобрав поводья, Гусек вскочил на коня и шагом выехал из узкой улочки на площадь. Через площадь казаки гнали табунок коней.
— Эй, служба! — крикнул Гуську казачий урядник. — Слезай с коня долой.
— Как бы не так!
— Слезай!
— Да ведь коня-то мы хотим от Суздальского полка Суворову в подарок!
— Это дело другое. Хороший конь! — похвалил урядник. — Пожалуй, не самого ли сераскира носил. Это вы ладно, служба, удумали. Надо старичка уважить! Он коней любит!..
Казаки погнали табунок дальше. А Гусек на Смирном выехал на измаильский майдан.
Майдан кишел народом. Русские терялись в разношерстной толпе. В одном месте в ряд стояли возы с яблоками. Раскинулись палатки с восточными сластями. Манили, чадя угаром, шашлычники. Народ толпился у огромной винной бочки на возу. Виноторговец цедил вино в жестяные кружки. Гуську захотелось пить. Он подъехал к бочке и потребовал полкварты. Вытянув кружку до дна одним духом, Гусек достал из-под полы монету, кинул ее в кружку и поехал искать свой полк.
Суздальцы расположились в казарме янычар. Батальонный Золотухин, покуривая трубочку, сидел среди двора на барабане.
Гусек въехал во двор веселый и закричал:
— А вот он и я! Победа! Слава! Слава! Слава!
Увидев Золотухина, Гусек осекся. Батальонный крикнул:
— Гренадер! С коня долой! Сюда!
Гусек скатился с коня и подвел его к батальонному. Золотухин строго оглядел Гуська и спросил:
— Чей конь?
— Мой.
— Отведи коня на двор старой крепости. Там примут.
— Так ведь я не себе! — закричал Гусек солдатам. — Подарим коня Суворову! Срам смотреть, на чем он ездит!
— Ай да Гусек — что выдумал! Молодец!
Солдаты, смеясь, окружили Гуська. Подошли и офицеры. Все любовались червонно-золотым конем.
— Ты, малый, не дурак! — сказал батальонный. — Конь хорош. Подбери-ка, братцы, из добычи убор для коня. Да побогаче! Показистее!
Солдаты принялись подбирать коню драгоценную сбрую.
Военная добыча суворовских войск оказалась огромной. Пушек взяли в крепости 265, знамен 364, бунчуков[76] девять, пороху 3000 пудов, лошадей более десяти тысяч, а также огромное количество боевых припасов, продовольствия и фуража.
Огромны были и людские потери турок. Убитых неприятелей насчитывали 26 000, пленных 9000. Тела убитых турок во избежание заразы бросали в Дунай.
Суворовские войска потеряли около 4000 человек убитыми и 6000 ранеными, среди них 400 офицеров. Тела русских вывезли за стены Измаила и похоронили в братских могилах.
11 декабря Суворов послал два донесения о победе.
Екатерине в Петербург:
«Гордый Измаил у ног вашего величества».
И Потемкину в Яссы:
«Нет крепче крепости, отчаяннее обороны, как Измаил, падший пред высочайшим троном ее императорского величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю вашу светлость».
11 декабря Суворов отправил Потемкину донесение о победе, а 12-го торжественно въехал в Измаил. На гласисе старой крепости у Бендерских ворот выстроилась почетная стража Фанагорийского и Суздальского полков, несших в этот день караулы. Суворов во всех орденах, русских и иностранных, с орденской черной с желтым лентой через плечо стоял «стрелкой», слушая строевой рапорт коменданта Измаила Кутузова.
Приняв рапорт, Суворов поздоровался с гренадерами и начал говорить. Он говорил, покашливая, хриплым голосом, словно разбирая обыденный вахт-парад. И штурм Измаила в его словах представлялся как будто бы делом обычным, рядовым. Он хвалил солдат и командиров за точное исполнение приказов, за правильное, согласно диспозиции, занятие мест, назначенных штурмовым колоннам, за то, что все колонны по третьей ракете двинулись на штурм одновременно.
Никому Суворов не произнес хулы и кончил речь обычными, как на вахт-параде, словами:
— Субординация! Экзерциция! Дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость! Победа, слава, слава, слава!
Отслужили молебен. Под орудийный салют возгласили вечную память павшим и многие лета живым. Суворову подали донского жеребца.
Тут генералы и офицеры расступились. Из толпы вышел Гусек и подвел к Суворову червонно-золотого смирного коня. Убрали Смирного солдаты на славу, богато, как сами хотели: чепрак, шитый золотом, турецкое седло с высокой лукой, украшенное самоцветными камнями, между ушей коня колыхался пышный султан из белых страусовых перьев.
Суворов залюбовался конем.
— Ваше сиятельство! Прими солдатский подарок! — громко провозгласил Гусек и тише, для одного Суворова, прибавил: — Моя добыча конь-то, а уздечку я купил!
Суворов блеснул взором, подошел к Гуську, обнял его, поцеловал и похвалил коня:
— Хороший конь! Видно, что привык к парадам. Скажи товарищам от Суворова спасибо. Только принять подарок не могу. Мы, русские, воюем не за добычу. Донской конь принес меня сюда, донской конь и унесет отсюда!
Гусек с печальным восторгом воскликнул:
— Батюшки! От коня отказался!!
— Расседлай коня! — приказал Суворов.
Гусек поспешно исполнил приказание — расседлал Смирного, свалив чепрак, седло и остальной убор на землю.
Поникнув, стоял Гусек с уздечкою в руке; поднял на Суворова полные слез глаза и робко предложил:
— Может, хоть уздечку возьмешь?
— Взять не возьму, а куплю, пожалуй, — ответил Суворов, — коли недорого спросишь…
— Да по своей цене отдам. Три рубля заплатил…
Суворов взял из рук Гуська уздечку и приказал казаку взнуздать ею своего донского жеребца, а Мандрыкину велел заплатить Гуську три рубля.
Суворов вскочил на коня и шагом направился к Бендерским воротам.
Получив деньги, Гусек закричал: «Ура! Суворов платит?» — и кинулся к суздальцам. Они его окружили.
— Вот, братцы, штука! От коня отказался! А уздечку купил у меня, вот они, три рублика… Да где же дядя Никифор?
— Эва, хватился! Дядя Никифор в чайхане лежит…
Испуганный, побежал Гусек на майдан, нашел чайхану и вошел под ее сумрачный свод. Тяжелый, смрадный воздух захватил Гуську дыхание. На устланном соломой полу чайханы лежали вповалку и стонали раненые. Гусек нашел Никифора. Старый капрал лежал в сторонке, у стены, навзничь, с закрытыми глазами, накрытый плащом. Гусек тихо позвал его. Капрал открыл глаза:
— А, Гусек! Пришел? Ну, что?
— Да ведь дело какое, дядя Никифор! Он от коня-то отказался!
— От какого коня?
Гусек рассказал, как было дело. Лицо капрала просветлело. Он усмехнулся:
— Эх ты, дурак-вахлак, вздумал Суворова конем соблазнить!..
— А хотел он взять коня-то! Даже зарделся. Уж и хорош конь-то! Так он на коня жарко глядел!.. А уздечку мою за три рубля у меня купил…
— Дешево отдал…
Они помолчали.
— Ты не помри, дядя Кукушкин!
— Помру — похоронят. А ты кланяйся товарищам. Вели долго жить. Да еще погожу умирать. Я вроде бессмертный.
— Прощай, дядя Никифор. Поправляйся!
Гусек вышел из чайханы. Уже темнело. Но майдан гудел. Кое-где зажигались фонари. Отовсюду неслись песни, слышался женский смех.
Туман повил город пеленой. На валах перекликались часовые…
Суворова после штурма трепала лихорадка. Он стремился душой на север, тоскуя по белым снегам и крепкому морозу. Там, в России, болезнь всегда ослабевала или оставляла его совсем.
Пробыв под Измаилом еще несколько дней, он объявил, что едет в Петербург. Дорога лежала через Яссы, где проводил дни в роскоши и лени Потемкин. Александру Васильевичу предстояла с ним встреча.
В день отъезда Суворов простился с войсками.
Офицеры провожали его гурьбою.
Суворов сел в свою повозку. Дубасов — в свою. Возничий хлестнул коней. Тройка поскакала, за нею пара. Повозки прыгали по кочкам замерзшей дороги. В повозке Дубасова гремела и дребезжала посуда.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Архиерейская карета
Унылая, бесснежная и в декабре, молдавская степь развертывалась впереди.
Решаясь на штурм Измаила, Суворов поставил на карту всю свою военную карьеру. Неудача штурма могла бы стать закатом звезды Суворова. Теперь она горела ярко, высоко поднявшись над горизонтом.
От фельдмаршала Потемкина Суворов получил в Измаиле очень любезное поздравительное письмо, но в нем за дружескими любезностями сквозили досада и неприязнь. Потемкин завидовал и не умел скрыть зависть свою. Встреча с Потемкиным не сулила доброго, хотя Суворов знал, что фельдмаршал готовит ему торжественную встречу.
Ближе к Яссам местность сделалась веселее, холмы круче, появились леса. Суворов ехал в тяжком полузабытьи. Было далеко за полдень. По расчету времени выходило, что скоро покажутся белые церкви старинных ясских монастырей с зелеными кровлями и золочеными куполами, как бы измятыми рукой времени, и красные черепичные крыши домов. Столица молдавских господарей приближалась. На колдобине тряхнуло. Суворов очнулся от забытья и крикнул ямщику:
— Стой! Колесо сломалось!
Ямщик осадил коней. Суворов выпрыгнул из повозки, и ямщик слез с козел. Подъехал на своей паре Дубасов.
— Ах ты, бездельник! — встретил подошедшего Дубасова Суворов, указывая на правое заднее колесо своей повозки. — Говорил я тебе, что надо починить повозку! Видишь, колесо развалилось.
Ямщик смотрел то на колесо, то на Суворова в тупом недоумении: колесо-то целехонько!..
— Экое диво какое — ведь было совсем здоровое колесо и в черепья рассыпалось! — сказал Дубасов, ничуть не удивляясь. — И ехать-то осталось двадцать верст. Есть ли у тебя, друг, топор?
— Как топору не быть! — ответил ямщик.
— Поди-ка, друг, в лес, выбери там дубок вершка на два да сруби, — распорядился Дубасов, — придется замест колеса слегу подвязать.
— Да колесо-то ведь цело!
— А ты, друг, тверез ли? — спросил ямщика Суворов. — Ступай и делай, что велят.
Ямщик достал из передка топор, пошел в лес и срубил дубок. Колесо сняли и вместо него к оси подвязали слегу.
— Вот морока, — дивился ямщик.
Подняв колесо, он крепко постукал им по земле: «Колесо-то ведь цело!»
Дубасов отнял колесо у ямщика и положил в свою тележку. Суворов молча забрался в повозку и велел ехать тише. Слега чертила по земле; позади шажком тащилась тележка Дубасова. Суворов заснул.
В Яссы въехали ночью. На заставе Суворова не узнали. Он велел ехать не во дворец Потемкина, а к старому своему приятелю, майору Непейсыну, у которого всегда останавливался, приезжая в Яссы. Непейсын служил в Яссах полицмейстером. Он встретил Суворова радушно и рассказал ему, как торжественно готовились встречать днем измаильского героя. Потемкин заблаговременно послал к заставе свою золотую карету. От заставы до дворца стояли махальные, чтобы в тот же момент, как Суворов подъедет к заставе, просигналить Потемкину. По ракете грянули бы пушки и зазвонили бы на всех церквах колокола.
— Ах, ах! — жалел Суворов. — Какие почести упустил! Надо было, как на грех, колесу сломаться! Да на чем же я завтра к фельдмаршалу поеду? Скажи, друг, сделай милость, цела ли у тебя твоя колымага?
— А что ей делается? — ответил майор Непейсын. — Стояла и стоит в каретнике. Брал ее у меня архиерей для визита к его светлости, а больше в нее и не запрягали. Сам я иначе как на дрожках не езжу.
— Окажи, друг, услугу: одолжи мне на завтра твою карету.
Майор усмехнулся и ответил:
— Да бери, Александр Васильевич! Не на трех же колесах тебе к фельдмаршалу ехать.
Утром ко дворцу, где до вступления русской армии жил паша, наместник султана, подкатила, дребезжа, старинная облупленная колымага, запряженная парой тощих кляч. На козлах сидел в плаще с широким капюшоном и в широкой черной шляпе кучер с длинным бичом в руке. На запятках, держась за ремни, стоял в каком-то долгополом архалуке Дубасов. Суворов притаился в глубине колымаги.
Потемкин поднялся с постели раньше обычного, и от этого дурное настроение его усилилось. Повторять вчерашнюю церемонию встречи Потемкин не хотел: неужто ждать подряд несколько дней, ставить у дворца почетный караул, а бомбардирам держать круглые сутки горящие фитили для пушечного салюта? Потемкин изменил привычному бухарскому халату и сразу оделся в мундир.
Увидав в окно колымагу майора Непейсына, адъютант доложил Потемкину:
— Ваша светлость, к нам, кажется, опять архиерей!
Лицо Потемкина изобразило брюзгливую досаду:
— До чего это некстати!
Однако он вышел в сени встречать преосвященного владыку и остановился на верху лестницы.
Суворов, смеясь, с резвостью мальчика прыгая через три ступеньки, взбежал по лестнице. Фельдмаршал и Суворов обнялись и расцеловались, для чего Потемкину пришлось нагнуться.
— Чем я могу наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич? — спросил Потемкин, выпрямляясь.
Суворов ответил:
— Ничем, князь. Я не купец и не торговаться приехал…
Потемкин побледнел и молча двинулся в зал. Суворов последовал за ним и подал строевой рапорт. Потемкин принял рапорт небрежно. Ни тот, ни другой не произнесли более ни слова. Молча походили взад и вперед по залу. Суворов откланялся. Потемкин едва ответил на его поклон. Они разошлись. Суворов вернулся в дом майора Непейсына, велел надеть на ось своей повозки четвертое колесо и отправился дальше. Он ехал в Петербург, уверенный, что получит фельдмаршальский жезл.
Падение Измаила произвело огромное впечатление в Турции. Перед русской армией лежал открытым путь на Балканы. Из придунайских городов турки начали разбегаться. В потрясенном Стамбуле вспыхнуло народное восстание. Штурм Измаила обеспечил России выгодный мир.
В Петербурге ликовали. Екатерина в письме к Потемкину, рискуя задеть его самолюбие, говорила, что «почитает измаильскую эскаладу[77] города и крепости за дело, едва ли где в истории бывшее…». Царица спрашивала у Потемкина совета, как и чем наградить Суворова. Курьер с ответом Потемкина обскакал Суворова на дороге в Петербург.
Екатерина приняла измаильского героя, когда он к ней явился, с холодной лаской и объявила ему за взятие Измаила чин подполковника Преображенского полка. Эту награду за подвиг, беспримерный в истории, можно было счесть за издевку. Хотя полковником Преображенского полка числилась сама императрица, но подполковников Преображенских считалось уже целый десяток, в том числе и фельдмаршал Потемкин. Награды по армии за штурм Измаила всех удивили своей скупостью. Враги Суворова радовались; доброжелатели сетовали на несправедливость; в армии негодовали. Прохор Дубасов гневался на самого Суворова, считая его виноватым в неожиданном повороте счастья. Если посетители спрашивали: «Дома ли граф?», Дубасов отвечал: «Графа нет, а подполковник дома!» Попреки и грубость Прошки наконец надоели Суворову, и он отослал его в далекую деревню.
Вслед за Суворовым в столицу явился и фельдмаршал Потемкин, оставив армию на попечение князя Репнина.
В честь Потемкина готовился великолепный праздник. Суворов незадолго до этого торжества получил повеление Екатерины отправиться на границу Финляндии для осмотра крепостей. Он сел в почтовую кибитку и покинул Петербург.
В Таврическом дворце, купленном Екатериной у Потемкина за полмиллиона, а теперь вновь ему подаренном, праздновали измаильскую победу. Великолепием и пышностью праздник затмил все, что видели в столице раньше. Потемкина чествовали как победителя. Екатерина подарила ему фельдмаршальский мундир, затканный бриллиантами, в двести тысяч рублей.
Праздники сменились буднями.
Екатерина охладела к своему любимцу. Потемкин погрузился в хандру, но не ехал к армии, куда его старалась сбыть Екатерина. Тем временем Репнин разбил турок за Дунаем и подписал мир, вырвав у Потемкина славу окончания войны.
Жизнь Потемкина склонялась к закату. Он вернулся к армии, некоторое время томился в безделье, потом заболел, выехал в Яссы. По дороге туда он умер в степи. Узнав о смерти Потемкина, Суворов написал: «Се человек, се образ мирских сует — беги от них мудрый».
Сэр Бушприт
Суворов должен был осмотреть финляндскую границу и представить проект ее укрепления. Мир со Швецией заключили еще до падения Измаила, но отношение шведского короля к России продолжало оставаться враждебным. Шведы все еще не хотели примириться с укреплением русских на финских берегах, хотя уже истекало столетие со дня основания Петербурга.
Суворов очень быстро исполнил возложенные на него поручения и явился в столицу с готовым планом переустройства старых крепостей и возведения новых. По плану Суворова численность войск, а следовательно, и расходы по обороне финляндской границы заметно сокращались, а надежность обороны возрастала.
Суворов считал дело поконченным и ждал какого-либо другого, более почетного назначения.
Ожидания еще раз обманули Суворова. Он получил повеление: отправиться назад, в Финляндию, и осуществить свой проект. Он оставался в немилости.
Войска в Финляндии Суворов нашел в плохом состоянии. В финляндские батальоны ссылали за разные провинности гвардейских солдат. О перевоспитании их до Суворова не помышляли. Солдаты часто болели. Больные, они бежали из казарм, чтобы не попасть в госпиталь. Эти, по выражению Суворова, «богадельни» представляли собой не лечебные заведения, а очаги заразы.
Суворов поступил просто: закрыл все госпитали, оставив для неотложной помощи только полковые лазареты. Больных из госпиталей он вывел в более здоровую обстановку финских деревень. Жалкие средства лжеученых медиков Суворов заменил народными средствами — травами, корешками. Живительная сила природы быстро сказалась: смертность в войсках значительно понизилась. Гиблый, казалось, климат Финляндии на самом деле был целебным. Природные условия страны: ее скалы, леса, бесчисленные озера и реки, туманы и дожди летом, глубокие снега и морозы зимой, — по общему мнению, не допускали здесь обучения войск. Суворов рассуждал иначе: если в этих природных условиях приходится воевать, то и обучать солдат надо не где-то далеко, в России, а именно здесь. «Оболгали мне здесь невозможность всеместных маневров», — писал он, что в переводе на обычный язык значит: мы доказали здесь, что маневры войск возможны в любых местных условиях, в любой природной обстановке.
Так же как и в Новой Ладоге, Суворов и тут показал выпрямляющую силу труда. Он отвлек солдат от праздности не только воинским обучением. Ему не хватало рабочих рук; он заставил солдат участвовать в постройке крепостей, на обжиге извести, на устроенных им кирпичных заводах, заготовке и пилке леса.
Кроме полевых войск, в команде Суворова состояла гребная флотилия. Для этой флотилии не хватало гребцов. В Крыму и на Днепровско-бугском лимане Суворов ознакомился с морским делом. Он посадил на суда флотилии пехотинцев и начал их обучать. Все же ему недоставало судов для перевозки грузов, а рядом, на рейде Роченсальма, праздно стояла под флагом капитан-командора Нанинга практическая эскадра. Вид бездействующей эскадры с сотнями матросов на каждом корабле был для Суворова непереносим.
Нанинг именовал себя капитан-командором по старой памяти: в ту пору чин этот был временно упразднен.
А Суворов носил имя генерал-аншефа, то есть являлся по службе старше капитан-командора Нанинга, который к тому же ничем не был знаменит, кроме разве прозвища «сэр Бушприт», данного ему моряками.
У моряков свои понятия о чинах и субординациях. Сэр Бушприт потому упорно и держался за наименование капитан-командора, что считал этот чин выше армейского генерал-майора.
Уже одного этого было достаточно для того, чтобы между Суворовым и сэром Бушпритом возникли нелады. А главная беда состояла в том, что они в одной существенной черте сошлись характерами. Суворов был мастером язвительной шутки, и сэр Бушприт был порядочным шутником.
Во всем остальном они расходились, начиная с внешности.
Суворов при маленьком росте был коренаст и юношески подвижен, даже став стариком.
Сэр Бушприт — высок, долговяз, но грузен и медлительно-важен.
Черты суворовского лица некрупны, тонки. Лицо его никогда не застывает, оно — как море в свежий, шквалистый ветер.
У капитан-командора черты крупные, будто вырубленные топором, на лице застыло деревянное выражение.
У Суворова глаза слегка навыкате, голубые, все время искрятся, а в гневе способны сверкать молниями.
Глаза капитан-командора сидят в глубоких впадинах, словно высверленные коловоротом корабельного брызгаса — мастера по сверлению дыр. Взор его мутный, холодный, цвет глаз скучный, стальной.
Нос у сэра Бушприта длинен, очень велик, за что капитан-командор и получил свое прозвище. Как будто плотник, мастеривший, лицо капитан-командора, не совсем правильно высверлил дыру и вколотил в нее нагель,[79] отчего капитан-командор ходит, задрав нос кверху, на манер бушприта корабля.
Сэр Бушприт говорит, словно командует, срываясь на высоких нотах. Он плохо понимает по-русски, так как не хочет знать иного языка, кроме английского, непоколебимо уверенный в том, что этот язык — отец всех прочих, а потому все должны его понимать. Суворов, в отличие от сэра Бушприта, говорил звучным басом, знал несколько языков, за исключением родного языка командора, и очень жалел, что не мог объясниться с ним по-английски.
Инструкция, данная Суворову перед его отъездом в Финляндию, имела пробел: капитан-командор не был ему подчинен. А между тем оборона шхер была немыслима без флота. Для выбора мест береговых батарей требовалось произвести промеры у берегов.
Суворов нанес сэру Бушприту визит на рейде, чтобы просить его содействия. Старый генерал-аншеф сделал промах, не прибегнув к переводчику. Капитан-командор понял просьбу как приказание и надменно ответил:
— Кто вы есть, господин генерал? Здесь море, корабль; на земле я вас слушать; здесь, на флот, вы государь мой, малашишка. Имейте флот маленький чин — мичман тогда я вас слушать. Хэлло!
Суворов молча откланялся, а на другой день на флагманский корабль «Северный орел» явился адъютант Суворова и вручил сэру Бушприту запечатанный пакет. В нем капитан-командор нашел прошение.
Командир «Северного орла» капитан-лейтенант Прончищев, негласно исполняющий должность переводчика при флагмане, сообщил, что генерал-аншеф Суворов, граф Рымникский и граф Священной Римской империи, Александра Невского и многих других орденов кавалер, почтительно просит в первый удобный для капитан-командора день сделать ему, Суворову, экзамен на мичмана для производства в первый на флоте офицерский чин.
Сэр Бушприт стал в тупик. Спросил совета у Прончищева. Тот ответил, что по форме и по сути дела отказать Суворову в его просьбе нельзя.
— Тем более, — значительно прибавил Прончищев, — его сиятельство граф Суворов в морском деле вовсе не мальчишка. Еще командуя береговой обороной Херсонского района, он имел дело с флотом. Устраивая оборону Крыма, Суворов дружил с адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым, и тот слушался его советов. На Дунае под рукой графа Суворова был адмирал де Рибас… Да и у нас Суворову подчинена гребная флотилия. Будьте уверены, господин командор, генерал-аншеф не хуже нас с вами знает и морской устав и практику…
Сэр Бушприт призадумался и для верности отправился на быстроходном галиоте в Кронштадт, а оттуда в Петербург, чтобы испросить повеление у наследника престола, генерал-адмирала Павла Петровича, как поступить.
Суворов воспользовался отсутствием капитан-командора и, с согласия Прончищева, повторил на практике то, что знал по книгам и уставам, а также из опыта на Буге, Днепре и Дунае. На экзамене ему предстояло отвечать на разные вопросы об оснастке корабля — о рангоуте, мачтах, реях, марсах, стеньгах, о стоячем и бегучем такелаже, о парусах: как их ставить и убирать.
Вахтой во время хода корабля под парусами командует лейтенант, начальник вахты, а мичманы — его помощники, по одному на каждую из трех мачт корабля. Чтобы командовать одной мачтой, надо знать несколько сот названий, которые постепенно изучаются на практике. У Суворова недоставало времени — сэр Бушприт мог вернуться на эскадру в любой день.
Командир «Северного орла» поступил с небывалым претендентом на мичманский чин, как учитель поступает с любимым учеником, когда надо его спешно приготовить к ответственному испытанию: в этом случае ученика «натаскивают». Прончищев был не прочь проучить надменного сэра Бушприта, а Суворов с озорным увлечением отдался в распоряжение учителя, облачившись в матросскую одежду. Пять дней подряд Прончищев маял команду своего корабля парусными учениями. Матросам показалось очень лестным, что с ними наравне тянет шкоты, лазит по вантам, ставит и убирает паруса, крепит снасти, вяжет узлы и сплеснивает тросы[80] сам Суворов. Они дивились неутомимому проворству, цепкости этого старичка со смешной тугой косичкой седых волос, с «косоплеткой» из ленточки георгиевских цветов, завязанной бантиком на конце. А на других кораблях огорчались, что Суворов будет держать экзамен не у них. Вся эскадра — от командиров кораблей до юнг и коков — нетерпеливо ждала, с чем вернется из Кронштадта сэр Бушприт, каково будет повеление генерал-адмирала — по слухам, Павел Петрович Суворова недолюбливал.
Мичманский экзамен
После пяти дней отсутствия капитан-командор возвратился из Кронштадта.
«Произвести мичманский экзамен генералу Суворову, не откладывая, по всей строгости, без послабления, рассмотреть при сем, что генерал Суворов действительно к исполнению сей должности прямо способен, образовав для сего испытания нарочитую комиссию из командиров кораблей практической эскадры с президентом капитан-командором» — таково было повеление генерал-адмирала.
Если верить сэру Бушприту, Павел Петрович прибавил: «Старик чудит. Надо дать ему урок».
В этих словах заключалось второе, негласное повеление: «Провалить!»
Сэр Бушприт проболтался. На флоте не очень-то любили генерал-адмирала. И, не совещаясь, командиры кораблей, каждый за себя, решили: «Не проваливать!»
На баке «Северного орла» матросы тоже тревожились за исход испытания:
— Выдержит?
— Наш-то Суворов? Выстоит… Только не вздумал бы Бушприт с ним в жмурки играть. Вот это будет беда!
Прончищев говорил Суворову, чтобы он не робел, отвечал на все вопросы смело, решительно, не задумываясь.
— На-кось ты, боюсь! — с усмешкой отвечал Суворов. — «Немогузнаек» не терплю, а вдруг завтра придется самому ответить: «Не могу знать!»
— А вы, граф, говорите пространнее, что в голову придет, да побольше всяких «тако», «паче» и «поелику». Чем больше вы скажете, тем меньше он поймет.
Суворов гневно блеснул глазами:
— Мой стиль не фигуральный, а натуральный при твердости моего духа. Вралем я не бывал. От беды не бегал. На ногах не качался. Не лукавил. Не разумею изгибов лести!
Суворов гневался, и капитан-лейтенант Прончищев подумал, что напрасно ему взбрело в голову давать советы, и кому — Суворову!
Утром на корабль «Северный орел» к назначенному времени съехались командиры кораблей практической эскадры «Благополучие», «Счастье», «Слава России» и фрегата «Воин». Вся комиссия состояла из пяти человек при первоприсутствующем капитан-командоре.
Суворов не заставил себя ждать. В десять часов утра, когда пробили четыре склянки, он пришел на рейд под парусом на одномачтовой сойме и ступил на правый, почетный трап «Северного орла».
Несмотря на свой малый рост, Суворов в совершенстве владел искусством осанки. В парадном мундире, с эполетами генерал-аншефа, в шарфе со шпагой, в ленте ордена Александра Невского через плечо, в шляпе, украшенной сверкающим бриллиантовым пером, Суворов казался выше ростом.
Матросы корабля не узнали в этом осанистом генерале того проворного старичка, который позавчера лазил с ними по вантам и повторял вслух, чтобы лучше запомнить, названия частей рангоута и такелажа.
Фалрепные[81] на трапе вытянулись и застыли, встречая гостя, и каждый из них подумал:
«Правильный будет мичман!»
Приветствуя Суворова вслед за вахтенным начальником, Прончищев подобрал живот и подумал:
«Посмотрим, кто окажется мальчишкой!»
Суворов вошел в салон адмиральской каюты, освещенной через окна кормового балкона зелеными отсветами воды и теплыми огнями восковых свечей в двух канделябрах — без них в каюте было бы темно.
Сэр Бушприт сидел за столом, покрытым зеленым сукном с золотой бахромой. По бокам его разместились члены комиссии.
Суворов на «мичманской дистанции», за три шага перед столом, звякнул шпорами, четко пристукнув каблуками ботфорт, стал «стрелкой» и явился по форме.
Экзамен начался. Вопросы задавали по очереди командиры кораблей, капитан-командор выслушивал ответы Суворова, важно кивая «бушпритом», словно фрегат на пологой, спокойной волне мертвой океанской зыби.
За бортом «Северного орла» весело струилась вода. По деку[82] мягко топотали матросы босыми ногами — шли предобеденные работы; покрикивали, распоряжаясь ими, урядники.
Металлически звучал голос Суворова, когда он, словно читая по книге, чеканил слова морского регламента Петра Великого.
Экзаменаторы отмечали ответы Суворова на листах бумаги. Кандидат на мичманский чин отвечал на все вопросы, обращаясь к председателю, каковым являлся сэр Бушприт. Наконец и сей последний предложил ищущему мичманского чина вопрос:
— Не скажете ли нам, господин ансень де весо,[83] что принадлежит до силы и знатности флота?
Вопрос выходил далеко за рамки мичманского экзамена. Получилось так, что капитан-командор спрашивал не испытуемого, а как будто хотел знать о флоте мнение Суворова — генерала, прославленного победами на суше. И то, что сэр Бушприт назвал его «ансень де весо», как будто говорило, что председатель комиссии уже признает Суворова достойным мичманского чина.
Суворов ответил:
— Сила и знатность флота не в одном великом числе кораблей, матросов и корабельных пушек состоит, но главнейше потребны к тому искусные флагманы и офицеры. Без того ненадолго станет, какой бы великий флот теперь вдруг построен ни был, если недостанет искусных и ревностных исполнителей.
Прончищев перевел ответ Суворова. В глубине глаз сэра Бушприта вспыхнули озорные огоньки; ответ Суворова чем-то его обидел.
— Все то теорий. Будем смотреть на практик. Вы даете свой платок. Вам будет завяжить глаза…
Командиры тревожно переглянулись. Случилось то, чего боялась вся команда «Северного орла»: сэр Бушприт решил закончить экзамен игрою в жмурки.
Сэр Бушприт любит заниматься этой игрой — в ней заключалось и ею ограничивалось участие сэра Бушприта в обучении матросов морской практике. В расчете на то, что каждому из них когда-нибудь, быть может, придется работать в темноте, что и бывает, матросу завязывали глаза, а урядник стоял наготове с линьком[84] в руке.
«Где есть грот-брамшкот?» — спрашивал капитан-командор Нанинг.
Матрос, расставив руки, двигался туда, где думал найти шкот, натыкался на кнехт или бухту и падал, вставал, шел дальше и, наконец, хватался за первую снасть, попавшуюся под руку.
«Ты врал!.. Три линька!»
Урядник отпускал матросу три крепких удара. Капитан-командор довольно похрапывал при каждом ударе. За каждую следующую ошибку матрос снова получал три удара, пока не находил наконец грот-брамшкот.
Прончищев смущенно объяснил Суворову, какое последнее испытание придумал ему капитан-командор. Суворов выслушал не гневаясь.
Присутствующие еще надеялись, что дело обернется шуткой, но сэр Бушприт велел дневальному достать полотенце и пригласил всех выйти на палубу.
Суворов, храня невозмутимо важный вид, окинул взглядом верхнюю палубу, от шканцев до бушприта, и сам завязал себе глаза полотенцем, плотно обмотав его вокруг головы, — ни у кого не могло явиться сомнения: сквозь такую повязку видеть нельзя.
Появление на шканцах командиров и Суворова с завязанными глазами остановило работы, несмотря на окрики урядников и боцмана. Среди матросов поднялся говор; они отошли к сеткам, очистив палубу. Все ждали, чем кончится игра неосторожно начатая капитан-командором. Прончищев заметил на лице сэра Бушприта мимолетную тень смущения.
— Милорд! — обратился командир «Северного орла» к сэру Бушприту. — Не пора ли кончить?
Капитан-командор повел носом и крикнул, обращаясь к Суворову:
— Где суть грот-фортун правый борт?
Суворов двинулся по палубе скользящим шагом, протянув вперед руки. Игрою в жмурки он много забавлялся со своими подчиненными, коротая скучные вечера молодым еще командиром в Суздальском полку и даже в Бырладе перед штурмом Измаила. Суворов придавал глазомеру большое значение. Он сам обладал тонко развитым чувством пространства и считал, что пустая, на первый взгляд, детская забава развивает способность быстро ориентироваться в темноте. Подойдя к борту, Суворов пересчитал рукой все четыре фордуна.
Капитан-командор качнул «бушпритом».
— Он меня понималь лучше вы! — кинул сэр Бушприт командиру корабля. — Где есть фока-ванты, левый борт?
Называя части такелажа одну за другой, капитан-командор вел Суворова от мачты к мачте, со шканцев на бак корабля, заставляя его на ощупь находить названные предметы.
— Где есть фока-штаг?
Ропот покатился по толпе матросов на баке, когда Суворов, подойдя к основанию бушприта, коснулся рукой фока-штага, натянутого струной от основания бушприта к фор-марсу. У каждого, кто следил за игрой (а следили все), екнуло сердце: что, если капитан-командору вздумается спросить: «Где есть форстень-штаг!»
Чтобы коснуться рукой форстень-штага, закрепленного в ноке бушприта, Суворову пришлось бы в сапогах, с завязанными глазами ступить на дерево, висящее над водой.
Так и есть!
— Где бушприт? — вопросил капитан-командор, подготовляя следующий вопрос о форстень-штаге.
Суворов на мгновение застыл, потом круто повернулся на голос капитан-командора и протянул руку с явным намерением схватить его за нос. Напрасно сэр Бушприт, отмахиваясь, отступал перед Суворовым. При общем хохоте кандидат на мичманский чин настиг капитан-командора, припер его к фальшборту и, сорвав со своих глаз повязку, поднял руку.
Капитан-командор поспешил закончить игру:
— Вы есть достойны чина мичман. Получить патент! Будем друг другому. Вы, господин генерал, отлично мой понималь.
Сэр Бушприт протянул Суворову руку. Тот отступил на шаг и с повелительным жестом, не повышая голоса, сказал:
— Предлагаю вам, господин командор, приказать эскадре сняться немедленно с якоря, идти к указанному мной месту производить промеры!
Капитан-командор качнул «бушпритом» и приказал начальнику вахты:
— Свистать всех наверх! Сниматься с якоря!
Суворов поклонился всем и направился к трапу, провожаемый веселым гулом матросских голосов. Капитан-командор оценил их чувства и приказал:
— Матрос по вантам! Кричаль три раза «hourra»![85]
Сойма отошла от трапа. Суворов стоял около руля на корме. Матросы на «Северном орле» белыми голубями взлетели наверх по вантам и дружно прокричали:
— Ура! Ура! Ура!
Сэр Бушприт, обнажив голову, помахал вслед сойме шляпой. Суворов также приподнял шляпу над головой. Кинбурнское перо сверкнуло на солнце синими и красными огнями.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Новый противник
Заботы о деле, слишком малом для способностей и таланта Суворова, не могли заглушить его обиду. Напрасно он в раздражении взывал в столицу:
«Ради бога, избавьте меня от крепостей, лучше бы я грамоте не знал. Сего 23 октября я 50 лет в службе. Тогда не лучше ли мне кончить карьер[86]…»
После вспышек бессильного возмущения им овладевало уныние.
Стараясь отделаться от него, Суворов убеждал себя, что и тут, в Финляндии, он делает важное для России дело, и вдруг решался просить о назначении его командиром Финляндской дивизии.
Нелепые слухи и сплетни гуляли на его счет в столице. Повторялось в преувеличенном виде то, что тридцать лет тому назад болтали о Суздальском полку и его неукротимом полковнике. Снова говорили, что Суворов якобы изнуряет солдат непосильными работами, и даже намекали, что он пользуется солдатским трудом в интересах частных лиц, хотя в это не верили даже и сами шептуны. Суворов жаловался на клеветников в Военную коллегию, а самым беззастенчивым из них даже грозил поединком. Все эти простодушные способы борьбы с бесстыжими интриганами вызвали у его врагов один только злорадный смех.
В отчаянии Суворов готов был на крайность: подать в отставку. Друзья убедили его, что просить отставки опасно: а вдруг ее примут! Впрочем, даже враги его не могли поверить, что Суворов бросит армию в трудные для отечества дни. Турция, стесненная на берегу Черного моря и на Балканах, угрожала фланговым стратегическим ударом и обходным движением со стороны Кавказа и даже из Закаспийского края. Под влиянием французов турки снова начали поспешно вооружаться. В Черноморье и на Дунае опять повеяло войной.
Екатерина Вторая в ноябре 1792 года назначила Суворова командующим войсками Екатеринославской губернии и Таврического края, включая Крым и Очаковский район.
Покидая опостылевшую ему Финляндию, Суворов, казалось, мог бы радоваться новому назначению, но войсками на южной границе командовал фельдмаршал Румянцев. Суворов высоко ценил военное дарование фельдмаршала и его работу по преобразованию русской армии, во многом здесь сходясь с ним, и не раздражительная ревность руководила Суворовым, когда он отстаивал единоначалие: «Одним топором не рубят вдвоем». Он понимал, что пребывание около Румянцева снова угрожает ему «второй ролей».
Дело, порученное Суворову, требовало широких полномочий, а из Петербурга ему преподавали указания, как и что делать, не впадая в свойственные ему крайности. Суворов, поначалу горячо принявшись за дело, скоро убедился, что ему не дадут выполнить даже то, что прямо предписано.
Не проявил он, находясь в Херсоне, и своей кипучей энергии в обучении войск. Для коренного улучшения армии у него не хватало власти. К тому же не без основания опасался, что обученные им войска в случае войны могут быть переданы кому-либо другому. «Не хочу я на иных работать и моим хребтом их прославлять», — говорил он; за этими личными соображениями скрывалась более глубокая мысль.
Суворов видел дальше большинства своих современников. Военная тайна станет через столетие основным требованием стратегии, особенно во время подготовки к войне. Во времена Суворова ни в одном государстве Европы, разве кроме Англии, военная тайна не соблюдалась строго. При открытом характере Суворова ему претил всякий обман, однако наряду с этим в натуре Суворова, в его поступках и словах было много затаенного. Суворовская тактика внезапного удара, широкое использование ночной тьмы для подготовки и нанесения удара требовали скрытности. И все же из своей системы обучения войск, неразрывно связанной с правилами боя, Суворов не делал тайны, о чем теперь ему самому приходилось жалеть. Жалеть не только потому, что, командуя обученными им войсками, могут одерживать победу его соперники по службе, — ведь это свои, русские, генералы, их победы прославляют Россию. Тому, что среди русских генералов уже появились ученики суворовской школы, он открыто радовался. Суворова тревожило, что его испытанным методом воспользуются не русские, а враг, неприятель и не во славу России, а во вред ей.
Во время путешествия Екатерины в Новороссийский край в 1787 году Суворов заметил в свите императрицы иностранца, одетого в штатское. И на смотру обученной Суворовым Кременчугской дивизии и при воспроизведенной для Екатерины и ее венценосных гостей Полтавской баталии незнакомец был самым внимательным наблюдателем и открыто выражал свое восхищение выучкой и стремительно стройными движениями русских солдат. Суворов подошел к незнакомцу и спросил:
— Нация?
— Франция.
— Чин?
— Полковник.
— Имя?
— Александр.
— Фамилия?
— Ламет.
— Хорошо! — заключил Суворов и хотел отойти.
Но Александр Ламет, остановив Суворова, в свою очередь спросил:
— Нация?
— Россия.
— Чин?
— Генерал.
— Имя?
— Александр.
— Фамилия?
— Суворов.
— Хорошо!
Оба рассмеялись. Так было положено начало более короткому, хотя и кратковременному знакомству. Суворов и Ламет не раз беседовали на военные темы.
И вот этому полковнику Александру Ламету, внимательно изучившему суворовскую тактику и метод военного обучения, ныне Директорией молодой Французской республики поручено преобразовать французскую армию. Назначенный президентом Военного комитета республики, Александр Ламет составил проект преобразования французской армии и произвел им не только во Франции, но и за ее пределами большое впечатление. Россия имела во Франции свои глаза и уши. Для русских военных кругов открылось, что во многом при своей преобразовательной работе Ламет следует Суворову.
В это время стало ясно, что кавалерия, бывшая главной силой в войсках середины века, уступает первенство пехоте, а ружейный огонь — артиллерийскому. И, как завершение новой тактической системы, решающую силу приобретает штыковой бой. Штыковая атака пехоты требовала особого строя. Французскую пехоту учили бою в строе колонн. Суворов, оценив это нововведение, хладнокровно заметил: «Французы хотят биться колоннами, — их следует бить тоже колоннами».
Суворов не раз давал французам в Польше наглядные уроки, неизменно их побивая. Французские инструкторы турецких орд при Козлудже, Гирсове, Рымнике, Измаиле наглядно убедились в неодолимой силе русского штыка.
Во время Семилетней войны Россия надолго смирила прусского агрессора. Теперь на Западе вставал для России более опасный соперник, угрожая самым основам феодального строя своих ближайших соседей. Но это было угрозой и для правительства Екатерины Второй.
Жезл фельдмаршала
19 ноября 1794 года Суворов получил фельдмаршальский жезл, и Екатерина вызвала его в Петербург.
По дороге Суворова встречали войска, губернаторы, чиновники, народ. Суворов пускался на разные хитрости, чтобы избежать торжественных встреч: менял почтовых лошадей и скакал через города без остановки, садился в кибитку курьера, который ехал впереди, чтобы приготовить фельдмаршалу лошадей. Суворов сидел в кибитке, завесив перёд рогожей, нахлобучив шляпу на глаза и закутавшись в плащ.
При остановках встречающие вместо Суворова находили в его повозке Прохора Дубасова, который незадолго перед тем был возвращен из деревни. Прошка, пребывая во хмелю, охотно принимал почести фельдмаршалу на свой счет.
В Стрельну для Суворова выслали придворную карету, сквозную, из зеркальных стекол: в ней нельзя было спрятаться. Суворов облачился в фельдмаршальский мундир, надел все ордена и уселся в карету в одном мундире, с непокрытой головой. Свита его состояла из двух генералов — Исленьева и Арсеньева — и зятя Суворова, Николая Зубова; за него недавно, по желанию Екатерины, Александр Васильевич выдал замуж свою дочь Наташу. Спутникам Суворова пришлось сесть в карету тоже в одних мундирах и с обнаженными головами. Мороз стоял порядочный — градусов двадцать. Путь от Стрельны до Петербурга не короткий. Все в карете, не исключая самого Суворова, окоченели.
Во дворце Суворову пришлось отогреваться в покоях любимца Екатерины, Платона Зубова, раньше чем представиться Екатерине. Суворов не преминул отметить для себя, что Зубов встретил его не в парадной, а в обыкновенной форме.
— Ничего, ничего! — бормотал Суворов. — Мы тут ведь все свои. Тут у нас все свое. Ну-ка, свояк, — обратился он к Платону Зубову, — веди к государыне!
На сей раз Екатерина встретила Суворова очень ласково.
Для житья Суворову определили потемкинский Таврический дворец. Отправившись туда в придворной карете, Суворов не узнал тех мест, где почти полвека назад среди сумрачных елей стоял дом дяди его, Александра Ивановича. Все здесь перестроилось по-новому. Лес свели, мест нельзя узнать, да и дяди нет давно в живых. Приехав во дворец, фельдмаршал со свитой вступил через сени в ротонду — круглый зал с чудесно расписанным сводом. Важный дворецкий, старый слуга Потемкина, встретил его пренебрежительным поклоном. Камер-лакеи в красных с золотым нарядах стояли шпалерами, встречая поклонами нового жильца. Из ротонды Суворов, сопровождаемый Прошкой Великаном и свитой генералов, проследовал в огромный овальный Екатерининский зал дворца, сумрачный, освещенный окнами только с торцов, полукругами выходящих в сад. Здесь когда-то Потемкин справлял свой последний праздник как герой Измаила, отослав Суворова осматривать крепости в Финляндию.
Суворов отпустил свиту, прошел пустой зал из конца в конец, топая и считая шаги. За ним, отступив на несколько шагов, маршировал Дубасов с синим плащом фельдмаршала, переброшенным через левую руку. Двойные их шаги отдавались под сводом гулом… Суворов остановился. Камер-лакеи распахнули перед ним двери в зимний сад дворца. Из дверей пахнуло сырой прохладой склепа и прелым ароматом оранжерейных цветов. В неподвижном воздухе сада высились раскидистые латании, финиковые пальмы, бананы с бледными разорванными листьями. Строгие греческие колонны подпирали плоский потолок, усеянный, как в бане, крупными каплями. На одной из колонн, видимо недавно, обвалилась штукатурка, и зияющая рана открыла, что тело колонн — не из камня, а из схваченного железными обручами куста сосновых свай: дворец сооружался с поспешностью театральной декорации.
— Изрядный гроб! — пробормотал Суворов.
Федьмаршала провели в приготовленную для него спальню. В углу высился ворох сена, покрытый простыней. На полу стояли серебряные тазы и огромная яшмовая чаша — произведение уральских гранильщиков — с невской водой. В углу пылал камин. Зная вкусы постояльца, позаботились ему угодить.
Суворов опустился в кресла и закрыл глаза. Около него остались только Дубасов и дворецкий. Два камер-лакея вытянулись у дверей. Суворов открыл глаза и тихо сказал:
— Квасу!
На лице дворецкого исчезло выражение каменного равнодушия. Губы его задрожали. Он метнулся к двери, вернулся и застыл…
— Квасу! — громко повторил Суворов.
— Ну, чего ты стал как пень! — прикрикнул на дворецкого Дубасов. — Если вы для людей не варили, так вели сбегать в Преображенский полк, принести артельного квасу… Далеко, что ли?
Дворецкий метнул на Дубасова злобный взгляд, низко поклонился Суворову и выбежал из спальной. Лакеи вышли за ним и беззвучно затворили дверь.
— Будет квас?
— А то нет? — ответил Дубасов. — Ну и живут! Экое вертикультянство нагорожено, а квасу нет!..
Два камер-лакея внесли на подносе полное ведро с пенистым солдатским квасом, а на другом — два высоких стакана, и дворецкий налил в них из ведра через край квасу.
— Я квасу пить не буду! — сказал Дубасов дворецкому.
Суворов разделся и уселся в яшмовую чашу с ногами, расплескивая воду на паркет. Дубасов начал лить ему на плечи из ковша ледяную воду.
Суворов выпил еще квасу и прыгнул на сено. Дубасов накрыл его простыней и синим плащом.
— Ну, фельдмаршал, спи спокойно!.. А ты со мной ступай, — обратился Дубасов к дворецкому. — Наверное, для нас с тобой и кроме квасу что найдется?
— Как не найтись, найдется! Для вас все найдется, ваше… благородие!
На следующее утро в Таврический дворец начали съезжаться разные персоны для представления фельдмаршалу. Одним из первых явился Платон Зубов, на этот раз в полном блеске гвардейского мундира. Суворов, узнав о приезде, поспешно разделся и встретил Платона Зубова в дверях спальной в одном белье — в отместку за вчерашнее невнимание. Они перекинулись немногими словами. Зубов обиделся и уехал.
Остальных гостей Суворов не принял, сделав исключение только для Державина.
— Так-то! Так-то, сударь! — говорил он, одеваясь в присутствии Державина. — Они хотят, чтобы я таскал для них каштаны из огня! Для кого? Довольно я таскал их для Потемкина!.. А эти мальчишки Зубовы, которые хотят всем управлять!..
— Государыня больна, — ответил Державин. — Вы обратили, граф, внимание — она приняла вас в плисовых сапогах. У ней пухнут ноги. Приближается конец.
— А цесаревич? Что он? — быстро спросил Суворов.
— Да все так же, Александр Васильевич: в своем унылом замке. Своя маленькая гвардия. Свой двор. То мрачен, то весел. Сейчас ласков — сейчас сердит… То играет, как мальчик, в ростопчинскую игрушку, то муштрует свое войско…
— Что еще за игрушка? Не слыхал.
— Презабавная история, граф! В бытность свою в Берлине Федор Васильевич Ростопчин обыграл в картишки одного прусского майора. Играли крупно. Тому нечем платить. Позвал майор Ростопчина к себе на дом и показывает чудесную коллекцию оружия и среди нее — стол с игрушечным войском. Покрутишь ручку — солдаты маршируют, вздваивают ряды, заходят плечом, — словом, делают все не хуже, чем живые у короля на потсдамском разводе. «Платить вам, сударь, мне нечем, — сказал майор Ростопчину, — возьмите мою коллекцию, я ее собирал всю жизнь». Ростопчин согласился, все забрал. Вернулся в Россию домой, расставил, созвал друзей. Все дивятся. Почитай, вся гвардия у Ростопчина перебывала. Дошло до его высочества. Он попросил показать и ему чудесную игрушку. Конечно, Ростопчин с радостью согласился. Цесаревич приехал. Смотрит, глаза горят. «Откуда же все это?» Федор Васильевич, потупив долу очи, говорит: «Я собирал эту коллекцию всю жизнь на последние деньги. А игрушка сделана по моему чертежу в Берлине». — «Не продашь ли мне?» — «Ваше высочество, позвольте мне ее вам поднести в подарок! Я это давно хотел сделать, но не смел!» Его высочество обнял Ростопчина со слезами радости. И теперь, на горе себе, Федор Васильевич слывет в Гатчине за первого знатока прусского военного искусства. Ему, говорят, поручено составлять проект нового военного устава. Что-то будет? Ведь государыня плоха…
— Мне должно видеть Павла Петровича! — сказал Суворов.
— Едва ли это будет приятно ее величеству, — заметил Державин. — И Зубовы…
— Вздор, сударь! Я лучше знаю государыню, чем вы… А Зубовы… — Суворов презрительно махнул рукой.
Державин умолк.
Гатчинский замок
Павел Петрович предупредил намерение Суворова: в Таврический дворец явился верхом гатчинский офицер с письмом от цесаревича: Павел приглашал Суворова в Гатчину.
Суворов, прочитав письмо, тут же приказал оседлать коня. Гатчинец удивился поспешности сборов: выехав немедленно, они поспеют в Гатчину только к ночи; но возражать посланец Павла не осмелился. Фельдмаршал обрядился в «потемкинский» мундир из солдатского сукна, надев на шею только один анненский орден, любимый Павла. Накинув поверх мундира свой синий плащ, Суворов вскочил на коня. Гатчинскому офицеру заседлали вместо его усталого коня другого.
Суворов, не спрашивая спутника, как ехать, выбрал самый короткий путь — по лесовозным дорогам, минуя Загородную перспективу.
В сумерки они достигли Гатчины.
Среди темного елового бора на поляне взору Суворова предстал в снегах мрачный замок с башнями по углам. На фоне пламенного январского заката дворец Павла, серый днем, теперь казался совершенно черным. Окруженный рвом и валом, с пушками и часовыми на мосту, замок являлся прямым контрастом веселому и светлому, беспечно раскинутому Таврическому дворцу.
У рогатки на мосту офицер сказал пароль. Рогатка сдвинулась. Под копытами коней застучал настил моста. Часовой у гауптвахты ударил в колокол. Из караульни проворно выбежали солдаты в прусской форме, выстроились и сделали все как один на караул. Отворились стрельчатые ворота. Суворов с офицером въехал во внутренний двор замка, замощенный квадратами путиловского камня, очищенными от снега догола. Рейткнехт принял коней. Спутник ввел Суворова через небольшую одностворчатую, окованную железом дверь в мрачные сени. Появился какой-то человек в гражданском платье, молча поклонился и исчез. Через минуту тот же человек появился снова и пригласил Суворова в приемную, куда сейчас изволит пожаловать его высочество.
В приемной Суворов оставался несколько минут один. Комната, освещенная канделябром о пяти свечах, своим простым убранством и узкими окнами, белой штукатуркой стен и низким сводом напоминала кордегардию.
Послышался громкий, раздраженный голос. На пороге двери во внутренние покои замка появился Павел. Он мгновение стоял в дверях, как в раме, и неподвижностью натянутой позы показался Суворову похожим на портрет.
Суворов отвесил цесаревичу земной поклон. Павел быстро подошел к нему и, поднимая, сказал раздраженно:
— Оставь это! Мы хорошо понимаем один другого.
Суворов выпрямился. Павел положил ему руку на плечо:
— Я рад, что ты тотчас приехал. Ничего, что ночь. Садись.
Он указал Суворову на кресла, обитые темной кожей, сам сел по другую сторону стола и беспокойно оглянулся на дверь, через которую вошел: дверь была уже плотно затворена невидимой рукой.
— Боже! Что творится! — воскликнул Павел, прижав пальцы к вискам. — Этого нельзя вынести!
Он опять взглянул на дверь, на окна, вскочил с места и начал ходить перед Суворовым из конца в конец приемной, бросая отрывистые фразы то по-немецки, то по-русски, то по-французски.
— Вы с Потемкиным, сударь, распустили войска. Гвардия? Читал, что пишут берлинские газеты: «Знамена гвардии скроены из юбок императрицы». Война с Персией? Азиатские лавры! Легкие победы над дикими ордами… Карманьольцы[87] не могут удержаться без войны. Они могут простереть свой шаг до Вислы. Мы в Персии, и вдруг — республиканские орлы в Варшаве! Турки… Поляки!.. Пруссия — нам образец! В Пруссии не могло бы быть Пугачева!.. Россию надо покрыть сотнями, тысячами рыцарских замков! Эту сволочь надо держать руками в железных перчатках!..
Очевидно, Павел продолжал разговор свой, начатый с кем-то другим и прерванный приездом Суворова.
Павел остановился и потряс сжатым кулаком. Суворов тихо рассмеялся. Павел нахмурился, вспыхнув, погас. Кулак его разжался, он махнул рукой и в молчании начал ходить из конца в конец приемной, топая по каменному полу сапогами и звеня шпорами: не ожидая так скоро гостя, он собрался на вечернюю верховую прогулку и был сообразно с этим одет.
— Рядиться нам с тобой не к чему, — заговорил Суворов добродушно, как старик говорит с пылким мальчиком. — Ты вот думаешь: нарядишь русского солдата в прусский мундир, так он тоже немец будет? Нашел образец! Пруссию, государь мой, я лучше тебя знаю. В Берлине был. В Потсдаме гвардию видел. Нет вшивее пруссаков! Плащ их так и зовется «лаузер» — сиречь «вшивень». Головы их от прически с клеем прокисли: хоть в обморок падай. А русский мужик каждую субботу в баню! На полок! Поддай пару! Вот мы от гадины и чисты. Ты своих гатчинцев в казармах держишь. Будешь царем — и всех солдат в казармы запрешь. На ночь своих запираешь? Тюрьма! Так ведь у прусского короля солдаты нанятые. Вербовщики сулят рекруту офицерский чин, а приведут — пожалуй в строй. Как их не запирать? А наш солдат хоть из крепостных, а вольный. Я в семеновских светлицах вырос! В походе, в строю, в сражении — солдат. А дома в светлице — житель… Ты нашел опыт военного искусства в руинах древнего замка, на пергаменте, объеденном мышами, и переводишь на немецко-российский язык…
Павел остановился и застыл перед Суворовым в гневном изумлении.
— Фельдмаршал! — воскликнул он.
— Да, ваше высочество, фельдмаршал! Выслужил наконец… Не стой, ходи, ходи! Тебе же легче!
Лицо Павла озарилось быстрой, как молния, улыбкой, и он снова начал мерить приемную преувеличенно широкими шагами.
— Строгость — великое слово! — продолжал Суворов. — При строгости и милость! Милосердие покрывает строгость. А строгость по прихоти — тиранство. Я строг. В чем истинное искусство благонравия: милая солдатская строгость, а за сим общее братство! Валленштейн[88] строг был, не давал себе времени размыслить, скор и краток: «Вели бестию повесить!» А солдат не бестия, а человек…
Павел молча продолжал шагать, звеня шпорами. Казалось, что странная беседа его с фельдмаршалом, не имев начала, и оборвется без конца. Суворов встал, чтобы откланяться. Павел его удержал, сделав знак рукой. Суворов начал ходить рядом с Павлом, но скоро их шаги разошлись, и они уже ходили навстречу один другому из разных концов зала. Глядя в глаза друг другу, посредине комнаты они встречались, и Павел бросал несколько отрывистых слов:
— Фельдмаршал?.. Туртукай! Рымник! Измаил! Всё — счастье!
Суворов ответил:
— Раз — счастье. Два — счастье. Надо же когда-нибудь немного и уменья!
— Варварское искусство — против дикой орды!
— Мы и Фридриха с нашей простотой бивали, да и как! — ответил Суворов.
— Что вы с вашим натурализмом! Фридрих — светоч мира…
— И гнилушка светит.
Несколько раз они встречались молча, затем их шаги совпали, подобно качаниям двух маятников, мало отличимых по длине.
Павел сказал:
— Ты можешь у меня заночевать. А завтра я тебе покажу своих солдат…
— Благодарю, ваше высочество. Хотел бы очень, да не могу посмотреть вашу игрушку. Прикажите седлать моего коня, ваше высочество. Думаю, он выстоялся.
— Как хочешь. Я провожу тебя. Я все равно собирался проехаться…
Павел вышел и вернулся в плаще, подбитом собольим мехом. В сенях он поспешно сорвал с вешалки плащ Суворова и накинул ему на плечи.
Им подали коней. Они выехали из замка. Эскорт из взвода конных егерей сопровождал их в отдалении.
Вызвездило. Стояла тишь. Мороз крепчал. Павел ехал шагом, поникнув головой, не думая о том, что с ним рядом едет старик шестидесяти пяти лет, в легоньком суконном плаще и ему предстоит еще скакать тридцать верст до Петербурга…
— До чего хорошо! — воскликнул Суворов, любуясь небом. — Велика слава звездная!
Поднял голову и Павел. Чиркнула по Млечному Пути падучая звезда…
— Чья-то звезда скатилась! — задумчиво проговорил Павел. — А чья-нибудь звезда восходит! Ты слышал, граф?.. Да нет, не мог слышать… Ведь курьер из Парижа с депешами только что прибыл. В Париже загорелось было восстание сторонников короля. Какой-то молодой генерал, звать его Бонапарт, выставил против роялистов артиллерию и смёл их в один час картечью.
— Отменно! — похвалил Суворов.
— Как, фельдмаршал? Вы говорите «отменно»? Ведь это был республиканский генерал!
— Да. Но он знает, чего хочет, умеет хотеть. А те знают, да не умеют. С такими генералами республика выстоит!
Павел оглянулся назад и поднял коня рысью, но тут же опустил поводья. И всадники снова поехали голова в голову, шагом…
— Да вы не якобинец ли, фельдмаршал? — насмешливо спросил Павел.
— Суворов — слуга отечества, ваше высочество. России французы не страшны — наша судьба высока!
Суворов поднял руку, указывая ввысь. Павел, приняв это за прощальный жест, приложил руку к полю шляпы. Суворов поднял коня в галоп. Павел остановил своего, посмотрел вслед Суворову и повернул обратно.
На скаку Суворову сделалось еще холодней. Ветер, поддувая плащ, забирался под куртку. Руки без перчаток коченели. Стыли ноги. Заныли старые раны. Суворов вскрикивал, поощряя коня…
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
«Наука побеждать»
Триумф Суворова занял не много дней… Фельдмаршал скоро прискучил Екатерине своими выходками, а главное, своей неумолчной критикой военных порядков, и Екатерина послала его опять в Финляндию, под предлогом осмотра крепостей.
Когда Суворов оттуда возвратился, заговорили о том, что Россия готова присоединиться к военному союзу европейских государств против Франции. Суворова послали устраивать войска на юге, в чем он увидел знак, что не кого другого, а именно его назначат главнокомандующим армии, когда настанет время. Петербург фельдмаршал покинул охотно, а на месте с увлечением и страстью принялся за обучение войск «науке побеждать», избрав своей штаб-квартирой Тульчин на Днестре.
Одних восхищала, других приводила в ярость та неистовая горячность, с какой новый фельдмаршал принялся искоренять в своей армии зло, к которому все притерпелись. Суворов заставил привести в порядок провиантские магазины, угрожая интендантам виселицей. Еще до приезда Суворова в Тульчин были разосланы им приказы готовить сено и овес для конницы. По-своему повернув солдатский быт, Суворов быстро добился понижения смертности в войсках. «Мертвые солдаты» перестали быть доходной статьей ротных и полковых командиров. Среди штаб-офицеров в южных войсках нашлось немало людей, прошедших в младших чинах суворовскую школу или обязанных своей карьерой суворовским победам. Среди солдат находились если не тысячи, то сотни старых служак, сделавших с Суворовым не одну кампанию. Их пример, их вера в Суворова, их рассказы облегчали обучение молодых солдат. В Тульчине Суворов написал небольшую книгу, озаглавив ее «Наука побеждать — деятельное военное искусство». В 1796 году «Наука побеждать» была объявлена по войскам как обязательное руководство. Военное искусство Суворова и его гений полководца достигли полной зрелости. Его победы подтверждали верность его учения. В основе «Науки побеждать» лежало «Суздальское учреждение». И то, что, исходя от молодого полковника, тогда многим представлялось чудачеством, теперь стало веским и обязательным, как приказ фельдмаршала, отданный для исполнения.
«Наука побеждать» сохранилась в нескольких списках. При жизни Суворова она не издавалась, а при переписке некоторые командиры вводили в нее изменения. Но суворовская «Наука побеждать» в общем и целом осталась в том виде, как она была написана рукой полководца. Об этом убедительно говорит ее неподражаемый язык.
В «Науке побеждать» две части. Первая: «Вахт-парад», или «Учение перед разводом». В этой части заключены не только основные положения суворовской тактики, но дана полная программа нового учения с перечислением команд, какие следует подавать.
«Исправься! Бей сбор! Ученье будет!»
«Атакуй первую неприятельскую линию в штыки! Ура!»
«Неприятельская кавалерия скачет на выручку своей пехоты: атакуй!»
«Атакуй вторую неприятельскую линию или — атакуй неприятельские резервы! Марш!»
«Ступай! Ступай! В штыки!»
«Стрелки вперед! Стрелки в ранжире плутонгами! За мной!»
«Докалывай, достреливай, бери в полон!»
«Ступай на прежнее место! Строй фронт!»
По окончании учения (после «Вахт-парада») читалась вторая часть «Науки побеждать» — «Разговор с солдатами их языком», или иначе: «Словесное поучение солдатам о знании, для них необходимом». Эта часть имеет примерный характер, указывая, о чем надо говорить солдатам и какими словами.
Затем излагались «Три воинские искусства». Первое — глазомер, второе — быстрота, третье — натиск.
Глазомер Суворов ценил очень высоко. Под «глазомером» он понимал способность быстро схватывать при обзоре местности, удобна ли она для боя, умение быстро выбрать выгодную позицию, дорогу для марша, направление атаки.
Быстрота необходима прежде всего в походе. Чтобы напасть на противника или чтобы его преследовать, необходимо быстро передвигаться. Поэтому Суворов учил солдат и войсковые части быстрым, стремительным маршам во всякую погоду, зимой и летом, по хорошим и плохим дорогам, в знакомых и незнакомых местах, днем и особенно ночью. Суворова обвиняли, что он этими учебными маршами изнуряет солдат. Он отвечал на это: «Легко в учении — трудно в походе (на войне); тяжело в учении — легко в походе». Он с неумолимой строгостью требовал, чтобы командиры принимали все меры для облегчения солдатам быстрых маршей. Кашевары должны быть всегда впереди, чтобы солдаты приходили к готовым котлам; палатки должны быть поставлены к приходу солдат на ночлег. Обувь, одежда, амуниция — все приспособлялось к тому, чтобы обеспечить войскам быстроту передвижения.
Суворов очень высоко ценил и берег время. До Суворова русская конница ходила в атаку на рысях. Суворов научил конницу свою бурным атакам «марш-маршем», то есть на полном скаку.
Натиск — в этом слове Суворов соединял все, что относится к успешному наступлению. В атаке надо принимать решения быстро, без колебаний и выполнять их упорно и настойчиво, одним дыханием. Суворов учил пехоту не только атаковать пехоту неприятеля, но и кавалерию, что было новостью.
Глазомер, быстрота, натиск, взятые вместе, означали на языке Суворова, что нужно правильно разбираться в обстановке, умело выбирать направление главного удара и стремиться к полному уничтожению врага.
Суворов, создавая новое военное искусство, решительно боролся с устаревшей прусской системой военного обучения. «Русские прусских всегда бивали, — говаривал он, — что же тут перенять».
Суворовская «Наука побеждать» отразила в себе лучшие черты русского национального характера: отважность, проницательность, быстроту, натиск, человечность.
Суворовское военное искусство основывалось на глубочайшем патриотизме и безграничной вере в силу и непобедимость русских войск.
«Мне солдат дороже себя», — говорил Суворов.
Всей душой любил он русского солдата, и солдат отвечал ему такой же любовью.
И крепостные русские крестьяне быстро превращались под начальством Суворова в отлично обученных «чудо-богатырей».
Суворов изобретал новые приемы боя, каких не знал противник. Так, он учил войска не только ночным походам, но и ночным боям. Суворовские войска не раз одерживали победы, нападая на противника неожиданно, ночью.
«Пуля — дура, штык — молодец», — говорила суворовская «Наука побеждать». Это значит, что Суворов придавал большее значение атаке «белым оружием», то есть штыками пехоты и саблями конницы, чем ружейному огню. И понятно: ружья того времени заряжались очень медленно, одной пулей, с дула; в пылу боя зарядить второй раз было некогда, а первый выстрел часто пропадал даром. Это не значит, однако, что Суворов пренебрегал ружейным огнем совсем. Он требовал, чтобы не стреляли зря, берегли пулю и стреляли не «в вольный свет», а прицельно, выбирая целью командиров противника.
От каждого подчиненного, начиная с главных командиров и кончая рядовыми, Суворов требовал быстрого соображения, умения сразу находить ответ и принимать решение в трудных случаях. Он требовал, чтобы все знали, от рядовых до генералов, «деятельное военное искусство». Ответа «не могу знать» он не терпел и ненавидел «немогузнаек».
Чтобы развить смекалку в солдатах, Суворов иногда задавал неожиданные вопросы, требуя быстрых ответов. Бывалые суворовские солдаты повторяли его вопросы молодым. У бивачных костров, в перерыве строевых занятий, в передышку на работах разговоры солдат вертелись около того, как надо отвечать Суворову. Однажды такой разговор начался во время «раскурки» у огня.
— «Полевой полк, говорит Суворов, каждую минуту похода должен ждать. А солдат должен дело знать не хуже офицера»… Понял? — строго глядя в глаза молодому солдату, сказал старый капрал.
— Понять можно! Да знать-то это нам откуда? Из деревни мы, мужики вить; не могу я знать-то.
— Ну, хлопчик, если ты ему скажешь: «Не могу знать», от тебя клочья полетят. Ты думаешь, солдаты — это «сто мужицких голов одной шапкой накрыто»? Раз ты должен знать, то можешь!
— Да как же я ему скажу, если и подлинно чего не знаю?
— А уж вывертывайся, как знаешь. Ну, отвечай мне, будто я сам Суворов.
— Ладно.
— Чего «ладно»? Вишь, развалился! Раз я — Суворов, встряхнись, стань стрелкой, гляди весело! Во-во, так. Не пальцами шевели, а мозгами… Ваньтя!
— Есть такой!
— Где вода дорога?
— Вода в ведре, а рога у коровы. Я это, дедушка, еще в деревне слыхал.
— Так. Молодец, чудо-богатырь! Ну-ка еще… Ваньтя! Долга ли дорога до месяца?
Солдат прищелкнул языком, сдвинул шапку на глаза, посмотрел в небо и почесал в затылке. Капрал повторил вопрос, обращаясь к старому солдату:
— Капрал!
— Здесь!
— Долга ль дорога до месяца?
— Два суворовских перехода, госродин капрал!
Ваньтя сорвал шапку с головы и ударил о землю.
— Эх, Ваньтя, не догадался! — кричали молодые солдаты. — Поднапрись, Ваня…
— Погоди, постой, товарищи! Дедушка, загадывай еще, ну-ка!
— Ваньтя!
— Здесь, господин капрал!
— Когда вода дорога?
— Когда пить захочется, господин капрал!
Солдаты захохотали.
— Оно хоть и не так, а верно. Вода на пожаре дорога… Где железо дороже золота?
— На войне, дедушка!
— Молодец! Из тебя толк будет.
— А ты еще ему скажи, когда и Суворову «не могу знать» можно ответить, — посоветовал кто-то.
— Бывает, что и так.
— Когда же это, дедушка?
— А вот Суворов спросил однажды солдата: «Что такое ретирада?» А «ретирада», надо тебе, хлопец, знать, означает отступление. Всем известно, что Суворов отступать не любит. «Что есть ретирада?» Солдат, глазом не моргнув, отвечает: «Не могу знать!» Суворов инда подпрыгнул. «Как?» — «Да так! У нас в полку такого слова нет». Суворов, прямо как рафинад в чаю, растаял. «Хороший полк!» — говорит. Обнял и поцеловал солдата. Если тебя Суворов спросит: «Что такое сикурс?» (значит «прошу помощи») или: «Что есть опасность?» — смело отвечай: «Не могу знать. У нас в полку такого слова нет!»
«Словесное поучение» командиры знали наизусть. Оно кончалось словами: «Вот, братцы, воинское обучение! Господа офицеры! Какой восторг!»
После этого подавалась команда: «К паролю!»
По отдаче пароля, лозунга и сигнала следовала «хула или похвала вахт-параду», то есть разбор только что законченного учения, и все завершалось громогласно словами командующего вахт-парадом:
«Субординация, послушание, дисциплина, обучение, порядок воинский, чистота, опрятность, здоровье, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава!»
Труднее, чем с солдатами, обстояло дело с офицерской молодежью. Армия выросла, требовала больше командиров. Гвардия в начале службы Суворова могла быть рассадником командования для полевых войск. Теперь, избалованная, распущенная, гвардия только по названию и форме оставалась войском. Военный совет, предложив Екатерине передать гвардию в придворное ведомство, разгневал этим царицу. Офицерская молодежь поступала из гвардии в полевые войска, едва умея читать и писать, не зная ни уставов, ни строя. Суворов учредил в своей штаб-квартире нечто вроде курсов для повышения офицерских знаний. Сам Суворов в этой школе, напоминавшей инженерный класс Семеновского полка, с увлечением давал офицерам уроки тактики и стратегии на живых примерах своих побед.
Фельдмаршал в ссылке
Глубокой осенью 1796 года, когда уже застыли и южные реки, курьер привез Суворову из Петербурга весть: умерла Екатерина. Царем сделался Павел. Вместе с тем курьер привез фельдмаршалу много писем, среди них — несколько из-за границы и пачку иностранных газет. Письма и газеты взволновали Суворова не меньше, чем известие о смерти Екатерины и воцарении Павла.
Австрийский генерал Карачай, друг и товарищ Суворова по турецкой войне, писал из Вены о вторжении французов под командой генерала Бонапарта в Ломбардию.
9 апреля 1796 года Бонапарт вторгся в Италию через Альпы и одержал «шесть побед в шесть дней» над пьемонтскими и австрийскими войсками. Сардинский король сдался на милость победителя. Бонапарт отбросил австрийцев к реке По и продолжал стремительно их преследовать. Разбив австрийцев при Лоди, Бонапарт 15 мая вступил в Милан и написал в Париж: «Ломбардия отныне принадлежит республике».
На этом новости Карачая обрывались. В письме он льстиво прибавил, что многие видят в Бонапарте достойного противника Суворова и надеются, что русские и австрийские войска, вскоре соединясь, дадут урок молодому выскочке.
Делясь со своим штабом этими новостями, Суворов заметил с горечью:
— Для Фридриха я был молод чином, а для этого мальчика буду стар годами…
— Вы моложе нас всех, — ответил, шаркнув ногой, генерал Буксгевден, — и навсегда остаетесь юным богом войны, кумиром всех военных!
— Полотеров мне не надо! Вам бы в Питер, генерал… Да и в Питере шаркунам-придворным пришел конец. Нам от того, впрочем, не легче…
Новости из Петербурга повергли в уныние полевые войска. Павел отменил приготовления к войне с Францией. Гатчинские войска влиты в гвардию, отданную в распоряжение «гатчинского капрала» Аракчеева.
В столице введены гатчинские порядки. Екатерининских вельмож, привыкших нежиться в постели до полудня, заставили вставать пораньше: в семь часов утра им следовало уже быть во дворце. А петербургские чиновники в пять часов утра уже сидели за столами присутствий. Изданы новые правила благочиния и благоустройства: что можно делать, чего нельзя, как вести себя на улицах и дома, кому и во что одеваться. На пышные наряды и мужчин и дам объявлено гонение. Выработана форма гражданского платья. После десяти часов вечера в столице приказано гасить все огни. Боясь доносов и расправы, люди остерегались в запретное время закурить трубку от огнива.
На одних сыпались неожиданные милости, другие подвергались опале, но и те и другие часто не могли догадаться, за что.
Особенно круто и ретиво принялся Павел за военные реформы. Вводился новый военный устав, списанный Ростопчиным с прусского устава 1760 года и исправленный самим Павлом. По новому уставу сильно стеснялась власть полковых командиров; командиры дивизий, генералы превращались в инспекторов, наблюдателей за строгим применением устава. Фельдмаршалы приравнивались к простым генералам. Чтобы еще более уронить значение высшего в войсках чина, Павел сразу произвел в фельдмаршалы десяток рядовых генералов.
Гатчинские офицеры при личном участии Павла с дикой поспешностью переучивали гвардию, которая должна была стать рассадником новых командиров в армии. На ежедневных разводах учили не только солдат, но и генералов маршировать по-новому. Павел не скупился на жестокие наказания. Не угодившие ему генералы прямо с Дворцовой площади отправлялись в крепость или в Сибирь; за малейший промах офицеры исключались из службы. Если так строго Павел обходился с начальниками, то каково же было солдатам? Палки на их спины сыпались с удвоенной щедростью. Аракчеев на плацу в присутствии Павла вырывал у гренадеров усы, поправлял стойку солдат ударами палки. Одному полку, который на разводе сделал ошибку, Павел скомандовал: «Кругом! Дирекция на средину! Прямо! Шагом марш в Сибирь!» — и полк в полном составе прямо от Зимнего дворца пошел в Сибирь. Правда, Павел одумался и вернул полк с первого этапа.
Аракчеев, сделанный генерал-квартирмейстером, то есть начальником генерального штаба, перенес свою свирепость на офицеров. Обучая их в Зимнем дворце новому уставу, он осыпал учеников площадной бранью. Один из учеников Аракчеева, подполковник Лен, служивший раньше в войсках Суворова и награжденный орденом за храбрость, не вынес грубости Аракчеева и застрелился. Известие об этой смерти сильно взволновало Суворова. Он заплакал.
Все трепетало перед Павлом. Суворов не скрывал своего гнева и возмущения по поводу его реформ. Язвы армии Суворов знал не хуже Павла, но не соглашался с методом их лечения. Он не торопился вводить в своих войсках порядки, которые шли вразрез с его взглядами и с его испытанной системой воспитания боевых воинских сил. Сначала Павел писал Суворову ласковые письма, упрашивая его: «Приводи своих в мой порядок, — пожалуй».
Суворов упорствовал. Гроза не замедлила разразиться. На Суворова посыпались замечания, выговоры, которые неукоснительно объявлялись «при пароле» столичным войскам.
Суворов попросил отпуска. Павел отказал. Суворов попросил об отставке. Павел его предупредил: прошение Суворова еще не дошло до Петербурга, когда Павел на разводе отдал приказ:
«Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь к его императорскому величеству, что так как войны нет и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы».
Простясь с войсками, Суворов написал родным в столицу письмо:
«Я команду сдал и, как сельский дворянин, еду в кобринские деревни».
Он уехал в Кобрино — имение, пожалованное ему Екатериной. Отставка фельдмаршала сильно сказалась на армии. Насмешливые отзывы Суворова о новых порядках повторялись из уст в уста.
В Преображенском полку, солдаты которого едва выносили гнет Павла, в отставке Суворова винили ненавистного всем гатчинского капрала Аракчеева. Гвардейцы роптали.
Павел увидел, что Суворов опасен и в отставке, арестовал его и сослал в глухое село Кончанское, Новгородской губернии, под надзор чиновника полиции Николева. Суворову запретили выезжать из имения. Переписка его вскрывалась; подозрительные письма посылались на просмотр новгородскому губернатору; приезжих до Суворова не допускали.
Томительно и безнадежно текли дни кончанского изгнанника. Он читал военные книги, занимался сельским хозяйством и забавлялся тем, что служил дьячком в церкви, звонил в колокола, иногда играл в бабки с деревенскими мальчишками. Вдруг в начале 1799 года в Кончанское внезапно явился племянник Суворова, подполковник Андрей Горчаков, флигель-адъютант Павла, с известием, что полицейский надзор с опального полководца снимается и что царь вызывает его в Петербург. Об этом тотчас стало известно «приставнику» Николеву, горькому пьянице. Он вломился в горницу, где Горчаков уговаривал Суворова принять приглашение Павла. Суворов сидел за столом, на карте перед ним лежала какая-то бумага. Вдоль горницы ходил быстрыми шагами молодой офицер в гвардейском мундире нового образца, в прическе с буклями и с прямой, как палка, косичкой.
— Граф! Дорогой дядюшка, — говорил офицер, — вы ставите меня в отношении государя в положение плачевное. Скажу больше: вы губите и себя и меня. Всех нас! Наташу, то есть графиню Зубову, Олешевых, Горчаковых, Хвостова, Аркадия.
— Здесь написано «графу Суворову», а надлежало: «графу Александру Васильевичу Суворову», — сказал Суворов.
— Милый дядюшка, вы один Суворов! — воскликнул Горчаков. — Что такое? — спросил он, увидев Николева.
«Приставник» учтиво поклонился и ответил:
— Честь имею поздравить, ваше сиятельство, со счастливым прибытием.
— Благодарю. Будь и ты, братец, здоров. Что скажешь?
Николев гордо выпрямился и ответил:
— В родстве с вами, сударь, быть не имею удовольствия. Коллежский асессор Юрий Николев, имею честь, — сказал он, приставив к груди дрожащий палец. — По высочайшему повелению и равносильно инструкции господина генерал-прокурора, я не имею права вас сюда допускать. И сколь мне ни прискорбно, я почтительнейше прошу ваше сиятельство сию же минуту оставить это помещение и немедленно покинуть село Кончанское, Боровицкого уезда, Новгородской губернии.
Горчаков терпеливо выслушал Николева.
— Очень рад, что вы явились тотчас, сударь. Имею объявить вам словесное приказание князя Куракина: генерал-прокурор находит ваше пребывание здесь более ненужным и предлагает вам немедля отправиться домой, в Москву.
— Не имея письменного приказания… — начал было Николев.
— Чего вы еще хотите! — закричал Горчаков и, взяв со стола бумагу, подал ее Николеву. — Вот, читайте.
Николев прочел:
«Князю Андрею Горчакову. Повелеваю ехать вам, князь, к графу Суворову: сказать ему от меня, что, если что было от него мне, я сего не помню: что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению.
Павел».
Николев на цыпочках подошел к столу, держа бумагу так, словно нес чашу, до краев налитую вином, боясь его расплескать. Суворов сидел, склонясь к карте Италии. Николев положил рескрипт на стол.
— Скверными устами не смею коснуться слов, начертанных рукой монарха. Лобызаю мысленно! Волю монаршую исполняю… Граф, вы вольны поступать, как угодно вашему сиятельству. Но осмелюсь вашему сиятельству просительнейше доложить, — обратился Николев к Горчакову, — служа безвозмездно, не имею ни малейшей возможности покинуть сии места.
— Вам пожаловано пять тысяч рублей, кои вы в свое время получите, — сказал Горчаков.
— Пять тысяч! Господи боже мой! Не смею верить! Безмерна милость монаршая! — воскликнул Николев и покачнулся.
— Фомка! — крикнул Суворов.
Вошел староста Фома Матвеич.
— Отведи, Фомка, Николева домой — у него от монаршей милости ноги подкосились.
— Пойдем, ваше благородие, отдохни, — сказал Фомка, взяв Николева под руку.
— Погоди, мужик! Ваше сиятельство, граф Александр Васильевич! Поздравляю! Не могу умолчать! Радуюсь. Преклоняюсь. Повергаюсь. Вы Цезарь! Ганнибал! Александр Македонский! Фридрих! А я, я — таракан! Меня отведут в нетопленную избу, и я там замерзну, как подобает таракану. Именем монаршим взываю к вам, сиятельный граф, не дайте замерзнуть таракану! Бедному таракану.
Николев заплакал. Горчаков рассмеялся.
— Фомка! Баня у нас еще не выстыла? — спросил Суворов.
— Нынче топлена. Хоть париться!
— Сведи его благородие в баню да дверь за ним там припри накрепко. А то он будет колобродить. Вина не давай. Спиной ответишь.
Фомка вывел Николева. Тот не сопротивлялся.
— Каков негодяй! — воскликнул Горчаков. — И вы, дядюшка, осуждены были его терпеть!
— Несчастный человек, — тихо ответил Суворов.
Дубасов внес чай и ром, и Суворов с племянником снова обратились к предмету своей беседы. Горчаков пил чай, щедро разбавляя его ромом. Он убеждал дядю все горячей и горячей, наконец предложил ехать с ним в Петербург немедленно: государь нетерпелив, скор и в милости и в гневе, переменчив — надо ловить мгновение фортуны.
Суворов слушал племянника равнодушно и наконец спросил:
— А что слыхать у вас о Бонапарте? Где он? Что творит?
— Ах, — воскликнул Горчаков, — как это я мог забыть!
Он выбежал из горницы и тотчас вернулся с пачкой газет, перевязанных пестрым шнурком.
— Его величество, зная ваш интерес, дядюшка, просил передать вам. Тут вы, кроме венских и берлинских, найдете несколько запретных парижских, полученных из Берлина с курьером. Бонапарт продолжает дивить Европу своим проворством…
Сила — солома
Суворов поспешно развязал шнурок и начал просматривать газеты. Читая, он словно вернулся домой после долгой отлучки, когда из поспешных слов близких людей остается догадываться, что многое переменилось, но не знаешь еще всего, что случилось, а сразу пересказать невозможно.
Газеты разрозненно сообщали, что французы готовятся, сохраняя все в тайне, к какому-то большому походу. Во главе армии, наверное, станет Бонапарт. Ионические острова захвачены французами. Англичане опасаются за остров Мальту… Бонапарт вернулся из Италии в Париж. Директория встречала его торжественно в Люксембургском дворце. Толпы народа стояли по пути триумфального шествия Бонапарта на улицах Парижа, бурными криками и рукоплесканиями приветствуя завоевателя Италии.
— Завоевателя Италии! — воскликнул Суворов. — Он с Италией покончил?
— И это для вас новость, граф? — удивился Горчаков. — Бонапарт добрался — что там Италия! — до самой Вены. Роялисты снова восстали в Париже, и опять несчастливо. Пишегрю, председатель Совета пятисот, схвачен и отправлен в Гвиану отбывать каторгу. Австрийцы решили мириться. 7 октября в Кампо-Формио подписан мир между Австрией и Францией. Бонапарт вел себя в Италии не генералом, а монархом. Попросту он ее дотла ограбил: все из Италии — и золото и ценности — свезено в Париж.
— Австрияков кто не бил! Но что же сами итальянцы?
— Ах, дядюшка! Прочитайте парижские газеты — там пишут, что Бонапарт принес Италии свободу на штыках своих солдат. Что великий итальянский народ сбросил иго королей и монархов. Везде сажают «деревья вольности». Все вдруг сделались республиканцами. Берутся за оружие, чтобы помогать освободителям — французам. А почитаешь венские газеты, видишь, что все это сущий вздор, что Бонапарт отзывается об итальянцах с презрением, что вместо свободы Бонапарт принес ужас. За ничтожную провинность он велел перебить все население города Луго. В городе Бинаско за то, что убили одного французского солдата, по приказу Бонапарта город истребили огнем, перекололи все население, включая женщин и детей! Он велел расстрелять всех городских чиновников Палии, а город отдал на разграбление своим солдатам. Какое варварство, какая дикая жестокость!
Говоря это, Горчаков волновался. Суворов, не перебивая его, слушал, а когда тот умолк, проговорил:
— Достоинство воина — храбрость, а доблесть его — великодушие. Мы жителей не убивали и не обирали. И, если придется, мои богатыри будут воевать в Италии не ради добычи! Войны не миновать, иначе Павел Петрович меня не звал бы!
— О войне нет речи, дядюшка…
— Зачем же он меня зовет?
— Это нетрудно понять. Сделав вам комплимент, скажу: он вас, дядюшка, немножко боится — нет, не персоны вашей, а самого звука имени вашего трепещет! Оно поднимает все русские сердца. Вас любят в полевых войсках. Гвардия сейчас только о вас и говорит. Держать вас в унижении долее опасно для самого принципа царской власти. Остается одно: сделать великодушное движение, протянуть вам руку примирения. Он это сделал. Вам надо ехать!
— Стало так, я ему не нужен. Почему он написал «графу»? Он мог написать «фельдмаршалу».
— Ах, Александр Васильевич! Да вы знаете его — ведь он педант. Форма для него все. Поверьте, он вам вернет жезл фельдмаршала при первом разговоре.
— Не поеду! Ты, дружок, сосни, а мне пора на колокольню, к службе звонить…
Горчаков всплеснул руками в отчаянии.
— Да поймите вы наконец, упрямый старик! — заговорил раздраженно Горчаков. — Я не могу, немогу к нему вернуться с таким ответом. Он прямо пошлет меня в Сибирь! Черт возьми! — стукнув по столу кулаком, вскричал Горчаков. — Я увезу вас силой, сударь!
— Силой?
— Да! Закатаю в кошму, положу в сани и повезу…
— Прошка! — позвал Суворов.
Вошел Дубасов.
— Прошенька! Заступись за меня. Племянник буянит. Кричит на меня. Хочет силком везти! В кошму завернуть!..
— Нехорошо, сударь! — обратился Дубасов к Горчакову. — Кошма у нас, конечно, найдется, да что толку, если вы привезете его величеству бездыханное тело фельдмаршала Суворова? А будете на своем стоять, пойду в баню, подыму Николева, он вас, сударь, научит, как надо исполнять монаршую волю.
— Да вы тут с ума посходили все!
— Не мудрено, сударь, и с ума сойти! А тебе, Саша, по старой дружбе скажу: не упрямься — все-таки царь зовет, не кто-нибудь. Сила солому ломит! Пускай они назад скачут — скажут, что Суворов едет. И поедем мы с тобой в Питер на долгих, потихоньку; что нам старые кости трясти на курьерской тройке. Проселочками по мягкому снежку до Питера доберемся. Мягко. Так-то и волк сыт будет, и овцы целы.
— Кто волк? — сердито спросил Горчаков.
— Это вам, сударь, точно известно…
Большего Горчаков добиться не мог и поскакал в Петербург один. Возвратясь в столицу, он тотчас доложил Павлу Петровичу:
— Суворов едет!
Суворов приноровил приезд в Петербург, по своему обычаю, к ночи. Павел уже несколько раз о нем справлялся у Горчакова. Узнав, что дядя прибыл, Горчаков, не медля ни минуты, поехал во дворец с докладом. Павел уже разделся на ночь, но вышел к флигель-адъютанту, накинув шинель, и сказал, что принял бы Суворова сейчас же, если бы не было так поздно. Он назначил свидание с опальным фельдмаршалом на утро.
Суворов не захватил с собой никакого военного платья, ему пришлось надеть мундир племянника. Мундир был, конечно, нового образца. К счастью, он пришелся впору. В девять часов утра Суворов был во дворце. Возвращаясь с прогулки, Павел, как только соскочил с коня, спросил Горчакова, здесь ли Суворов. Узнав, что Суворов уже приехал, император вбежал в приемную, схватил Суворова за руку и повел в свой кабинет. Там они, затворясь вдвоем, проговорили больше часа, затем Суворов поехал на развод, по приглашению Павла.
Император рассчитывал блеснуть перед Суворовым своей опруссаченной гвардией. Желая угодить Суворову, Павел водил батальоны скорым шагом, показывал примерную атаку. Суворов отворачивался, смеялся в кулак, наконец сказал Горчакову:
— Не могу больше! Брюхо болит! — и уехал с вахт-парада, не дождавшись пароля.
Павел, разгневанный, призвал после развода Горчакова и спросил его:
— Что это значит? Я ему делал намеки, чтобы он просился вновь на службу, а он мне про Измаил начал рассказывать. Я ему повторил намеки, он опять свое — про Кинбурн, Очаков. Извольте, сударь, ехать к вашему дяде — пусть он объяснит свои поступки, и привезите ответ; до тех пор я не сяду за стол!
Горчаков поскакал к дяде. Суворов уже лежал в постели, лицом к стене. Не поворачиваясь, он сказал племяннику, что вступит вновь на службу не иначе, как с той полнотой власти, которой он обладал в екатерининские времена, с правом производить в чины до полковника, награждать, увольнять.
— Я таких вещей и передать государю не осмелюсь! — воскликнул испуганный Горчаков.
— Передавай что знаешь. А я хочу спать…
Горчаков поторопился во дворец, так как наступил уже час обеда. В смущении Горчаков лепетал перед разгневанным Павлом, что Суворов растерялся в присутствии особы его величества, что он готов служить, если на то последует высочайшее соизволение.
Павел отпустил Горчакова, сказав:
— Если, сударь, не вразумите дядю, будете отвечать вы!
Девятнадцатилетнему подполковнику оказалась непосильной задача вразумления Суворова.
Павел продолжал свое, не стесняясь: прямо с развода отправлял генералов в крепостные казематы. Суворов продолжал шалить на разводах. Притворялся, что новая, павловской формы, шляпа не держится у него на голове, ронял ее к ногам Павла. Путался между рядами взводов, проходивших церемониальным шагом. Делая вид, что никак не может сесть в карету, так как мешает шпага нового образца, Суворов забегал к карете то с одной, то с другой стороны, и это продолжалось подолгу.
Павел после каждой встречи с Суворовым накидывался на молодого Горчакова, которому никак не удавалось вразумить дядю.
Горчаков выдумывал для царя мягкие и верноподданнические ответы Суворова, а дяде передавал не возмущенные выкрики Павла, а снисходительные и милостивые слова.
Долго такая игра продолжаться не могла, Павел сдался и, снисходя к просьбе Суворова, переданной ему Горчаковым, разрешил Суворову опять ехать в деревню.
Суворов вернулся в Кончанское. Но 6 февраля 1799 года приехал туда флигель-адъютант генерал Толбухин с письмом от Павла. Император писал Суворову:
«Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настойчивом желании венского дворца, чтобы вы предводительствовали его армиями в Италии, куда и мои корпуса Розенберга и Германа идут. Итак, посему и при теперешних европейских обстоятельствах долгом почитаю не от своего только лица, но и от лица других предложить вам взять команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену.
Павел.
С.-Петербург, 1799, февраля 4».
К этому официальному документу Павел присоединил еще личное письмо:
«Теперь нам не время рассчитываться… поспешите сюда и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».
Через час, не дав Толбухину отдохнуть, Суворов послал его обратно с ответом о своем согласии принять на себя командование войсками России и Австрии против Франции.
Через два дня Суворов явился в Петербург.
Отложив счеты со своенравным полководцем, Павел отдал русские войска в полное распоряжение Суворова, сказав: «Веди войну, как знаешь!» В армии весть о назначении Суворова сверкнула молнией. Старые солдаты просились с ним в поход. Павел возложил на Суворова знак ордена мальтийских рыцарей, так как сам состоял «великим магистром» этого ордена, и Суворов отправился в Вену.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Италийский поход
Осенью 1797 года, после заключения мира в Кампо-Формио, армия Бонапарта покинула пределы Австрии. В Германии французы отошли за Рейн, в Италии — за реку Эч. К западу от нее начиналась основанная Бонапартом Цизальпинская республика. Австрия потеряла левый берег Рейна и большую часть Ломбардии, зато приобрела часть венецианских владений. В Раштадте продолжались переговоры между Австрией и Францией, чтобы точно и подробно установить условия мира. Австрия надеялась добиться от Франции новых уступок, стремясь вознаградить себя за потерю Северной Италии округлением границ за счет мелких германских государств. Нидерланды, по Кампо-Формийскому миру, отошли к Франции. Голландия превратилась в Батавскую республику. В Генуе под властью Франции основалась республика Лигурийская.
Окрыленные успехами Бонапарта, французы захватили в 1798 году Швейцарию, основав здесь республику Гельвецию. Они вызвали в Риме восстание и провозгласили Римскую республику.
В то же время втайне готовилась задуманная Бонапартом военная экспедиция в Египет. Франция снарядила огромный флот и сильный экспедиционный корпус. Распространялся слух, что флот и армия назначаются для высадки на Британские острова. Англичане забеспокоились. Английский флот в Гибралтаре запирал выход французским кораблям из Средиземного моря, преграждая путь в Англию. Истинные намерения Бонапарта открылись, когда французский флот вышел в море и направился на восток. Бонапарт отплыл, чтобы завоевать Египет и оттуда угрожать индийским владениям Англии.
По пути в Египет французы захватили остров Мальта. Этот небольшой остров представлял собою важную морскую станцию на средиземноморских путях. Им владели мальтийские рыцари. Орден ставил своей целью поддержку монархических государств, когда им угрожала революция. Понятно, что в Мальтийский орден вступали коронованные особы — короли, владетельные князья. После захвата Мальты французами мальтийские рыцари предложили звание великого магистра ордена Павлу. Он согласился.
Англия воспользовалась этим, чтобы вовлечь Россию в войну с Францией. Австрийцев нетрудно было убедить в том, что экспедиция Бонапарта в Египет дает Австрии случай вернуть в Италии все, что Австрия потеряла по Кампо-Формийскому миру.
Английский посол в Петербурге привел в движение все пружины при дворе Павла. «Великому магистру» внушили мысль, что захват Мальты Бонапартом — не только угроза всем европейским государям, но и личный оскорбительный вызов ему самому. Павел вступил в союз с Англией и Австрией против Франции. В Южной Италии к союзникам примкнул король неаполитанский. Он поторопился выступить в поход. Французы легко разбили его и вместо королевства учредили в Неаполе республику. К союзу против Франции присоединилась и Турция: захват Бонапартом Египта и задуманный им после этого поход в Сирию угрожал и турецким владениям. Война, потрясавшая Европу уже шесть лет, разгорелась с новой силой.
Войны революционной Франции превращались в захватнические.
Французы вторглись в Швейцарию. Маршал Массена начал наступление на Граубинден. Союзникам пришлось, заняв оборонительное положение на севере, сдерживать натиск французов из Швейцарии и наступать в Италии.
Массена разбил австрийцев и, прогнав их из Граубиндена, обезоружил граубинденское ополчение. Командующий силами австрийцев эрцгерцог Карл нанес французам ответный удар, одержал верх в нескольких битвах, но не решился преследовать французов, когда они отошли за Рейн.
Французы предупредили наступление союзников и в Италии. В конце марта 1799 года французский главнокомандующий Шерер перешел реку Минчио, чтобы атаковать австрийцев. Ими командовал мужественный генерал Край. Австрийцы горели желанием загладить неудачу в Швейцарии. Край перешел в наступление и разбил французов. Они потеряли много пушек, около четырех тысяч убитыми и ранеными, более четырех тысяч французов попало в плен.
Французы отступили за реку Минчио.
Край не преследовал их, руководясь личным расчетом. В Верону уже явился фельдмаршал Мелас, назначенный главнокомандующим австрийскими войсками. Одержав победу, Край хотел сохранить за собой славу, не омраченную возможной неудачей. Мелас, дряхлый старик, прибыв к армии, в свою очередь медлил с наступлением, так как вслед себе ожидал верховного главнокомандующего соединенными силами русских и австрийцев — Суворова, который уже прибыл в Вену.
Тугут, председатель гофкригсрата, придворного военного совета, человек малообразованный и совсем не военный, а лишь умный и ловкий политик, пытался навязать Суворову в Вене осторожный план войны. Границей наступления союзной армии назначалась река Адда. Переносить военные действия на правый берег реки По гофкригсрат категорически запрещал. Предписывалось закреплять успехи сражений, овладевая крепостями. Главной крепостью Ломбардии являлась Мантуя. Она потребовала от Бонапарта четыре года тому назад больше времени, сил и жертв, чем вся его победоносная кампания. Французы, завладев Мантуей, усилили ее мощность. В Мантуе стоял большой французский гарнизон, обеспеченный надолго боевыми припасами и продовольствием.
Отправляясь к армии в Верону, Суворов сказал Тугуту, перечеркнув накрест предложенный им план:
— Я начну кампанию переходом через реку Адду, а кончу там, где бог то пошлет…
В Вероне итальянцы устроили Суворову восторженную встречу. При въезде в город Суворова веронцы выпрягли из его кареты лошадей и оспаривали друг у друга право везти на себе фельдмаршала в город.
Для представления Суворову собрались в Верону русские и австрийские генералы. Суворов явился перед ними, облаченный в мундир австрийского фельдмаршала. Чин этот Суворову пожаловали затем, чтобы старику Меласу и прочим австрийским генералам не показалось зазорным подчиняться генералу русскому, хотя и прославленному победами и известному австрийским солдатам под именем генерала «Вперед». А с другой стороны, венские хитроумные политики считали, что своенравный полководец, зачеркнувший военный план гофкригсрата, став австрийским фельдмаршалом, будет обязан подчиниться австрийскому императору.
Фельдмаршальский мундир, сшитый в Вене придворным портным, сидел на Суворове несуразно: везде, где надо, где не надо, портной подложил вату, подняв плечи и сделав грудь колесом. Венские портные, наравне с венскими каретниками, славились по всему свету. Портной много потрудился, чтобы превратить тщедушного Суворова в нарядную военную куклу. Он остался недоволен лишь небольшим ростом Суворова. Слышав о нем, портной предполагал одеть гиганта.
Выйдя в зал, где его ждали и русские и австрийские генералы, Суворов остановился и зажмурился, как бы ослепленный блеском мундиров. Он простоял так с минуту с закрытыми глазами, вертя шеей в шитом воротнике мундира, и поеживался, делая вид, что у него жмет под мышками. Генерал-квартирмейстер маркиз Шателер увидел в поведении фельдмаршала признаки старческой немощи и ловко подкатил к Суворову мягкое кресло.
— Вы очень утомлены с дороги, господин фельдмаршал. Может быть, прикажете отложить прием? Во всяком случае, вы можете вести прием сидя.
Суворов ответил:
— Благодарю, маркиз. Вы скоро убедитесь, что я еще крепко стою на ногах.
Он сделал шаг вперед и открыл глаза.
Прием начался. Командир русского корпуса Розенберг называл имена генералов и начальников отдельных частей.
Одним Суворов просто ласково кивал головой, другим протягивал руки, обнимал, целовал и, по обычаю, что-нибудь говорил тихо на ухо.
Обняв Багратиона, Суворов сказал:
— Рад видеть тебя, князь Петр! Ты моя надежда. Учи австрияков воевать. Будь правою моей рукой. Помнишь?.. — И, целуя в глаза, в лоб и в губы, приговаривал: — Очаков, Рымник, Измаил!
— Генерал Милорадович! — провозгласил Розенберг.
Суворов озарился широкой улыбкой:
— Миша? Как ты вырос! А помнишь, я приезжал к вам в деревню? Ты вот какой был. На палочке верхом скакал с деревянной саблей. Вот и вышел в генералы… А хороши у вас были тогда пироги с капустой!
Притянув к себе молодого генерала, Суворов прошептал ему на ухо:
— Погляди-ка на Багратиона — он тебе завидует. Смотри от него не отставай!
Затем Суворову представился донской войсковой старшина Денисов. Приветствуя его, Суворов прошептал:
— Карпыч, скажи своим «гаврилычам», чтобы поскорей мне добыли французскую карету. Треклятая карета Франца мне все бока отбила…
Прием продолжался. Казалось, что Суворова одолевает непобедимая дрема, глаза его смыкались. Но он стоял весь собранный и ни разу не качнулся, что очень трудно с закрытыми глазами старому человеку в усталости. Неверно было бы сказать, что Суворов стоял недвижно, словно каменный или отлитый из бронзы, — это была живая, трепетная неподвижность.
Розенберг называл имена известных австрийских генералов. Суворов устало открывал глаза и бормотал:
— Не слыхал. Познакомимся.
Обиженные австрийцы переглядывались, откровенно пожимая плечами. Список генералов кончился. Суворов начал ходить по залу широкими шагами, произнося в такт шагам изречения из «Науки побеждать»:
— «Удивить — победить. Напуган — побежден. Смерть или плен — все одно. Промедлить время — хуже смерти. Каждый воин знай свой маневр. Хоть генерал, хоть рядовой. Секрет — один предлог. От болтунов не сбережешься. На дневках — упражнять в атаках. Сомкнуто в штыки. Вьюки с котлами — впереди. Лошадей беречь — конь дольше отдыхает. Стрелять не долго. Артиллерия картечью. Слушай! Атака будет! Всем фронтом. Ружья на руки. Марш! Ступай! Ружья наперевес. С музыкой, ускорив шаг. Развернуть знамена! Марш-марш! Удвоить шаг. Марш-марш! Коли, коли! Руби, руби! Ура! Победа! Слава, слава!»
Для русских генералов изречения из «Науки побеждать» не были новостью. Австрийцы, не зная русского языка, считали, что речь Суворова их не касается, и переговаривались между собой. Он обратился к ним по-немецки. Остановясь среди зала, Суворов положил руку на эфес палаша, выпрямился. Глаза его светились.
— Господа! — сказал он. — Русские и австрийские солдаты не впервые будут сражаться рука об руку. Мы с вами знакомы. Я высоко ставлю боевые качества австрийских войск. Они побеждали — я видел это в Турции. Я имел там возможность оценить и многих австрийских генералов. Считаю высокой честью сражаться, имея таких подчиненных. Полагаю, однако, преступным скрыть от вас то, чего я никогда не скрывал. Вы, господа, склонны удовлетворяться полупобедой, когда полная победа у вас в руках. Вы замедляете стремление, почти достигнув цели, именно потому, что она близка. Я требую, чтобы вы все прониклись сознанием необходимости последнего, завершающего дело усилия. Вы знаете, например, что по плану войны, мне предложенному, границей первой кампании назначена Адда, но противник наш находится уже за Аддой.
Раздалось несколько удивленных восклицаний. В группе австрийских генералов произошло движение. Отступление Шерера за Адду явилось для многих совершенной неожиданностью. Суворов продолжал:
— Да, это так. Если бы я держался плана Вены, и я и вы все со мною, мои господа, очутились бы в смешном положении. Кампания еще не начиналась и уже кончена! Поверьте мне, что французы не останутся на месте, если остановимся мы. Если мы не будем наступать, будут наступать они. Господа! Бонапарт прошел Италию с запада на восток в шесть месяцев и был у ворот Вены. Я сделаю со своими войсками марш по Италии от Вены до французских границ в три месяца. К августу французские войска будут мною изгнаны из всей Италии, не только Верхней, но Средней и Нижней. Все нам благоприятствует. Бонапарт увяз в Сирии. Лучшие французские мастера войны заняты в Швейцарии и на Рейне. Ограбленное население Италии готово восстать. Театр войны изучен на протяжении тысячелетий. Мы будем сражаться в классической стране войн. Дороги здесь проложены еще римлянами. Броды и переправы через реки известны со времени пунических войн. «Все дороги ведут в Рим», то есть к победе. Вам, господа, театр войны хорошо знаком. Ваши солдаты прошли его весь, отступая. Теперь они пройдут его, победоносно наступая. Мои солдаты знают одну дорогу — вперед! Мне остается сказать немного. Нам предстоит поход, в котором у солдат не будет добычи иной, кроме чести и бессмертной славы. Италия ограблена французами. Все отнятое нами у французов я возвращу итальянскому народу. Я фельдмаршал австрийской армии и кавалер ордена Терезии. Все это я должен еще заслужить и не сомневаюсь, твердо знаю, что заслужу с такими соратниками, каковыми являетесь вы, мои господа!
Суворов поклонился. Генералы ответили тем же. Маркиз Шателер подошел к Суворову и, поклонившись, сказал:
— Ваше сиятельство! Вы говорили великолепно, как настоящий немец!
— Где мне! Я простой русский человек…
Суворов улыбнулся и поник головой. Опять перед блестящим собранием стоял в расслабленной позе немощный старик в столь не идущем к нему наряде.
Авангард из русских войск, под командой Багратиона, должен был выступить на Брешию в следующий полдень. В австрийские войска, к удивлению Шателера, назначались русские инструкторы и капралы, знающие по-немецки, с тем чтобы они во время похода и на дневках обучали австрийцев русским тактическим приемам. Марши Суворов предписал быстрые, непривычные для австрийцев. Затем он подписал предложенное Шателером воззвание к итальянцам, призывая их восстать против французов.
Милан
Суворов лег спать в обычное время, встал с постели на рассвете и после обливания холодной водой отправился смотреть лагерь первого русского эшелона. Багратион и Денисов показали Суворову свои полки. Он нашел, что люди уже отдохнули, а кони еще нет, но к полудню будут готовы к походу и они.
Суворов еще раз обнял Багратиона и напутствовал его наказом:
— Иди весело, шибко — покажи австрийцам, как надо ходить.
Войска выступали с песнями и музыкой. Население встречало и провожало их. Мальчишки долго бежали за солдатами и по краям дороги, дивясь на солдат в гренадерках с медными передами и тульями из красного сукна, на бородатых, чубатых донцов в высоких шапках и широких шароварах. Солдатам предлагали вино, белый хлеб, табак.
Вслед авангарду Багратиона Суворов отправился из Вероны в Валеджио и там сделал смотр австрийским войскам на походе. Больше часа шли мимо Суворова в походном снаряжении австрийские полки. Суворов их хвалил:
— Шаг хорош! Победа!
Отступая к Адде, французы увезли все, что могли увезти, и уничтожили все, что можно уничтожить. В крепостях затворились гарнизоны. Первая крепость на пути армии союзников была Брешия.
Суворов приказал Краю взять крепость штурмом и уничтожить гарнизон, если он не сдастся. Русскими войсками командовал Багратион. По городу открыли пушечный огонь. Багратион заградил французам путь отступления на запад. Французы, не обороняя городской стены, заперлись в цитадели. Прокламация Суворова уже дошла до Брешии и оказала свое действие: жители города отворили союзникам городские ворота и опустили мосты. Австрийцы и русские вошли в город одновременно с разных сторон. Начались приготовления к штурму цитадели. Не выдержав канонады, французы сдались со всем вооружением и сорока шестью орудиями.
Союзная армия продолжала марш на запад усиленными переходами, выступая ночью. Погода испортилась. Австрийцам пришлось переходить одну реку под проливным дождем. Среди солдат и особенно среди офицеров поднялся ропот. Фельдмаршал Мелас приказал войскам остановиться, не сделав и половины заданного маршрута. Узнав об этом, Суворов написал Меласу письмо:
«Я слышу жалобы, что пехота промочила ноги. Такова была погода. Сухая погода нужна барышням, петиметрам,[89] лентяям. Хвастуны и себялюбцы, те, кто жалуется на службу, будут отрешаться от должности. Операции должно производить быстро и без малейшей потери времени, чтобы никоим образом не допустить соединения сил противника. Кто слаб здоровьем, тот может оставаться позади. Италию надо освободить от французов, ради этого каждый офицер должен жертвовать собой. Резонеры[90] не могут быть терпимы ни в одной армии. Быстрота, глазомер, натиск… На сей раз довольно!»
Письмо главнокомандующего в лице Меласа было адресовано всем командирам австрийской армии. Они поняли, что с Суворовым шутить нельзя. Откровенные разговоры о том, что «образованных» австрийских офицеров приехал учить невежда, затихли. Более никто не осмеливался открыто называть приказы Суворова «смесью ума с глупостью». Австрийцы затаили неприязнь.
Армия не встретила в своем движении сопротивления до самой реки Адды, не считая незначительных стычек с тыловыми отрядами французов. Армия Шерера занимала возвышенную, правую сторону реки, протекающей здесь в узкой долине с обрывистыми берегами. Переправа через Адду весною возможна только по мостам. Все благоприятствовало французской обороне. В Вене царила уверенность, что французы ни за что не допустят переправы через Адду. Французы же, осведомленные о том, что союзной армией командует Суворов, не сомневались, что он решится форсировать реку. Шерер не мог только угадать, в каком месте Суворов предпримет переправу. Поэтому и французский главнокомандующий вынужден был растянуть линию обороны почти на пятьдесят километров: от Лекко — на севере до Лоди — на юге.
Суворов разделил свою армию на три почти равные части, чтобы форсировать реку в трех пунктах: на севере — против Лекко, в центре — у Сен-Джервазио (против Треццо надлежало навести плавучий мост) и на юге — против Кассано. К мосту у Лоди, южнее Кассано, по диспозиции, направлялся небольшой отряд. Переправа у Лекко — на истоке Адды из озера Комо — представляла наибольшие трудности: сюда Суворов назначил весь русский корпус под командою Розенберга и одну австрийскую дивизию Вукасовича. У Сен-Джервазио предполагалась переправа австрийской дивизии по наводному мосту. Фельдмаршалу Меласу с двумя австрийскими дивизиями предстояло овладеть тет-де-поном (предмостным укреплением) и мостом у Кассано. После переправы силы союзников соединяются для движения от Кассано по дороге на Милан.
Получилось известие, что Шерер, уволенный французской Директорией, сдал командование генералу Моро. Суворов отозвался на это так: «Лучше иметь дело с мастером, чем с подмастерьем. Лавры, отнятые у Моро, будут цвести зеленее!»
Моро, вступив в должность главнокомандующего, начал стягивать войска к середине своего расположения, ожидая прорыва в центре. Суворов приказал приступить к переправе, оставив диспозицию без изменения.
Мост против Треццо принялись наводить ночью, под дождем, спуская понтоны с крутого скалистого берега. Мост навели только к шести часам утра, и австрийская конница с донскими казаками переправлялись по нему на правый берег Адды. Французы считали, что здесь переправа невозможна, и были застигнуты врасплох. Конница прогнала их. Началась переправа пехоты.
На севере, у Лекко, утром 25 апреля Багратион атаковал город, окруженный каменной стеной. Французские пушки с правого берега поддерживали гарнизон Лекко огнем. Багратион двумя последовательными ударами овладел городом, выгнав из него французов. Заметив, что русских мало, французы сами перешли в наступление, угрожая отрезать пути отхода. Но тут подошел Милорадович с батальоном пехоты. Хотя Милорадович был старше чином, он отдал себя и свой батальон в распоряжение Багратиона, предоставив ему кончить блестяще начатое дело. Подошли еще два батальона. Багратион снова послал войска в атаку, чтобы овладеть мостом. Солдаты бросились на мост с криком: «Бросай оружие!» Французы отвечали криками: «Пардон!» — как бы соглашаясь сдаться. Русские, не стреляя, доверчиво приблизились. Французы их встретили залпом. Разъяренные вероломством противника, солдаты Багратиона без выстрела ударили в штыки и овладели мостом.
Наступила ночь. Противник на правом берегу имел превосходные силы, поэтому Багратион не мог развить успех. Но и французы обманулись. Они ждали, что утром союзники повторят атаку здесь же, и стягивали сюда новые войсковые части. Между тем Розенберг приказал ночью навести мост в четырнадцати верстах от Лекко, против городка Бравио, и начал здесь переправу. Моро, встревоженный, направил к Бравио целую дивизию под командой генерала Серюрье. Когда союзники переправились у Треццо по наведенному мосту, Моро понял, что дал Серюрье ошибочное направление, и послал Серюрье приказ остановиться. Но было уже поздно: связь Моро с дивизией прервалась.
Суворов приказал Меласу приступить к переправе у Кассано. Австрийцы повели атаку на предмостные укрепления. Французы яростно отбивались. Суворов явился к месту боя. В австрийских войсках находилось немало ветеранов турецких войн — они знали генерала Вперед в лицо. Суворов напомнил им Рымник и Фокшаны. Австрийцы возобновили атаку с необычайной для них энергией и овладели тет-де-поном и мостом, не дав французам времени его зажечь, хотя они заранее обложили мост горючими материалами.
Диспозиция Суворова была осуществлена полностью — армия Суворова была на правом берегу Адды. Моро не мог долее обороняться и приказал своим войскам отступить на Милан, столицу Ломбардии.
28 апреля Суворов направил все свои колонны к Милану. Серюрье, окруженный со всех сторон, напрасно ждал помощи от Моро — она не приходила. Поняв безнадежность сопротивления, Серюрье к вечеру сдался со всей дивизией: в плен попало четыре тысячи солдат, двести пятьдесят офицеров с пятнадцатью пушками и сам Серюрье.
Расстроенная армия Моро отступала за Милан по двум направлениям — на Турин и Павию. Вслед французам из Милана пустились в бегство их сторонники. Правительство Цизальпинской республики, чиновники, поставленные французами, бежали с семьями. Оставление Милана явилось для всех полной неожиданностью. Для сборов времени не было, и все-таки образовался огромный обоз, запрудивший все мосты, что затрудняло движение французской армии. В миланской цитадели затворился гарнизон. Едва последние части французов вышли за городские стены на запад, у восточных ворот появились казаки. Они нашли ворота запертыми, сбили их с петель и вошли в город. В ожидании прихода союзных войск казаки обложили цитадель.
Австрийская пехота вошла в Милан раньше русской. Суворов остановился в одном переходе от Милана, отложив свой въезд до утра. Чуть свет навстречу Суворову высыпало за стены городское население. Суворов ехал на коне. За ним — свита. Шли с музыкой и с развернутыми знаменами войска. Вереницей тянулись великолепные коляски и кареты генералов, среди них и добытая для Суворова казаками старая, разбитая французская карета — казаки ее прозвали «ковчегом».
У городских ворот Суворова ожидал на коне Мелас. Когда они сблизились, австрийский фельдмаршал заметил, что Суворов хочет его обнять. Мелас потянулся к нему, потерял равновесие и свалился с лошади на землю. Суворов живо спрыгнул с коня, поднял Меласа и, обняв, поцеловал.
Звонили колокола. Народ встречал Суворова восторженными криками. Все слои населения приветствовали русского фельдмаршала. Купцы и промышленники знали, что настал конец принудительным займам и неограниченным поборам. Мастеровой люд чаял возврата к мирной жизни.
В честь Суворова в Милане состоялось несколько празднеств. Русский фельдмаршал принимал в них участие, насколько этого требовало приличие. Во дворце, где до него жил Моро, Суворов устроил парадный обед. Здесь ему представили пленных французских генералов и среди них — Серюрье. Суворов долго беседовал с ним. Речь зашла и о последней операции на Адде. Желая польстить Суворову и вместе с тем кольнуть его, Серюрье сказал:
— Ваша теория войны есть теория невозможного. Атака у Лекко противоречит всем правилам тактики.
— Что делать! — со вздохом ответил Суворов. — Все мы, русские, такие: хотим невозможного…
И тут он выразил надежду вскоре побывать в Париже. Тем самым Суворов открыл свое намерение продолжать наступление за границы Италии. Это намерение расходилось с планами Вены. Австрийцы торопились прибрать к рукам страну, большей частью которой они владели до вторжения Бонапарта.
Изгнав французов из Милана, Суворов сделал значительно больше того, чего хотели в Вене. Но в тылу союзников оставалось несколько крепостей, занятых французскими гарнизонами. Отвлекать большие силы для их осады и ждать поры, когда крепости падут, значило дать время оправиться армии Моро. Кроме того, с юга Италии приходили известия, что вторая французская армия, под командой Макдональда, предприняла движение на север для соединения с армией Моро. Допустить это соединение Суворов считал невозможным. Он признал необходимым перейти реку По, двинуться навстречу Макдональду, разбить его, а затем обрушиться на армию Моро. Суворов составил широкий и смелый план дальнейших военных действий в Италии, согласуя их с военными операциями союзников в Швейцарии и на Рейне. План послали на утверждение в Вену. Не дожидаясь новой инструкции, Суворов на свой страх 1 мая двинул войска.
Войска Суворова готовились к переправе через По, когда было получено новое подтверждение гофкригсрата, что переносить войну на правый берег По решительно запрещается, а мысль о походе во Францию отвергалась совсем. Снимать войска, осаждающие Мантую, Суворову не позволяли. Овладение крепостями венским кабинетным стратегам представлялось главной задачей.
Суворов поступил самовольно, рискуя вызвать серьезное недовольство в Вене. Он решил искать боевой встречи и с Макдональдом и с Моро.
Разведка у союзников в Италии была поставлена плохо. Французы оставили в местах, занятых Суворовым, много шпионов и были осведомлены о действиях и намерениях союзных войск. Суворову же приходилось ограничиваться догадками, слухами и сведениями, полученными иногда далеким, кружным путем. Так, известие, что Макдональд двинулся из Нижней Италии в Верхнюю, на север, в штабе Суворова получилось из Вены.
Суворов по складу натуры своей презирал шпионов и избегал опираться на их донесения. Он не любил и лишних рекогносцировок и мелких поисков, считая их юношеской забавой. Он предпочитал разведку крупными силами и всегда был готов превратить разведочный бой в решительное сражение. Рыцарски открытый, Суворов недаром избрал в Италии своей правой рукой Багратиона.
Решив перейти По главными силами, Суворов, в сущности, совершил разведочный маневр целой армией.
Узнав о переправе Суворова через По, Моро не мог не обнаружить своих намерений действием. Он напал на правый фланг Суворова у Маренго и нанес австрийцам жестокий удар. Поблизости находился со своим отрядом Багратион. Соединенными силами союзники опрокинули французов. Моро поспешно ретировался. Суворов прибыл к Маренго, когда бой был окончен.
— Упустили неприятеля! — заметил он с досадой.
Но делом остался доволен и представил Багратиона к высокой награде — ордену Александра Невского.
Суворов имел основание быть довольным. Он действием решил сомнение о намерениях Моро и о состоянии его армии. Моро еще не ушел в Геную, за горы, значит, он считает себя достаточно сильным, чтобы, не прячась за горами, ожидать соединения с Макдональдом между Апеннинами и рекою По.
Турин
Не только Суворов, но и сам Моро не знал точно, что предпримет Макдональд.
Суворов размашистым маневром разрушил все сомнения. Неожиданно для кабинетных стратегов он предпринял общее движение на Турин. Это движение, в общем противоположное проделанному до этого, напоминало знаменитый прием фехтования — один из «трех ударов Бонапарта», когда мастер шпаги как бы раскрывает объятия, открыто подставляя собственную грудь, и в ту же секунду наносит ввергнутому в недоумение противнику решительный удар.
Поход на Турин походил на отступление. Моро представлялись две возможности: или двинуться, освободив крепость Тортону от осады, на восток, чтобы соединиться с Макдональдом, или ударить на «отступающего» Суворова.
Моро остался на месте.
Для Суворова не оставалось теперь никаких сомнений о плане французского командования. Макдональда можно было ждать только из-за Апеннинских гор на правом берегу По, не ближе Пьяченцы, Моро оставался на месте, чтобы угрожать тылу и путям сообщения Суворова, если бы тот пошел навстречу Макдональду, не обеспечив своего тыла. Моро не пустился преследовать союзников на их марше к Турину, потому что был для этого недостаточно силен. Сделалось понятным и то, почему Моро сосредоточил в Турине огромные запасы огневых средств, амуниции и продовольствия: он мог ждать через Турин подкреплений из Швейцарии.
Овладение Турином до появления в долине По Макдональда было для Суворова важной стратегической и политической задачей. До завоевания Италии Бонапартом Турин являлся столицей Сардинского королевства.
Союзная армия следовала на Турин двумя колоннами. Суворов разослал своих штабных офицеров наблюдать за движением отдельных частей, а сам сопровождал армию, имея при себе одного казака. Суворов иногда опережал авангард, сходил с коня и ложился отдыхать где-нибудь в тени, в стороне от дороги, и смотрел на проходящие войска. Жара стояла страшная. Суворов замечал, что солдаты изнемогают и марш замедляется. Он садился на коня, быстро выезжал на дорогу, присоединялся к полку и ехал между солдатами, разговаривая с ними, как он это делал в пражском походе. Завидев Суворова, отставшие торопились вперед, чтобы его слышать, усталые прибавляли шагу, теснились за ним. Марш ускорялся. Разговаривали чаще всего об австрийском интендантстве. По договору с Веной, снабжение русской армии целиком лежало на австрийцах. Солдаты жаловались, что австрийцы плохо их кормят. Суворов отвечал:
— Не в первый раз слышу. Да мы сами виноваты, братцы: очень шибко ходим. Австрийские обозы за нами не поспевают.
— Своих они, однако, лучше кормят! — крикнули из рядов.
— Не поверю, чтобы солдат, хотя бы австрияк, с товарищами не поделился.
— Врать нельзя, делятся. А ежели самим негде взять?
— На нет и суда нет. Заберем, богатыри, у французов Турин, Геную, на Париж пойдем. У французов всего много!
— Чужого хлеба брюхом не перетаскаешь! — отозвался кто-то из рядов.
Солдаты жаловались на австрийских провиантмейстеров не напрасно.
Однажды Суворов, чтобы напоить коня, спустился к реке и увидел отдыхающих солдат. Они жевали размоченные сухари и прихлебывали, черпая ложками прямо из реки.
— Что вы делаете, братцы? — спросил Суворов.
— Итальянский суп хлебаем, ваше сиятельство.
— А хорош?
— Изволь — попробуй!
Суворов соскочил с коня. Один солдат протянул ему ложку. Присев на корточки у воды, фельдмаршал «повозил» ложкой из реки и сказал:
— Ай, хорош суп! Досыта наелся! Спасибо, братцы, что накормили.
Суворов вскочил на коня. Солдаты проводили Суворова веселым смехом.
Близился Турин. Измученный, Суворов решил отдохнуть в своем «ковчеге». «Ковчег», весь запыленный, стоял на дороге. Суворов забрался в карету и велел ехать. Экипаж покатился. Убаюканный качкой «ковчега», Суворов крепко заснул.
Во сне Суворов услышал, что его кто-то настойчиво зовет. Воспрянув, он почувствовал отрадную прохладу и содрогнулся, увидев, что стоит на дне сырой могилы, с заступом в руках. Кареты и дороги как не бывало. Взглянув вверх, Суворов увидел, кто его зовет. На глине, выкинутой из могилы, стоял император Павел Петрович. Павел держал в руке темный череп человека с глазницами, набитыми землей.
«Послушай, могильщик, — спросил Павел, указав на глину рукой, — неужели от Александра Великого и от Цезаря осталось только это?»
«Да, ваше величество!»
«Так ведь это глина, годная только на кирпичи!»
«Да, ваше величество! Только эти кирпичи особенного свойства: из них строится грядущее…»
Павел гневно швырнул в Суворова мертвой головой. Суворов уклонился от удара. Павел схватил заступ и начал яростно сбрасывать в могилу комья красной глины. Они падали в яму с громом канонады.
«Живого? Живого?» — кричал в ужасе Суворов, изнемогая под тяжестью насыпанной земли.
Он сделал последнее усилие, чтобы сбросить груз, и… проснулся.
Стояла тихая, прохладная ночь. Высокий месяц обливал окрестность синим светом. «Ковчег» стоял, свернув с дороги, у белой каменной стены. Распряженные кони хрустали овес. За стеной возвышались печальные кипарисы. Где-то журчал фонтан. Не нарушая тишины, в стороне Турина бухали пушки. Дверца «ковчега» раскрылась. Суворов увидел Денисова и своего племянника, Андрея Горчакова, на коне.
— Дядюшка! — воскликнул Горчаков. — Наконец вы пробудились! Я не мог вас дозваться. Французы обстреливают дорогу из орудий. Здесь опасно.
— Где Шателер? — сонно спросил Суворов.
— Я думаю, он уже у ворот Турина, пишет генералу Фиорелле предложение сдаться.
— А-а-а! — протянул Суворов и сладко зевнул.
— Прикажете подать коня? — предложил Денисов.
— Не надо, Карпыч!
Суворов пошел вдоль стены к раскрытым воротам виллы. Людей не было видно. В отдалении шли Горчаков и Денисов. Где-то близко на дороге с визгом и громом разорвалась граната. В смолистом воздухе пахнуло серой.
Суворов очутился в квадратном дворе, вымощенном большими мраморными плитами. Легкая аркада на тонких колоннах окружала двор. Посредине в восьмигранном бассейне на столбе стояла статуя: нагая женщина лила из кувшина воду и тихо улыбалась. Суворов остановился, любуясь статуей. Горчаков с Денисовым остановились у ворот.
Грохнул взрыв. Все заволокло едким дымом. Место статуи опустело. Угловатые обломки мрамора валялись вокруг. Фонтан замолк. Суворов мгновение стоял в оцепенении. Потом с бешеным криком: «Князь! Князь Петр, ко мне!» — бросился со двора. Спутники кинулись за ним. Он бежал по взрытой там и тут гранатами дороге, продолжая кричать. Спутники гнались за ним.
— Дядюшка, дорога под обстрелом!
— Ваше сиятельство, назад!
Денисов догнал Суворова первый и крепко обхватил его за плечи, едва не свалив на землю. Суворов отбивался. Шапка слетела с головы Денисова. Суворов схватил его за чуб и кричал:
— Что ты делаешь, проклятый!
— Ваше сиятельство спасаю!..
Денисов сгреб Суворова в охапку и стащил в канаву в самый раз: над их головами грохнул взрыв, и с откоса посыпался щебень.
— Живы? — со слезами в голосе кричал Горчаков подбегая. — Дядюшка, живы?
— Оба живы! — ответил сердито Денисов. — Только у меня весь чуб выдран.
— А это тебе, Карпыч, за то, что посмел Суворову крикнуть: «Назад!» — ответил, тяжело дыша, Александр Васильевич.
Затем он обратился к Горчакову:
— Андрей! Скачи, найди Шателера. Обложить город кругом. Объявить Фиорелле, чтобы перестал стрелять. Четыре часа на размышление. Или воля, или смерть.
Горчаков приложил руку к шляпе и побежал к своему коню. Суворов, до смерти устав, опять заснул в своем «ковчеге». На восходе солнца прискакал Андрей Горчаков и доложил, что войска вступили в предместье Турина. Комендант на предложение Суворова сдаться ответил письмом.
— Вот оно, читайте, дядюшка!
— Дерзкий мальчик! — сказал Суворов, пробежав письмо глазами.
Фиорелла удивлялся, что генерал союзной армии обращается к нему с предложением о сдаче. Комендант цитадели заявлял, что больше на письма отвечать не станет: «Атакуйте меня, и я отвечу».
Суворов продиктовал Горчакову новое письмо туринскому коменданту, убеждая его в вежливых выражениях немедленно сдаться, чтобы избежать напрасного кровопролития и жертв среди населения.
Отправив письмо, Суворов приказал начать бомбардировку города и готовиться к штурму. Население и здесь оказалось против французов. Национальная гвардия Пьемонта восстала и впустила в город союзные войска. Фиорелла едва успел затвориться в цитадели.
Суворов вошел в город, приказав прекратить бомбардировку. Фиорелла в расчете отомстить жителям начал обстрел города из цитадели калеными ядрами и разрывными снарядами, ведя огонь по рыночным площадям, где толпился народ.
Уверенный, что цитадель рано или поздно падет, Суворов не торопился ее штурмовать. Приходили известия, что сдаются, не ожидая штурма, другие крепости: пала Феррара, сдалась Миланская цитадель.
Суворов объявил восстановленным Сардинское королевство и возложил управление Пьемонтом на временный верховный совет. Национальную гвардию Суворов не распустил: он видел в ней ядро пьемонтской армии, которую предполагал собрать для борьбы с французами. Пьемонт мог выставить более пятидесяти тысяч человек. Все распоряжения Суворова подчинялись целям войны.
Действия Суворова вызвали неудовольствие при дворе австрийского императора. От его имени главнокомандующему союзных армий объяснили, что завоеванные земли принадлежат Австрии, а пьемонтские войска следует призывать под знамена только австрийского императора. В Вене считали, что Суворов превысил свои полномочия.
Снова австрийский император требовал, чтобы Суворов оставил свои широкие планы и обратил все свое внимание на взятие Мантуи, усилив там осадный корпус. Главные же силы армии, не помышляя о наступлении, должны занять оборонительное положение для охраны завоеванного.
В Петербурге начало сильнее сказываться французское влияние. Павел еще оставался верен союзу с Австрией и соглашался на жадные притязания австрийцев, еще слушался внушений австрийского посла, но уже начал колебаться в ожидании, что в Париже произойдет монархический переворот. Об этом он довольно прозрачно намекал Суворову в личном письме.
Противники Англии искусно разжигали недовольство Павла австрийцами, указывали на коварные замыслы Вены, на неблагодарность Австрии. Суворов также жаловался Павлу на австрийцев и грозил отставкой.
Война еще не кончилась. Две французские армии могли соединиться и напасть на союзников. Разлад в их стане и возможность разрыва не могли укрыться от французов. Между тем в Швейцарии и на Рейне австрийцы не могли добиться решающих успехов.
Макдональд начал марш из Флоренции через Апеннинские горы на Модену, чтобы в долине По проложить себе оружием дорогу на соединение с армией Моро.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Треббия
Целью соединения армий Моро и Макдональда являлось решительное сражение.
План французских главнокомандующих состоял в следующем: Макдональд двигается через Модену и Парму к реке По и затем, прикрываясь справа рекою, а слева горами, идет к Тортоне. Моро, слишком слабый для самостоятельных действий против главных сил Суворова, пробивается на восток, навстречу Макдональду. Карта показывала, что в случае удачи замысла французов соединение Моро и Макдональда произойдет, вероятнее всего, на берегах реки Треббии.
Суворов справедливо считал себя недостаточно сильным для сражения с соединенными силами французов. Поэтому он приказал австрийскому генералу Краю снять осаду с Мантуи и идти с корпусом в двенадцать тысяч человек на Пьяченцу, при впадении Треббии в По, чтобы соединиться с Суворовым на поле предстоящей битвы.
Край в ответ прислал собственноручный приказ австрийского императора, который запрещал снимать осаду Мантуи, что бы ни случилось. Край ограничился тем, что послал отряд под командой генерала Гогенцоллерна к Модене.
Суворов был предоставлен самому себе.
Макдональд двигался по большой дороге на Пьяченцу, тесня австрийцев на запад, в расчете, что Моро идет ему навстречу и что где-то в верховьях Треббии его левый фланг сомкнется с правым флангом Моро.
15 июня Суворов стремительно двинулся навстречу Макдональду, который успел оттеснить корпус Отто от Пьяченцы и далее до речки Тидоне, параллельной Треббии. Считая, что Суворов с главными силами еще далеко, Макдональд задумал нанести Отту сокрушительный удар. 17 июня французы атаковали Отто, хотя Макдональд мог располагать только половиной своих сил — вторая половина находилась еще в пути. Дивизия Домбровского, составленная из польских эмигрантов, сделала попытку обойти австрийцев с правого их фланга. Видя перед собой главные силы французов, Отто хотел отступить. В это время подошел Мелас; он привел несколько тысяч русских и австрийцев. Французы продолжали настойчивые атаки. Над австрийцами, казалось, навис неотвратимый удар. Мелас послал Суворову отчаянный призыв поспешить на помощь. Меласу всегда казалось, что участок фронта, где он находится и командует, самый важный и самый опасный, наиболее угрожаемый. Он дал бы приказ об отступлении, но боялся Суворова, хорошо запомнив урок, данный ему главнокомандующим перед Кассано, когда австрийская пехота «промочила ноги». Мелас решил держаться.
Просьба поспешить, обращенная к Суворову, заставила его только улыбнуться. Грозная лавина русских войск уже катилась, приближаясь к месту боя.
Суворов знал, что предстоят события решающие. Его приказ, отданный в начале марша против Макдональда, начинался словами:
«Неприятельскую армию взять в полон».
От первого до последнего слова приказ Суворова был проникнут уверенностью в победе. Команда «стой» приказом отменялась. Предписывалось: не развлекаясь напрасной перестрелкой, действовать холодным оружием. Чтобы подчеркнуть значение штыкового удара в предстоящей битве, Суворов приказал пехоте отточить наново штыки, сам пробовал рукой, остры ли они, и в одном батальоне приказал переточить штыки еще раз.
Вначале поход против Макдональда происходил под проливным дождем, по дорогам, донельзя испорченным. Через реки переправлялись без мостов, бродом, почему маршруты в обход удлинялись. Этапы были заданы предельно длинные. Войска изнемогали. Дожди сменились невыносимым зноем. Колонны на походе растягивались. Верный своему правилу — «голова хвоста не ждет», — Суворов требовал ускоренного марша, напрягая последние силы солдат.
Получив от Меласа отчаянный призыв о помощи, Суворов приказал, чтобы передовые части пехоты двигались бегом, поручил их Багратиону, а сам во главе четырех казачьих полков поскакал к месту битвы.
Мелас едва держался и уже готовился искать спасения в ретираде, когда увидал в тылу своем огромное облако пыли: приближался с конницей Суворов.
Окинув взором поле битвы, Суворов послал казаков против конницы Домбровского. Поляки, вооруженные саблями, не выдержали казачьего удара в пики и показали тыл. Французы видели перед собой казаков в первый раз. Чернобородые, чубатые донцы в высоких шапках, их визг и гиканье вызвали в рядах французской пехоты смятение, подобное тому, какое в этих же местах испытали две тысячи лет назад римские легионеры, когда их атаковала нумидийская конница Ганнибала, одетая в плащи из львиных шкур.
Французы замялись. На бегу подходила пехота Багратиона и прямо с марша вступила в дело, хотя в ротах много народу отстало. Левое крыло французов, отстреливаясь и переходя в штыковые контратаки, отошло за реку Тидоне. Французы построили каре, но не устояли. Драгуны Багратиона прорвали фасы каре и рассеяли французов — последние отошли с большими потерями на правый берег Тидоне.
Бой кончился к закату солнца. Подходили отставшие части союзников, и к ночи против Макдональда на левом берегу Тидоне стояла вся армия Суворова. А Макдональд всего несколько часов назад легковерно считал, что Суворов находится от него на расстоянии нескольких переходов! У французского главнокомандующего в боевом порядке стояло только две трети армии, остальные войска находились на расстоянии дневного перехода, поэтому Макдональд отступил за Треббию.
Бой не мог не возобновиться на следующее утро. Суворов не достиг еще поставленной цели — разгрома армии Макдональда, — а в тылу уже начал наступление Моро. Он мог разбить оставленный Суворовым в арьергарде корпус Бельгарда, тогда союзная армия очутилась бы меж двух огней.
Остановившись на ночлег в городке Джованни, в доме виноградаря, Суворов сумрачно выслушал от собравшихся генералов поздравления с победой. Затем он заговорил по-немецки:
— Педанты вменяют мне в вину, что я натуралист. Натурализм? Да, я следую природе. Наш маневр натурален. Мы идем против солнца, иначе говоря — против часовой стрелки. Таковы все естественные движения на земном шаре в северной его части. Против солнца кружатся над землей вихри. Против солнца ходят хороводом люди в танце. Мы завтра, как и сегодня, заходим правым плечом. Преследование неприятеля продолжается. Маркиз Шателер, распишите марши на шесть миль вперед. Правый фланг — главные силы. В середине — генерал Ферстер. Правой и средней колоннами командует Розенберг. Левой — фельдмаршал Мелас, опираясь на реку По. Он будет по крайней мере, в том спокоен, что никто не будет щекотать его под левую мышку. Генерал Фрелих с резервом — за средней колонной, чтобы подать помощь влево или вправо, куда потребуется. Пароль австрийцам: «Колин». Пусть вспомнят, что они под Колином били Фридриха Второго. Лозунг: «Святая Тереза». Подробной диспозиции не будет. Избегать лишних передвижений частей — люди устали. Рано не будить. До боя накормить солдат. Атаку начинать, когда солнце подымется выше, чтоб оно не било нам в глаза. Действовать холодным оружием. Смотрите вправо, господа! Гнать неприятеля беспощадно. Покоряющимся давать пардон. Команды «стой» не подавать. За отступление — под суд!..
Голос Суворова к концу речи постепенно падал, переходя в неясное бормотанье. Он глубоко втянул ноздрями воздух, сладко всхрапнул, сомкнул глаза и очень натурально «клюнул носом». Это было принято за отпускающий поклон. Генералы, стараясь не шуметь, встали, поклонились и на цыпочках вышли из комнаты; остался один Багратион. Суворов воспрянул, сна у него не было ни в одном глазу.
— Завтра, князь, вам придется иметь дело опять с Домбровским. Он будет скакать впереди, — сказал Суворов.
— Да, он храбр.
— Покажись ему, князь. Непременно покажись. Впрочем, береги себя!..
Утром 18 июня армии противника оставались на местах, занятых к ночи. Суворов приказал начать атаку около десяти часов утра. Солдат хорошо накормили, они отдохнули. Главный удар опять направлялся на левый фланг французов.
До боя, ранним утром, Суворов проехал на коне в сопровождении Шателера, Багратиона и Горчакова вдоль реки Треббии по фронту правой и средней колонны. Суворов, молчаливый и задумчивый, пытался воскресить в памяти ту Треббию, которая рисовалась его воображению больше полустолетия назад, когда он читал о битве Ганнибала с римлянами. Вот здесь, на этих берегах! Река две тысячи лет хранила свое имя и по-прежнему катила к северу воды в плоских берегах, местами тинистых, местами песчаных. Те же травы, те же колючие кусты росли на речных островах. Осока и камыш кое-где окаймляли их берега. Но, полная в древности студеной мутной воды, река была теперь мелка и прозрачна; у заплеса играла мелкая рыбешка. Тогда дикие заросли покрывали отступающие на запад от реки холмы, теперь по ним всюду виднелись возделанные виноградники, рощи шелковицы, окаймленные по межам каменными оградами. Темные свечи кипарисов и пламевидные кроны пиний означали места жилищ. Тогда римляне коченели, переходя вброд реку; теперь жестоко палило солнце.
Напрасно Суворов пытался оживить в сердце волнение того осеннего дня, когда он после бессонной ночи над книгой скакал на Шермаке по холмам Подмосковья, потом ринулся с кручи и переплыл с конем реку. Сердце молчало, точно все, что было, случилось не с Суворовым, а с кем-то другим, далеким и чужим.
Суворов сказал Багратиону:
— Видишь, князь Петр, почему французы упорно хотят сражаться на левом берегу: лучше иметь Треббию за собой, чем перед собой. Сообщение по фронту возможно только берегом или по самой реке. Нам сегодня надлежало быть на правом берегу. День кончится опять ничем.
Живая вода
Главная тяжесть атаки снова выпала на правое крыло союзников. Французы, как и вчера, сопротивлялись отчаянно. На левом фланге Мелас атаковал французов слабо, хотя перед ним находилась всего одна бригада. Вопреки приказанию, Мелас удержал при себе резерв, когда поддержка потребовалась правому крылу. Ослушание Меласа подвергло опасности всю армию. Не поддержанный вовремя, Багратион не мог развить своего успеха на правом берегу. Суворов покинул линию огня задолго до окончания боя. Макдональд удержался на правом берегу.
Спустилась ночь. Бой затих. По обе стороны реки пылали бивачные огни. Темная река разделяла противников. Суворов ночевал на расстоянии трех километров от реки. Вечером он всех испугал своим расслабленным видом; боялись, что он занемог. Особенно удивило то, что к ослушанию Меласа Суворов отнесся, видимо, равнодушно.
На 19 июня Суворов не дал новой диспозиции. Осталось в силе прежнее расписание маршей преследования. Общее расположение сил союзников не изменилось, только Меласу было подтверждено подчеркнуто строгое приказание отправить резервную дивизию Фрелиха к средней колонне. Резерв теперь был в распоряжении генерала Ферстера.
Суворов и на Требби не изменил своему обыкновению — встав от сна, обливаться холодной водой, и накануне только сердился:
— Мертвая вода! Неужели во всей Италии нельзя достать двух ведер холодной воды?
Сын хозяина, черноглазый Джованни, с удивлением смотрел по утрам на важного русского генерала, когда Суворова на дворе солдаты в два ведра окатывали водой. Стояла знойная погода, и даже ночи не приносили прохлады. Вода в фонтанах теплей парного молока. После обливания Суворов, нагой и босиком, бегал по замощенному каменными плитами двору. Мальчишка принялся бегать с русским генералом взапуски.
— Довольно! — сказал Суворов по-итальянски. — Пойдем, Ваня, пить со мной чай!
Джованни-Ваня согласился. За чаем Суворов достал из мешка небольшую поджаренную рыбку и сказал:
— Вот мне из России прислали рыбу. Она называется «пряник». Пряники у нас водятся в самых холодных реках, таких холодных, что у вас тут и в помине нет! Попробуй и скажи: хороша ли наша рыбка…
Ваня-Джованни откусил рыбе голову и, подмигнув Суворову, спросил:
— А почему, синьор, русская рыба «пряник» отзывает медом?
— Потому, — ответил Суворов, — что в России у нас реки текут медом и молоком, а берега у них кисельные… А по берегам растут белые деревья. Стволы у них из рафинада, а листья — зеленый чистый леденец. Подует ветер — листья зазвенят серебряными колокольцами.
Джованни рассмеялся:
— Таких рек не бывает. А эта рыба просто испечена из муки с медом!
— Нет, право так, — уверял Суворов, — пряники водятся у нас в живой воде!
Вечером, когда стемнело, мальчик тайком от всех вывел из хлева осла и, захватив два кожаных ведра для воды, отправился в горы. Чуть светало, когда мальчишка вернулся домой с осликом, нагруженным водою, взятой на самой высокой горе. Вода в этом ключе так холодна, что в ней могут жить даже форели, и по берегам ручья не растет трава, — то был ключ юной родниковой воды, впервые вышедший из недр земли.
Джованни дождался, когда Суворов проснулся, и предложил ему попробовать «живую» итальянскую воду. Сам он скинул штанишки, чтобы подать синьору генералу пример.
— Не бойтесь, синьор, я тоже буду купаться!
Как ни крепился Суворов, а выскочил из-под ледяной воды, когда его окатили из ведра на дворе.
— Живая вода! Живая! — кричал он. — Довольно!
— Еще! Еще! — кричал Джованни, приплясывая и разбрызгивая воду.
Его тоже окатили.
Посинев и стуча зубами, мальчик говорил:
— Синьор, вы видите: и в Италии есть живая вода!
— Да! — согласился Суворов. — Ты убедил меня. Не знаю, чем и как отблагодарить тебя.
— Синьор, — ответил Джованни, — когда вы вернетесь домой, возьмите бочонок побольше, наполните его медом из самой холодной русской реки и напустите в него самых крупных пряников, только не жарьте их, а живыми. И пришлите мне. Я их выпущу в ручей на горе и разведу в нем русские пряники. Наверное, они у нас приживутся!
Суворов обещал исполнить желание маленького патриота.
Купание в живой воде воскресило в памяти Суворова то, что он безнадежно пытался пробудить накануне. Вольно дыша, в легком полузабытьи, он ощутил запах московского леса… Цвели липы на опушке, и пахло медом. Только что прошумел дождь. Сосны и ели сурово и торжественно кадили ладаном смолы. Тонкие веселые березки, соревнуясь с елью и сосной, вздымали над ними на десятисаженную высоту прозрачные вершины. Солнце стояло высоко, и мокрая листва берез казалась хрустальной — блистала, переливаясь и сверкая. В могучем шуме древесных вершин Суворов ясно слышал детский лепет множества серебряных колокольчиков. От вчерашнего недомогания не осталось в следа.
Вошел Багратион, тоже вставший спозаранку после бессонной ночи в накаленном за день доме виноградаря. Багратион осунулся. Глаза его ввалились, были в темных кругах.
— Нехорошо, князь Петр, — сказал Суворов, взглянув на Багратиона.
— Что делать, ваше сиятельство!
— Хорошо, генерал, теперь под Москвой… А в Грузии?!
— Ах! Я не спал всю ночь, вспоминая!
* * *
Союзные войска перед полуднем начали строиться в виду противника в боевой порядок. Французы ответили тем же. Они двинулись в атаку первыми, чтобы иметь реку позади себя. Хотя из-за подъема воды от выпавших в верховьях дождей течение Треббии сделалось тише, зато там, где вчера воды было по колено, она стояла сегодня почти по пояс. Переправа давалась французам труднее, чем в первые два дня битвы. Они уже четыре раза переходили Треббию.
В этот день им пришлось, ретируясь, перейти реку в пятый раз.
Разгром
Багратион получил приказание идти со своим корпусом против Домбровского, который шел высотами, чтобы охватить правый фланг русских. Розенберг получил приказание Суворова «смотреть вправо», не теряя связи с авангардом Багратиона.
С кавалерией на флангах Багратион отважно кинулся в штыки.
Напрасно Багратион вырывался на коне вперед, чтобы показаться Домбровскому, — командир польской дивизии берег себя.
Поляки бились с мужеством отчаяния. Но их порыв вскоре погас. Они не выдержали штыковой атаки, побежали и едва успели спастись за Треббию.
Увлеченный атакой, Багратион зашел вправо так далеко, что между его корпусом и войсками Розенберга образовался пустой промежуток около версты. Недаром Суворов приказал Розенбергу «смотреть вправо»: пятнадцать батальонов французов ринулись в пустое пространство. Розенберг против них мог послать только пять батальонов.
Закипел неравный бой. Подавленные тройными силами, русские начали отступать, отдавая каждый шаг с бою. Багратиону грозило быть отрезанным. Розенберг поскакал к Суворову.
Изнемогая от зноя, Суворов лежал в тени огромного камня в одной рубашке, заправленной в шаровары. Розенберг сказал ему, что солдаты не в силах больше держаться и следует отдать приказ об отступлении. Суворов ответил:
— Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так же невозможно и отступление. Извольте держаться крепко. Ни шагу назад!
Вслед за Розенбергом приехал Багратион.
— Что, князь?
— Нехорошо, ваше сиятельство! Поляков мы прогнали за реку, но у нас убыль больше половины. Ружья от нагара перестали стрелять.
— Да, князь Петр, нехорошо! — согласился Суворов.
Он потребовал коня и поскакал на правый фланг, послав перед этим ординарца к Меласу, чтобы тот усилил натиск на противника. Суворов надеялся, что Мелас оттянет на себя силы французов с их левого фланга.
У Меласа дело обстояло плохо. Не понимая того, что судьба боя находится на правом фланге, Мелас трусил и, вопреки повторному приказу Суворова, удержал при себе пехоту из резерва Фрелиха, отослав вправо только кавалерию.
Когда к Меласу прискакал ординарец Суворова с приказом перейти в атаку, Мелас, чтобы снять с себя ответственность, собрал полевой военный совет. Зная, что нужно Меласу, военный совет решил: левая колонна союзников не в состоянии наступать и останется на левом берегу Треббии, ограничиваясь обороной, пока Багратион не закрепится на правом берегу.
Это постановление выводило из боя почти треть сил Суворова. Решение военного совета, в сущности, было изменой. Французы наступали по всей линии, угрожая прорывом в середине, и поставили в тяжелое положение правое крыло союзников.
Суворов прискакал с Багратионом к войскам в то мгновение, когда солдаты дрогнули и некоторые батальоны начали беспорядочно отступать. Появление Суворова ободрило солдат. Он, как был, в одной рубашке, безоружный, призвал солдат на помощь товарищам и сам повел их в атаку. Под барабанный бой пехота ударила еще раз на левый фланг французов. По отчаянной энергии атаки французы догадались, что с войсками идет сам Суворов. Его имя было уже для французов страшно. Они побежали. Домбровский, обескураженный трехдневными поражениями, видел это, но ничего не предпринял, оставаясь в бездействии на правом берегу Треббии.
Суворов поскакал к средней колонне. Здесь его появление на передовой линии боя оказало действие почти чудесное. Атакованные пехотой, драгунами и казаками, французы обратились в бегство и укрылись за реку.
На левом фланге у Меласа войска обоих противников оставались на своих берегах. День кончился. Войска расположились на ночлег.
В ставку Суворова собрались все генералы, русские и австрийские. Мелас отсутствовал. Суворов поздравил собравшихся с третьей победой и отдал приказ с раннего утра начать преследование неприятеля.
Всю ночь по обоим берегам Треббии на протяжении длинного фронта пылали яркие костры и у французов и у союзников.
В четыре часа утра Суворов лично повел наступление в порядке, которого неизменно держался три дня.
Казаки, переправясь первыми через Треббию, донесли, что неприятеля нет.
Выяснилось, что Макдональд оставил на берегу часть кавалерии лишь затем, чтобы поддерживать огни, а его войсковые части ночью ушли по трем дорогам. На правом берегу остались лишь пепел и головни костров. Кавалерия французов, выполнив свое задание, отошла, не принимая боя.
Союзная армия перешла Треббию. Казаки схватили шпиона. При нем нашли письмо Макдональда к Моро. Макдональд писал об огромных потерях и об отступлении, вызванном расстройством армии. Суворов приказал ускорить преследование, надеясь принудить Макдональда к сражению. Правая колонна союзников под командой Суворова настигла арьергард французов на реке Нуре, стремительно напала на них и пленила тысячу человек. Макдональд не мог ввести в бой главные силы. Отступление французов превратилось в беспорядочное бегство. Суворов послал трубачей в окрестные селения возвестить о своей победе, а коннице приказал «сильно бить, гнать и истреблять неприятеля холодным оружием, но покоряющимся давать пардон».
Остатки армии Макдональда укрылись в горах. Из тридцати пяти тысяч человек у Макдональда осталось не более четырнадцати тысяч. Собрав их, он направился берегом моря в Геную, погрузив обозы и артиллерию на корабли. Общее число пленных французов на Треббии превышало тринадцать тысяч человек.
22 июня Суворов дал отдых войскам, чтобы затем двинуться против Моро. Сражение при Треббии закончилось. Суворов ликовал.
Он предпринял движение на крепость Алессандрию, уже осажденную союзниками. Цитадель Алессандрии еще держалась. Гарнизон производил частые вылазки. Моро, получив извещение о разгроме армии Макдональда, не решился принять бой и ушел в горы. В Алессандрии Суворов узнал, что пала Туринская цитадель. Заносчивый Фиорелла сдался с тремя тысячами человек гарнизона. Всех их отпустили на честное слово не служить против союзников до окончания войны. В Турине союзникам досталось 562 орудия, 40 тысяч ружей и около 700 тонн пороху: снаряжение целой армии.
Возвратясь в Алессандрию, Суворов послал коменданту Алессандрийской цитадели предложение прекратить вылазки и «терпеливо ждать своей участи». Подвезли тяжелую артиллерию, началась деятельная осада, во время которой в траншее ранило маркиза Шателера. Под угрозой штурма Алессандрийская цитадель сдалась. В цитадели взято было 105 орудий, 7 тысяч ружей и много военных запасов.
Вслед за тем сдалась Мантуя, чего очень желали австрийцы. Солдат гарнизона, в числе до девяти тысяч человек, Суворов отпустил на честное слово не воевать, а около тысячи офицеров оставил военнопленными.
И в Вене, и в Петербурге, и в Лондоне ряд последних блестящих успехов Суворова произвел отличное впечатление. Павел Петрович возвел Суворова в князья с титулом Италийского.
Взятие Мантуи развязало Суворову руки и освободило значительные силы осадного корпуса для дальнейших действий: Суворов не мог считать кампанию законченной, пока существовала армия Моро.
Бонапарт, узнав о неудачах французских войск, воскликнул: «Безумцы! Они погубили все мои победы!» Он решился покинуть свою армию, находившуюся в Сирии, и плыть во Францию, надеясь, что его корабль проскользнет мимо стороживших море англичан.
В Южной Италии, за Апеннинами, произошел ряд восстаний, а к августу вся Италия освободилась от французов. Один Моро еще удерживался в Генуе. В Швейцарии война шла вяло. Австрийцы бездействовали, а русский корпус под командой Римского-Корсакова, посланный Павлом, еще не прибыл туда.
Происки венского гофкригсрата против Суворова продолжались. Австрийские генералы все чаще отказывали главнокомандующему в повиновении. Шателер, который был ранен, оправился от раны, но не вернулся в штаб Суворова: маркиза обвиняли чуть ли не в измене, перехватив его письма, в которых он критиковал распоряжения Тугута. Суворов очень тужил, что потерял Шателера. Утомленный непрерывными трудами, страдая от козней клеветников и недоброжелателей, Суворов решился просить Павла Петровича об увольнении от должности главнокомандующего. Между Веной и Петербургом завязалась переписка, неприятная для обеих сторон.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Нови
Военные действия остановились, но нельзя сказать, что время проходило в бездействии. Суворов непрерывно занимался обучением войск. Французы готовились к наступлению.
На место Моро назначили нового главнокомандующего, молодого генерала Жубера. Бонапарт называл его «наследником своей славы». Двадцати лет от роду, в первых войнах республики Жубер, по отзыву Бонапарта, показал себя «гренадером по храбрости и великим генералом по своим военным познаниям».
— Молодой человек приехал учиться, — сказал Суворов. — Дадим ему урок.
Человек пылкий и решительный, Жубер хотел начать наступление немедленно. Для этого имелись основания. Армия Моро усилилась пополнениями из Франции, солдатами Макдональда, избежавшими плена. Память о разгроме на Треббии тускнела. Разлад между союзниками и между Суворовым и Меласом был хорошо известен французам и усиливался стараниями агентов Франции при петербургском и венском дворах.
Французы не знали точно сил и расположения войск Суворова, хотя он стоял по долинам. Тем менее мог знать Суворов распределение сил французов, ибо они находились в горах. Он мог ждать, что Жубер задумает освободить осажденную союзниками Тортону, последнюю значительную крепость, где еще держались французы. Целью Суворова являлось выманить Жубера из гор на равнину, где Суворов мог применить свою конницу с большим успехом, чем в горах.
К 1 августа (по старому стилю) выяснилось, что Жубер идет из Генуи с главными силами по большой дороге на крепость Гави, а одна его дивизия направляется от Акви на Нови. Предположение Суворова оправдывалось: целью французов явилась Тортона. Сообразно с этим Суворов, предполагая, что пылкий Жубер не задумается напасть первым, расположил свои войска уступами на равнине между реками Скривией и Орбой так, что их можно было вводить в бой частями, передвигая согласно с направлением удара противника. По диспозиции, объявленной Суворовым 1 (12) августа, своей главной квартирой Суворов назначил селение Поццоло-Формиджаро на дороге, ведущей прямо на север от горного городка Нови. Расстояние между Поццоло и Нови меньше десяти верст. Городок Нови расположен на крутом скате, почти на обрыве довольно высокого горного хребта. Хребет тянется прямо с востока на запад, слегка уклоняясь к северу от крепостцы Серравале, в верховьях Скривии, до деревни Пастурана, при впадении речки Леммы в Орбу. Долина Леммы тянется с юга от хребта, следуя его общему направлению. Серравале занимал один батальон суворовских войск. Суворов приказал Багратиону занять Нови, что тот и исполнил.
Итак, Жуберу, чтобы напасть на Суворова, предстояло, пройдя по дорогам между Гави и Серравале, следовать дальше тремя путями: средняя дорога шла прямо на Нови с юга на север. Правая, восточная, спускалась на равнину левым берегом Скривии и дальше — от Нови к Тортоне, осажденной союзными войсками под командой генерала Розенберга. Западная дорога вела левее Нови, к Алессандрии, блокированной австрийскими войсками генерала Края.
Диспозиция неизбежно предстоявшего сражения, объявленная Суворовым 1 (12) августа, верно предугадывала движение главных масс противника. Весь тяжелый обоз свой Суворов отправил за Алессандрию. Главная квартира его в тот же день перешла в Поццоло-Формиджаро. Цель своих передвижений и расстановки сил Суворов определил в диспозиции словами: «Мы желаем вызвать неприятеля в открытое поле».
2 (13) августа Жубер занимал своими главными силами фронт протяжением до десяти верст в направлении от Гави к Серравале. Французский главнокомандующий созвал военный совет. Большинство его генералов высказались, что нужно подождать, пока альпийская армия маршала Массена начнет в Швейцарии действия, согласные с действиями французской армии в Италии. Жубер считал, что он не может откладывать свои операции. Директория приказала ему наступать безотлагательно. Сам Жубер, покидая Париж на второй день после своей свадьбы, заявил жене, что он возвратится или победителем, или мертвым. Слухам о падении Мантуи Жубер не придавал значения, считая, что эти слухи распространяет противник. А между тем капитуляция Мантуи освободила значительный корпус суворовских войск. Предшественник Жубера в Италии, генерал Моро, с ним соглашался. Они знали друг друга с кампании 1797 года, когда Жубер после отъезда Бонапарта временно командовал итальянской армией, а Моро занимал должность инспектора кавалерии. Тогда они подружились. Теперь Жубер пожелал, чтобы Моро не покидал армию до решительного сражения и помогал ему своими советами. Моро согласился, не помня обиды.
Французская армия двинулась на север и к 3 (14) августа заняла очень сильную, почти неприступную позицию на горном хребте. Суворов приказал Багратиону покинуть Нови. Багратион отошел с боем. Жубер отважился выйти для сражения на равнину. Моро не решился оспаривать решение юного главнокомандующего.
С высот своей позиции Жубер увидел плотные массы войск союзников — они стояли готовые к бою.
Здесь решимость покинула Жубера. Занимая на редкость сильную позицию, зная, что на равнине противник благодаря своей коннице получит решающий перевес, Жубер не решился наступать сверху вниз, предоставляя Суворову атаку снизу вверх.
Окрестности городка Нови представляли собой множество мелких возделанных участков — виноградников и садов, окруженных каменными оградами. Узкие дороги петляли по холмам меж каменных стен. Крутые бока оврагов и рытвин поросли чапыжником и колючими кустами, что сводили почти к нулю силы кавалерии, если б Суворов захотел пустить ее в дело на высотах, занятых Жубером.
Убедясь, что французы не решаются покинуть свои позиции, Суворов отдал общее приказание атаковать французов по всему фронту утром 4 (15) августа.
Перед сражением у Нови начальником штаба Суворова (вместо Шателера) был назначен бездарный австрийский генерал Цах.
По определению Суворова, он был «академиком», то есть кабинетным ученым, с ничтожным военным опытом. Поэтому Суворов перед сражением не дал подробностей в диспозиции, ограничившись в ней общим распорядком и распределением сил.
Распоряжения Суворова накануне великой битвы и расположение союзных войск перед битвой дают прекрасный образец суворовского мастерства — суворовского «глазомера», то есть быстрой и верной оценки пространства, времени и соотношения боевых масс.
Генерал Край привел свои войска с северо-запада, от Алессандрии. В центре своей позиции Суворов поставил войска Дерфельдена, а на скате от Нови к центру позиции уже находились войска Багратиона и Милорадовича. Они в предыдущие дни занимали Нови, были между Гави и Серравале и успели хорошо ознакомиться с горной местностью. Багратион и Милорадович образовали авангард. К генералу Краю примкнули Бельгард, пришедший из-за Орбы, и генерал Отто. У Суворова образовался очень сильный правый (западный) фланг. В мужестве и даровании генерала-фельдцейхмейстера Края Суворов не сомневался. Край, как старший в чине, принял командование над войсками правого фланга. Центр расположения был силен уже тем, что там находился Суворов, а впереди стояли отважные и опытные русские генералы. Левый фланг Суворова образовали, опираясь на реку Скривию, численно значительные войска Меласа. Но австрийскому фельдмаршалу Суворов давно не доверял и оставил его в резерве. Наконец, за Скривией, правым берегом ее, шел из-под Тортоны Розенберг.
Можно сколько угодно гадать о том, как развернулись бы события у Нови, если бы французы решились выйти на равнину. План Жубера и Моро в точности неизвестен. Ясно одно: Суворов верно угадывал, что цель удара французов — Тортона. И если бы Жубер отважился предпринять движение на Тортону левым берегом Скривии, то, потеснив слабый левый фланг Суворова (Меласа), французы попали бы между двух огней, в мышеловку. Отсюда видно, что позиции, занятые Суворовым, обладали гибкостью: они одинаково годились и для боя на равнине и для атаки горных позиций.
Моро и Жубер верно оценили обстановку. Их решение остаться на своей почти неприступной позиции тоже можно считать «натуральным», или, вернее, обусловленным жестокой необходимостью.
У Суворова остался выбор: или предпринять атаку всем фронтом, или, как при Треббии, нанести первый удар левому флангу французов. Суворов естественно избрал второе решение: Край со своими войсками должен был первым на рассвете 4 (15) августа атаковать левый фланг французов.
Силы противника в предстоящей битве можно оценивать как равные. Суворов мог из своих шестидесяти тысяч по условиям места и времени ввести в бой около сорока тысяч. Также и Жубер: ему, обороняясь, приходилось ввести в дело всю свою наличность — тоже около сорока тысяч человек.
Когда-то Суворов говорил, что на такой штурм, как штурм Измаила, можно решиться только раз в жизни. 4 (15) августа 1799 года он штурмовал естественную крепость, более сильную, чем Измаил, защищаемую армией, более сплоченной, храброй, одушевленной и лучше устроенной, чем гарнизон Измаила, с главнокомандующим — молодым, пылким, решительным учеником Бонапарта. Городок Нови, окруженный средневековой прочной каменной стеной в центре позиции Жубера, сам по себе представлял крепость, центральную цитадель.
Суворов не мог и не хотел уклониться от боя: победа над последними силами французов в Италии была необходима, она открывала дорогу русским войскам на Ривьеру и оттуда во Францию.
В распоряжении Суворова времени было в обрез: примерно пятнадцать-шестнадцать часов, так как на широте Нови в начале августа солнце встает около пяти часов утра и закатывается в семь часов вечера, а сумерки на юге и в горах коротки. Одинаково невозможно атаковать противника в горах ночью, до рассвета, и преследовать разбитого неприятеля в темноте, после заката солнца. Край получил приказание поднять войска, чуть забрезжит рассвет.
В разгаре боя
Все распоряжения Суворов сделал накануне и, как всегда, лег в постель, лишь только смерклось. Он быстро погрузился в сон. «Хорошо!» — успел промолвить он и забылся. Около полуночи Суворов проснулся и предался размышлениям. Взвешивая свои силы и силы Жубера, воображая и прикидывая расстановку его и своих войск, Суворов рассчитывал марши, соображая расстояния, и пришел к заключению, что шестнадцати светлых часов ему хватит для боя. Решив так, он снова погрузился в сон. Еще задолго до восхода солнца на левом фланге французов бухнула пушка. Это означало, что Край пошел в атаку.
Никогда в жизни Суворов не спал так спокойно. И все же при первом пушечном ударе он вскочил и выбежал на двор, где его денщики приготовились к утреннему обливанию. В окрестностях Нови очень много ключей, «живая» вода в изобилии. Когда Суворова окатили из двух ведер разом, он болезненно закряхтел. Едва ли не в первый раз в жизни он не испытывал наслаждения от непременного утреннего купания — наоборот, оно было ему противно. Суворов вдруг почувствовал непобедимое отвращение к холодной воде. Он выскочил из-под ледяных каскадов с криком: «Будет! Будет!» Солдаты, зная, что иногда приказания Суворова надо понимать превратно, окатили его водой из обоих ведер еще раз. Суворов побежал. Солдаты со смехом гнались за ним, плеща ему в спину из ведер.
— Проклятые, отстаньте! — прокричал Суворов.
Он побежал в дом, в дверях ухватился за косяки, не в силах перешагнуть через порог, и вдруг громко заплакал, словно обиженный ребенок. Солдаты в испуге бросили ведра, подхватили старика под руки и бережно посадили на каменную скамью, еще теплую от вчерашнего солнца. У Суворова потемнело в глазах, он чувствовал, что нестерпимый холод разливается по телу от кончиков пальцев к локтям и плечам и от ступней к коленям и бедрам. Тяжело, с хрипом вздыхая, он медленно произнес:
— Вот они, хладные воды Стикса!..[91]
Крепкий и очень сладкий чай взбодрил его. Он оделся и вышел во двор, где казак верхом на коне держал оседланную для полководца лошадь. Суворов, не дожидаясь генерала Цаха с его ординарцами, вышел на дорогу, идущую на изволок в горы чуть левей Нови. Казак ехал за ним, держа за повод коня. Суворов взял с собой старого солдата Никифора, своего соратника и оруженосца. Никифор, с французским ружьем на плече, нес под мышкой палаш Суворова, завернутый в легкий старенький суконный плащ, когда-то синий, а теперь выгоревший на солнце. Солдаты прозвали этот давно им знакомый плащ «родительским»: по преданию, его подарил сыну Василий Иванович со своего плеча, когда Александра Васильевича произвели в первый офицерский чин.
Дорога вывела по сенокосу на гребень увала к маленькой часовенке с мраморным изваянием в нише. Несколько потрепанных горным ветром деревьев осеняли часовню; в полдень здесь было тенисто. Стояли прислоненные к часовне два заступа, оставленных виноградарями. Где-то вблизи урлюкал, выбегая из земли, ручеек. Суворов здесь остановился. Румяное солнце вышло слева из-за гор. Дорога дальше шла по косогору на высоты перед Нови. На пламенно-желтых под утренним солнцем откосах и над обрывами гор зелень казалась черной. Среди пятен зелени в горах глаз едва различал другие подвижные пятна. Это перемещались отряды французов. Зато справа, на плато предгорья, черные массы союзных войск выступали вполне четко. Порой оттуда остро поблескивала медь орудий.
Войска Края, двигаясь к высотам, шли сначала густыми колоннами, потом растекались в стороны, оставляя за собой багровое облако пыли.
Суворов сел за часовенкой на камень. Никифор стал рядом с ним, опираясь на ружье. Казак стреножил коней и пустил их на траву, а сам лег на землю, закинув под голову руки, и сразу захрапел.
Суворов смотрел вдаль. На правом русском фланге сражение было уже в разгаре: шла непрерывная трескотня ружейной перестрелки, изредка бухали пушки. Скоро там все заволокло пылью и дымом.
Суворов, сидя на камне, задремал. Никифор потревожил его; глядя из-под руки на дорогу против солнца, он доложил:
— Едет его превосходительство генерал Цах с ординарцами.
Суворов посмотрел туда и усмехнулся. Целая кавалькада ординарцев. Грузный Цах скакал впереди, плюхая в седле, — он был плохой наездник.
Подъехав, Цах спешился и подошел к Суворову, сияя взглядом и только что выбритыми свежими пухлыми щеками.
— Я очень рад. Наконец я отыскал вас, господин фельдмаршал! — сказал Цах, приветствуя Суворова.
— А зачем я вам нужен, мой милый Цах?
Генерал-квартирмейстер не удивился этому странному в начале серьезного сражения вопросу. Цаху приходилось привыкать к странностям своего нового начальника. Перебирая листки полевой книжки, генерал-квартирмейстер начал говорить, что, в сущности, нет диспозиции и потому необходимо сделать такие-то и такие-то распоряжения. Суворов ничего не возражал, только слегка кивал головой, когда генерал делал паузу. Главнокомандующий как будто согласился со всем, что предлагал начальник штаба, и предложил ему разослать листки приказания генералам за его собственной подписью. Предложения Цаха были все пустые, исполнение их было или невозможно потому, что Цах не знал изменчивого хода сражения, или по ничтожности своей не могли повлиять на ход грозных событий. Генералы, к которым Цах обращался, помнили суворовское приказание, что Цаха надо «слушать, но не слушаться». Цах разослал вестовых и ординарцев со своими записками: польза их была та, что командиры узнают от ординарцев, где находится Суворов. Он больше ни о чем не спрашивал Цаха и задремал. Генерал-квартирмейстер не знал, что ему делать.
— Не прикажете ли, господин фельдмаршал, узнать, почему не выступает Багратион? — спросил Цах по-немецки.
— Съезди, голубчик, посмотри, — ответил Суворов по-русски, не открывая глаз.
Цах поскакал к войскам Багратиона. Никифор принес охапку пахучего сена и предложил Суворову прилечь. Тот согласился. Никифор накрыл фельдмаршала «родительским» плащом, а сам сел на камень и тоже задремал, с ружьем, поставленным между колен…
Генерал Край на правом фланге союзников вел энергичное наступление на высоты. Из войск левого фланга Жубера позиции занимала только одна дивизия, прочие левофланговые колонны только что подходили. Под натиском кавалерии Края выдвинутые далеко вперед стрелковые цепи французов отступали. Жубер вздумал их воодушевить личным примером, прискакал к цепи застрельщиков и тут был смертельно ранен шальной пулей из набегавшей цепи австрийцев. Начальство над французской армией снова принял Моро. Смерть Жубера скрыли от солдат, а союзники узнали о ней только на следующий день.
Видя, что главная атака союзников направлена против его левого фланга, Моро ввел в бой все резервы, какими мог располагать. Войска Края уже начали свертываться в колонны, чтобы восходить на высоты. Французы их встретили так жарко, что солдаты Края с трудом удерживали за собой завоеванное пространство. Край убедился, что не может наступать. Моро, заметив, что центр и левый фланг противника бездействуют, перебросил на свой левый фланг часть сил из Нови, надеясь опрокинуть Края и зайти армии Суворова в тыл. Положение для правого фланга союзников создавалось опасное. Край послал к Багратиону спросить, почему он не выступает, и требовал поддержки. Багратион ответил, что не настало еще время. Когда ординарец ускакал с этим ответом, к Багратиону подъехал генерал-квартирмейстер Цах.
— Wie geht's? — спросил он по-немецки и для понятности прибавил по-французски: — Comment ca va?[92]
— Ca va mal!..[93] Вы привезли мне приказ о наступлении? Край просит о помощи. Где светлейший?
— Он там, — неопределенно махнув рукой, сказал Цах.
Подъехал новый гонец с запиской Края. Край писал, что он отступит, если Багратион не двинется вперед.
— Положение чрезвычайно опасное, — заметил Цах.
— Что там делает Суворов? — ответил вопросом Багратион.
— Я полагаю, что в настоящее время спит.
— Спит?! — изумился Багратион, хлестнул коня и опрометью поскакал туда, где был Суворов.
С криком: «Не будите! Не будите его!» — Цах пустился вслед за Багратионом.
Прискакав к часовенке, Багратион, не сходя с коня, закричал:
— Ваша светлость! Князь Александр Васильевич, пробудитесь!
Суворов не шевельнулся: он спал или притворялся спящим. Багратион спешился и принялся трясти Суворова за плечо. От толчков Суворов проснулся, открыл глаза и улыбнулся:
— А! Князь Петр? Что нового?
Багратион в нескольких словах объяснил положение и умолк, ожидая приказа: наступать.
Суворов полулежал, опираясь на локоть, и, молча улыбаясь, смотрел на Багратиона снизу вверх мерцающими глазами.
Багратион вспыхнул.
Суворов юркнул под плащ и съежился на сене, как бы пытаясь укрыться от князя Петра.
Багратион пожал плечами, кинулся к своему коню, огрел его нагайкой и вскочил в седло. Конь заплясал на месте.
Суворов высунул голову из-под плаща, но, увидев, что Багратион оглянулся, опять юркнул под плащ.
Багратион покрутил над головой нагайкой и ускакал.
Цах то краснел, то бледнел, наблюдая за этой сценой. Генерал-квартирмейстер ничего не понимал.
— Сколько времени, генерал? — откинув плащ, спросил Суворов.
Цах вынул часы и ответил:
— Точно девять часов утра, ваша светлость.
Суворов взглянул на солнце, изумленно подняв брови.
— Вы уверены, милый Цах, что «утра», а не «вечера»? — лукаво улыбаясь, спросил Суворов.
— Совершенно уверен, ваша светлость.
— Значит, я спал не так уж долго. Почему так тихо? Французы уже разбиты? Их преследуют?
Цах не знал, что ответить, и смущенно спросил:
— Генерал Багратион начнет наступление? Он понял вас, князь?
— Не беспокойтесь, генерал: это способный молодой человек.
— Он будет наступать или нет? — настойчиво и строго переспросил Цах.
— Да. И он и генерал Милорадович также. Вы это сейчас увидите своими глазами. Пошлите Дерфельдену сказать, чтобы он шел ко мне со всяческим поспешением.
Цах послал к Дерфельдену ординарца.
Из чашеобразной, поросшей кустарником долины, на запад от часовенки, появились вдали сначала черные рассыпанные точки; они множились, сгущались, двигаясь и вправо и влево, и складывались в плотные черные квадратики. Квадратики поползли вверх по скату прямо к Нови, расстилая за собой облака пыли. По числу и по величине Суворов определил, что в наступление двинулось не менее десяти батальонов; значит, это были силы Багратиона, подкрепленные войсками Милорадовича. Суворов стоял на гребне увала и неотрывно следил за движением войск. Ординарец подал Цаху зрительную трубу и поставил за кустом раздвижной стул. Генерал уселся на него и, утвердив трубу в развилине сучка, нацелил ее на городок.
— Что вы там видите, любезный друг? — спросил Суворов.
— Французы имели время подготовиться, ваша светлость! — с упреком ответил, отрываясь от трубы, Цах. — Я вижу — Жубер понял наши намерения: он стянул к Нови большие силы.
— Тем лучше, — ответил Суворов, — мы их прихлопнем разом.
Батальоны Багратиона и Милорадовича рассыпались в стрелковые цепи. По более быстрому движению левого фланга Суворов заключил, что Багратион предпринял примерно четырьмя батальонами атаку высот в обход Нови. Дальше за облаками пыли ничего не было видно. Там, где предполагался Край, снова затрещали ружья, и с французской стороны загрохотали пушки.
Французы первые открыли огонь по атакующим Нови колоннам. Войска Багратиона и Милорадовича шли на приступ без выстрела. И Суворов невооруженным глазом и Цах в свою трубу видели, что русские войска втягиваются в сады предместья. Перестрелка усилилась, затем разом оборвалась. Колонна Милорадовича пропала за пылью.
— Багратион подошел к самой стене города, — сказал Суворов. — Они вынудят его отойти.
— Почему вы так полагаете? — недоверчиво спросил Цах.
— Взгляните: вон сверкают медью пушки. Полковая артиллерия Багратиона на рысях идет в гору. Он хочет попробовать пробить стены ядрами. Пустая затея! Напрасно он горячится. Тут нужны осадные пушки. А левей, смотрите, идут в атаку драгуны и казаки. Видите, генерал, как замедлился «марш-марш» на крутизне? Вперед! Вперед! Шибче! — крикнул Суворов, пробежав несколько шагов в гору, как будто казаки и драгуны Багратиона могли его услышать на расстоянии версты.
Пушечные выстрелы со стороны Нови участились, усилилась и ружейная перестрелка. Город заволокло дымом и пылью. Что там происходило, за этой непроницаемой завесой? Цах в свою трубу видел только серое, без проблесков пятно.
Канонада у Нови резко оборвалась.
— Багратион отходит, — спокойно сказал Суворов. — Он вызвал конницу, чтобы прикрыть отход. Противник осмелился на вылазку из города.
Цах недоверчиво улыбнулся. Долгое время спустя, при чтении описания боя под Нови, Цах убедился, что Суворов утром в день боя довольно точно передавал ему то, что происходило на самом деле. Полевые орудия Багратиона оказались бессильны против толстых средневековых стен городка. Французы вышли из Нови и ударили в левый фланг Багратиона. Он приказал отходить, прикрываясь казаками и австрийскими драгунами. Продолжение атаки четырьмя батальонами против превосходящих сил противника было бы безумием. На левом фланге Багратиона, угрожая ему обходом, появилась большая колонна французов.
Все это узналось потом, а теперь Цах, в уверенности, что атака Багратиона успешна — ему атаки удавались всегда! — начал, хотя и учтиво, спорить с главнокомандующим. Суворов не стал с ним препираться и приказал:
— Пошлите Милорадовичу приказание взять левей Нови, сомкнуться с Багратионом и всемерно его поддерживать. Сами извольте скакать навстречу Дерфельдену. Он будет теперь кстати. Скажите ему моим именем: идти сюда бегом!
Цах полагал, что его советы в данную минуту безусловно необходимы Суворову. Генерал-квартирмейстер в смущении протер стекла своей трубы фуляровым платком и протянул ее Суворову, желая хотя бы ее оставить вместо себя, как некий талисман. Суворов не принял трубы:
— Благодарю, генерал. Этот снаряд вам нужнее. Скачите!
Ординарец уехал с приказанием к Милорадовичу. Цах взгромоздился на лошадь, потыкал ее шпорами и поднял в карьер: Суворов приказал ему скакать!
Чудо-богатыри
Суворов остался один. Казак богатырски храпел, лежа ничком на самом солнцепеке. Старый Никифор во сне свалился с камня и тоже спал в тени часовенки, крепко обнявшись с своим мушкетом. Кони изнемогали от жары, стояли понурясь, отмахиваясь хвостами от слепней.
Суворов повернулся лицом в долину, откашлялся. Ударил двумя пальцами правой руки по ребру левой, имитируя камертон, поднес пальцы к уху, промурлыкал тон и, воздев обе руки, словно регент хора, попробовал голос, пропев одну строку из «Te deum» Сарти: «Тебе, непобедимое мученическое воинство!»
С севера, приближаясь, катилось огромное облако пыли.
Суворов растолкал казака и разбудил Никифора. Казаку велел распутать коней и напоить их у ручейка. За казаком пошел Никифор; он вернулся с полной манеркой холодной воды. Капрал предложил Суворову умыться и напиться — вода больно хороша! Умыв лицо и руки, Суворов прополоскал рот, но пить не стал.
Из-под горы показалось несколько всадников. Суворов вскочил в седло, приняв из руки Никифора обнаженный палаш.
Всадники приблизились на рысях. Это были генерал Дерфельден со своим штабом и генерал-квартирмейстер Цах. За ним клубилась, подымаясь к небу, пыль: приближалась конница.
Дерфельден остановил коня. Опустив палаш, Суворов приветствовал Дерфельдена первый:
— Ступайте, генерал! Атакуйте правый фланг французов.
Дерфельден дал коню шпоры и помчался дальше.
Вслед ему пустились штаб-офицеры и ординарцы. Суворов стал перед часовней на коне, лицом навстречу прибывающим войскам. Впереди шли тяжелой рысью поэскадронно австрийские драгуны. Командир полка издали увидел Суворова и приказал первому эскадрону принять вправо. Второй эскадрон принял влево. Мимо Суворова прокатилась справа и слева волна разгоряченных всадников, окатив его пылью и запахом конского пота.
У Суворова раздувались ноздри, он жадно вдыхал знойный воздух. Вслед драгунам приблизилась пехота. Впереди бежали, нестерпимо сверкая на солнце передками медных павловских гренадерок, русские солдаты. Они неслись в горы, задыхаясь от зноя, с раскрытыми ртами, в мундирах, серых от пыли. На черных от пота и грязи лицах сверкали белки глаз.
— Здорово, чудо-богатыри! — крикнул Суворов. — Французы бегут. Догоняйте их! Шибче! Шибче! Шибче!
Солдаты ответили нестройным криком и пронеслись мимо.
Рота за ротой, батальон за батальоном, катилась, омывая Суворова, людская река. Ему казалось, что не люди бегут мимо него, а он несется им навстречу. Привычный ко всяким переделкам, донской жеребец стоял как вкопанный.
Ряды солдат редели. Массы взводов делались менее плотными, колонна растягивалась. Суворов тронул коня навстречу отставшим.
Утром дорога, когда ею проходил Суворов, вилась среди полей и лугов в одну колею; теперь она расширилась, словно улица большого города. Пыль слеглась и запорошила следы людей. По всей ширине дороги лишь кое-где торчали тычинки выбитой дотла отавы. Дальше вниз, к месту ночного бивака войск Дерфельдена, сидело и лежало много обессиленных солдат. Один австриец лежал посреди дороги в пыли навзничь, раскинув руки. Около солдата валялось запорошенное пылью ружье. Суворов остановил коня. Солдат, открыв с усилием глаза, прохрипел:
— Um Gottes willen, Wasser! Ich sterbe![94]
Суворов завернул коня и поскакал назад, к часовне. Около нее стояла большая группа конных офицеров и ординарцев. В середине группы ораторствовал, размахивая руками, Цах.
Суворов на скаку крикнул:
— Никифор, манерку!
Подскакав к ручью, Суворов увидел, что земля около него истоптана, превратилась в грязь, родник иссякал среди лужицы грязной воды.
К Суворову подъехал Цах и, достав из заднего кармана седла плоскую флягу солидных размеров, протянул ее главнокомандующему:
— Вы хотите пить, ваша светлость? Вино лучше воды утоляет жажду.
Суворов ответил:
— Там посреди дороги упал ваш солдат. Отправляйтесь, генерал, подкрепите его, если он еще жив.
Цах отправился исполнить приказание. Выслушав штабных офицеров, прочитав записки, привезенные ординарцами, Суворов написал и отправил Меласу приказ немедленно начать наступление, не оставляя в резерве ни одного солдата.
Вернулся Цах и, встреченный безмолвным вопросом Суворова, ответил, возводя глаза к небу:
— Он умер, благословляя ваше имя.
У Суворова исказилось лицо:
— Сколько времени, генерал?
— Ровно двенадцать часов дня, ваша светлость, — ответил Цах, взглянув на часы.
— Именно так: дня, а не ночи. Прошу вас, генерал, если вы не очень устали, съездить к фельдмаршалу Меласу…
Цах покосился на стоявших поодаль ординарцев.
— Да, — продолжал Суворов, — я уже послал фельдмаршалу с ординарцем приказ. Но вы — его друг. Он вас любит. Скажите ему: я не приказываю, я прошу.
Цах отсалютовал и поехал трусцой вниз по дороге: его тучная лошадь уже устала не меньше, чем ездок.
Бой гремел по всему фронту. Грохотала канонада. Пушечный гром выманил из-за гор высокое облако со снежно-белой верхушкой. Под облаком реяли орлы. Загремел гром с неба, и туча вся пролилась, без остатка, над полем битвы. Пыль пропала. Дали прояснились.
Войска Дерфельдена первым натиском отбросили французов к высотам, но встретили там сильный отпор. Прячась за гребнями обрывов в густых зарослях, за каменными оградами, французы били атакующих на выбор. Войска Дерфельдена отхлынули, собрались с силами и повторили атаку с тем же результатом. Склоны гор устлались телами павших. Огромные потери русских войск уничтожали их численный перевес над противником.
С каждой неудачной атакой отраженная волна бегущих все дальше простиралась в долину. После второй атаки она докатилась до часовенки, где оставался Суворов. Завидев его, бегущие останавливались, не доходя до часовенки. Бежать дальше мимо Суворова солдаты не решались.
С другой стороны к часовенке по дороге потянулись отставшие на марше; их тоже было много. Около Суворова скопились две нестройные толпы солдат. Одни, выйдя из боя, стояли выше часовни, другие толпились ниже, не зная, что им делать.
Суворов молча ходил между этими группами солдат. Дикифор бессменным часовым стоял поодаль. От Дерфельдена прибыло несколько штаб-офицеров. Дерфельден писал Суворову об огромных потерях не только от штыковых и ружейных ран, но и от солнечного удара. Генерал обещал еще, и в последний раз, атаковать неприятеля, если получит хоть какую-нибудь поддержку. Он прислал офицеров в расчете, что они соберут отставших и приведут их к месту боя.
Суворов отошел на открытое место, поникнув головой, остановился в раздумье и вдруг снопом повалился на землю. К нему кинулись, но он сам вскочил на ноги, раньше чем кто-нибудь успел коснуться его. В толпе солдат и справа и слева затих гомон.
— Ройте здесь мне могилу! — воскликнул Суворов. — Я не могу пережить такой день. Мои чудо-богатыри бегут!.. Легче мне лечь живым в могилу, чем это видеть… Никифор, поди сюда. Бери заступ, рой мне могилу.
Суворов отмерил три шага в длину, шаг в ширину, отмечая носком сапога углы могилы.
Никифор Кукушкин сразу понял, что задумал Суворов для поднятия духа солдат; словно они раньше договорились обо всем с Суворовым, спокойно приставил к часовенке ружье, взял заступ и начал взрезать дерн, намечая очертания могилы. Старый капрал работал проворно. Суворов стоял над ямой, закрыв лицо руками. Гул пробежал по толпе солдат с обеих сторон. Кто сидел или лежал, встали на ноги. Задние начали теснить передних, и вокруг Суворова быстро сомкнулось тесное кольцо людей.
Суворов открыл лицо. К нему тянулся, заглядывая через плечо в глаза, молодой солдат:
— Он этак будет рыть, так до завтрего не выроет.
Суворов повернулся к солдату:
— Где ружье?
— Кинул, ваше сиятельство. Бежать легче… Да я и назад побегу, коли велишь, еще прытче, а ружей там много…
Кукушкин перестал копать и прикрикнул на солдата:
— Ах ты, безобразник! Лодырь! Чем бы мне помочь, он зубы скалит! Ты взял бы лопату… Поди, там у часовни еще заступ стоит…
— Да как же это я буду Суворову могилу копать?!
Но тут солдата столкнули в начатую могилу. Кто-то подал ему заступ. Молодой солдат поплевал на руки и принялся рыть и кидать землю.
Кукушкин вдруг бросил заступ, выругался, плюнул в яму и, подняв голову, оглядел лица солдат.
— Вот до какого сраму мы с тобой дожили, Александр Васильевич! — закричал он. — Да плюнь ты им всем в харю, пойдем от них!
— Коня! — крикнул Суворов, протянув руку.
Перед ним расступились. Невыразимый шум поднялся в толпе солдат.
Со всех сторон закричали:
— Братцы! За Суворовым!
Суворову подали коня. Он, сверкнув палашом, описал им круг над головой, будто отбиваясь от налетающей птицы, и тронул коня в гору. Солдаты повалили за ним.
По бокам дороги скакали офицеры, присланные Дерфельденом, выкрикивали команду, стараясь навести хоть какой-нибудь порядок в стремительной живой лавине.
Лавина в горах катится, нарастая, сверху вниз. Живая лавина суворовских солдат катилась наперекор силе тяготения снизу вверх. Штыки солдат грозно нависли.
Позади, около начатой могилы, еще роились солдаты: всем хотелось убедиться своими глазами, верно ли, что Суворову рыли могилу. Заглянув в яму, солдаты пускались бегом догонять колонну. Скоро здесь не осталось ни одного человека. На дне брошенной ямы праздно валялись два заступа. Поляна около часовни опустела. Родничок, затоптанный солдатами, справился — вдруг вытолкнул сквозь грязь большой пузырь кристальной воды, и ручей снова заурлюкал, пролагая себе дорогу к морю.
Дерфельден готовился играть отбой, когда Суворов привел свою нестройную, охваченную бешеной яростью колонну. Прямо с марша Суворов повел солдат на штурм высот. Началась третья, и последняя, атака. По силе натиска она во много раз превышала первые две и явилась неожиданной и роковой для французов. А Моро уже собирался преследовать бегущих! Бой, приостановленный истощением противников, возобновился по всей линии. Солнце склонялось к закату, а сражение еще казалось нерешенным. Но Суворов знал, что победа совершенная, и думал о том, как обеспечить преследование противника и не дать ему прорваться в долину Скривии. Суворов, отъехав на заднюю линию, остановил коня над обрывом и смотрел не туда, где гремела канонада, а назад, вниз.
— Вот, — воскликнул он, — идет папаша Мелас!
Оставленный в резерве, Мелас с утра испытывал необыкновенное волнение. Понимая всю значительность событий, он боялся, что останется вне боя, а приказания выступать не было. Единственный раз за всю кампанию Мелас решился на самостоятельный шаг и приказал войскам двинуться согласно диспозиции. Цах подтвердил его решение приказом Суворова. Достигнув места боя, правая колонна Меласа примкнула к батальонам Багратиона, а левая колонна за Скривией двинулась в обход правого фланга Моро.
Багратион ворвался в Нови. Французы не могли долее держаться. Путь отступления на Геную был им прегражден. Французам пришлось отступать без дороги. К темноте отступление Моро превратилось в повальное бегство в направлении на Тесарано и Пастурану.
Войска Розенберга из-под Тортоны прибыли поздно вечером и не успели к бою. Только на следующий день Суворов послал Розенберга преследовать бегущих французов. Они остановились, опираясь на Гави. Моро, приведя в порядок остатки своей разбитой армии, расположился для обороны в горных проходах через Апеннины на Ривьеру.
Суворов в подробном донесении Павлу о победе при Нови писал:
«Таким образом продолжалось шестнадцать часов сражение упорнейшее, кровопролитнейшее и в летописях мира, по выгодному расположению неприятеля, единственное. Мрак ночи покрыл позор врагов».
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Горные вершины
Суворов со своими войсками стал лагерем в Асти. Армия его заслужила отдых. Продолжать поход на Геную было невозможно. Мелас не заготовил ни денег, ни продовольствия, ни мулов для горных перевозок. Суворов решился бы идти в горы и без вьючных животных, но страна, куда он привел бы своих солдат, была разорена войной: там нельзя было путем реквизиций добывать хлеб и фураж.
Предаваясь вынужденному отдыху, Суворов искал других путей во Францию. Моро с остатками своей разбитой и деморализованной армии занял в горах оборонительное положение, никаких покушений от него ждать не приходилось: он не опасен, пока не получит подкреплений. Поэтому нужно прежде всего, чтобы флот союзников блокировал итальянское и французское побережья, тогда Моро не получит помощи ни солдатами, ни продовольствием. А тем временем, приготовив все необходимое для горного похода, войскам союзников следует идти, оставив Геную слева, прямо на Ниццу через Тендский проход. Овладение Ниццей при блокаде побережья флотом поставит Моро в безнадежное положение: ему останется одно — капитулировать. Отдыхая в Ницце, войска союзников вместе с тем готовились бы к походу на Париж через Лион, получая все необходимое не только сухим путем, через горы, но и морем.
Главная опасность при осуществлении этого плана угрожала не со стороны Моро и даже не со стороны Швейцарии, где, пользуясь бездействием австрийцев, французы заняли Сен-Готардский проход, открыв тем самым ворота из Швейцарии в Ломбардию. Не закрывая глаз на эту опасность, Суворов ясно видел основное препятствие для своих замыслов: австрийцы больше не хотели воевать. В четыре месяца Суворов вернул Австрии все, что у нее отнял Бонапарт двухгодичной войной.
Суворов пребывал в мучительном беспокойстве, хотя, казалось бы, чего ему еще желать? Он достиг зенита своей славы. В цепи его побед недосягаемыми вершинами блистали Фокшаны, Рымник, Измаил, Треббия, Нови… Имя Суворова гремело в Европе. Надеясь вырвать Пьемонт из цепких когтей Вены, сардинский король писал Суворову любезные письма, называя его «бессмертным», и осыпал высшими наградами, сделав его великим маршалом пьемонтских войск с потомственным титулом принца и кузена короля. Прохор Дубасов украсился двумя медалями, пожалованными ему сардинским королем и австрийским императором за заботы о здоровье Суворова.
Павел Петрович, чрезвычайно довольный, что Суворов сделался центром внимания всей Европы, позволил ему принять награды сардинского короля и от себя прибавил: «Через сие вы и мне войдете в родство, быв единожды приняты в одну царскую фамилию, потому что владетельные особы между собою все почитаются роднею». От себя Павел наградил нового «родственника» отличием небывалым: он приказал отдавать Суворову, и даже в своем присутствии, воинские почести, присвоенные «единственно особе императора Российского».
Город Турин поднес Суворову золотую шпагу, усыпанную алмазами, с благодарственной за освобождение надписью. Со всех концов Европы получались приветствия. Лагерь в Асти переполнился иностранцами — они искали свидания и беседы с Суворовым. На празднествах и даже в частных домах непременно провозглашались здравицы освободителю Италии. В Англии выбили даже медаль с барельефным портретом Суворова и нарасхват раскупались платки с напечатанным на них его изображением.
Только Вена, двор Франца-Иосифа, и гофкригсрат во главе с ненавистным Суворову Тугутом проявляли к великому полководцу враждебную холодность. В летописи войны, «Австрийском военном журнале», действия Суворова или замалчивались, или изображались в смешном виде. Если бы историк захотел когда-нибудь опираться в своих исследованиях на эту летопись, то он пришел бы к нелепому выводу, что всеми победами в Италии союзники обязаны гофкригсрату, а Суворов только мешал венским стратегам. Австрийский император писал Суворову письма, пересыпанные выговорами и предписаниями. Мелас получил распоряжение не слушать Суворова и отменял его приказы. А Суворов в своей «Науке побеждать» провозгласил правило: «Одним топором не рубят вдвоем».
Разрыв военного союза России и Австрии стал неизбежен. К такой развязке склонялся и Павел. Австрийцы хотели избавиться от строптивого русского полководца, чтоб никто им не мешал хозяйничать в Италии; однако им хотелось выжать из русской армии все, что можно. Так возник проект перевода суворовских войск в Швейцарию: пока оттуда не вытеснены французы, австрийцы не могли считать вполне обеспеченным свое положение в Ломбардии.
25 августа Суворов получил распоряжение из Вены, подтвержденное и Павлом Петровичем: передать главное командование в Италии Меласу и идти с русскими войсками в Швейцарию. Действуя в согласии с австрийским главнокомандующим эрцгерцогом Карлом и русским корпусом Римского-Корсакова, направленным к Рейну, Суворов должен был вытеснить французов из Швейцарии. Обеспечение суворовских войск продовольствием, фуражом и вооружением австрийцы и тут взяли на себя. В ожидании обещанных Меласом мулов, продовольствия, горных пушек Суворов простился с Италией и повел свои войска к подножию Альпийских гор, в Таверну. Здесь он поселился в доме Антонио Гамба, старого — одних лет с Суворовым — итальянца.
Таверна — городок или, вернее, большая деревня, расположенная у подножия горы Монте-Ченере, на речке, впадающей в озеро Лугано, — находится на границе, отделяющей Италию от Швейцарии. К югу простирается Ломбардия с ее великолепной природой и пылким, талантливым населением: страна великого искусства. К северу от Таверны начинаются величественные Альпийские горы. В горах живут простые люди, закаленные в борьбе с суровой природой: горные охотники и пастухи альпийских стад.
Антонио Гамба соединял в себе черты жителя итальянской равнины и швейцарского охотника за козами. Антонио знал Швейцарию вдоль и поперек — с востока на запад и с севера на юг, от глубоких мрачных ущелий до сверкающих снежных вершин.
— Ты, Антонио, будешь моим Хароном,[95] — сказал Суворов, указывая на гребень Монте-Ченере, за которым мерещились хребты Сен-Готарда и Сен-Бернарда.
Гамба потребовал объяснений.
— Время остановилось, Антонио. Стикс застыл. Альпы — гребень замерзшей Стиксовой волны. Я вверяю свою судьбу твоей утлой ладье, старик!..
Зная, что русская армия, разойдясь с австрийцами, направляется в Швейцарию, Антонио понял, что Суворов предлагает ему стать главным проводником армии. Ничего не спрашивая о маршруте из уважения к военной тайне, Антонио сказал:
— Я проведу вас, синьор, куда бы вы ни пожелали.
* * *
…Павел готов был разорвать союз с коварной и вероломной Австрией. Он приказал Суворову соединиться в Швейцарии с Римским-Корсаковым и действовать там, как сам найдет нужным. Ему разрешалось даже, если он сочтет это необходимым, вернуться с войсками домой.
В Вене имели основание торопиться. Союз с Россией расстраивался. В Париже можно было ждать монархического переворота. Англичане при петербургском дворе тоже старались достигнуть своекорыстных целей. Павел Петрович согласился на английское предложение послать в Голландию крупный десант русских войск.
Суворов страдал. Силы его угасали. Ныли старые раны. Надорванное сердце просило покоя. Тянуло на родину. Прискучила пышная природа Италии с ее вечноголубым небом. Суворов стосковался по огненно-красной, трепетно-листной осине и по кукушке, грустно кукующей в березняке.
11 сентября сдалась союзникам последняя крепость, где еще держался французский гарнизон, — Тортона, и в тот же день Суворов выступил с главными силами русской армии на соединение с Римским-Корсаковым по самому короткому, зато наиболее трудному пути — через Сен-Готард. Упускать время было опасно. Массена, узнав о походе Суворова, мог напасть на Римского-Корсакова и, разбив его, повернуться лицом к Суворову, даже вторгнуться в Италию. Поэтому Суворов решил все тяжести и полевую артиллерию отправить в Швейцарию кружным путем. Вместо полевых орудий Суворов получил от австрийцев двадцать пять горных легких пушек. Вообще Суворов постарался облегчить армию до последней возможности. С собой он брал только то, что можно было везти во вьюках. Австрийцы обязались поставить необходимое для горного похода число мулов. Но в начале похода Суворов их получил недостаточно. Мелас сообщил, что в Таверне для Суворова приготовлено тысяча пятьсот мулов. Когда армия туда пришла, оказалось, что там нет ни одного мула. Суворов спешил часть казаков, скупил у населения мешки и холст для вьюков. На приготовление вьючного обоза ушло три дня, хотя работали круглые сутки. Суворов приказал ссадить с коней даже офицеров. Им предстояло идти в походе со скатанной шинелью через плечо и котомкой на спине, наравне с солдатами. Офицерские кони пошли под вьюки со снарядами и патронами. Вместо четырнадцатидневного запаса продовольствия ограничились явно недостаточным семидневным.
21 сентября армия Суворова через Белинцону двинулась к Сен-Готарду. Розенберг с отдельным корпусом пошел верховьями реки Тичино, в обход французской позиции на Сен-Готарде.
После благодатного климата долины Лугано, где почти не знают туманов, Альпы встретили Суворова дождями и мглой. Дождь почти не переставал. Горные речки и ручьи вздулись. Ноги солдат то скользили по мокрой гальке, то вязли в глине. Дорога шла то вверх, то вниз, с крутыми спусками и подъемами по скользким косогорам. Речек и ручьев встречалось множество, их переходили вброд по колено, иногда и по пояс. Суворов задал быстрые марши. Солдаты выбивались из сил, срывались с крутизны и разбивались. Несколько вьючных лошадей скатилось в пропасть. Впереди колонны шли пионеры с лопатами, кирками и топорами, чтобы устранять препятствия и чинить мосты. При заданной скорости похода они мало что успевали сделать. Тем не менее солдаты сохраняли бодрость и веселье. Они догадывались, что этот поход — последний. Что Суворов их ведет домой, никто не сомневался. В невзгодах винили не Суворова. Вероломство австрийцев стало всем известно и понятно. Солдаты выражали готовность бить не только «синекафтанников» — французов, но и «белокафтанников» — австрийцев, если бы они вдруг стали на пути.
Суворов ехал среди солдат на казачьей лошади, легко одетый, накрывшись от дождя «родительским» плащом из тонкого, ничем не подбитого сукна. На голове Суворова красовалась, свисая намокшими полями, широкая итальянская шляпа. Рядом с ним шагали два старика: по одну руку долговязый Антонио Гамба с охотничьим ружьем, по другую — старый капрал Никифор.
У селения Айроло встретился передовой отряд французов. Они отошли, не принимая боя. Их главные силы защищали перевал. Численность французов не превышала сил Суворова, но выгоды позиций утраивали их мощь. Как и у Нови, Суворову приходилось штурмовать естественную крепость.
Суворов решил атаковать французов в центре и с обоих флангов. Багратион пошел справа, в обход левого фланга французской позиции. Отряду Багратиона предстояло решить задачу неимоверно трудную. Карабкаясь по скалам, местами почти отвесным, солдаты встречали сильный отпор французских горных стрелков. Маскируясь скалами и большими камнями, из-за гребня утесов французы поражали наступающих метким огнем. Солдаты Багратиона упорно лезли на крутизны, чтобы, зайдя французам в тыл, принудить их к отходу.
Под командой Суворова русские атаковали французов с фронта. Две атаки противник отбил ружейным огнем. А Багратион все еще не достиг вершины. Издали она казалась близкою, но все возрастала и уходила вдаль, по мере того как войска подымались. С гор опустились облака и охватили отряд сырым, непроницаемым туманом.
Суворов приказал штурмовать французов третий раз. Лишь только началась атака, дохнул ветер, согнал облака, и высоко вверху на снегах показались черные точки — это были солдаты Багратиона. Они зашли в тыл противнику. Французы, пораженные этим невероятным подвигом, очистили перевал. Суворов занял Сен-Готард. Перед русскими открылась дорога к озеру Люцерн.
Чертов мост
Французы отходили, обороняясь. Розенберг, оттеснив встреченные отряды противника, соединился с Суворовым около Урзерна. Тем временем французы окольными тропинками вернулись на дорогу в долине Рейссы и снова преградили путь Суворову у места, называемого Урнерлох. Тут узкая дорога, лепясь по карнизу над пропастью, вступала в короткий и тесный тоннель, пробитый в скале. Дальше дорога нисходила круто к Чертову мосту, перекинутому каменной аркой через Рейссу, бурлящую в глубокой теснине. Вторая береговая арка над сухой щелью выводила мост на дорогу. Шумная, хотя и неглубокая река низвергалась здесь водопадом в четыре ступени.
Очевидно, французы считали позицию свою неприступной, потому что не торопились разрушить Чертов мост. За тоннелем стояла пушка жерлом к наступающим. По тоннелю можно было идти только по четыре в ряд. Пробиваться через тоннель под картечными выстрелами — значило даром губить солдат. Суворов приказал двум ротам егерей, солдатам особенно сноровистым, зайти в тыл французам справа и слева. С одной стороны вздымались почти отвесно скалы, с другой — гремела в туманной бездне Рейсса.
Егеря приступили к выполнению безумно смелого маневра. Одна рота, цепляясь за малейшие выступы скал, полезла вверх; второй после опасного спуска в русло реки пришлось переправляться вброд по стремнине, а затем карабкаться под огнем метких стрелков на крутизну противоположного берега.
Обе роты удачно выполнили приказание Суворова. Французы, видя себя обойденными, отказались от обороны тоннеля, сбросили пушку в реку, покинули позицию и принялись разрушать береговую арку Чертова моста. Их прогнали штыками.
Под выстрелами почти в упор пионеры начали исправлять мост, разобрав поблизости деревянную постройку. Суворов, чтобы уберечь отважных пионеров от губительного огня, повторил маневр, отдавший ему в руки Урнерлох. Солдаты ринулись в пропасть, перешли гремящий поток и выбрались на французский берег.
Французы отступили. Перед небольшой армией Суворова открылся путь к деревне Альтдорф. Французы отошли от Рейссы на озеро Люцерн и больше не делали попыток мешать Суворову в его движении вперед.
Заняв Альтдорф, Суворов узнал новость, которая на его месте обескуражила бы всякого другого: австрийцы еще раз коварно обманули.
Офицеры австрийского генерального штаба выметили на карте маршрут от Альтдорфа к Швицу по берегу озера Люцерн. Между тем здесь не было по берегу даже горных троп. Горы ниспадают в озеро отвесно. Сообщение между Альтдорфом и Швицем возможно только озером, на судах. Французы же увели свою флотилию от устья Рейссы к городу Люцерну, не оставив даже ни одной рыбачьей лодки.
Казалось, что Суворову остается одно: пробиваться назад по пройденной уже дороге, наверное, снова занятой французами. Суворов сказал Антонио Гамба:
— Старик, ты обманул меня!
— Нет, я не обманул тебя. Я сказал тебе, что поведу тебя, куда ты хочешь. Ты сам избрал свой путь. Но для горной души нет заказанных путей. Нет на земле дороги, недоступной человеческому роду! Смотри!
Антонио указал рукой в небо над величественным хребтом Росштока. Высоко в небе под облаком реял орел.
— И орлы нуждаются в пище. Там, на вершине, ходит коза с козленком. Орел высмотрел ее и хочет похитить козленка. Где ходит горная коза, там пройдет и человек. А за Росштоком вьется Муотта. Вдоль нее — удобный путь до Швица.
Суворов без колебания принял решение, предложенное Антонио Гамба. От этого решения зависела судьба русского корпуса Римского-Корсакова. Антонио Гамба нашел среди следопытов Альтдорфа старых приятелей. Они согласились вместе с Антонио провести армию Суворова и через Росшток. Никогда в мире ни одна армия не проходила по такому пути, какой избрал Суворов, и никто из полководцев, кроме него, не решился бы подвергнуть свою армию таким испытаниям.
Армия Суворова, измученная семидневным непрерывным маршем, истратила весь провиант. Обувь у всех солдат была разбита. Много вьючных лошадей пропало в дороге вместе с вьюками, свалясь в пропасть. Тем не менее Суворов приказал выступить из Альтдорфа в Муттенталь через хребет ранним утром 27 сентября.
Первыми выступили солдаты Багратиона. Затем — части Дерфельдена и с ними Суворов. Отряд Розенберга прикрывал движение. Его арьергарду Суворов приказал держаться в Альтдорфе, пока не пройдут вслед за армией вьюки.
Чем выше, тем охотничья тропа делалась круче, местами совсем пропадая на голых лбах утесов. Сначала ноги людей увязали в глине, потом скользили по дресве, а выше утопали в рыхлом снегу. Местами идти можно было только гуськом, в одиночку. Облака то кропили дождем, то опускались и охватывали солдат густым туманом. Одежда у всех промокла. Ветер сушил ее, но леденил тело. Привалы делались там, где возможно, на больших площадках, открытых ветрам. На биваках находили мало топлива; о том, чтобы обогреться, и думать не приходилось: на огне пекли только лепешки из розданной в Альтдорфе муки. Вьюки с остатками провианта шли позади.
Ночь наступила, поход продолжался. Только к вечеру следующего дня авангард Багратиона спустился в долину Муотты. Увидев зеленые луга и коров на них, солдаты обезумели от радости и с криком кинулись вниз. За ними гналось, спускаясь по склону хребта, грозовое облако.
К следующему полудню середина колонны достигла гребня Росштока. Суворов, шедший до той поры в гору пешком рядом с Антонио Гамба и Никифором, сел на коня и остановился на вершине. Он смотрел не вниз, на застывшие навеки волны каменного моря, а в бездонное синее небо.
— Чего ты там ищешь? — спросил Антонио Гамба.
— Того орла, — ответил Суворов.
Антонио огляделся и указал рукой:
— Вот он!
Суворов взглянул и увидел, что орел озабоченно кружит над камнями, иногда совсем почти опускаясь к земле. Суворов двинул туда коня. Орел не испугался. Он был увлечен охотой. Горная коза, прижав козленка к камню задом и выставив рога, отважно оборонялась от наскоков хищной птицы. Суворов кинулся на орла с нагайкой. Орел взлетел. Гамба выстрелил. Орел кувыркнулся и, распластав крылья, упал к ногам суворовского коня.
— Знак добрый! — закричал Никифор.
Суворов, сбросив с головы шляпу, воскликнул:
— Мои орлы облетают орлов римских!
И запел во весь голос:
Скажи, о чем ты горестно вздыхаешь? По ком, по ком ты плачешь и рыдаешь И слезы вытираешь кисейным рукавом?На выстрел сбежались обеспокоенные солдаты и подхватили песню. Волна радости покатилась по колонне назад. Зазвенели бубны, заиграли рожки, самодельные кларнеты…
Войска Дерфельдена спустились в Муттенталь к вечеру, хвост колонны — на другой день к ночи, а вьюки пришли еще через двое суток.
Расстояние от Альтдорфа до Муттенталя на карте — всего восемнадцать верст.[96]
Из Муттенталя Суворов послал казаков на разведку в сторону Швица. Они вернулись и привезли весть, от которой дрогнуло суворовское сердце: австрийцы предали Россию еще раз. Эрцгерцог Карл со своей армией не дождался прихода Суворова и ушел из Швейцарии, оставив Римского-Корсакова одного против превосходящих сил Массена. Последний, узнав, что на соединение с Римским-Корсаковым идет Суворов, поспешил напасть на русский корпус у Цюриха и разгромил его. Остатки русского корпуса, преследуемые французами, откатились до Фельдкирха на Рейне.
Вскоре после получения этой печальной новости в Муттенталь пришел по дороге, проторенной Суворовым, сын одного из альтдорфских проводников. Он сказал, что к Альтдорфу с озера прибыли передовые части Массена, на озере стоит французская флотилия и высаживает солдат. Болтливые французы хвастались, что Массена обещал пленным русским генералам свидание с Суворовым и со всем его штабом: он считал, что русские в Альтдорфе попали в мышеловку и всей их армии не миновать плена. Но французы стали в тупик, не застав Суворова в Альтдорфе; они не хотели верить, что он предпринял с армией переход через хребет Росштока.
Суворов созвал в Муттентале военный совет, что он делал редко. Маленькая армия Суворова, вконец истощенная, без обуви и продовольствия, не могла противостоять большой и хорошо снабженной армии Массена, привычной к горным переходам. Обманутый в своих ожиданиях, французский маршал, наверное, не станет унывать, вернется озером в Швиц, чтобы оттуда предпринять наступление на Муттенталь. Никогда еще со времени поражения на реке Прут при Петре I русская армия не находилась в столь отчаянном положении. Оставалось одно: с оружием в руках пробиться в Россию или всем погибнуть. Суворов все это представил на обсуждение военного совета в краткой речи без привычных выходок и острых словечек. Совет единогласно присоединился к Суворову, решив идти с боем на Гларис, а оттуда на Кур, с общим направлением к востоку, защищаясь от Массена арьергардными боями.
29 сентября начался поход. Демонстративная атака по дороге на Швиц показала Суворову, что Массена угадал его намерение и двинул большие силы от Швица прямо на Гларис. Это было видно из того, что на всем пути наступления от Муттенталя до Швицы русские войска встречали слабое сопротивление. Французы отступали с подозрительной поспешностью, местами просто бежали, бросая пушки. Может быть, Массена рассчитывал обмануть Суворова, завлечь к Швицу всю русскую армию, а тем временем зайти от Глариса в тыл, поставив Суворова меж двух огней. У Глариса, на Линте, войска Массена встретились с авангардом Багратиона. Завязался отчаянный бой. Французы отступили. Массена не осмелился больше тревожить русскую армию. Он рассчитывал, что армия Суворова погибнет от холода и голода в горах. Суворов двинулся с берегов Линты на Верхний Рейн, подтягивая к себе арьергарды.
Пушки для обессиленной вконец армии являлись теперь только лишней обузой. Суворов велел вырыть большую могилу и похоронить в ней всю артиллерию. Над холмом, как над братской могилой, поставили крест, срубленный из альпийской сосны.
Долины Линты и Рейна разделяются горным хребтом Рингенкопф.
Все пережитое и испытанное раньше солдатами Суворова при подъеме на Сен-Готард, в долине Рейссы, при переходе Росштока побледнело перед тем, что они вынесли, переходя хребет Рингенкопф (Паникс).
Босая, голодная армия переходила снежные вершины, побеждая суровую природу, неприступные скалы, дождь, жестокие вьюги. Русские сохранили оружие, но штыки, создавшие славу суворовским солдатам, теперь служили им вместо альпенштоков: втыкая штыки в снег и расселины камней, солдаты взбирались на крутизны.
Спуск с Рингенкопфа был едва ли не труднее и, конечно, бедственнее подъема. Ударил мороз. Сильный ветер сдувал со скал снег, полируя их ледяную поверхность. Все зазубрины и впадины сглаживались — негде было утвердить ногу. При спуске погибло много солдат.
Только придя в Иланц на Рейне, солдаты добыли дров, чтобы обсушиться и обогреться.
На следующий день армия пришла в Кур. Здесь войскам выдали хлеб, дрова, мясо и вино.
Начав поход с двадцатью тысячами солдат, Суворов пришел в Кур с пятнадцатью. В боях, от стужи, голода и несчастий в горах погибло пять тысяч человек.
В Куре с Суворовым простился Антонио Гамба. Они простояли несколько мгновений, крепко держась руками и смотря друг другу в глаза. Антонио пошел домой долиною Рейна. От Кура долина эта подымается к своим истокам, слегка извиваясь, почти по прямой линии в направлении к Чертову мосту; прямая по карте — семьдесят верст. Армия Суворова прочертила на карте Швейцарии в своем походе линию длиною около четырехсот верст, напоминающую видом зеркально отраженную букву «S».
Отдохнув в Куре, армия Суворова пошла в Фельдкирх, чтобы соединиться с остатками корпуса Римского-Корсакова.
Последний поход
Война кончилась. Павел I разорвал союз с неблагодарной Австрией и приказал русской армии готовиться к возвращению в Россию.
За спасение чести государства от посрамления и армии — от постыдного плена Павел Петрович возвел Суворова в высочайший военный чин — генералиссимуса. Суворов, получив рескрипт Павла, будто бы сказал: «Велик чин, он меня придавит… Недолго мне жить».
Поздно спохватясь, австрийцы, под влиянием Англии, стали искать примирения с Россией. Для этого им надлежало примириться прежде всего с Суворовым. Венские политики пустили в ход все доступные им средства. Прежде всего австрийцы окружили всяческими заботами суворовские войска: русских солдат в Иланце одели, обули и кормили так, что лучшего и желать нельзя было. Австрийцы надеялись смягчить Суворова… Австрийский император пожаловал ему высший орден — Марии-Терезии Большого Креста. Австрийский главнокомандующий эрцгерцог Карл, предательски покинувший Суворова в Швейцарии, теперь искал с ним свидания, надеясь договориться. Суворов не обращал внимания на заискивания: он ставил непременным условием своего возвращения на пост главнокомандующего соединенных сил «полную мочь», то есть свою полную независимость от гофкригсрата и австрийских генералов на театре войны. Он понимал, что требует невозможного, ибо хотел полного доверия к себе, а его не было; и сам он не верил Вене ни на грош. На отчаянное письмо императора Франца-Иосифа с просьбой повременить с уводом войск и обещанием в случае возобновления войны поддерживать Суворова всей мощью императорской власти полководец с гневным презрением ответил генералу Эстергази, посланному Францем-Иосифом:
— Передайте его величеству, что я старый солдат. Меня можно обмануть один раз, но я был бы глупцом, если бы позволил это сделать над собой вторично…
Суворов перевел свои войска в Аугсбург, а оттуда малыми переходами в Прагу. Так тихо суворовские солдаты никогда не ходили.
Павел I настойчиво звал Суворова в Петербург — мирный, тихий поход русской армии домой уже не требовал личного присутствия полководца. Суворов простился с войсками и отправился в Россию. В дороге он заболел и, с трудом добравшись до своего кобринского имения, слег в постель. Присланный Павлом Петровичем лейб-медик поправил здоровье Суворова настолько, что он мог выехать в Петербург по настойчивому зову царя. Да и сам Суворов туда стремился душой. Суворова положили в покойную карету и повезли в столицу на долгих.
Дорогой Суворов узнал, что Павел Петрович готовит ему триумфальную встречу. По церемониалу, утвержденному Павлом, в Нарве, куда посылаются парадные придворные экипажи, Суворов должен был пересесть в золоченую карету. Генералы, встретив Суворова, будут провожать его от Нарвы до столицы. В Гатчине Суворова встретит генерал-адъютант с письмом от Павла. Что будет в том письме написано, никто, кроме Павла, не знал. Говорили, что гвардия в день приезда Суворова выстроится шпалерами по его пути от заставы до Зимнего дворца, в котором для генералиссимуса отводятся покои. Войска при проезде Суворова, склонив знамена, при барабанном бое, окажут ему почести, равные императорским. Будут звонить все колокола, а вечером зажгут иллюминацию с вензелями Суворова. Павел даже задумал поставить бронзовую статую полководца и уже заказал скульптору Козловскому монумент.
Кто-то из спутников Суворова не преминул передать ему и петербургские сплетни, полученные с одним из столичных курьеров. Говорили, что будто бы при обсуждении церемониала петербургский генерал-губернатор граф Пален сказал Павлу не без задней мысли, но с видом невинным:
— Не прикажете ли также, государь, чтобы при встречах с Суворовым на улицах все выходили из экипажей для приветствования его: дамы — поклоном, а кавалеры — преклоняя колено, как это делается для особы вашего величества?
Павел вспыхнул, но сдержался и ответил:
— Как же, сударь, и я сам, встречая князя, выйду из кареты…
Выслушав сплетню, Суворов покачал головой и решил задержаться в дороге, с тем чтобы въехать в столицу ночью.
Близко к полуночи Суворов в своей дорожной карете подъехал к Нарвской заставе. Сонный инвалид отодвинул рогатку. Паспорта у Суворова не спросили. Когда карета уже катилась мимо Скотопригонного двора, ее обогнал конный фельдъегерь, спешивший во дворец с докладом. На светлых пустых улицах бродили собаки. Охтяне гнали откормленных свиней к Скотопригонному двору на убой. На севере горела заря. Город спал. В садах на Фонтанке щелкали соловьи.
Карета Суворова остановилась на Крюковом канале, у дома Хвостовых. Суворова еле живого внесли в дом. Утром в дом Хвостова явился от Павла I генерал и объявил Суворову, что ему запрещено являться к императору.
Улицу перед домом застлали соломой, чтобы больного не тревожил стук колес по булыжной мостовой.
Суворов угасал, окруженный заботами родных. «Суворочка», графиня Наталья Зубова, не отходила от постели отца. Из чужих никто не смел навещать его.
Смерть приближалась. Наступило забытье, прерываемое проблесками сознания. В одно из светлых мгновений Суворов сказал:
— Я знаю, что умру, но не верю в это.
Во втором часу дня 6 (18) мая 1800 года Суворов скончался.
Узнав о смерти полководца, к дому Хвостова со всех сторон потянулся народ. Толпа запрудила набережную Крюкова канала и не расходилась до ночи.
Хоронить Суворова вышло множество людей. Улицы на пути печального шествия были полны народа. Колесница с высоким балдахином над гробом Суворова медленно двигалась к Невскому проспекту.
На углу Невского и Садовой увидели группу всадников. Павел Петрович со свитой выехал из Михайловского замка; пропустив колесницу, он уехал обратно во дворец.
Траурное шествие от Знаменской площади повернуло к монастырю, построенному Петром I около Невы, на месте, которое Петр называл «Викторией» в память победы, одержанной тут в XIII веке над шведами Александром Невским. Перед низкой аркой монастыря колесница Суворова остановилась. Возникло сомнение, пройдет ли катафалк под аркой.
— Пройдет! Везде проходил! — сказал один из солдат.
Суворова опустили в могилу под грохот пушечного салюта. Число выстрелов показывало, что Павел приказал отдать Суворову последние почести как фельдмаршалу, но не как генералиссимусу.
Над могилой Суворова положили глыбу белого итальянского мрамора. Мрамор был дешев в Петербурге: итальянские купеческие корабли приходили за русской пшеницей пустыми и, чтобы не брать песку для балласта, привозили в трюмах глыбы белого мрамора из Каррары.
Долго гадали, какой «адрес» написать на камне, — так на языке мастеров-монументальщиков называлась надгробная надпись. Поэты состязались в сочинении пышных эпитафий и по-русски и по-латыни. Державин вспомнил, что Суворов завещал написать над своей могилой, и на мраморе выбили слова: «Здесь лежит Суворов».
Г. Ш т о р м СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ
Молодой инженер путей сообщения прибыл на строительство железной дороги и остановился в деревне, в крестьянской избе. Хозяйские дети заинтересовались приезжим, в особенности привезенной им круглой картонной коробкой, и однажды, когда старших не было дома, открыли ее и заглянули внутрь.
Роскошный пушистый зверь, свернувшись, лежал в коробке. Его густой коричневый мех отливал, как на морозе, серебром. Но это был не зверь, а бобровая опушка парадной шапки инженера. Для детей первое впечатление — сильнейшее: оно делает личность инженера таинственной, приковывает к нему внимание ребят.
Так умело заинтересовывает юного читателя в одной из своих повестей — «Революция на рельсах» — писатель Сергей Тимофеевич Григорьев. И это умение стать для читателя сразу же интересным и держать его в напряжении до самого конца большой или малой книги и есть основной писательский дар Григорьева.
Его далекие предки были ямщиками на большом Петербургском тракте; дед был лоцманом на барках, ходивших по каналам и Ладожскому озеру; отец же — паровозным кочегаром, а потом — машинистом. Двадцать пять лет водил он пассажирские поезда.
Родился Сергей Тимофеевич Григорьев в Сызрани в 1875 году. «На шестом году жизни я при содействии руки отца в первый раз сдвинул ручку регулятора и стронул паровоз, — писал он в автобиографии. — С тех пор я нежно люблю паровозы». И эту любовь к машине, к таинственному, блещущему медью и маслом, окутанному паром и послушному руке человека чуду, Григорьев принес в детскую литературу, принес в нее своевременный и нужный интерес к технике и труду.
Очень помогло в этом писателю техническое образование. Детская увлеченность техникой не прошла, и его потянуло в Технологический институт; но занимательные рассказы отца об электротехническом заводе в Петербурге соблазнили Григорьева, и он поступил в Петербургский электротехнический институт. Учиться было трудно, так как в институте царил суровый, почти военный режим. Юный электротехник не выдержал, бросил учебу и, возвратившись на Волгу, провел там три года (1894–1897), работая то в Сызрани, то в Самаре, то в селе Печерском на Самарской луке.
Но диплом инженера был нужен. И Сергей Тимофеевич опять поехал в столицу и вторично поступил в тот же институт, чтобы завершить образование. Однако участие в студенческом движении и возникшая весной 1901 года угроза ареста заставили его, не закончив института, покинуть Петербург. И снова Григорьев в родных местах — там, где прошло его детство.
В 1899 году он познакомился с Алексеем Максимовичем Горьким, печатавшим свои фельетоны в «Самарской газете». Вскоре и Григорьев поместил там свой рассказ «Нюта», задуманный им и для взрослых, и для детей.
До 1917 года Григорьев жил во многих городах Поволжья. «Нанесенный на карту Российской империи, мой жизненный путь, — говорит в автобиографии Сергей Тимофеевич, — очень затейливо по ней петляет». А с 1922 года он прочно осел под Москвой, в Сергиевом посаде, городе, переименованном затем в Загорск.
В то время в Загорске жили писатели Михаил Пришвин, Алексей Кожевников, художник Владимир Фаворский. Григорьева окружали мастера знаменитых Сергиевских игрушек — резных и расписных петушков и баранов, медведей и лис.
В подмосковном затишье Григорьев пишет свои первые детские произведения: рассказ о гражданской войне «Красный бакен» и повести «С мешком за смертью» и «Тайна Ани Гай» — о советских детях в голодные годы.
В 1920–1930 гг. Григорьев создает несколько исторических повестей о прошлом нашей родины: «Берко-кантонист», «Флейтщик Фалалей» и «Мальчий бунт». Последняя повесть об участии детей в знаменитой забастовке на Орехово-Зуевской фабрике. Чтобы изобразить стачечное движение русских ткачей, писатель ездил туда и на месте собирал материал.
В годы Великой Отечественной войны писателем была создана, пожалуй, лучшая его повесть «Кругосветка» — о большом путешествии А. М. Горького по Волге в 1895 году с Самарской детворой. В этой повести со всей полнотой и раскрылся дар Григорьева — способность разговаривать с юным читателем так же серьезно, как и со взрослыми, и видеть важное, нужное дело, казалось бы, в простой детской игре.
Вспомним, как из ребячьей игры в «потешные», затеянной юным Петром I, вышло дело большой государственной важности — русская регулярная армия. Такую и г р у предложил Аркадий Гайдар в своей повести «Тимур и его команда», и каким общественно важным д е л о м обернулась она по всей стране.
Недаром в свою последнюю повесть о Великой Отечественной войне «Архаровцы» Григорьев ввел Аркадия Гайдара и тимуровцев, встретившихся лицом к лицу с грозной опасностью, «когда игрушкам пришел конец».
Проблема мужества, героизма, незаметный переход от детской игры к настоящему подвигу — такова тема, разрабатываемая Григорьевым в его лучших исторических повестях: «Александр Суворов» и «Малахов курган».
В плане игры поданы автором все знаменитые чудачества великого русского полководца — суворовские странности, хорошо понятные солдатской массе, и неожиданные для «сильных мира сего» поступки, в которых всегда проглядывают и народная мудрость, и тайный глубокий смысл.
Вот картинка развода дворцовых караулов.
Император Павел I вводил в армии немецкие порядки и хотел похвастаться ими перед Суворовым. Суворов же всячески подсмеивался над императором. Однажды, так и не дождавшись конца развода, Суворов схватился за живот и, вскрикнув: «У меня брюхо болит!» — уехал.
Другой, уже трагический, эпизод происходит в Италии. Русские войска оказываются не в состоянии сбить с сильной позиции французов. Суворов приказывает рыть для себя могилу. «Я не могу пережить такой день!» — говорит он. И это действует на солдат. Позиция взята.
Интересна рассказанная автором легенда о живой воде, которой окатывал себя в Италии Суворов, чтобы не забыть о живительной русской ключевой воде.
Но образ Суворова в сознании солдат дан писателем в плане героическом. Вот что рассказывает старый солдат о штурме турецкой крепости Туртукай.
«— Однако так ли, сяк ли, — говорит Суворов, — Туртукай надо брать. Много ли турок?» — «Да вшестеро против нашего». — «Что скажете, богатыри?» — спрашивает Суворов молодых. Те мнутся: «Маловато-де нас». Тогда он ко мне самолично: «Помнишь, что Первый Петр турецкому султану сказал? Объясни-ка молодым». А вот что, товарищи, было. Хвастал перед Петром турецкий султан, что у него бойцов несметная сила. И достал султан из кармана шаровар пригоршню мака: «Попробуй-ка сосчитай, сколько у меня войска». Петр пошарил у себя в пустом кармане, достает одно-единственное зернышко перцу да и говорит —
Мое войско не велико, А попробуй раскуси-ка, Так узнаешь, каково Против мака твоего».И Туртукай пал.
Повести «Александр Суворов» и «Малахов курган», написанные в предвоенные годы, полны глубокой веры в силы народа, его беззаветной любви к родной земле.
Юный герой повести «Малахов курган» — сын офицера Могученко, Веня, — во многом похож на своего сверстника Сеньку из повести «Архаровцы», который тоже совершает настоящий подвиг и получает «взаправдашнюю» медаль.
С той же игры, что и для «архаровца» Сеньки, начинается служение родине для севастопольца Вени, как только к Севастополю приближается вражеский флот из тридцати пароходов и множества кораблей.
«…Веня уловил маневр коварного врага» — так начинает Григорьев описание этого эпизода. Затем мальчик, приставив кулак рупором ко рту, кричит комендору, который, конечно, не может его услышать на судне:
«— Носовое!.. Бомбой пли!..»
Словно повинуясь команде Вени, комендор стреляет.
«Рыгнув белым дымом, мортира с ревом прыгнула назад. На чужом пароходе рухнула верхняя стеньга на первой мачте. Чужой фрегат убрал паруса, но не успел повернуться для залпа, как Веня скомандовал:
— Лево на борт! Всем бортом пли!..»
И эта команда Вени оказывается правильной и поэтому совпадающей с действиями комендора.
«Владимир» повернул и дал залп всем бортом. Веня приставил кулак к левому глазу зрительной трубой и увидел: чужой сделал поворот и, не дав залпа, пошел в море, держа к весту.
— А, хвост поджал! Струсил! Ура, братишки! Наша взяла! Ура!»
Повесть «Малахов курган» С. Григорьева показывает беспримерный героизм защитников Севастополя, патриотизм и мужество русского народа, которые в грозные годы проявились в полную силу.
Я помню Сергея Тимофеевича грузным высоким человеком, с серым веником бороды, по-стариковски сморщенным носом и грустным взглядом задумчивых глаз, иногда вспыхивающих озорным блеском за стеклами старомодных очков.
Он имел обыкновение, прощаясь с собеседником, отдавать по-военному честь, произносить короткое словечко «чик» и тут же с улыбкой пояснять: «Честь имею кланяться».
Помню такой случай. В годы Великой Отечественной войны Сергей Тимофеевич написал для Военно-морского издательства повесть об адмирале Макарове («Победа моря» — так называется ее вариант для детей). В издательстве рукопись прочел строгий рецензент — контр-адмирал и указал автору на некоторые военно-морские неточности: корабли-де не «плавают», а «ходят», а парус яхты не «клонится», а «ложится», и тому подобное.
Сергей Тимофеевич, ознакомившись с отзывом, размашисто наискось начертал: «Не согласен». И подписался: «В и ц е-а д м и р а л С. Г р и г о р ь е в». С точки зрения моряков-редакторов, это было недопустимым озорством и нарушением устава. Но Григорьев был человек штатский и любил пошутить.
С. Т. Григорьев был и остается одним из самых любимых юным читателем авторов. Он прожил большую жизнь (1875–1953) и всегда отлично знал то, о чем писал.
«Окидывая взглядом свой жизненный путь, я с трепетом вижу, что был участником… событий на протяжении более половины столетия. И какого столетия!» — писал он в 1950 году, когда ему исполнилось семьдесят пять лет.
1
Серничок — спичка.
(обратно)2
Ганнибал — один из знаменитых полководцев древности (III–II века до н. э.), государственный деятель Карфагена; нанес ряд сокрушительных поражении римским войскам во время так называемых Пунических воин.
(обратно)3
Галлы — древнее кельтское племя, населявшее территорию
современной Франции.
(обратно)4
Приспешная изба — изба для дворовых людей.
(обратно)5
Бельведер — теремок, вышка над домом.
(обратно)6
Искаженное латинское «перпетуум-мобиле» — вечное движение.
(обратно)7
Повальяжней — от «вальяжный»: полновесный, прочный, добротный.
(обратно)8
Житарь — ячмень.
(обратно)9
Мета — цель.
(обратно)10
Полковые штапы — полковое начальство: члены штаб полка.
(обратно)11
Роброн — старинное женское платье с округленным шлейфом.
(обратно)12
Вятерь — домашний садок для живой рыбы, покрываемый редкой сетью.
(обратно)13
Бирки — счетные палочки, на которых нарезками обозначался счет.
(обратно)14
Рейткнехт — нижний чин, обязанность которого состояла в уходе за офицерскими лошадьми.
(обратно)15
Артикул — ружейные приемы.
(обратно)16
Денник — просторное стойло в конюшне, где лошадь стоит без привязи.
(обратно)17
Ферула — линейка, при помощи которой «учили» непонятливых учеников.
(обратно)18
О глупец!
(обратно)19
Конечно, я солдат!
(обратно)20
Боже! Он говорит по-немецки!
(обратно)21
Немного, милостивый государь!
(обратно)22
Определенно!
(обратно)23
Встань на скамью.
(обратно)24
Великий.
(обратно)25
Закрой рот!
(обратно)26
Они перепьются.
(обратно)27
Закрой пасть!
(обратно)28
Обставлен мебелью.
(обратно)29
Швальня — портняжная.
(обратно)30
Кондуктор — воспитатель.
(обратно)31
Самоучитель французского разговорного языка.
(обратно)32
Надо встать, уже пора. Тотчас я буду готов, в одно мгновение.
(обратно)33
Таков был обычай.
(обратно)34
Колет — короткая кавалерийская куртка.
(обратно)35
Метаморфоз (метаморфоза) — превращение.
(обратно)36
Храм Дианы в Эфесе почитался одним из «семи чудес» древнего мира.
(обратно)37
Худой и остервенелый, как осел без стойла, я во всем напоминаю настоящий скелет или призрак, влекущийся среди воздушных просторов подобно утлой ладье, поглощаемой морской пучиной.
(обратно)38
Фурьеры — младшие командиры обозной роты.
(обратно)39
Каптёр (каптенармус) — заведующий ротным имуществом солдат.
(обратно)40
Пахтать — сбивать масло из сливок или сметаны.
(обратно)41
Шастать — отделять зерно от шелухи.
(обратно)42
Военная коллегия — одно из центральных учреждений в России XVIII века. С 1719 года служила для управления военно-сухопутными силами; преобразована в военное министерство в 1802 году.
(обратно)43
«Цесарский» (от «цесарь» — император) — так называли в России австрийский двор.
(обратно)44
Кордегардия — помещение для военного караула.
(обратно)45
Дед декабриста Волконского.
(обратно)46
Сторожи — так назывались сторожевые монастыри-крепости, охранявшие Москву.
(обратно)47
Один из подвигов Геркулеса: царь Авгий предложил ему очистить свои много лет не чищенные конюшни.
(обратно)48
На языке западных славян «Берлин» — «пустое место».
(обратно)49
Развод — ежедневный смотр дворцовых караульных частей; здесь в значении: сама караульная часть при потсдамском дворце прусских королей.
(обратно)50
Рандеву (франц.) — свидание.
(обратно)51
Около 880 километров.
(обратно)52
Ветры — ранцы.
(обратно)53
Брегет — карманные часы с боем (по фамилии часовщика Бреге).
(обратно)54
Флигельман — фланговый солдат.
(обратно)55
Сплетником.
(обратно)56
9 мая по старому стилю.
(обратно)57
Оттоманы — турки.
(обратно)58
Шанец — временное полевое укрепление, окоп.
(обратно)59
Милорадович Андрей Михайлович — отец сподвижника Суворова в Италии и Швейцарии, Михаила Андреевича Милорадовича, впоследствии героя войны 1812 года.
(обратно)60
Это московское домовладение Суворовых открыто в 1941 году кружком юных историков Бауманского детского дома культуры.
(обратно)61
Смород — урод; басок — красив.
(обратно)62
Спаги — конница султана.
(обратно)63
Эстакада — деревянный причал, построенный на глубине и соединенный с берегом мостом.
(обратно)64
Гласис — насыпь, непосредственно примыкающая к внешнему краю крепостного рва.
(обратно)65
Ложемент — старинное название стрелкового или орудийного окопа.
(обратно)66
Паки — еще раз, снова.
(обратно)67
Вагенбург — военный обоз, поставленный четырехугольником и образующий защиту.
(обратно)68
Шебека — трехмачтовое (обычно корсарское) парусное судно с вооружением от двенадцати до сорока пушек.
(обратно)69
Каркас — артиллерийский зажигательный снаряд.
(обратно)70
Великий визирь — первый министр в старой Турции.
(обратно)71
Плутонги — построения войск небольшими отделениями для стрельбы залпами.
(обратно)72
Апроши — осадные рвы и насыпи; род укрытия для постепенного подступа к крепости.
(обратно)73
Орда — на турецком языке того времени означало «армия».
(обратно)74
Более 24 метров.
(обратно)75
Выступающих.
(обратно)76
Бунчук — конский хвост на украшенном древке; знак сана и власти у турецких пашей.
(обратно)77
Эскалада — штурм.
(обратно)78
Бушприт — наклонная мачта, длинное дерево на носу корабля.
(обратно)79
Нагель — большой деревянный болт или гвоздь, употребляемый в судостроении.
(обратно)80
Сплеснивать тросы — сплетать концы веревок без узла.
(обратно)81
Фалрепные — матросы, стоящие у трапа; фалреп — веревочный, обшитый сукном поручень трапа.
(обратно)82
Дек — палуба.
(обратно)83
Enseigne de vaisseau — корабельный прапорщик: то же, что мичман. Это звание было в употреблении на русском флоте в XVIII веке.
(обратно)84
Линёк — короткий обрывок толстой веревки с узлами на концах.
(обратно)85
«Hourra» (англ.) — «ура».
(обратно)86
То есть карьеру.
(обратно)87
Французы.
(обратно)88
Валленштейн А. (1583–1634) — немецкий полководец, имперский главнокомандующий в Тридцатилетнюю войну.
(обратно)89
Петиметр (франц.) — щеголь.
(обратно)90
Резонёр — любитель вести длинные рассуждения назидательного характера.
(обратно)91
Стикс — в мифологии древних греков река, уходящая в мрачное подземное царство.
(обратно)92
Как дела?
(обратно)93
Плохо!
(обратно)94
Ради бога, воды! Я умираю!
(обратно)95
Харон — по представлению древних греков, старец, переправлявший на челноке через реку Стикс тени умерших в подземное царство.
(обратно)96
На подробных картах Швейцарии путь, проделанный армией Суворова через Росшток, до нашего времени обозначается словами: «Путь Суворова в 1799 году».
(обратно)
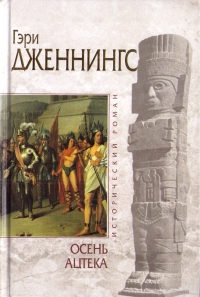







Комментарии к книге «Александр Суворов», Сергей Тимофеевич Григорьев
Всего 0 комментариев