Владимир Короткевич Колосья под серпом твоим
В РУКИ ГОЛОДНЫХ БЕДНЯКОВ
ПРЕДАШЬ ТЫ ВРАГОВ ВСЕХ СТРАН,
В РУКИ СКЛОНЕННЫХ КО ПРАХУ -
ДАБЫ УНИЗИТЬ МОГУЧИХ ЛЮДЕЙ
РАЗНЫХ НАРОДОВ.
Кумранский свиток войныРОМАН. КНИГА ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ
Матери моей посвящаюКнига первая. Истоки вод
Он же сказал им в ответ:
вечером вы говорите: «будет вёдро,
потому что небо красно»;
и поутру: «сегодня ненастье,
потому что небо багрово».
Лицемеры! Различать лица неба вы умеете,
а знамений времен не можете?»
Евангелие от Матфея, 16, 2, 3.I
Груша цвела последний год.
Все ее ветви, до последнего прутика, были усыпаны сплошным бело-розовым цветом.
Она кипела и роскошествовала в пчелином звоне, протягивала к солнцу свои старые лапы и распрямляла в его сиянии маленькие, нежные пальцы новых побегов. И была она такой могучей и свежей, так неистово гудели в ее розовом раю пчелы, что казалось, не будет ей извода и не будет конца.
И, однако, конец ее приближался.
Днепр подбирался к ней исподволь, потихоньку, как разбойник. В своем вечном стремлении сокрушить правый берег, он в половодье подступал к нему вплотную, разрушал пологие места, уносил лозняк, чтоб посадить его в другом месте берега, вырывал куски или осторожно подмывал его, чтоб вдруг обрушить в воду целые глыбы земли. Потом отступал до следующей весны, и трава милосердно спешила залечить раны, нанесенные могучей рекой. Весной он возвращался снова, и опять где разрушал, где подмывал, и со временем окружил грушу почти со всех сторон.
…За грушей кончался Когутов надел. Лет сорок тому назад за деревом стояла черная баня. Но в одну из ночей Днепр внезапно проглотил ее — даже бревнa не успели спасти. Так, наверно, и уплыли все бревна из Озерища аж в самый Суходол, где полуголодные мещане и щепки не пропускали.
Новую баню старый Данила Когут построил саженей за сто от берега, намного выше своей хаты. Снохи жаловались: пока натаскаешь воды, руки отвалятся. Данила слушал их и ворчал в ласково-въедливые, золотистые тогда еще усы:
— Лишь бы моя калита с деньгами не отвалилась. Рук не покупать…
И гнал сыновей, чтоб помогли бабам натаскать воды.
Новая баня со временем стала слишком просторной для семьи Когутов. Сыновья, по новым обычаям, отделились, и с отцом остался только старший, Михаил, с женой да их пятеро сыновей и дочь-мeзеница — последыш.
Пойдут семь «мужиков» в первый пар, а места — хоть собак гоняй, даже холодно от этого простора.
И все же о старой бане никто не жалел. Вместе с баней сплыла и черная история семьи Когутов.
Произошло это спустя несколько лет после того, как Приднепровье отпало от «Короны». Данила был тогда еще подросток, единственный сын у отца, единственный внук у деда. Словно напасть какая-то навалилась на людей. За три поколения холера дважды выкосила Озерище. Когутам повезло: по одному мужику все же осталось на развод. Остальные умерли. Не помогло и то, что Роман, Данилин дед, считался ведьмаком. И он ничего не мог поделать, потому, видать, что хвороба была новая. Даже самые старые люди не слыхали ничего от своих дедов про холеру.
Всем, кто не сбежал в лес, пришлось худо. А Роману с сыном Маркой не позволил убежать пан. Дал им ружья и приказал остаться в пустой деревне, чтоб не разграбили крестьянского скарба лихие люди. Ружья, пожалуй, и не стоило давать. От холеры ружьем не отобьешся, а лихие люди боялись Романа с его славой ведьмака больше, чем ружья.
Наверно, Роман не был бы Романом, если б не нашел средства от худой напасти. Он и отпоил сына резким березовым квасом. Не отдал смерти. Но остальных спасти не успел.
Холера отошла. Забыли о ней. А в Когутовой хате так и жили старый, взрослый да малый.
И вот тут и случилось самое страшное. В одну из темных ноябрьских ночей Марка убил отца в бане. Запорол вилами.
Аким Загорский, старый озерищенский князь, услыхав такое, за голову схватился. Чего же тогда ожидать от человека, если он на отцеубийство решился? Что же это делается? То ли библейские времена возвращаются, то ли конец света настает? А так как он двадцать лет неизменно ходил в почетных судьях — и до раздела, и после, в губернском суде, — то и решил закатать преступника туда, откуда и ворон костей не приносил, благо теперь просторы были неизмеримые, даже Сибирь своей была. Схватили Марку — хорошо! В цепях он — хорошо! Быстрее его, выродка, в Суходол, на судебную сессию!
А потом одолело Акима раздумье. И не то чтобы князь теперь оправдывал убийцу. Он задумался: как могло случиться, чего ради мог пойти на такое любимый, от смерти отцом спасенный сын, единственный наследник? И, главное, удивляло Загорского то, что никто из односельчан ни словом, ни даже взглядом не осудил Марку. Будто так и надо было.
Аким Загорский понимал силу обстоятельств. Знал и то, что ни один суд никогда не докопается до глубины того, что принудило человеческую душу совершить такой тяжелый проступок. Не для того люди суды выдумали. Суд — это расправа. И хозяева каждого суда хотят только одного: чтоб расправа наступила как можно скорее и не очень дорого стоила.
А поэтому однажды ночью он явился в темницу старого замка. Замок был двухэтажный, с подземельями. В башнях новая власть разместила провиантские склады, а подземелья так и остались тюрьмой.
Аким Закорский думал, что увидит слизняка, раздавленного тяжестью собственной вины, а увидел человека, который даже глаз не прячет.
— Может, не твоя в том вина? — смутился Загорский. — Может, кто-то другой?…
— Моя вина, — ответил Марка. — Моя рука совершила, мне и нести кару.
— Так что же ты тогда святым прикидываешься?! — вскипел князь — У собаки глаза занял?
— Вы не кричите на меня, — совсем не по-мужицки, с гонором, сказал Марка, закованный в кандалы. — Земной суд мне не страшен. Меня преисподняя ждет. Я душу свою навек загубил, и мне уже из огня ада никогда не выйти.
Загорский, так ничего и не добившись, ушел. И начал расспрашивать озерищенских крестьян. Долго ничего не мог узнать, пока одна старушка не рассказала обо всем. И тогда у Акима волосы встали дыбом.
Недаром покойного Романа считали ведьмаком. Сам Аким Загорский в такую глупость, конечно, не верил, но они, они-то все верили. Да и как было не верить, если Роман лечил какими-то там травами коросту и болячки, вправлял вывихи, выводил родимчик, «выводил» у детей испуг: брал их на руки, смотрел в глаза, и детям сразу становилось легче.
А такие «врачевания» без нечистой силы, ясно, не обходятся. И каждому ведьмаку, будь он самым умным, даже тому, кто не употреблял своей силы во зло, предстояло после смерти расплачиваться.
Наступит время, и ведьмак должен залезть в подпечье, лучше всего в бане. И именно там отдать дьяволу душу. Так сводить с дьяволом последние счеты предстояло и Роману. И рядом с ним обязательно должен был быть сын.
Они и пошли в баню вдвоем, когда «ведьмак» почувствовал приближение смерти. Старик залез в подпечье и долгое время там что-то бортотал. Может, вспоминал жизнь, а может, бредил. Потом пришел в себя и протянул руку, чтобы сын помог ему выбраться.
И вот тут наступила самая страшная минута. Всем известно: если сын возьмет отцову руку, вся колдовская сила перейдет к нему. А с силой — смерть в подпечье и огонь ада.
Марка знал: он не желает унаследовать колдовство отца. Против этого были жизнь и слова, которые он каждое воскресенье слышал в церкви. Притом — если бы унаследование хоть спасало от ада душу старика. Но оно не спасало, а только обещало ад еще и ему, Марке, пусть не сегодня, так через какое-то время.
И он не взял руки отца, хотя знал, что, если не возьмет, старик будет мучиться в подпечье еще долго — ночь, две, возможно, даже три.
Он сидел со стариком почти до утра. И тот все время стонал и все чаще и чаще вскрикивал. А Марка смотрел на него и плакал от жалости.
Перед рассветом он решился. Конечно, то, что он собрался сделать, угрожало ему преисподней и вечными мучениями, но зато освобождало отцову душу от когтей дьявола.
Все верили, что мученическая смерть, да еще от руки близкого, вмиг уничтожает власть темной силы. А кто ближе старику, как не родной сын? Неписаный закон приказывает ему доконать отца, чтобы тот не мучился здесь и не мучился потом. Что ж, он сделает то. И пускай будет худо ему, Марка будет спокоен, что отцу хорошо хоть на том свете, а значит, он поступил правильно.
Марка сходил в гумно и принес вилы.
Узнав все это, Загорский начал судить не только убийцу, но и себя. Да, такому варварству и дикости нет оправдания. Однако кто повинен в том, что эти люди дикари? Государство, которое вспоминает о них только во время мятежа? Властители душ, которым есть до них дело лишь после жатвы? Откуда им знать законы природы, окружающей их. Церковь кричит им об аде, предания угрожают дьяволом и колдунами.
Вот и суду только теперь будет дело до Марки.
И чем помог своим людям он, Аким Загорский? Не убивал, не грабил, потому что не имел в этом нужды. Но что общего мужду Маркой и им, кто гордится тем, что посетил в Фернe Вольтера? Господин и крестьяне — жители разных миров.
И вскоре от всех рассуждений в его сердце осталось лишь понимание того, что суд поступит плохо, наказав «преступника», и он, Загорский, не сможет ничем помешать. Слепые судят слепого.
Поэтому Загорский всей своей властью жал на судей, и приговор был вынесен сравнительно мягкий — десять лет каторги.
…Марка из Сибири так и не вернулся. Его сын Данила и тот давно стал дедом. Умерла императрица, и сын, и один из внуков ее. Умер и Аким Загорский. Почти забылся случай с баней, а потом и самую баню слизнул Днепр.
Словно и не было ни людей, ни закопченной низкой баньки на берегу. Только груша…
Позади нее лежали приднепровские откосы, деревни, пущи и местечки. Позади нее стояли замшелые замки, курные хаты и древние белые звонницы.
А груша цвела последний год. Днепр подкрадывался к ней исподволь, как разбойник. В этот последний год она держалась только силой своих корней. Следующий — из миллионов — паводок должен был бросить дерево в волны вместе с цветенью. Но оно не знало об этом. Оно цвело в пчелином кипении. И лепестки падали в быстрину реки.
II
Днепр течет между высоких берегов спокойно и уверенно, вымывая из-под круч песок, порой открывая для человеческих глаз то, что сам же раньше прятал от них, — ноздреватые известняки, красные, с лиловым оттенком плитки железняка и вековечные, варяжских времен, дубы.
Они черные, как кость, эти мореные дубы. Как обгоревшая, черная кость. И когда видишь на отмели полузанесенное песком мокрое бревно, сразу становится понятно, откуда пошло предание о богатырях, которые спят, засыпанные песком и оплетенные травой, спят, пока не придет время большой беды и пока их не позовет народ.
…Беда приходила много раз, а они не воскресали. Может, и вправду окаменели, как те дубы?
Кто знает?
Но течет и течет великая река. Нас не было, а она уже несла свои волны мимо заводей, пущ и аистиных гнезд. И когда нас не станет, она все будет течь дальше и дальше, к последнему, далекому морю.
…Деревню Озерище, которая приткнулась над Днепром, на белопесчаном откосе, весной заливает вода, и тогда она стоит как бы на острове. Церковь в стороне, тоже как бы на острове, и на пасху попу с причтом иногда приходится объезжать ее на челнах.
Прошла пасха, сильно спала вода. На высоких местах уже отсеялись. Деревня дремлет в мягких лучах майского солнца, пустая, разомлевшая. И все же Днепр, почти совсем отступив в летнее русло, не может успокоиться и лениво точит низ берега… Тишина. Покой. Дурной крик петуха над кучей дымящегося навоза.
…В тот майский день на песчаном откосе, под той самой грушей, которой кончался теперь Когутов надел, сидела стайка детей — три мальчика и девочка.
Лишь двое старших — лет по одиннадцати — сидели, прикрыв бедра льняными рубашками. Третий, серьезный мужичок лет восьми, и девочка года на два моложе его были совсем голые, но нисколько, видимо, не смущались своей наготы.
Из этих четверых два голыша и один малость одетый были очень похожи. Золотистые спутанные волосы, диковатые светло-синие глаза и, несмотря на детскую угловатость, какая-то особенная, неторопливая слаженность в движениях. Каждый, посмотрев на них, сказал бы: «Когутово племя».
Четвертый был совсем не похож на них. Тоньше. Темнее кожей. С прямым носом, как у остальных трех, но с крутым вырезом ноздрей, не по-детски строгим ртом.
Он и сидел как-то более свободно, легко. Каштановые волосы мальчика искрились под солнцем крупными волнами. Темно-серые широкие глаза спокойно смотрели на стремительное течение Днепра.
Ничего не было на волнах реки — ни паруса, ни стада уток, — и потому это занятие скоро надоело сероглазому. Он лег на спину и обратился к соседу:
— Пойдем еще в воду, Павелка?
— Сдурел, Алесь? — солидно сказал Павел. — Подожди, вся ведь вода взмутилась.
Вода в Днепре была еще холодноватой, и потому дети выбрали для купанья небольшую заводь, хорошо прогретую солнцем. Купались, видимо, совсем недавно, потому что волосы у них были мокрые.
— Жарко, холера его возьми, — вздохнул Алесь и опустил черные ресницы. — Пойдем через неделю на Равеку? Стафан там намедни во какого окуня выхватил.
Павел молчал.
— Ты что молчишь, Павелка? — спросил Алесь. И, уже встревоженный, увидел, что у друга дрожат губы. — Ты чего, Павлюк?
— Через неделю тебя, может, здесь и не будет, — глухо сказал Павел.
— Вот дуринa! Куда же это я денусь?
— Сегодня утром — ты как раз навоз на Низок возил — приезжал Карп из имения. Сказал, что паны поговаривают: мол, хватит, мол, тяжело Михалу Когуту без нашей помощи и время брать Алеся… Это чтоб за тебя отец «покормное» и «дядьковое»[1] получил…
В глазах Алеся появилась тревога. И сразу же исчезла, уступив место решимости.
— А я не пойду. Кто меня заставит, если мне и здесь хорошо?
— Гэ-эх, брат! — тоном взрослого сказал Павел. — Тут уж ничего не поделаешь. Возьмут во двор — и концы. На то они паны. На то мы мужики. Как отдали они тебя, так и возьмут.
— А я убегу. Я не ихний. Я ваш.
— Привыкнешь, — продолжал Павел. — Помнишь, как шесть лет тому назад ревел, когда тебя к нам привезли? И страшно у нас, и черно. Привык же…
— Куда это Алеся заберут? — спросила девочка. Стояла перед ними, голенькая, кругленькая, держала во рту палец.
— Иди ты, Янька, — с досадой сказал Павел. — Что ты знаешь?
— Куда его заберут? Он ведь наш. — В голосе девочки было недоумение.
— Наш, да не совсем.
И тут Алесь вскочил на колени.
— Как это не ваш? Как это? А чей же я? Аришки-дурочки?
На глазах у него накипали злые слезы. Он не сдержался и отвесил дружку звонкую оплеуху. А спустя еще мгновение они друг через друга катились вниз, к реке, поднимая тучи песка.
За кулаками света не было видно. Скатившись на самый берег заводи, красные, пыльные, они молотили друг друга и ревели.
Яня, захлебываясь криком, побежала к ним, загребая ногами песок.
— Не над… Але-е-е… Па-а-а!!!
За нею важно, откинувшись назад, словно круглое пузо могло перевесить, двигался голыш «мужеска пола» Юрась Когут.
Девочка уже совсем обезголосела и часто топала ножками, не замечая, что зашла в воду.
И тогда восьмилетний Юрась, посмотрев на нее, наклонился, зачерпнул полные пригоршни ила и звонко шмякнул его на их головы.
Драка прекратилась. Оба смотрели друг на друга и на Юрася. А тот после паузы медленно сказал:
— Э-к важно-о…
И пошел к девочке.
— Идем, Янечка, идем. Они же шутят. Это Алесь пошутил… Вишь, вывозилась вся.
Ребята смотрели, как Юрась повел Яню в заводь. На глазах у Алеся появились слезы.
— Дураки, — сказал он, — напугали девчонку. И ты дурак… Дурак ты, вот кто… Если я не ваш, так я и уйду… Не очень нужно… Только в Загорщину я не хочу. Найду на большаке могилевских или мирских нищих с лирами — с ними двину. И оставайтесь вы тут со своей Равeкой и с холерными вашими окунями.
Он зашел по пояс в воду и начал смывать с головы серый ил. И вдруг почувствовал, что рука Павла легла ему на волосы.
— Погоди. Давай помогу… Ты… Прости…
Алесь выпрямился. Так они и стояли друг против друга по пояс в воде. На голове у Павлюка была густая лепешка, с волос Алеся стекали на лицо и грудь серые струйки. Они текли и от глаз, и нельзя было понять, вода это или слезы.
— Павлюк, — тихо спросил Алесь, — неужели заберут меня?
— Не знаю, — неискренне ответил тот. — Может, и обойдется. Давай лучше мыться. Вечереть скоро начнет.
Они мылись молча. Яня и толстый Юрась сидели у самого берега, и Юрась брал большой раковиной воду и поливал Яне на живот.
— Дети, — прозвучал голос с обрыва, — хватит вам бултыхаться: верба из ж… вырастет.
Над обрывом, возле груши, стоял белый старик, белый с головы до ног. Стоял, опираясь на граненый черный посох с острым концом.
— Вылезайте, что ли?
— Они, дедуля, зараз! — крикнула Яня.
Взгляд деда сразу смягчился, как только он глянул на девочку.
— То ладно. Вылезайте. Я пойду.
Ребята молча оделись. Юрась и кругленькая Яня поднялись уже на откос и исчезли за грушей.
— Вот и печку, в которой прошлым летом бульбу пекли, разрушил Днепр, — пряча глаза, сказал Алесь.
Действительно, на откосе, на свежем обрыве, была видна только неглубокая черная ямка.
Они все еще медлили, словно видели Днепр в последний раз. Алесь поставил ногу на большую глыбу земли, косо сдвинувшуюся в воду и наполовину затонувшую в ней.
На той части, которая еще оставалась над водой, спешили доцвести гусиные лапки и желтый подбел. А их братья, под водой, тоже еще цвели, но были бесцветными, словно их оставила жизнь.
У Алеся больно сжало горло.
— Идем, — тихо сказал ему Павел.
От груши к хате вела узкая стежка. По обе ее стороны чернела недавно вспаханная земля, и слишком белыми и тоненькими казались на ней стволы яблонь и вишен, побеленные известкой. Невесомый зеленый пух окутывал деревья, и особенно серой и безжизненной выглядела в этом зеленом облаке старая хата Когутов с надворными постройками, расположенными буквой «п». Стены хаты, сухие, с глубокими трещинами, почти наполовину закрывала надвинутая грибом стреха с таким толстым пластом смарагдового влажного мха, что можно было засунуть в него руку почти по локоть.
Рябины и ирга буйными волнами перехлестывали через корявый плетень, словно старались скрыть от людских глаз его уродство.
Над деревьями уже взлетали бронзовые майские жуки. Солнце клонилось к западу, и в вечернем воздухе звучно щелкал клювом аист на стрехе сеновала.
Дед с младшими детьми сидел на завалинке, длинный, снежно-белый в своей льняной одежде. Сад сажал он. В то время даже в богатом на сады Приднепровье при каждой крестьянской хате было не больше трех-четырех деревьев. Был, правда, приказ шляхетской рады, чтоб каждый сажал сады, но послушался его далеко не каждый.
Дед сидел, бессильно опустив коричневые руки, а над его головой недовольно басили майские жуки.
Невдалеке от него лежала на изрытой курами земле Курта. Лежала на боку, тяжело отвалив набухшие, лоснящиеся соски, страдальчески смотрела на людей.
«Наверно, и не увижу, какие у нее будут щенки», — подумал Алесь.
Дед прорезал ворчливо-ласковым голосом тишину:
— Детки, Юрась сейчас огурцы польет, а вы сходите скиньте с сеновала корове сена… Долго дождя нет, пасется-пасется, а брюхо пустое. Потом поросятам бульбу посечь надо, Марыля сварила.
Мальчики молча пошли за хату. Дед сидел неподвижно и слушал, как воркуют под стрехой голуби. Яня взобралась ему на колени.
— Деда, а басни рассказывать когда будешь?
— Вот хлопцы вернутся, и начну баять.
Дед и внучка молчали. Тишина была особенно полной от воркованья голубей.
Наконец вернулся Юрась и сел рядом с дедом. Штаны его были почти до колен мокры, между пальцами босых ног черные земляные потеки. Из хлева доносилось частое чахканье секача.
— Сегодня Павел с Алесем подрались, — сказал Юрась.
— Кто первый?
— Алесь.
— Тогда ладно… Тогда ничего…
— Почему это ничего?
— А ты забыл, чему вас, детей, учили?
Юрась ответил бойко:
— Покормного панского сына не бить и первым с ним в драку не лезть.
— Правильно, — сказал дед.
Яня ласкалась к старику. Юрась сидел нахохлившись, как галчонок, — видимо, обдумывал что-то. Потом сказал:
— Я что-то не слышал, деда, чтоб его нам за деньги отдали. Сегодня Павел говорил про какое-то покормное и дядьковое… Что это? И почему это только у нас да в Маевщине покормники есть?
Дед перебирал шершавыми пальцами волосы внучки, даже слышно было, как они цеплялись за ладони. Грустно улыбнулся:
— Выводится старый обычай, Юрак. Когда-то по всему Приднепровью и дальше это было привычное дело. Я помню, до французов еще мало кто из панов, православных особенно, не следовал ему… А теперь все реже и реже…
— А зачем это? — спросил Юрась.
Дед разговаривал с ним как со взрослым, и малышу это нравилось.
— Чтоб знали, как достается земля, — сказал дед. — Чтоб не распустились, как собаки. Отдавали, бывало, как только четыре года исполнится ребенку. Кто на три, а кто и на пять лет. И совсем не помогали холопской семье. А потом, когда возьмут хлопца снова в имение, дают мужику покормное за то, что парень съел, и дядьковое, потому что мы все как бы дядьки малому, воспитывали его, разуму учили.
— Уйдет от нас Алесь, — по-взрослому вздохнул Юрка. — Каким еще он потом будет?
— Наверно, все же лучше других, — сказал дед. — Слышал, как соха землю скребет. Только не забыл бы. С отцом его и дедом нам, можно сказать, повезло. Аким, прадед его, тоже ничего себе был. Может, и яблочко по яблоне, может, и не забудет вас и меня… И не дай господи, чтоб был как соседский Кроер…
— Когда его заберут? — спросил Юрась.
— Завтра. Завтра его заберут, — сказал дед. — Только молчите, детки. А теперь беги, Юрка, принеси лиру.
Когда Павел и Алесь вернулись к завалинке, дед сидел уже с потемневшей, захватанной руками лирой на коленях. Медленно, словно пробуя, покручивал ручку, слушал шмелиное гудение струн. Курта глядела на него и тяжело дышала.
— Во, — сказал дед Павлюку, который уже сел на траву, — не любят они, черти, ошейника… как человек. Была у меня собака, никогда на сворку не шла. А тут у меня болячка на шее вскочила. Жена-покойница порвала старую сорочку, обмотала мне шею. Так собака увидела, завизжала и давай прыгать, за горло хватать. Думала, у хозяина ошейник. — Вздохнул. — Ну, то ладно, садитесь. Послушайте, пока наши не вернулись. Песня про жеребенка святого Миколы… Только вот что, Алесь: если ты в Загорщине начнешь рассказывать, какие здесь песни поют…
Алесь покраснел.
— Долго вы тут меня обижать будете? То один, то второй. Я не хуже вас, если нужно, молчать умею… Перед кем мне там распинаться?
Дед внимательно смотрел на него, будто все еще колеблясь.
— Гляди, сынок. Песня тайная. Не при всех своих даже можно… Но все равно. Я уже человек старый. Выслушай мою последнюю науку…
Дед неторопливо повел ручкой лиры, потом неожиданно и резко крутанул ее. Высоким стоном отозвались струны, словно зарыдал кто-то в отчаянии.
Мальчики сидели у его ног, Юрась и Яня лежали с двух сторон, грели животами завалинку, но старый Когут никого уже не замечал. Совсем тихо начал звучать старческий и потому слабоватый, но удивительно чистый голос:
Над землею днепровской и сожской Пролетали ангелы смерти. Где летят — там вымерла деревня, Где присели — там город вымер, Там житье попам и долокопам.[2] У Яни широко округлились глаза. Так с годами край обезлюдел, Что и ангелам страшно стало: — Чем прожить, как помрет последний? — Будет нам летать, — сказал тут главный. — Надо нам на земле поселиться. Понастроили они палацев, Понастроили стен из каменьев. Весь Днепр меж собой поделили, Всех людей от края до края…Дед замолчал на мгновенье, словно пропустив несколько особенно хлестких строк, но струны жаловались, может, даже не менее выразительно, чем слова.
…Понастроили церкви и костелы, Под молитву ладаном курят, Задымили, как баню, небо.Лицо старика стало степенным, почти величественным.
Бог годами сидел и нюхал, А потом сказал себе Юрью: — Много дыму до нас долетает, Дюже мало душевной молитвы. Твой народ по Днепру и дальше. Что мне делать с твоим уделом, Юрий? — И сказал ему Юрий-победитель: — Ты пошли-ка на землю Миколу. Он из хлопов, он хорошо рассудит. — Грозно бог свои брови нахмурил: — Знаю я людей деревенских, Вечно они жалуются, ноют, Ну, а хитростью оплетут и черта. Я пошлю с Миколой Касьяна. Этот — пан, он другое заметит. — Тихо Юрий отвечает богу: — Знается Касьян с нечистой силой, Злое сердце у твово Касьяна.Дед перестал играть. Лишь голос, грустный и скорбный, очень тихо вел песню:
Бог солдата своего не послушал, Дал приказ Миколе и Касьяну. Оба живо спустилися с неба И пошли по весям и селам. Был Микола в холщовой свитке, А Касьян в парче золотистой.
Струны вдруг так застонали, что стало страшно. Это были все те же четыре-пять нот, но, кажется, большего отчаяния и боли не было еще на земле.
Ходят, ходят. От жалости-боли У Миколы заходится сердце: Панство хуже царей турецких, Басурманы не так лютуют…Алесь несмело поднял ресницы и увидел, что пальцы маленького Юрася, сжатые в кулачки, побелели в суставах. Увидел жестко сжатый большой рот Павла. Он и сам чувствовал, что у него прерывисто вздымается грудь и пылают щеки…
Наконец разъярился Микола: — Хватит их жалеть, сыроядцев. Двинем, брате Касьяне, на небо — Пусть их молнией бог оглоушит. — Тут ответил Касьян черноволосый: — Брось, Микола, пороть горячку. Хлопы лучших панов не ст?ят, Пьют горелку, воруют бревна, На меже бьют вилами брата. Каждый заслужил себе пана. А когда панов побьешь ты громом, Кто тогда нам храмы построит? Кто тогда нам ладан запалит? Сдохнем с голоду, дурень, на небе.На гордое, жестковатое лицо деда падали последние лучи солнца. Тихо гудели струны, приглушенные рукой. А голос из резкого становился мягким и напевным:
Покачал Микола головою, И пошли они молча на небо… Над землею крадется вечер… Где-то в пуще волки завыли. Слышит в чаще храпы Микола, Чует в дебрях какое-то движенье.Яня с круглыми от ужаса глазами забилась между плечом деда и стеной, и дед лишь на миг оторвался от струн, чтоб набросить ей на плечи полу рваной свитки. Алесь увидел это и стал тереть ладонями виски, так жаль ему стало себя и всех.
— Кто такой? — спросил Касьян Миколу. — Может, мишка, упаси нас боже? — Нет, не мишка, просто кобыла. — Без испуга ответил Микола… Промеж елок стоит кобыла — Не кобыла, а призрак без тела. Страшно ребра торчат, как слеги, На ободранной стрехе селянской. На глазу бельмо, набита холка… И… жеребится эта кобыла! Голос деда сорвался. Потянулася она к святому, Как дитенок хворый, взглянула: «Может, этот мне допоможет?» Стал Микола, почесал макушку: — Брат Касьян, давай-ка ей поможем. — Тут, как черт, Касьян взбеленился: — Этой падле лучше бы сдохнуть, Чем таскать борону и бревна Да кормиться гнилою соломой. Что я, коновал тебе, что ли? Хочешь — пачкай мужицкие руки, Я приду нетронутым на небо, Чистым стану пред божие очи.Юрась не отрываясь смотрел на деда. И дед поймал его взгляд, улыбнулся и без музыки — струны еще замирали — почти скороговоркой повел песню дальше.
Тут Микола сложил свою свитку,
Разложил огонь меж корчами.
Сел Касьян у тепла, руки греет,
А Микола стоит возле кобылы,
Щупает ей брюхо руками,
Ей по крупу ладонями гладит…
Будь он возле Орши коновалом -
Полрубля ему бы заплатили,
Завалился бы деньгами Микола.
Робкая улыбка дрожала в уголках губ Павлюка. Он неслышно тронул Алеся за плечо, и Алесь ответил улыбкой. Снова повели свой напев, загудели струны. Тихо-тихо.
Не запели еще и певни, Как вздохнула глубоко кобыла: Мокрый, теплый белый жеребчик Мягко лег в ладони Миколы. Аж до полдня выждал Микола, А потом он погнал кобылу, А за ней побежал жеребенок.Облегченно вздохнула и повернулась на бок Курта, словно и она поняла, что все окончилось хорошо. А солнце садилось, и зелень деревьев стала оранжевой.
Шли они и пришли на поляну. На поляне — курная хата, Возле хаты четверть волoки[3] И сухая, старая дикая груша. Стал Микола в лесу и видит, Как бежит хозяин к кобыле. На ногах изорванные поршни, На лице изнуренном — слезы. Оглянулся Микола и бросил: — Вот и все. Пошли, брат Касьяне, Поспешим поскорее на небо, Даст нам бог за задержку по шее.Юрась шевельнулся, думая, что уже конец, но поймал строгий взгляд деда и остался сидеть неподвижно.
Перед богом стоит Микола, Все портки заляпаны грязью, На рубахе кровавые пятна, Очи красные, лик усталый. На Миколу бог разлютовался: — У корчмы отирался, известно. С девками катался по гумнам, Нос тебе расквасили хлопцы. С глаз долой! — Тут Касьян засмеялся: — Что тебе говорил я, Микола? Как приходишь, голубчик, на небо, Надо чистые иметь одежды, И не стoит того кобыла, Чтоб гневил ты господа бога. — О какой ты кобыле болтаешь? — Бог спросил. И тогда Микола Рассказал ему о кобыле, О земле и о бедных весях: — Боже, боже, ты видишь мученья. Крест паны с мужиков сдирают, Чтоб ярмо натянуть на шею. Мужики на земле озерной Всю солому со стрех посдирали, Всю кору с сосенок поели.Алесю стало не по себе, он лег на траву и спрятал лицо в ладони.
Бог задумался, тяжко, глубоко И сказал: — Прости мне, Микола. Я урок твой навеки запомню. — Гневно бог взглянул на Касьяна: — Чистый ты, Касьян, и пригожий. Край мой бедный волки терзают — Ты ж печешься о чистых одеждах. А подумал ли ты, Касьяне, Что для сердца моего дороже Даже темный, последний ворюга? Церковь он мою обдирает, На престол грязным поршнем лезет, — Только лезет с чистой душою, Ибо голод детей убивает У него и его соседа. Ты об этом не думал, Касьяне, Потому я даю Миколе Каждый год два великих свята, Чтоб Миколу славили люди. А тебе я даю, неразумный, День последний, двадцать девятый, В феврале, лютом месяце сугробов.Солнце почти уже коснулось земли, и лицо деда стало розовым.
Тут Касьян, как бобер, заплакал: — Боже, боже, за что караешь? Ты обидел своего святого За отродье паршивой кобылы! — И сказал ему бог спокойно: — Ну, а думал ты, брате Касьяне, Что с мечом явлюся я скоро, Что гряду, что приду я в славе Защищать свои белые земли?С тихой угрозой запели струны. Теперь уже не только колесико, но и рука деда медленно бегала по ним. Под глазами старика лежали тени, а лицо было багровым, словно облитым пламенем и кровью.
Час придет. И он скоро настанет. Станет сильным конем жеребенок, И на этом коне я поеду К починкам[4] и хатам селянским. Кони ихние мало ели, Жилы рвали, возили тяжко, — Справедливости ездить пристало На мужицких пузатых конях. Гневно взвился напев: А когда на крест меня потащат, Мужики меня оборонят. Им даю я в лесах дубины, Им даю я в земле каменья, Остальное сами добудут.Тревожно-багровое лицо склонилось над струнами. А напев снова стал тихий, почти неслышный, угрожающий:
Над землею гроза бушует, Над землею холодный ливень. Где-то в пуще крепчают дубины, Где-то в стойле растет жеребенок.Медленно замирал звук струн. И когда он утих, долго еще царило молчание.
— Деда, — шепотом спросил Юрась, — а где тот жеребенок?
И дед ответил тоже тихо:
— Кто знает. Может, и неподалеку. У Лопаты растет белый жеребенок. Да мало ли еще где…
И вдруг вздох шумно вырвался из Алесевой груди. Чувствуя, что еще мгновение — и он не сдержится, хлопчик вскочил с места и бросился по стежке.
Павел устремился было за ним, но рука легла ему на плечо.
— Сиди, — сказал дед, — ему лучше сейчас одному.
Стежка вывела мальчика на обрыв. И там, весь дрожа, он сел на траву, положил голову на колени.
Мысли были беспорядочными, но он понимал: если вот здесь, сейчас, он не решит, как ему быть, он не сможет вернуться в хату на последнюю, — он предчувствовал это, — на последнюю свою ночь.
«Они не виноваты. Им тяжко. Пахать землю — это совсем не то, что ездить на коне. Я никогда не буду таким, как этот Кроер, про которого они иногда говорят. Я куплю у Кроера всех людей и сделаю, чтоб им было хорошо. И они, встречая меня, не будут сторониться, я буду здороваться с ними».
Слезы высохли на его щеках. Он сидел в полумраке и следил, как багровое солнце, внутри которого что-то переливалось, садилось в спокойное течение реки.
Груша за его спиной уже утонула во тьме, и лишь вверху, залитые последними лучами, виднелись ее обреченные и усыпанные пышной цветенью ветви.
III
В Когутовой хате вечеряли. Поздно вернулись с поля, и потому приходилось есть при свете. На столе трепетал в каганце огонек. Возле печки, где копалась Марыля, горела над корытцем зажатая в лучник лучина. При этом свете Марылино лицо, еще не старое, но изрезанное глубокими тенями, казалось таинственным и недобрым.
В переднем углу, под закуренным Юрием и божьей матерью — только и остались от них одни глаза, — сидел дед. Рядом с ним Михал Когут, плотный, с легкой сединой в золотистых взлохмаченных волосах. С наслаждением черпал квас,[5] нес его ко рту над праснаком.[6] Проголодался человек. Слева от него спешил поесть старший, семнадцатилетний сын Стафан. Этот успел еще до ужина прифрантиться, намазать дегтем отцовы сапоги и даже новую красную ленточку приладить к вороту сорочки. Парня время было женить.
Михал глядел на него с улыбкой, но молчал. А дед конечно же не мог удержаться:
— Черта сводного себе ищешь?
Стафан молчал.
— Торопись, брат, — не унимался старик, — там тебя Марта возле Антонова гумна ждет. Круг ногами вытоптала.
Вздохнул, положил ложку — ел по-стариковски мало.
— Что вы, дедуля! — буркнул Стафан. — Разве я что?
— А я разве что? Я ничего. Я и говорю: девка… как вот наша лавка. Хоть садись, хоть танцуй, хоть кирпич накладывай… Век служить будет. А утром на покосе, как только отец отвернется, ты голову в кусты — и дремать. На ногах. Как конь.
— Ну вас, — сказал Стафан, положил ложку и встал.
— Поди, поди, — сказал второй Михалов сын, пятнадцатилетний Кондрат. — Что-то поздненько твоя кошка Марта мартует.
Стафан фыркнул и пошел.
— Теперь до утра не жди, — сказал отец. — А ты, Кондрат, не цепляйся к нему. Сам еще хуже. А он парень смирный.
— Почему это я хуже? — улыбнулся Кондрат.
— По носу видно.
Кондрат и Андрей были близнецы. И если уж все Когуты были похожи, так этих, наверно, и сама мать путала. Так оно в детстве и случалось. Дурачился Кондрат, а подзатыльники получал Андрей, и наоборот. Лишь потом, когда Кондрату было восемь лет, появилась у него примета — полукруглый белый шрам на лбу: пометил копытом жеребенок. Но, кроме внешнего сходства, ничего общего у них не было. На Кондрате шкура горела. Такой уж сорвиголова: драться так драться, танцевать так танцевать. С утра до вечера всюду слышались его смех и шутки. А в светло-синих глазах искрилось такое нескрываемое и потому неопасное лукавство, что девушки даже теперь, хотя ему было только пятнадцать лет, заглядывались на него. Андрей был совсем иным. То же, кажется, лицо, и все же не то. Глаза темнее, чем у Кондрата, — видимо, потому, что ресницы всегда скромно опущены. На губах несмелая улыбка. Голова наклонена немножко набок, как цветок весеннего «сна». Слoва клещами не вытянешь. Но зато с первого раза запомнит и пропоет услышанную на ярмарке или где-нибудь на мельнице песню. И споет так, что вспомнит молодость самая старая бабка.
Марыля как раз поставила на стол «гущу наливaнную» — пшеничную кашу с молоком, — когда в хату зашел Павел.
— Как там Алесь? — спросил дед.
— Поднялся уже от груши на стежку. Идет сюда, — буркнул Павел. — До завтра подождать с песней не могли. Обидели парня.
— Ну и дурак, — сказал дед. — Может, сегодняшний вечер тебя от обиды спасет через пять лет. Ты не забывай — он твой будущий хозяин. Пан.
— Не будет он паном, — упрямо сказал Павел, — я знаю.
— А и глупые же вы все, — подала голос от печки Марыля. — Садись-ка ты лучше, Павел.
— Не сяду, — сказал Павел. — Я Алеся подожду.
— Подожди! — Мать выглянула в окно. — Вон идет уже твой Алесь.
Все умолкли. Алесь вошел в хату, внешне спокойный. И сразу Андрей выжал из себя:
— Мы уже… думали…
Взглянул на Алеся, подвинулся, освободил место между собой и Павлом. Подал ему праснак.
Алесь сел. Андрей пододвинул ему ложку, улыбнулся.
В Андрее вообще было много женского. Виноватая улыбка, огромные васильковые глаза, робость движений. Марыля всегда говорила: «Девочка была бы, да петух закукарекал, когда наступили роды».
— Ешь, — сказал Андрей, словно пропел.
И Алесь взялся за еду. Проголодался он изрядно. Все же в хате царила неловкость, и развеял ее, как всегда, Кондрат.
Курта уселась возле него, угодливо глядя ему в глаза. Даже взвизгнула — то ли от боли, то ли просила есть.
— Иди, иди, — сказал Кондрат важно, — бог подаст.
— Зачем ты ее? — укорил Андрей и бросил собаке кусок праснака.
— Поскупился, — сказал Кондрат. — Все вы, певуны, такие. Что поп, что ты.
Обмакнул свой кусок в молоко и дал суке. Та стала есть, прижав уши к круглой, как арбуз, голове.
— Сегодня смехота была, — начал Кондрат. — Звончикову хату вода все еще окружает. Так они челн приспособили. Даже в кусты по нужде на нем плавают. Я коня повел поить. Гляжу, а Звончикова старуха выходит из хаты, прямо в челн — и начинает править к кустарнику. А ветер встречный, сильный. Горевала она, горевала. Потом, гляжу, постояла с минуту в челне и начала толкать назад.
— Иди ты, — со смехом отмахнулась Марыля. — Врешь ты все.
Алесь тоже засмеялся, но сидеть вот так в последний раз за их столом было тяжело.
Последний раз каганец, последняя лучина, последняя добрая улыбка на лице Марыли.
— Подкрепляйтесь, — сказала Марыля, ставя ему и Павлюку миску кулаги.[7] — Сегодня в ночное поедете.
И потому, что и ночное было в последний раз, Алесь проглотил трудный ком.
Кондрат решил спасать положение и сказал первое, что пришло в голову:
— Кулага эта… цветом, как медведь на…
И сразу о его лоб звонко стукнула дедова ложка.
— Приятного аппетита, — сказал Кондрат, потирая лоб.
Тут засмеялся даже дед. И все засмеялись. И Алесь громче всех. И сразу же из его глаз брызнули слезы. Вытирая их, он сказал глухо:
— Неужели вы хотите меня отдать, батька Михал? Или, может, вам действительно трудно, а покормное и дядьковое, пока не отдадите меня, не полагается?
Михал поднялся и положил руку ему на голову.
— Гори оно огнем и дядьковое то, и покормное. — И, махнув рукой, пошел к двери.
Алесь обратился к единственному, кто еще оставался, — к деду:
— Я не хочу туда.
— Ну и что? — жестко сказал дед. — Мужиком будешь? Нет, брат, от этого нам пользы мало. Да и тебе. Ты лучше добрым ко всем будь, хлопчик.
Марыля подошла к Алесю:
— Ну, оставь… Чего уж… Родители все же они… А к нам ты приезжать будешь… Будете с Павлючком рыбу ловить…
— Хватит, — вдруг подал голос неразговорчивый Андрей. — Ему от ваших слов еще больше плакать хочется. Пусть он лучше с Павлом в ночное едет.
Повернул Алеся к себе, взглянул на него:
— А хочешь, и я с вами поеду?
— На чем это ты поедешь? — спросил дед. — На палке верхом?
— Зачем? Я у Кахнов коня возьму. Им еще лучше, не надо будет Петрусю ехать.
— Конечно, пусть возьмет, — сказал Кондрат. — Пожалуй, и я поеду. Все одно ведь и кобылу Кахнову придется брать.
— Добре — вздохнул Алесь. — Поедем тогда уж.
Он понял наконец, что все его просьбы напрасны, что ничего уже не изменишь и завтра ему придется оставить эту хату.
…Они выехали со двора, когда дед уже взобрался на печь, а Михал пошел спать на сеновал. Одна Марыля темной высокой тенью стояла у ворот, словно провожала хлопцев бог весть в какую дорогу.
Впереди ехал на мышастом Кахновом коне Андрей. За ним на половой Кахновой кобылке как-то боком залихватски трусил Кондрат. Кобылка порой, словно чувствуя влажный аромат далеких лугов, громко фыркала.
За старшими братьями ехали рядом, нога к ноге, Павел и Алесь. Павел — на полово-пестром жеребчике, Алесь — на спокойной белой кобыле. Конские копыта с мягким хлюпаньем погружались в теплую уличную пыль.
Деревня уже засыпала. Редко-редко в каком окне светил, словно умирал, красный огонек. В похолодевшем воздухе резко звучал далеко собачий лай. Из дубовых крон на кладбище порой доносился еле слышный крик древесного лягушонка-квакши.
Ребята ехали, подложив под себя кожухи и сермяги. В прозрачно-синем небе горела на западе Венера, переливалась, словно студеная капля.
И Алесь широко раскрытыми глазами смотрел на все это, будто с завтрашнего утра ему доведется жить совсем под другим небом, без этой Вечерницы, без этих скупых полуночных созвездий, без грустных одиноких Стожар, которые тесно столпились, чтоб поговорить о делах небесных и земных.
Темные стрехи остались позади. Копыта лошадей зачавкали — табунок переходил через влажный луговой клин возле заводи. Дохнул холодноватый ветерок с Днепра, и начали приближаться круглые, как стога, шапки кустарников.
Кони спустились с откоса и по колено вошли в воду, она заколыхалась, пошла кругами, и звезды от этого задрожали и сделались очень большими.
Половая кобылка зашла в воду глубже других и протянула мягкий храп к вечерней звезде в воде. Звезда заметалась в тревоге.
— Сейчас проглотит, — шепотом сказал Алесю Андрей, и Алесь благодарно улыбнулся: Андрей понял его.
Кони пили долго, всласть, временами отрываясь от воды. Чутко слушали ветер из заречных лугов, отдыхали, а потом снова жадно припадали к звездам, к кругам, которые бесконечно бежали в темноту.
— Хватит вам, волчье мясо, — буркнул наконец Кондрат.
Поднимались на обрыв, и слышно было, как булькает в покруглевших лошадиных животах вода.
…На лугу Алесь с Павлом спутали коней. Старшие ребята натаскали сушняка. Ярое пламя рвалось уже куда-то в ночь.
Они сидели на широкой косе, которая вдавалась в Днепр. На ней кое-где были разбросаны дубы с редкой еще листвой. Только узкий перешеек между косой и высоким материковым берегом был сухим. Остальную часть поймы занимал мокрый луг, который тянулся версты на две. За ним были неясные теперь, в темноте, густые кроны парка, а над кронами горел, как еле видимая искра, далекий огонек.
— В усадьбе Раубича кто-то не спит, — сказал Павел.
— И наш костер видит, — добавил Алесь.
— Конечно, видит, — сказал Кондрат, — отсюда до дома Раубича каких-то три версты.
Замолчали, глядя на огонь.
Пламя взлетало высоко. Кони давно разбрелись по косе. Только стреляла иногда в огне влажная веточка, неистово квакали лягушки в далеком затоне, да на другом берегу, в лугах, скрипел коростель, будто полотно рвалось.
Ребята лежали вокруг костра на кожухах и свитках, лежали неподвижно, с широко открытыми глазами. Только Кондрат все еще не мог угомониться, но и он клал бульбу в горячую золу осторожно, почти беззвучно.
Маленький, меньше самой маленькой искры, светился в темноте далекий-далекий огонек. Где-то бухнуло, — видимо, обвалился в воду берег.
— А помнишь, Кондрат, как отец нас впервые в ночное взял? — спросил Андрей.
— А то как же. И угораздило же его как раз в ту ночь!
— А что такое? — спросил Павел.
— Ночь была, — тихо сказал Андрей, — такая же, как сегодня, темная. И как раз в начале мая. Берега в такое время всегда рушатся. Мы, детвора, лежали на кожухе. И вдруг бабахнуло. Далеко, глухо, страшно. Совсем не как берег… А потом звон откуда-то издалека, как на похоронах.
Помолчал.
— В ту ночь старшая дочь Раубича родилась. Так это Раубич из пушки выстрелил. Там, наверно, весело было, а здесь страшно. Очень уж темная ночь была.
Блики огня скользили по лицам и горячили их, а затылки ласково сжимал ночной холодок.
— А правду ли говорят, Андрейка, что Раубич тот чародей? — спросил Кондрат.
— Почему это? — впервые за весь вечер спросил Алесь.
— Не знаю, — сказал Кондрат.
— И я слышал, — уверенно сказал Павел. — Потому что он вуниатом[8] был.
— Тю на тебя! — возмутился Кондрат. — Это выходит, что и наша мать колдунья. Она ведь тоже в вуниатах была, пока их от вунии не отвели. Силком отводили. Если б поп увидал, что она до сих пор Скорбящего[9] в кладовке прячет, так звону было б, как на собачью свадьбу.
— Наша мать совсем другое, — сказал Андрей. — Ну, запретили молиться, как хочется, так она и бросила. А Раубич, говорят, в самом деле колдун. Потому как ни с чем не смирился, когда вунию уничтожали, и, говорят, в первую же ночь продал душу, лишь бы только не по-ихнему вышло…
— Кто это видел? — не поверил Алесь.
— Я-то не видел, — вздохнул Андрей. — Может, и врут… Однако что-то все же есть. Ночами он, говорят, не спит. И огней уже нет, а искра все светит. Однажды наш Кастусь Бовда проходил в полночь мимо его клетей, так, говорит, серой из подвала здорово тянет! И потом ночью, в темноте, у него люди в доме. Неизвестно откуда появляются, неизвестно куда исчезают. Да и люди ли еще?
— А может, они там фальшивые деньги делают? — засмеялся Кондрат.
— Нет, — помолчав, уверенно сказал Андрей, — что-то там все же неладно. Вот и сейчас, гляди, огонь горит.
Все невольно обернулись и долго смотрели в темноту, на далекую искорку, почти невидимую отсюда и такую слабую, что даже комар мог погасить ее.
Костер немного ослаб, стал ниже, мрак из-за кочек все чаще лизал темными языками пятно света вокруг костра. А этот далекий огонь, очень одинокий в темноте, все горел и горел.
Кондрат подбросил в огонь сушняка. Сидел неподвижно. Все остальные тоже словно окаменели. Алесь смотрел на них и всей душой чувствовал, что любит их, что нет для него теперь на земле дороже грубовато-сурового лица Павлюка, мягкого и нежного обличья Андрея, лица Кондрата, на котором сейчас блуждала хитроватая улыбка, словно он вспоминал что-то веселое.
— С колдунами этими вообще беда, — сказал Андрей. — Знаете хутор Памяречь?
— Знаю, — ответил Павел. — Возле Недобылихи. Ничего там нет, только несколько камней на болоте да одичалые сливы… А что?
— Там все люди в черный год поумирали. Да им ничего, все крещеные. А вот у младшей невестки только что дите родилось, так и не успели окрестить.
— Чем же оно виновато? — сурово спросил Павел.
— Не знаю, — сказал Андрей. — Видно, и сам бог понимает, что тут что-то не так и справедливости тут нема — заставлять невинного страдать. Потому такая душа и летает над ближайшим перепутьем и плачет — просит прохожего, чтоб окрестил.
— Что же он, поймает ее, в церковь понесет? — улыбнулся Павел.
— Зачем? — возразил Андрей. — Просто ровно в полночь, когда проходишь через раздорожье и она начнет над твоей головой летать, назови первое лучшее имя, мужское или женское.
— Откуда знать какое? — спросил Павел.
— А тут уж угадать надо. Потому что если не угадаешь, душа так и будет летать. Семь лет будет летать, а потом заплачет и полетит в пекло с вечной обидой на людей.
Алесь придвинулся ближе к огню. Сказал:
— Почему же тогда никто не пошел на Недобылиху? Это уж свинство — не помочь.
— А никто не знал, — ответил Андрей. — Дорогой возле Недобылихи ночью пойти — надо каменное сердце иметь. И вот совсем уже недавно Петрок Кахно задержался у девчины и идет недобылицкой росстанью как раз в полночь. Только остановился на перепутье — как заплачет кто-то над головой. Да так заплакал — сразу понять можно: последние дни летает душа. И низко летает, даже шорох крыльев слышен. Петрок испугался, но перекрестился и говорит: «Василь! Василь будет твое имя».
— Так и сказал? — с уважением спросил Кондрат. — Ну, я теперь над Петрусем никогда шутить не буду.
— Так и сказал. Как заплачет тут душа, да еще жалостнее, как полетит куда-то. Не угадал Петрок имя. И так она жалобно кричала, что Петрок припустился бежать. Прибежал домой и все деду рассказал. Дед Кахно не испугался, а взял и ночью пошел на раздорожье, чтоб аккурат в полночь попасть. И очутился там как раз тогда, когда на колокольне Раубича пробило двенадцать.
— Чего же это он так спешил? — спросил Алесь.
— А он понял, что это душа летает последнюю ночь. Иначе зачем бы ей чуть не в лицо Петрусю бросаться и так страшно голосить… И вот едва он услышал удары колоколов, как застонет, как заскулит кто-то над ним. Словно больной ребенок. Дед даже ветерок от крыльев почувствовал на лице. И тогда дед перекрестился и говорит: «Нина. Нина будет твое имя. А ты помяни покойницу жену, Нину. Скажи, что и я уже скоро…» Тут кто-то застонал будто с облегчением. А потом душа вздохнула. И полетела дальше, и только далеко уже стала повторять: «Ни-на, Ни-и-на…» Понесла имя к господу.
— Надо будет старому рыбы наловить и отнести, — грубовато сказал Павел. — Пусть душу отведет. Он старый, ему брюхо набивать чем попало нельзя.
— Хорошо сделаешь, — сказал Андрей. — Только ты ему об этом не напоминай. Не любит. Скажи, что тебя скоро в подростки постригать[10] будут и ты грехи должен искупать.
— Какие это у меня перед ним грехи? — буркнул Павел.
Андрей мягко улыбнулся.
— А грушу его кто лотошил?
Все засмеялись.
Ночь лежала над костром, над спокойным недалеким Днепром. Мягкая теплота этой ночи сделала Андрея разговорчивым, а ребят молчаливыми. И это было понятно и хорошо, как шорох лозняка, как песня лягушек, которые гудели в пустые бутылки по всей заводи. И потому никого не удивило, когда в мире родилась пока что еще тихая песня:
А ўжо човен вады повен, з чаўна вада свішча.
Ой, там хлопец дзеўку кліча, не голосам — свішча.
Могучий, мягкий, как эта ночь, тенор начал с каких-то особенно сокровенных тонов. И казалось, ничего красивее этой песни не рождали глухая ночь и тихое течение Днепра. А голос легко переливался, плакал и молил кого-то:
Няма вёслаў, вецер човен ад берага ўносіць,
Выйдзі, ясачка, на бераг, кінь любаму косу.
Песня лилась и лилась, и это было подобно чуду. И радостно стало всем, когда парень в песне вышел на берег и оба пошли домой, а девушка сказала:
Пі, матуля, тую вадy, што я нанасіла.
Шануй, маці, таго зяця, што я палюбіла.
Песня вдруг оборвалась. Алесь увидел настороженные Андреевы глаза, вперенные в мрак за костром. Парень обернулся и посмотрел туда.
Почти за его спиной возвышался человек на вороном коне. Именно возвышался, потому что конь был едва ли не в два раза выше тех коней, которых пасли ребята. Так по крайней мере казалось.
Всадник этот возник будто привидение, будто сама тьма породила его как раз на том самом месте, где он стоял теперь. Возможно, мягкая трава приглушила лошадиный шаг или ребята, заслушавшись, просто не обратили на него внимания и приняли топот вороного за топот своих коней…
Под лоснящейся кожей вороного переливался каждый мускул. Удила оттягивали маленькую голову немного в сторону, и дико белел во тьме белок глаза, похожий на очищенное яйцо. А всадник сидел на коне, и дорожный плащ, тоже черный, спадал с его плеч на круп коня едва не до самой репицы. Длинный черный плащ. Словно обвисшие огромные крылья.
— Хорошо поёшь, хлопчик, — сказал человек, улыбнувшись.
Алесь почти испуганно смотрел на него. Более страшного лица ему никогда еще не доводилось видеть. Широкое и загорелое чуть ли не до горчичного оттенка, оно все было исполосовано и изрезано страшными шрамами, которые лишь каким-то чудом не затронули носа и глаз, толстого горбатого носа и жестких голубых глаз под черными бровями. Усы тоже были черные и длинные, но даже они не могли скрыть надменно поджатых губ. А вот черную гриву на голове кто-то густо перевил седой паутиной. Паутина лежала целыми клоками, чередуясь с черными прядями, и падала на плечи всадника, на воротник коричневой охотничьей одежды, когда-то богатой, а теперь потертой и кое-где загрязненной.
Вышитые саквы — переметные сумы, которые носят овчары, — были перекинуты спереди через побелевшую от времени кожу седла. Из одной сумы у самой руки, сжимавшей поводья, торчала рукоятка пистолета, видимо, очень дорогого.
— Хорошо поёшь, хлопчик, — повторил человек.
Алесь поднялся. Уж кому другому, а ему не пристало теперь прятать глаза только потому, что кто-то сидит на панском коне.
— Кто вы? — спросил он тихо.
Человек не ответил. Просто протянул руку и кончиком рукояти нагайки приподнял подбородок мальчика.
— В рядне, — будто про себя сказал он. — Но это не то.
Помолчал и властно спросил:
— Чей?
— Загорский, — вместо Алеся ответил Андрей.
— Гм! — усмехнулся человек. — Не перевелся, значит, обычай. Что ж, Загорские, позже попадете к дьяволу в лапы.
И, жестко улыбнувшись, добавил:
— Не думал, что у некоторых хребтина есть…
Мальчики молчали, тесно прижавшись друг к другу. Молчал и всадник.
— Кто скажет, как проехать на Раубичи? — спросил он наконец. — Разводье, дорогу залило. Плутал лугами.
Дети колебались.
— Ну? — подгонял незнакомец.
И тогда Алесь поднял руку.
— Туда, — сказал он. — Прямо туда, через луга.
— Видите огонек? — добавил Андрей. — Так это как раз в Раубичевом доме.
— Окно в Раубичевом доме? — покачал головой всадник. — Важно. Что ж, буду править туда… А ты пой, хлопчик. Петь хорошо… Пой, пока дают…
Он тронул коня и начал огибать костер, но вдруг остановился. И на лице его Алесь увидел несмелую и потому даже вызывающую жалость улыбку.
— Эй, — негромко сказал он, — это вам. — И, достав из переметных сум, бросил к ногам Алеся… змею. Змея шевельнулась несколько раз и замерла.
Алесь не отшатнулся. Ему впервые вот так поднимали нагайкой голову. Мгновение он и всадник смотрели друг другу в глаза. Потом черный отвернулся и дал коню шенкеля.
Спустя миг коня и всадника поглотил мрак. Словно их никогда и не было. Словно тьма родила их и тьма сразу же забрала.
Дети еще какое-то время стояли остолбеневшие и смотрели во тьму.
Потом Алесь наклонился.
— Укусит, — с ужасом сказал Павлюк. — Не бери ее.
Алесь отмахнулся и поднял змею, схватив ее возле головы.
Подошел к костру. И только теперь Кондрат удивленно цокнул языком.
Змея была деревянной. Такие обычно мастерят люди, люто и упорно страдающие от безделья. Из длинной палки, рассеченная почти насквозь глубокими вырезами — через каждые четверть дюйма — и укрепленная по бокам, спине и животу жилами во всю длину, она даже была покрашена. Спина и бока змеи были пестрые, живот — желтый. Кое-где бока и разинутая пасть были тронуты густым кармином.
Мальчик шевельнул рукой, и змея начала изгибаться, совсем как живая. Сходство было таким полным, что Павел брезгливо плюнул.
— Дай, — сказал Алесю Андрей.
Они снова уселись вокруг костра и начали рассматривать чудовище.
— Даже жало есть, — сказал Кондрат. — И глаза. Во, погань!
Андрей вертел змею в руках. Потом плюнул и бросил ее в огонь. Жилы, видимо, начали коробиться, потому что змея снова стала выкручиваться и извиваться. Хищно поднимала голову и едва не становилась на хвост.
— Зачем ты ее? — спросил Кондрат. — Можно было б соседских девок пугать.
— Да ее в руки взять гадко, — отозвался Павел.
— И это, — вслух подумал Андрей. — Да еще и неизвестно, что за человек был. Черный весь. А конь злой, как дьявол.
Змея все еще выгибалась, охваченная огнем.
— Нет, хлопцы, — убежденно сказал Андрей, — с Раубичем что-то не так. Может э т о т как раз по его душу приехал. Недаром на его огонь направился… Тут уж добра не жди, когда по ночам т а к и е шныряют вокруг по болоту и с окон глаз не сводят… Приедет вот такой ночью, обнимет хозяина, и исчезнут оба… Вы глядите не рассказывайте об этом никому, а то поп епитимьями замучит.
Кондрат сел на корточки и начал разгребать угли, а потом золу.
— Готова, — сказал он, выкатывая на траву одну картофелину за другой. — И плюньте вы, ребята, на эти побрехушки. Страшно будет до ветру в кусты сходить. Ешьте вот лучше.
И первый оскреб картофелину до розовой кожуры, разломил — пар так и повалил из рассыпчатого разлома — и, бережно посолив, начал есть.
Ели бульбу с тонкими ломтиками сала. Это было так вкусно, что все уплетали, аж за ушами трещало. Павел — этот вообще не тратил времени на то, чтоб очищать картошку, и потому весь рот у него был черный, как у злой собаки.
— А ты не говори, — сказал наконец Андрей. — Побрехушки-побрехушки, а такие вот, как этот, болотные паны часто по ночам летают. Гаврила из Драговичей врал, думаешь?
— А я и не слышал ничего, что он там баял, — сказал Кондрат.
— Так ты расскажи, Андрейка, — попросил Павел.
Андрей кашлянул, собираясь с мыслями.
— Гаврила этот с разрешения пана охотится. Когда там старому Загорскому-Веже утки понадобятся или еще что, так Гавриле говорят. И вот пошел он однажды в пущу и заблудился. Видит, что до утра все равно дорогу не найдет, и решил заночевать. А вокруг трясина, так он выбрал сухое место, разложил на нем костерок и сидит греется. Начал было уже дремать. А тут выскакивает из темени какой-то пан, худой, верткий и лицом темноватый. «Как ты, мужик, смеешь на панской дороге костер жечь?! Здесь паны скоро будут ехать!» — «Паночек, — взмолился Гаврила, — какая тут тебе дорога, когда одна трясина вокруг! Голову скорее сложишь, чем конем проедешь». Тот и слушать не стал, позакидывал в трясину головешки, те только зашипели, а сам побежал дальше. Гаврила стоит ждет. Вот, думает, напасть. Нехристь какой-то, басурман шутить надумал с христианской душой. А потом слышит — конский топот, визг колес. Катит карета шестериком, вокруг нее всадники. А сверху на карете бревно привязано. Крик, хохот, кони ржут. А паны — и в карете, и на конях — все черные, точно как этот, на вороном. Лица темные, волосы черные, одежда черная с золотом. И карета черная. «Сторонись, мужик!» — кричат. Тут Гаврила и понял — болотные паны. Катят по трясине, будто по сухому. Озорники!!! И так все ночи напролет гонять будут. Но Гавриле терять нечего, еще, может, и днем из трясины не выберешься. И он начал просить: «Мои вы паночки, мои голубочки, укажите дорогу, как мне выйти отсюда. Заблудился». Те хохочут: «Цепляйся сзади за карету». Гаврила уцепился, и они помчали, как пуля. Грохот, деревья по обеим сторонам валятся, хохот. Дух заняло. Звезды вот-вот ниже колес будут. И тут как раз над головой большой сук высокого дерева. Он — цап за него! Карета из-под ног рванула и помчалась дальше. Только кучер захохотал и крикнул: «Ну, твое счастье!» — да концом длинного кнута между ушей. Гаврила завизжал, но сук не отпустил. Держится, кричит «караул», зовет на помощь. А потом огляделся — он в своем дворе, висит на перекладине ворот. Жена из хаты выходит. Аккурат первые петухи пропели. И ему: «С вечера, говорит, пропал, холера. Зачем ты туда залез, чего горланишь, чего лопаисси, пьянчуга?»
Кондрат покачал головой и заулыбался — тоже вспомнил.
— С Гавриловым свояком еще хлеще было. Тот услышал от кого-то, что если не есть последние дни перед рождественским заговеньем, так можно увидеть «дедов». Так и сделал. А вечер темный, ноябрьский. Вот он лежит и видит — лезут через вершок для дыма… Вначале его отец, покойник, лезет, потом дед, потом прадед. Может, всех, до самого Адама, увидел бы. Но вот за прадедом лезет дядька. Святой жизни был человек, ни одной службы не пропустил. Вечно этой его святой жизнью малышу глаза кололи, когда, бывало, заберется в чужой горох или опары втихомолку наестся. Лезет дядька, лезет, почти весь уже пролез, но тут его что-то задержало: как ни дергается, не пролазит — и все. Оказывается, это у него к поясу борона привязана. Украл в земной жизни и даже на исповеди не покаялся. Тут Гаврилов свояк припомнил все муки, которых через дядькину святость натерпелся, да как захохочет. Ну, и все. Вылетели они все в трубу и исчезли.
Кондрат положил в костер большую сухостоину.
— Ложитесь все, хлопцы. Хватит.
…Улеглись. Андрей положил кожух рядом с Алесем, завернулся, тихо окликнул Алеся.
— Спит? — спросил Кондрат.
— Спит, — шепнул Андрей. — А ты заметил, что у Раубича огонь погас?
«И не сплю совсем», — хотел было сказать Алесь, но сразу провалился в такой глубокий сон, что не успел даже шевельнуть губами.
Все спали. Сухостоина медленно догорала. Туман поднялся из лощины и подступил ближе, будто хотел послушать сонное дыхание. Кони тоже тонули в тумане, и только их головы да длинные шеи возвышались над молочным, туманным озером.
IV
Полевая дорога ныряла в лощины, взбиралась на пригорки и снова извилисто падала вниз. И так было без конца, а вокруг лежала густо-зеленая, без единой проплешины, озимь, такая молодая и веселая на пригорках и бездонная в ложбинах, такая прогретая на солнце и студено-серая в тени, что захватывало дыхание.
Изредка посреди зелёного ковра попадались огромные, как дубы, дикие груши да у кринички в овраге серебрились ветлы.
И снова озимь, одна только озимь. А над ней, привязанные невидимыми нитями, трепещут жаворонки. А на земле, на всем ее густо-зеленом просторе, только одна подвижная точка: едет по дороге рессорный английский кабриолет, а в нем мальчик одиннадцати лет и тридцатилетний мужчина.
Мальчик в белой полотняной крестьянской одежде. Мужчина в чесучовой тройке, ботинках и широкополой соломенной шляпе…
— Может, вам шляпу отдать, панич? — Голос у мужчины с ясно выраженным польским акцентом. — Головку напечет.
— Не надо, пан Выбицкий.
— То добжэ, глядите. Нех тылько пани потом не ругает Выбицкого, если у дитяти заболит головка.
— Я коров на солнце пас. Так они иногда взбесятся от жары и оводов и мчатся, как бешеные, а мне ничего.
Пан Выбицкий смотрит на мальчика, и на его молодом лице появляется страдальческое выражение. «Дитя пасло коров… Езус-Мария!» Ему хочется сделать мальчику что-нибудь приятное, и он лезет пальцами в карман жилетки, достает конфету.
— На цукерэк.
— Зачем? — серьезно говорит мужичок. — Они денег стоят. Отвезите лучше своим детям.
— Но у меня нет детей, — растерянно говорит Выбицкий. — Совсем нет. Бери.
— Ну, тогда уж давайте.
Пан Выбицкий горестно качает головой. «Мужичок, совсем мужичок… И это сын князя Загорского! Наследник почти двадцати девяти тысяч семей, когда придет время… Глупый обычай!»
Выбицкому до слез жаль мальчика.
Так они едут и едут. А вокруг озимь, озимь и озимь.
Пан Адам Выбицкий еще шесть лет назад чуть не умирал от голода вместе с родителями. Был он из чиншевой шляхты, жил, как и большинство таких, земледелием. Но стал хозяином в несчастливое время.
…Даже год его рождения был годом черного неурожая. А потом пошло и пошло. Четыре голодных года, с двадцатого по двадцать четвертый. Год отдыха. А потом пять лет страшного падежа и мора, когда по всему Приднепровью осталась едва десятая часть коней и другого скота. Чтоб не умереть голодной смертью, довелось продать восемь десятин земли из десяти. Да и оставшуюся нечем было засеять, и она зарастала костерью, осотом и от чрезмерной кислоты хвощом. В двадцать четыре года Адаму пришлось уже так туго, что хоть с сумой иди. Тут его и подобрал Юрий Загорский. Экономом парня назначать было рано, и поэтому пан сделал его чем-то вроде приказчика и перекупщика с жалованьем в тридцать рублей в месяц да еще с панским жильем, одеждой и едой. С того времени Выбицкий ног под собой от радости не чуял.
Приказчик он был неопытный, но подвижной и, главное, безукоризненно честный, копейки под ногтем не утаит. И потому Загорский привык к нему и отпускать не хотел.
И вот теперь они ехали в господском кабриолете — сероокий панич в белой полотняной одежде, как последний мужик, и Выбицкий, горбоносый и костлявый, сожженный солнцем, но со старательно ухоженными усиками. Ехали молча, настороженно присматривались друг к другу.
— Что ж, паничу там нравилось? — спросил наконец Выбицкий.
— Очень.
— То ж я видел, что та хлопка так плакала, словно родного сына за свет провожала.
— Она не хлопка, она Марыля, вторая моя мать.
Пан Адам покачал головой.
— За что же это вы их так уважаете, панич?
— За то, что они трудятся, как Адам и Ева, — заученно сказал мальчик. — Пашут землю и прядут лен.
Выбицкий вздохнул:
— Э-эх, панич! Прошло то время, когда на земле были только Aдам и Эва. Прошло и не вернется. Теперь над Aдамом и Эвой царь, потом губернатор, потом ваш oйтец, а потом я, полупанок.
На губах его появилась ироническая улыбка.
— А они над всеми нами посмеиваются, потому что пока ничего больше не могут сделать. Пpо царя не слыхал, а губернатора, как они говорят, кулагой облили. Князь, по их выражению, «лярва, хоць і ў барве». А я вообце «или пан сам пан, или пан у пана служит?», «на ноге сапог скрипит, а в горшке трасца кипит». Тaк что никогда вам, панич, не быть мужиком, а мужику не быть паном. И потому пора вам забыть о том, что вы играли с холопскими детьми в бабки. Время учиться господствовать… Никогда им, к сожалению, не быть вольными. Всегда над ними будет пригон. Человек — это такая холера, что придумает…
— А белый жеребенок? — спросил Алесь и похолодел весь до кончиков пальцев: понял, что чуть не ляпнул лишнее.
— Какой белый жеребенок? — спросил пан Адам, внимательно глядя на Алеся.
— Камень вон у оврага, — неловко вывернулся Алесь. — Лежит в траве, словно белый жеребенок.
— А-а, — протянул безразлично Выбицкий. — Так это, панич, скорее на белую овцу похоже.
Его глаза почти незаметно смеялись.
— Так, значит, учили вас там, панич?
— Учили.
— Вот и хорошо. По крайней мере не спутаете льна с пшеницей.
— Не спутаю.
Они снова замолчали. Теплый ветерок повевал в лицо, кабриолет мягко покачивало. После почти бессонной ночи Алеся клонило в сон, и наконец он задремал…
…Не было уже ни озими, ни жаворонков над нею, ни солнца. Была ночь. И туман, и длинные лошадиные шеи над белым озером. Как тогда, в полузабытьи в ночном, он подступал почти к ногам, этот туман, и из тумана постепенно вырастали, выходили на пригорок, как на берег, удивительной красоты белые кони. Молчаливые белые кони, которые медленно перебирали ногами. Он один лежал у наполовину погасшего костра, а кони стояли вокруг него и часто, ласково наклоняли к нему головы и дышали теплом, а их глаза были такие глубокие и такие добрые, какие бывают лишь у матери, когда она глядит на ребенка… Кони стояли и печально, нежно смотрели на него, а между ними стоял еще мокрый белый жеребенок со смешным толстым хвостом… И это было такое непонятное счастье, что Алесь едва не заплакал. А молочный туман сбегал с земли, как вода, и всюду были белые… белые… белые кони…
…Во сне он почувствовал — что-то изменилось, кабриолет стоит — и проснулся от неясной тревоги.
Вокруг снова были озимь и жаворонки. А по этой озими издалека кто-то ехал к ним на чалом коне.
— Почему остановились? — спросил Алесь.
— Да вот он позвал…
— А что это за важный такой пан, что дороги ему нема?
— А это жандармский поручик Аполлон Мусатов… И что из Суходола его принесло, да еще одного?
Всадник медленно приближался по зеленому руну. Боялся, видимо, кротовых и хомячьих нор. Иногда почти из-под самых копыт вспархивали испуганные жаворонки, конь прядал ушами, но, покоряясь властной руке, как по струнке, двигался к дороге.
Наконец всадник подъехал к самому кабриолету. Алесь увидел узкие зеленоватые, как у рыси, глаза под песочными бровями, хрящеватый нос, бакенбарды и маленькие, но уже щетинистые усики. Лицо было бы грубым, если б не вишневые губы и совсем юный румянец тугих щек.
Этот человек плохо загорал: лицо было того же цвета, что и треугольник груди под расстегнутым воротом голубого мундира.
Но интереснее всего были руки: цепкие, очень характерные, скрыто нервные, со сплюснутыми на концах, как долото, пальцами. Одна рука сжимала поводья, другая гладила загривок коня.
Поперек седла лежал длинный английский штуцер; два пистолета были небрежно засунуты в переметные сумы.
— Добрый день, Выбицкий, — сказал поручик.
— Добрый день, господин Мусатов.
Рысьи глаза Мусатова ощупали коня, кабриолет, фигуру Алеся.
— В вольтерьянцев играете? — спросил поручик. — Смотрите, привыкнет вот такой ездить, а потом попробует и вас вытолкнуть.
— Это князя Загорского сын, — словно извиняясь, сказал Выбицкий. — В Озерище был в дядькованье.
В глазах Мусатова появилась искра заинтересованности.
— Польские штучки, — сказал он.
— Что вы, господин Мусатов! Загорские из коренных здешних… испокон века православные.
— А сами в католический лес глядят.
— Побойтесь бога! В какой лес?! — Выбицкий был откровенно обижен и за себя, и за господ.
— А почему же этот старый Загорский-Вежа приказал младшего брата вот этого парня в костеле крестить? Скандал был на всю губернию.
Выбицкий опустил глаза.
— Я человек маленький, не мне знать намерения старого господина. Но поймите и вы: человек он старосветский, с капризами.
— Екатерининских времен, — иронически добавил Мусатов.
— Его чудачества на деньгах стоят, — сказал Выбицкий. — Под каждым его капризом — тысяча рублей. Хватит всему Суходольскому суду. Так что не нам с вами его судить.
На мгновение умолкли. Звенели над зеленым руном жаворонки.
— Почему это вы едете не по дороге? — спросил пан Адам.
— Сейчас нам дороги не нужны… Ничего не видели?
— Нет, — встревожился Выбицкий. — А что такое?
Мусатов промолчал, лишь цепкая рука поправила штуцер.
— Черный Вoйна снова в губернии, — сказал он после паузы.
Пан Адам подался вперед.
— Ворвался откуда-то, как бешеный волк, — процедил Мусатов. — Торопится резать, пока пастухи не опомнились. Два года не было — и вдруг каменем на голову.
— А говорили, что вы его тогда… подвалили… два года тому назад.
— Я коня его подвалил… В этот раз буду умнее. Его свалю, а на его коне ездить буду. И откуда он только таких коней добывает? Стрижи, а не кони.
— Не ездили б вы теперь, господин поручик. Этот не мажет.
— И я не промажу, — сказал Мусатов. — Ездил вот криницы в оврагах посмотреть: а вдруг где-то у воды дремлет… Черта с два.
— А напрасно. Из оврага далеко видно. А на одного и не надо много. Выстрел — и все.
— Много помогло егерям, что они не одни были?
— Да что, наконец, случилось?
— Позавчера утром обстрелял с пригорка неполный взвод егерей. В тот же день, вечером, задержал фельдъегеря от генерал-адъютанта. Почту сжег. Вчера встретил на дороге исправника с людьми и разрядил по ним ружье. Днем чуть не нарвалась на него земская полиция, но не догнали. Только хвост жеребца видели. А ночью Раубич сообщил — Вoйна проехал через деревню.
— И все один? — спросил Выбицкий.
— Все один. Со времени последнего мятежа один. Ну, прощай, Выбицкий.
И стегнул плетью коня. Пан Адам смотрел ему вслед.
— Поехали, панич, — сказал он после паузы.
Кабриолет начал спускаться в лощину. Поручик мелькнул точкой на далеком погорке и исчез… Пан Адам сидел нахохленный и как-то странно улыбался.
— Раубич ему сообщил, — буркнул он. — Черного Вoйну, видите ли, им так легко сцапать… Не ты, брат, первый. Ло-ви-и-ли.
— А кто такой этот Черный Вoйна?
Губы Выбицкого тронула едва заметная теплая улыбка.
— Люблю смелых, — сказал он. — Может, потому, что сам не такой. А Вoйна смелый… И страшный. Ездит себе на вороном и стреляет.
— Зачем он ездит?
— Двадцать лет ездит. Всех остальных перебили, постреляли, по крепостям сгноили. А этот ездит… Последняя тень. Ни поймать его, ни купить… Как дух… Чтоб не спали…
Алесь понял, что Выбицкий больше ничего не скажет, и не стал расспрашивать дальше.
Снова мелькнула справа серебряная лента Днепра, более узкого в этом месте. Справа пошли леса. Молодые у дороги, они взбегали на возвышенность, постепенно делались все гуще, пока не переходили — на вершине гряды — в перестойную, дремучую пущу.
Дорога пошла с гривы вниз, ближе к Днепру, и тут глазам открылась уютная и довольно большая лощина. Пригорки окружали ее и прижимали к реке. Лощину, видимо, образовала небольшая речушка, которая сливалась с Днепром здесь, почти под ногами лошадей.
— Папороть, — сказал Выбицкий. — Жэка темна.[11]
Кабриолет спускался к речушке по отвесному склону. Лозняки на берегах расступились, открыв деревянный мостик. За ним перед глазами встали сельские хаты, которые выгодно отличались от озерищенских — почти все с небольшими садами, почти все крытые новой соломой, а кое-где даже и гонтом.
— Загорщина, — сказал пан Адам. — Ваш майорат, панич.
А над Загорщиной, выше по склону, стлался огромный плодовый сад, обрываясь вверху, словно по линейке, темной и роскошной стеной парка.
В парке что-то белело, перечеркнутое по фасаду серебристыми метлами итальянских тополей.
Чем ближе подъезжал кабриолет, тем яснее вырисовывался двухэтажный дом с длинным мезонином и двумя балконами, над которыми теперь были натянуты ослепительно белые, более, чем здание, маркизы. Дом опоясывала галерея на легких каменных арках.
— Ложно понятый провансальский замковый стиль, — сказал почему-то по-русски пан Адам, сказал с такой заученной интонацией, что сразу можно было понять: повторяет чужие слова.
В глубине парка, левее дома, виднелся какой-то круглый павильон, а еще левее и дальше, на пригорке, изящная и очень высокая, узкая церквушка, такая белая и прозрачная, словно вся была воздвигнута из солнечного света.
Алесь, видимо, успел бы лучше рассмотреть все это, но издали послышался топот копыт. Потом из узкого жерла темной аллеи вылетел, словно ядро из пушки, всадник на белом коне и вскачь помчался к ним. Осадил коня у самого кабриолета так резко, что конь будто врос всеми копытами в землю. Алесь увидел косящий нервный глаз коня, его раздувающиеся ноздри. Удивленный, почти испуганный этим неожиданным появлением, не понимая еще, что к чему, он боялся поднять глаза и потому видел только белую кожу седла и белый костюм для верховой езды. Потом робко, исподлобья, метнул взгляд выше и увидел очень загорелое, почти шоколадное лицо, улыбку, открывающую ровные, белые, как снег, зубы, белокурые волнистые усы, и копну волос, и, главное, смеющиеся васильковые глаза с каким-то нездешним, длинным, миндалевидным разрезом.
В следующий момент сильные руки бесцеремонно схватили его, подбросили вверх и снова поймали, и легкомысленный звучный голос весело прокричал что-то непонятное и одновременно вроде бы немного и понятное, но подзабытое:
— Mon petit prince Zagorski![12]
Смущенный Алесь попробовал освободиться, но руки держали его крепко, а рот человека, пахнущий очень приятным табаком, целовал его лицо.
— Мы протестуем!.. Tout va bien! Tout va bien, mon petit fils![13]
Синие глаза смеялись, заглядывая в зрачки маленького звереныша, который съежился на руках, уклоняясь от чужих губ.
И тогда белый стегнул плетью коня и понесся в аллею, в мелькающие блики солнечных зайчиков, оставив далеко позади себя кабриолет.
Аллея разделилась на два полукруга из деревьев, и впереди, за клумбой, за кругом почета, встал дом, широкое крыльцо, окаймленное легкими арками, и белокаменная терраса, на которой стояла женщина в утреннем туалете.
Белый прямиком через клумбу подскочил к террасе, поднял Алеся и пересадил его через перила на руки женщине. Потом встал на седло и перебросил через перила свое гибкое тело.
— Ag, Georges! — только и произнесла укоризненно женщина.
И сразу прильнула к мальчику, внимательно заглядывая в его глаза серьезными, темно-серыми, такими же, как у Алеся, глазами. Говорила и говорила что-то гортанно-страстным и тихим голосом и лишь потом спохватилась:
— Он не понимает, Georges.
— Ai-je bien attache le grelot?[14] Кони — мечта мальчишек. Вот я и прокатил.
— С самого начала и так по-чужому, Жорж…
— Черт, я и не подумал, — сказал смешливый.
И обхватил женщину и мальчика, прижал их к себе.
— Ну, поцелуй меня, поцелуй ее… Ну!
Женщина и белый говорили по-крестьянски. С сильным акцентом, но все же говорили, и это делало их более близкими.
— Поцелуй меня, — сказал белый.
Но мальчику было неловко, и он, наклонившись, поцеловал — совсем как Когутова Марыля попу — руку женщины, изящную, тонкую, казавшуюся особенно белой среди черных кружев широкого рукава.
— Facon de voir d'un chevalier… — засмеялся мужчина. — Я же говорил, что он мой сын, мой. К руке женщины прежде всего. Che-va-lier![15]
— Georges! — снова укоризненно сказала женщина.
Алесь во все глаза смотрел на нее. Нет, это была не она. У нее были маленькие руки и ноги, некрасиво тоненькая фигура. Но ее лицо с такими теплыми глазами, с таким спокойным ртом! Но каштановые искристые волосы! Все это было родным, лишь на мгновение забытым, и вот теперь всплывало в памяти.
И он вдруг каким-то неприкаянным голосом крикнул:
— Ма-ма!
Крикнул почти как крестьянский ребенок, на которого надвигается бодливая корова, крикнул, твердо веря, что вот сейчас мать придет и спасет. Крикнул и сразу застеснялся.
Ей только этого и надо было. Обняла, прижала к себе, начала шептать что-то на ухо. Но в нем уже росло возмущение и стыд, словно он изменил хате, рукам Марыли, глазам братьев. И он так разрыдался в этих тонких руках, будто сердце его разрывалось на части.
А она целовала.
Он плакал, ибо чувствовал, что пойман, что с этим шепотом для него кончается все прежнее.
…Его повели мыть и переодевать. И когда отец и мать остались на террасе одни, улыбка неловкости так и не сошла с их лиц. Избегая смотреть мужу в глаза, Антонида Загорская глухо спросила у пана Адама, стоявшего неподалеку:
— Что, пан Адам, как вам панич?
Пан Адам замялся.
— Правду, — тихо сказала она.
— Мужичок, прошэ пани, — решился Выбицкий, — но с чистым сердцем, с доброй душой.
— Ничего, — даже с каким-то облегчением вздохнула мать, — научим.
Отец беспечно захохотал, показывая белые зубы.
— Видите, пан Адам? Так легко и научим. Les femmes sont parfois volages.[16]
— Эту идею подал ты, Georges. — Серые глаза матери повлажнели. — И ты не имеешь права…
— Ну, скажем, и не я, — возразил пан Юрий. — Скажем, отец мой, и нам нельзя было не послушаться.
— Но почему его одного?
— Самодурство. Возлагал на Алеся большие надежды. И ты знаешь, что он мне сказал перед дядькованьем?
— Говори.
— «Как жаль, что я не отдал в дядькованье тебя, Юрий! Возможно, тогда бы ты, сын, был человеком, а не принадлежностью для церкви и псарни».
— Это я снова ввела в Загорщине церковную службу. И он не любит тебя… из-за меня.
— Оставь. Глупости.
— Ну, а почему он не хочет дядькованья для Вацлава?
— Боюсь, что Вацлав ему безразличен.
— Второй внук?
— Я не хотел, Антонида. Я ведь только сказал о легкомыслии…
Мать уже улыбалась.
— Что ж поделаешь, Georges, если ты все видишь en noir.[17]
Снова горестно задрожали ее ресницы.
— Забыл все. Забыл французский. А говорил, как маленький парижанин… Я прошу тебя, я очень прошу, Georges, не спускай с него глаз. Ухаживай за ним в первые дни, потому что ему будет тоскливо… Ах, жестоко, жестоко это было — отдать!
Пан Выбицкий деликатно кашлянул, направляясь к ступенькам, и только теперь пани Загорская спохватилась, подняла на него кроткий взгляд:
— Извините, пан Адам, я была так невнимательна. Очень прошу вас — позавтракайте вместе с нами.
— Bardzo mi przyiеmnie,[18] — покраснел Выбицкий, — но прошу извинить, я совсем по-дорожному.
— Ах, ничего, ничего… Я вас очень прошу, пан Адам.
Выбицкий неловко полез в карман и вытащил красный фуляровый платок, который напоминал большую салфетку.
Лакеи выкатили на террасу столик на колесиках, приставили его к накрытому уже обеденному столу. Мать начала снимать крышки с судков.
— Накладывайте себе, пан Адам, — сказала она. — Возьмите куриную печенку броше… Завтракать будем по-английски. Первые дни ему будет неудобно со слугами, бедному.
Эконом сочувственно крякнул, стараясь сделать это как можно деликатнее и не оскорбить тонкого слуха госпожи.
И как раз в этот момент появился в дверях Алесь в сорочке с мережкой — под народный стиль, — в синих шароварах и красных сафьяновых сапожках. Именно так, по мнению пани Антониды, одевались в праздник дети богатых крестьян, и потому мальчик не должен был чувствовать неудобства. Отец хотел было прыснуть в салфетку, но сдержался, помня недавнюю обиду жены. Поэтому он только указал на стул рядом с собой:
— Садись, сын!
Алесь, обычно такой ловкий, медвежевато полез на стул. Смотрел на хрустящие скатерти, на старинное серебро, на двузубую итальянскую вилку, на голубой хрустальный бокал, в ломких гранях которого дробилась какая-то янтарная жидкость.
— Что это? — почти беззвучно спросил он.
— Го-Сотерн, — ответил отец. — Это, брат, такое вино, что и ты можешь пить.
— Вина не хочу. От него люди дуреют. Ругаются.
Выбицкий сокрушенно сморщился, и, увидев это, Алесь вдруг рассердился. Наконец, это была их вина. Ведь они сами довели его, а теперь еще учинили над ним эту пытку.
Поэтому он смело полез поцарапанной рукой в хлебную корзинку, положил кусок на свою тарелку и ложкой потянулся к тарелке отца, испытывая чувство, близкое к отчаянию.
— Ешь, ешь, сын, — спокойно сказал пан Юрий. — Подкрепляйся. Давай мы и тебе тарелку положим.
Но маленький затравленный «мужичок» уже нес ко рту самый большой кусок. Ему было неудобно, и потому он оперся левой ладошкой о край стола, а когда оперся, из-под этой ладошки упал на пол подготовленный кусок хлеба.
Мальчик начал медленно сползать со стула под стол. Сполз. Исчез. А потом из-под стола появилась голова.
Сурово, с чувством важности момента, молодой князь поцеловал поднятый с пола кусок и серьезно сказал:
— Прости, божечка.
И уже совсем по-хозяйски мальчик добавил:
— Будьте ласковы, отдайте это коню.
Пан Адам мучительно покраснел. Неловкость царила долго. Отец, все время поглядывая на мать, начал объяснять Алесю, что так делать нехорошо, что у них это не принято, и вид у него, очевидно, был хуже, чем у Алеся, потому что мать вдруг засмеялась.
Неловкость исчезла. Все засмеялись, да только смех еще звучал не очень весело.
— Что же вы, например, ели сегодня на завтрак, мой маленький? — спросила пани Антонида.
— Сегодня… на завтра? — недоумевая, переспросил Алесь.
— Антонида, — сказал пан Юрий, — если можешь, говори по-мужицки.
— Что ты ел сегодня на… сняданне? — спросила мать.
— Крошеные бураки, — басом ответил медвежонок. — И курицу ели… Зарезали по этой причине старого петуха… Марыля сказала: «Все равно уж, пускай хоть панич-сынок помнит».
Мать улыбалась, ее забавляли «крошеные бураки».
— Жорж, — сказала она, — неужели старый петух для них праздник? И как он мог жить с ними? Зачем такая жестокость со стороны старого Вежи.
Отец помрачнел.
— Я виноват перед тобой, Антонида. Он лишь намекнул слегка, что Алеся желательно отдать в дядькованье. Остальное додумал и решил я. Когуты — лучшие хозяева. Мастера. Честные, здоровые люди.
Его сильные руки сжали край скатерти.
— Видишь, ты и все считали меня легкомысленным. Я не хотел, чтоб сын пошел в меня. Я хотел, чтоб он был сильным, весь от этой земли. Пусть его не кормили каплунами. Ты посмотри на большинство его ровесников — изнеженные, немощные. Всегда хорошо делать так, как делали деды. Они были не совсем глупы. Я хотел, чтоб из него вырос настоящий господин, сильнее холопов не только умом, но и телом.
Помолчал. Затем сказал:
— Сын графа Ходанского, дражайшего соседа, едет дорогой среди льнов и всерьез говорит, что мужички будут с хлебом. Какой из него будет хозяин? Какого уважения ему ожидать от крепостных? А этот будет иным. Несколько лет среди землеробов, простая, здоровая пища, много воздуха, физические упражнения, размеренная жизнь. А лоск мы ему вернем за какой-то год.
Хитровато улыбнулся в усы.
— Поел, сынок? На вот тебе. Это засахаренные фрукты. Их называют цукатами. Можешь взять к ним чашечку кофе.
Густая коричневая струя потекла в маленькую, с наперсток, чашечку. Мать с интересом, даже немножко брезгливо следила за тем, как сын берет загорелой рукой цукат, настороженно кладет в рот.
То, что первое попало на язык, понравилось Алесю — сахар, который иногда привозили детям и в Озерище. Но дальше зубы завязли в чем-то непонятном — груша и не груша — и потому неожиданном и гадком.
Он выплюнул цукат под стол.
— Невкусные твои… марципаны.
Лицо отца помрачнело, когда он увидел, что на глазах матери выступили слезы.
— Ты неправа, Антонида, — сказал он. — Я счастлив за парня. У его товарищей желудок уже теперь навсегда испорчен сладостями. А этот будет, если понадобится, переваривать железо. Быстроногий, ловкий, здоровый. Надо же кому-то тянуть по земле род следующее тысячелетие.
И он привлек жену к себе, поцеловал в висок.
— Ah, Georges, — сказала она, — иногда ты такой, что я начинаю любить тебя безмерно.
Отец поднялся.
— Пойдем, сын. Буду тебе все показывать. А вы оставайтесь здесь, пан Адам. Сегодня докладов не будет ни у вас, ни у главного эконома. Посидите здесь с женой, попейте кофе… Кстати, жалованье получите через неделю за все три месяца.
— Что вы, князь, — покраснел Выбицкий, — и так бардзо задоволёны! Что мне надо? Я один.
— Ну вот и хорошо… Пойдем, Алесь… Что вначале — сады или дом?
Алесь уже был сыт домом. И потому сказал:
— Сады.
Они спустились с террасы на круг почета и углубились в одну из радиальных аллей. Только здесь Алесь почувствовал себя лучше, потому что все вокруг было знакомым — деревья, трава, гравий под ногами.
Какое-то время шли молча. Потом отец как-то даже виновато сказал:
— Ты ее люби, Алесь… Люби, как я… Она твоя мать… Ты не смотри, что она строгая… Она, брат, добрая.
И его простоватое красивое лицо стало таким необычным, что Алесь опустил глаза.
— Буду ее любить… Что ж поделаешь, если уж так получилось.
Отец повеселел.
— Ну вот и хорошо… Ты не думай. Придет день постижения в юноши. К этому дню будут тебя, брат, шлифовать… с песком, чтоб не плевался… А потом, если только захочешь, будешь ездить и к Когутам, и в соседние дома. Я тебя ограничивать не хочу, не буду. Расти, как богу угодно. Это лучше… Коня тебе подарю — так до Озерища совсем близко будет, каких-то десять верст. И помни: ты здесь хозяин, как и я. Приказывай. Приучайся. Я думаю, будем друзьями… А за Когутов не бойся, им будет хорошо.
— Я и тебя буду любить… отец.
— Ну вот и хорошо, брат. Пошли.
Аллея вывела их через парк и плодовый сад к длинным серым строениям под черепицей. Строения окружал глубокий ров, заросший лопухами и крапивой. На самом дне струилась вода. Подъемный мостик лежал над рвом.
— Здесь псарня и конюшни, — сказал отец.
На манежной площадке гоняли на корде коней. Англичанин-жокей, длиннозубый и спокойный, как статуя, стоял на обочине, пощелкивая хлыстом по лаковому сапогу. Невозмутимо поздоровался с отцом за руку.
— Что нового, пан Кребс?
— Этот народ… — англичанин отвел в сторону сигару, зажатую между прямыми, как карандаш, пальцами, — ему б ездить по-цыгански, безо всякий закон… Сегодня засеклась Бианка.
— Может, оно и лучше, — сказал отец. — Я всегда говорил вам, что надо готовить к скачкам Змея.
— О, но! — запротестовал англичанин. — Сложение Змея не есть соответствующее сложение. Посмотрите на его бабки. Посмотрите — Мери его мать, посмотрите на ее калмыцкую грудастость и, пожалуй, вислозадость. Но, но!
Из манежа собирались к ним конюхи. Старший конюх Змитер, обожженный солнцем до того, что кожа шелушилась на носу, как на молодой картошке, снял шапку.
— Накройся, — сказал отец. — Знаешь, не люблю.
Змитер притворно вздохнул, надел шапку.
— И не вздыхай, — сказал отец, — не подлизывайся. Чует кошка. Было тебе приказано бинтовать Бианку или нет?
— О, Змитер, бестия Змитер, — сказал англичанин, — хитрый азиат Змитер. Они все в заговоре, они не хотели Бианки, они хотели выпустить местного дрыкганта[19]… совсем как сам господин князь Загорский.
Отцовы глаза искрились смехом.
— Что ж поделаешь, мистер Кребс. Тут уж ничего не исправишь. Видимо, будем выпускать на скачки трехлеток — Змея, Черкеса и Мамелюка.
И рявкнул на Змитера:
— Еще раз допустишь такое — не пошлю покупать коней, кукуй себе в Загорщине! — Вздохнул. — Подбери для панича кобылку из более смирных и жеребца.
— Глорию разве? — спросил Змитер.
— Чтоб голову свернул?
— Что вы, пан, не знаете, как ездят мужицкие дети? Они с хвоста на коня взлетают, черти, чтоб лягнуть не успел.
— А мне этого не надо, — сказал пан Юрий. — Мне надо, чтоб он за какой-то месяц научился ездить красиво, а не по-холопски. Потом дадим и настоящего жеребца.
— Хорошо. — Змитер пошел в конюшни.
Алесь взглянул на англичанина и неожиданно заметил, что глаза его смеются.
— Так это молодой князь? — спросил англичанин. — Будущий хозяин?
— Да, — ответил отец.
— Новый метла будет мести по-новому, — сказал Кребс. — Кребс пойдет отсюда вместе со знанием лошадей и строптивостью. А?
— Можно мне сказать, отец? — спросил Алесь.
— Говори.
— Вам не надо будет уходить отсюда, пан Кребс. Вы хороший. Вы останетесь здесь, и я вам буду больше платить.
Отец улыбнулся. Холодные глаза Кребса потеплели.
— Good boy, — сказал он. — Тогда и я буду любить молодой господин. Хорошо. Я научу господин ездить, как молодой лорд из лучших фамилий. — И, взглянув на пана Юрия, добавил: — И он никогда не будет заставлять старенького уже тогда Кребса поступаться совестью… и обманывать его. А Кребс сделает, чтоб трехлетки господина были лучшими даже в Петербурге.
Пристыженный отец отвел глаза:
— Вам не придется ожидать, господин Кребс. Я увеличиваю вам жалованье вдвое.
— Зачем мне это? — сказал Кребс. — Лучше не надо было настаивать на своем. Настоящий лорд не входит в сговор с конюхами против своего же знатока, который хочет сделать конный завод лорда лучше всех.
— Ну, хорошо, хорошо, Кребс, извини, — сказал отец. — Больше не буду. Делай себе, что хочешь.
Конюхи начали проводить перед ними лошадей.
— Ну, какую кобылку берешь? — спросил отец.
Среди всех Алесь заметил одну, маленькую и ладную, как игрушка, всю на удивление подобранную, чистенькую, будто атласную. Кобылка была мышастой масти, ушки аккуратненькие, копытца как стопочки.
— Эту, — показал на нее Алесь.
Англичанин оживился:
— У молодого есть глаз… стоит учить… Красавица кобылка… Как молодая леди… Головка маленькая, но не злая, шея — чудо-шея. — Он повернулся к отцу: — Но ваши имена… Бог мой, что за имя… Для такой леди — и вдруг: Ко-сюнь-ка.
— Косюнька! — крикнул обрадованный Алесь и бросился к кобылке.
— Сахар возьми, — сказал отец.
Алесь давал Косюньке кусок сахара, и та деликатно хлопала по его ладони теплыми твердыми губами.
— Косюнька моя, Косюнька!
— Уведите ее, — приказал отец. — Выбирай второго, Алесь.
Снова пошли кони, и каждый был хорош, но среди них не было того, с поводком, который ведет к человеческому сердцу.
— Привередливый, как Мнишкова Анеля, — улыбнулся отец.
Однако он напрасно говорил так, потому что в этот самый миг из ворот конюшни появился он, тот, без которого жизнь не имела смысла. Его вел под уздцы худой и подтянутый парень, и конь, дурачась, делал вид, что хочет ухватить парня зубами за плечо.
Этот был красивее всех коней на земле, красивее всех зверей и людей. Он шел, пританцовывая на каждом шагу, безмерно гордый от здоровья, силы и своей красоты.
Белый, как снег, даже белее снега, с маленькой нервной головой и длинной шеей, весь само совершенство, без единого изъяна. Он косил золотым оком, а его хвост и грива, длинные и золотистые, переливались мягкими волнами. «Вы, маленькие людишки, — казалось, говорил взгляд коня, — что мне до вас? Я позволяю вам осквернять ногами мои бока лишь потому, что делаю вам одолжение. И так будет, пока я не найду себе хозяина, которого полюблю. И над ним буду я господином, потому что я бог, а он всего лишь человек…»
Отец взглянул на Алеся и вздохнул: все было понятно.
— Логвин, — приказал отец конюху, — веди Ургу сюда.
Молодой парень подвел араба к ним.
— Будешь конюшим молодого князя, Логвин, — сказал пан Юрий. — Будешь знать только его. Ургу подготовь. Через месяц он понадобится. И ты, Змитер, знай: Логвину принадлежат только Косюнька и Урга. Ничего больше.
Логвин улыбнулся.
— Панича намуштровать, — сказал Загорский. — Научить скрести, чистить, мыть, ухаживать за копытами. Научить распознавать лечебные травы для лошадей.
— Сделаем, — ответил Логвин.
— Ну, тогда будьте здоровы… Всего хорошего, мистер Кребс.
Они прошли конские дворы и подошли к старинной кирпичной псарне. Человек средних лет, с заметной уже сединой в длинных усах, бурых, словно обкуренная пенковая трубка, медленно шел к ним. На поясе, который ладно перехватывал его зеленую венгерку, висел длинный медный рог.
— Карп, — сказал отец, — старший доезжачий. С этим, брат, держи ухо востро. Сур-ровый.
Карп подошел к ним и не здороваясь начал докладывать звонким и немного хрипловатым голосом доезжачего:
— Юнка отошла, пан Загорский.
— Знаю, — сказал отец, — старость. А хорошая была.
— Знайд, помните, со сворки отбился. Так подхватил, видимо, от какой-то деревенской суки коросту. Мазали прозрачным березовым дегтем и окуривали. Через две недели будет как стеклышко… Стинай пошел на поправку… И еще Алма принесла щенят.
— Вот это хорошо. Идем, Карп.
Псарня была полутемной, с узкими окошечками. Около полусотни собак разных пород и мастей лежали и ходили в загородках. Здесь были выжлецы, гончие, норные, датские пиявки для охоты на медведя. Брудастые, щипцовые, комколапые. Но мальчик еще не мог отличать их, и потому его особенно заинтересовал пестрый ньюфаундленд ростом с хорошего теленка и уголок борзых.
Хортые были все белые, с длинными щипцами.[20] Их огромные глаза напоминали черные сливы.
Отец на ходу давал советы, которые Карп слушал почтительно, но с какой-то своей думой.
— Пошли б вы, князь, к Алме, — сказал он. — Волнуется.
Коридорчиком прошли в родилку. Здесь в плетеной корзине лежала на овсяной соломе черная с белым сука испанской породы и махала куцым хвостом. Возле ее сосков повизгивали теплые щенки.
Увидев хозяина, Алма тонюсенько тявкнула. Огромные, все в мелких завитках, черные уши раскрылись.
— Видишь, Алесь, — показал на нее пан Юрий, — на уток лучшей не бывает. А какая аккуратная. Не собака, а аристократка.
— Я возьму одного щенка, — сказал Алесь.
— Бери, — сразу согласился отец. — Теперь ты имеешь все. А имя ей тоже будет Алма.
Ходить пришлось долго. Осматривали поля, не очень хорошие, винокурню и — издали — богодельню.
Сели отдохнуть в парке, на скамейке из неошкуренных березок.
Отец покручивал волнистый белокурый ус, с улыбкой смотрел на сына, вспомнил его разговор с Кребсом.
— Добрый ты, сын. Я вот купил у троюродного брата матери, у Кроера, сахароварню. Пришел, — а работники все в масках, чтоб не ели сахара. Это Кроер придумал.
— Ну и дурак, — сказал сын. — Я слышал, что гадина.
— Да и не в том дело. Нельзя позволять так издеваться. Что они, быдло, эти люди, что ли? Я маски отменил… Однако нельзя и угождать. Будешь сладким — съедят. Богатства одного человека на всех не хватит. Знаешь, сколько дворян на Могилевщине?
— Нет.
— Потомственных что-то около тридцати восьми тысяч, личных — около трех с половиной, но эти не в счет. Так вот, из этих тридцати восьми тысяч имеют право голоса на выборах в губернское собрание лишь семьсот пятьдесят восемь. А крестьян в губернии двести восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят девять, — а ну, по скольку душ на одного дворянина? Мелкая шляхта — это бочка с порохом. Ненавидит и нас, и крестьян. А у тебя с братом семь тысяч хозяйских душ. Ты со временем двадцатью девятью тысячами будешь владеть. Третью всех душ губернии, не считая тех, что за ее границами. И когда будешь доверчиво смотреть в хищные пасти, живого проглотят.
— А зачем она мне нужна, та треть? — спросил Алесь.
Отец оторопел.
— Ну, хотя бы для того, чтоб быть добрым к большому количеству христиан… Ты не Кроер, не Ходанский, не Таркайло… Наши люди бога молят, чтоб не попасть от нас к ним.
— Все равно это никуда не годится. Пусть добрый ты. Пусть добрым буду я. А что, когда умрем? Они же тогда нашим родственникам перейдут, наверно… тем. Куда ж такой порядок годится, если человек не знает, что с ним будет завтра? И люди на деревне так говорят и, наверно, боятся.
— С нами ничего не случится, — возразил отец. — Не то переживали. Восемьсот лет за плечами. И вера в будущее. Я не боюсь ни чумы, ни войны, ни политических убийств, ни рудников. Слава богу, всего было.
Помолчал, водя прутиком по песку.
— Дело в том, что ты принадлежишь к самому удивительному клану на земле. У этого клана было славное и грозное прошлое, но и тогда у него не было имени. У этого клана настоящее, хуже которого трудно придумать, и будущее, которое теряется в тумане неизвестности. Этот клан не имеет своего облика — и угрожал когда-то орденским землям. У него нет души — и он вызывает мощный взрыв сил у каждого, кто соприкоснется с ним. Тогда он дает такие взлеты, что все удивляются. Иногда он исчезает, как река под землей, чтоб всплыть в самом неожиданном месте. Ежеминутно гибнет и одновременно живуч как никто. У тебя нет примет, и именно в этом твои большие преимущества. Ты безлик и ты многолик, ты ничто и ты все. Ты кладовая самых невероятных возможностей. И ты гордись этим, гордись своим могуществом, гордись тем, что ты — это ты.
Пан Юрий посмотрел на сына и вдруг спохватился:
— Ах, боже, ты же еще много чего… Да ладно, ладно… Я, понимаешь ли, и говорить-то не умею. Не мое это дело, я человек простой. Вот охотиться да собачничать — это другой вопрос.
Снова обогнули дом, окруженный серебристыми фонтанами итальянских тополей. От бокового входа в него тянулась узкая аллейка. В конце ее стоял тот круглый павильон, который заметил Алесь, подъезжая к Загорщине. Крыша павильона прерывалась по кругу сплошным стеклянным окном, а выше стекла поднимался изящный круглый купол.
— Церковь, что ли? — спросил Алесь.
— Это картинный павильон. Впрочем, ты пока мало что еще поймешь. Я хочу тебе показать лишь одну картину.
И он открыл дверь.
— Тут, брат, все есть. Лучшая коллекция только у твоего деда… Вот, смотри.
Прямо перед ними висела на стене довольно большая картина в тяжелой, потемневшей от времени золотой раме. На картине пейзаж, каких не бывает, — прозрачно-голубой и неуловимый.
— Монтенья, — сказал отец. — Знаменитый итальянский художник.
Пейзаж просматривался сквозь ветви высокой яблони с золотистыми плодами. А под деревом шел куда-то молодой человек и вел за уздечку белого коня. На человеке была круглая шапочка; длинные рукава одежды развевал ветер. У человека были темно-серые глаза и прямой нос.
— Весь день думал, на кого ты похож, — сказал отец. — И вот вспомнил. Да это же ты, ты с белым конем! Это ты и Урга. Как две капли воды.
Ах, как не отступал от Алеся все эти дни белый конь! И все это было словно сон. И вот теперь он сам, сам Алесь, шел с белым конем в какую-то голубую даль.
V
Так потекли дни.
Каждый из них был не похож на другой и все же в чем-то неуловимом похож. Каждый день был открытием и неожиданностью.
Алеся угнетало новое положение — чрезмерные ласки родителей, нелепые обычаи дворца, — и в то же время он безотчетно гордился всем этим, потому что он был подростком, потому что ему уже, как каждому подростку, хотелось утверждать свое «я».
Родители, возможно и не подозревая об этом, выбрали благоприятное время. Незаметно делали из него не то, что он хотел, а то, чего хотели они.
Поднимали его в седьмом часу утра. Пожалуй, поздновато, потому что в Озерище вставали раньше, и теперь он чаще всего добрых полчаса лежал без сна, каждый раз новыми глазами рассматривая голубые стены комнаты. Над его головой, в углу, плыла куда-то древняя копия с божьей матери Кутеянской: маленький горестный рот, «нос не краток», удлиненные глаза, смотревшие с такой добротой и скорбью, что временами, особенно вечером, хотелось плакать, глядя на них. Рука прижимает дитя, похожее на маленького мудрого старичка.
По древнему преданию, эту икону написал, став схимником, восемьсот лет тому назад воевода Глеб, такой далекий предок Алеся, что и представить было трудно. Мечом приводил он в христианство жителей Суходола и Рше, был в этом усердии к вере, пожалуй, суровее даже мстиславского собрата Волчьего хвоста, да, видимо, не вытерпела душа невинной крови недавних братьев по Перуну, потому что бросил Глеб меч, оставил воеводство и под именем Григория пошел на черный постриг и вечное молчание. Икон таких он написал две. Одну — для монастыря, одну — сыну (она теперь висела у старого деда Загорского).
А та, которая висела здесь, была копией шестнадцатого столетия. Писал ее тоже кутеянский мастер — Ипатий. Висела и с некоторым удивлением глядела на кровать с пологом, на конторку из черного дерева, на блюдо с незабудками (корни их прижали куском мрамора, цветы поднялись и стояли над блюдом сплошной голубой шапкой).
Алесь знал, что за первой дверью светлый коридор второго этажа, что вторая дверь ведет в ванную комнату, а потом в комнату для занятий, что он может всегда спуститься из той комнаты в библиотеку, что все это для него, и этот простор пугал его.
В седьмом часу по всему дому били часы. И тогда в спальню заходили два человека: немец-гувернер, герр Фельдбаух, толстый, лысеющий и весьма подвижной, и крепостной дядька Халимон Кирдун, по кличке Халява, человек очень добрый, но мрачный, — видимо, по той причине, что его жена была редкая красавица. Алесь сам слышал от дворовых, что Халимону давно стоило бы ее побить. Но Халимон, очевидно, по доброте своей все никак не мог решиться на это. Потому, наверно, и мрачнел.
Алесь знал, что немец начнет разговор по-своему, и не боялся этого. Просто удивлялся, как быстро становились понятными чужие слова, будто выплывали из далекого, забытого сна. Словно он знал их давно, а потом забыл. Так оно и было, потому что до семи лет он не знал других языков, кроме французского и немецкого. И вот теперь жадно, со свежей головой, наверстывал.
Немец катился к кровати, как шар, и сразу начинал бормотать что-то непонятное только с пятого на десятое, но приятное:
— Oh, dieser kleiner Pennbub! Alle sind schon auf, kleine Voglein singen dem Herren Gott ihre ewigen Ruhmlieder, nuch? Der schlaft aber immerfort und wei? nich einmal — Morgenstunde hat Gold im Munde, nuch?[21]
Это был, по его мнению, самый приличный стиль беседы с дворянским ребенком.
Фельдбаух, сын богатого бюргера, окончил гимназию и первый курс университета в Геттингене, но потом родители обнищали, и сын уехал искать счастья в неизвестное Приднепровье. Здесь он служил уже десять лет, из них шесть последних у Загорских. Его не отпустили даже тогда, когда Алесь пошел в дядькованье. Соскучившись по работе, он теперь наверстывал, желая, чего б это ни стоило, заставить ученика за какой-то год хорошо разговаривать по-немецки.
Фельдбаух делал резкий взмах полой халата, словно запахивал римскую тогу.
— Schon gut. Mach dich drauf zu waschen, mach dich Mutti zu begru?en, mach dich an die Gottesgabe, — ja, an die Bucher doch, wenn der Furst zu keinem dummen Fursten werden will, nuch?[22]
…Алеся поднимали, вели в ванную комнату, и там, под присмотром немца, Кирдун обливал мальчика водой и растирал. Кирдун ревновал панича ко всем и потому все время ворчал под нос, ругая Фельдбауха, которому неизвестно зачем дали право наблюдать за туалетом, словно он, Кирдун, делал это без немца хуже. Кирдун сопровождал когда-то пана Юрия за границу и поэтому знал несколько немецких слов.
Немецкий язык его оскорблял. Спросит, бывало, Кирдун, надо ли нагреть ему ванну для ног, а немец отвечает:
— Das ist mir Wurst?[23]
Просто черт знает что! Не язык, а свинство! Все равно ему, видите ли, горячая ванна или колбаса.
Чистому и причесанному паничу надевали узкие штаны (псевдонародному костюму дали отставку в конце первой же недели) и свободную белую сорочку с открытым кружевным воротом и вели на балкон, где было особенно светло от белоснежных маркиз. Здесь за чайным столом ожидала мать и на высоком стуле удивительное существо — двухлетний брат Вацак, который смешно таращил на Алеся серые наивные глаза.
Мать целовала Алеся в висок, держала за подбородок узкой, до смешного маленькой ручкой, спрашивала — изредка по-французски, чтоб приучался, — как спалось.
Он отвечал, так мучительно подбирая слова, что даже малому Вацаку становилось смешно.
Ели овсянку с молоком, яйца всмятку, тартинки с маслом и сыром, творог и мед. Взрослые пили кофе, дети — чай. Появлялся с объезда отец, загоревший, смешливый, сыпал шутками.
В рекреационной уже ожидали Фельдбаух и швейцарский француз monsieur Jannot (этому, как наиболее избалованному, разрешалось завтракать в своей комнате). И тут начиналось что-то вроде упорного сражения. Людвиг Арнольдович бился с Алесем над немецким и латынью плюс математика и история, monsieur Jannot — над французским плюс риторика и изящная словесность. Можно было умереть со смеху, глядя, как они старались.
Так длилось часами. Алесь благодарил бога за то, что англичанина и учителя государственного языка отец обещал пригласить лишь осенью. Иногда слова трех языков путались в голове.
От этих мыслей его отрывал вдохновенный голос герра Фельдбауха, в котором звучали неожиданные для немца басовые ноты.
Гувернер стоял перед секретарем в позе Гракха на форуме: рука вытянута ладонью вверх, большой палец отведен в сторону. Лицо надменное. Брюшко вперед. Это он громил безбожных римлян, принесших столько вреда немецкому отечеству:
— Eben darum stur-rzte sich Hermann Cheruske einem Lowеn gleich auf den gr-raulichen Varus, den Fuhrer der ver-rfuhr-rten Romanier. Und Teutoburger Wald wurde zum Fel-lde der deutschen Ruhmheit.[24]
«Как это лес мог стать полем, — думал несчастный ребенок, — вырубили его немцы, что ли? Может, и так. От них всего можно ожидать. Немцы».
…Бил гонг, возвещая конец занятий. Глаза Фельдбауха, которые только что метали молнии, снова делались голубыми и добрыми.
После занятий на мальчика наводили внешний лоск. Наступал час танцев (аккомпанировал на игрушечной скрипке monsieur Jannot), который был для Алеся пыткой, а потом час верховой езды в манеже.
Во время танцев француз прививал ребенку утонченные манеры, c которыми потом успешно разделывался грубоватый, как каждый любитель коней, мистер Кребс.
— Шенкелями не жми, шенкелями, говорю, не жми. Не нервируй коня, сто тысяч дьяволов и заряд картечи тебе в задницу. Как падаешь?! Как па-да-ешь?! А еще лорд! Лорд даже с коня падает красиво!
Невозмутимый англичанин до неузнаваемости менялся, когда дело касалось лошадей.
— Аз-зиаты! Разве вам по-европейски ездить?! Иначе вам ездить, вар-ва-ры! Ох-люп-кой, — с трудом произносил он чужое слово.
А потом вред, нанесенный англичанином, снова устранял француз, и на заднем дворе еще час слышался звон шпаг и ворчливые возгласы.
Пожалуй, лишь железное мужицкое здоровье позволило Алесю вынести все эти испытания. Он похудел, ноги и грудь стали не по-детски мускулистыми, взгляд стал зорким и настороженным. Но зато в движениях все чаще прорывались ловкость, грация, изящество.
Может, потому, что он и раньше хорошо дрался на палках, особенно успешно шло фехтованье. Да и Кребс, когда мальчик не слышал его, все чаще говорил:
— Будет. Будет наездник.
После купанья до самого вечера было свободное время. Однако свободным оно было лишь на словах. Обед был не в обед, потому что все время приходилось помнить, какой нож для чего. Легко было есть только курицу, потому что это ели, как и в Озерище, руками. Чаще всего он вставал из-за стола голодным, и Халимон Кирдун, чтоб не извелся ребенок, тайком приносил ему еду в комнату. Печально смотрел на Алеся, вздыхал по-бабьи:
— За что же тебе, горемыка, такие мученья? Боже милостивый, убивают ребенка, живьем едят…
Лишь иногда, очень редко, можно было убежать к дворовым или в отдельный домик, где жил доезжачий Карп со своей женой Анежкой, и там отдохнуть душой. Детей у Карпа не было, и потому Анежка жалела панича, угощала привычным — орехами, пряглами,[25] поджаренными на подсолнечном масле.
Русая и синеокая, не в меру располневшая, добрая, Анежка смотрела на Алеся и тихонько причитала:
— Ешь, бедняжка, ешь, отощалый ты мой! И зачем, кому это нужно, мученица ты моя Дарота? По битому стеклу тебя водили, бедную, а его по мукам…
Это причитание звучало так трогательно, что из глаз Алеся от жалости к себе сами собой начинали капать редкие и крупные, как бобы, слезы.
Однако и поплакать вдосталь не давали. Только немного ожил, как уже ищут.
…Отец ведет по галерее предков.
— Данила Загорский!.. Кисти неизвестного художника… Данила возглавлял смертный отряд в Крутогорье. Погиб со всеми воинами…
Ян Загорский… Кисть Сальватора Розы…
Отец неузнаваемо менялся, заходя в круглый картинный зал. Здесь он мог говорить и говорить. Хорошо или плохо, но он отдавал сыну часть той страсти, которая горела в его душе.
И все же наиболее сильно тянуло Алеся к картине Монтеньи «Юноша с конем». Было в ней что-то наивно-притягательное и мудрое.
И не в том дело, что юноша был вылитый он, Алесь, хотя и в чужом, заморском платье, а конь — настоящий Урга, тот самый Урга, который полюбил его, Алеся, больше других, потому что мальчик не оскорбил его ни чрезмерным недоверием на барьере, ни позором шенкелей, когда лошадь понимает без них, как ей нужно поступать.
Не в этом было дело.
Дело было в том, что сквозь листья густо-зеленой яблони с золотыми плодами просвечивала такая даль, какой не бывает на земле, даль неизвестной голубой страны, в которую спокойно и уверенно шагали человек и белый конь.
…В одиннадцать его укладывали в кровать. За окном среди ветвей дрожал и качался фонарь, шелестели листья итальянских тополей и долетал с Днепра недоуменный ночной крик серой цапли.
Алесь засыпал, довольный собой.
А ночью приходили запрещенные, «непристойные» мужицкие сны. Ему снился сеновал и гнезда ласточек над головой. Он снова видел росистые покосы и самого себя с баклагой на плече… Ему виделись коровьи глаза, ее усталые, сытые вздохи во тьме хлева и журчанье молочных струй, льющихся в пенный подойник…
VI
Окончился месяц трав, отцвел за ним месяц цветов. Унесло ветром ореховую пыльцу, исчезла до следующих надежд и новой весны вампир-трава, отошли пестро-зеленые «копытца Марииной ослихи» — копытень. Пришел пчелиный, звенящий косами месяц цветущих лип.
Все менялось. Лишь ничто не менялось в Загорщине.
И вот однажды, проснувшись позже обычного от приглушенного звона часов, Алесь почувствовал, что что-то не так. Не вошел Фельдбаух, не появился в дверях хмуроватый, добрый Кирдун.
И мальчик на какое-то мгновение почувствовал себя одиноким и оставленным на волю судьбы. Лишь на мгновение, потому что в следующий миг он вспомнил, что пришел тот день и с ним, возможно, какая-то свобода, возможность быть хотя бы немножко хозяином самому себе.
На это намекала одежда, разложенная на спинках кресел, и то, что дверь в ванную комнату была открыта, — делай сам, что хочешь. С наслаждением вспомнив это, он потянулся, и вдруг его словно подбросило. За окном послышался громкий звук. Откуда-то из-за дома, с берега пруда, в парке ударила пушка. Потом второй раз… третий… восьмой… одиннадцатый.
Дверь резко распахнулась, будто тоже от удара пушки. На пороге встал пан Юрий, белозубый, загоревший. Махровый персидский халат распахнулся на груди. От всей фигуры, от волнистых, густых усов, от синих смеющихся глаз так и веяло здоровьем.
— Поставить на ноги бездельника князя! — грозно рявкнул отец. — Бездельник князь спит и не знает, что его ожидают большие дела.
Алесь не успел опомниться, как сильная мужская рука рванула одеяло и молниеносно как-то особенно звучно шлепнула по мягкому месту.
— Stehe auf! — гаркнул отец, так удачно копируя Фельдбауха, что на мгновение даже страшно стало. — Eine au?er-ordentlich perfekte Fursterhalbwuchsigerverrichtung ist keine Bettharrung auf ne Vonsichselbstvollziehung, nuch?[26]
И за ногу стянул сына с кровати.
— Мыться, мыться вместе!
В ванной комнате, возле глубокого бассейна, отец сбросил халат и комнатные туфли, и только теперь посторонний заметил бы, как они похожи, пан Юрий и Алесь. Мальчишечьи, но крепкие формы сына обещали со временем сделаться похожими на гладкие и могучие формы отца.
Отец неожиданно схватил его и, подняв, так ловко бросил головой в бассейн, что Алесь колесом перевернулся в воде.
…После купанья они оделись в соседней комнате, и это было очень похоже на маскарад, потому что оба надели поверх батистовых сорочек с кружевной манишкой и узких штанов до колен еще и широкую местную одежду, которая ждала десятилетиями подобных случаев, лежа в сундуках между листьями дорогого турецкого табака.
Отец возложил на себя красную, тканную золотом чугу, кряхтя, натянул малиновые сапоги и красные замшевые перчатки. Потом сын помог ему обмотать вокруг талии тканный золотом слуцкий пояс. Отец прижал конец пояса ладонью на животе и медленно вращался, следя, чтоб пояс лег красивыми складками.
Затем пришла очередь Алеся. Он тоже натянул сапоги, только белые. Отец набросил на него широкую белую сорочку с одним плечом, на другом ее закололи серебряной фибулой. Поверх сорочки пан Юрий по-мужски неловко надел сыну узкую белую чугу, такую же, как и у него самого, только тканную серебристыми и блекло-золотистыми травами.
— Высокородные владыки Загорские, князья Суходола и Вежи, собираются на войну.
— Куда на войну?
— Известно куда. На Оршанское поле.
— Кого бить?
— Там скажут!
— А за что?
— А так, — ответил отец. — Без всякой причины. Королевский приказ.
Празднично одетые, они вышли на террасу, где их ожидали мать с маленьким Вацлавом, гувернеры и несколько слуг во главе с Кирдуном. Мать и Вацлав были в обычных праздничных нарядах из белого индийского муслина и кружев, герр Фельдбаух — в сюртуке, месье Жано — в аккуратном черном фраке.
Слуги, подобно хозяину с сыном, были тоже в старой одежде.
Мать поздоровалась с сыном и пошла за мужчинами. Все начали спускаться с террасы. Алесь шел, опустив глаза, и вдруг что-то неосознанное заставило радостно задрожать его ресницы.
Он встрепенулся: у крыльца стояли в праздничных одеждах Когуты — Михал, дед Данила, Андрей, Кондрат, Павел, Юрась. Только Марыли не было да Яни со Стафаном.
Рванулся было к ним — отцова рука властно сжала плечо.
Когуты стояли молча. И Алесь шел к ним, чувствуя почти физическую боль в сердце.
Лишь приблизившись, он увидел, как сильно они теперь отличаются от него, какой высохший и седой старый Данила, какая ссутуленная, пригнутая тяжестью земли спина у Михала, какие неловкие движения у сыновей, словно испуганных праздничной одеждой и необычной обстановкой. Все они прятали глаза. Лишь Павлюк удивленно и даже как-то отчужденно смотрел на панича.
Кирдун с уздечкой на плече прошел вперед господ и встал лицом к лицу с Михалом, протянул один конец уздечки ему, другой — пану Юрию.
— Где та уздечка, на которой ты водил этого стригуна? — спросил Халява.
— Вот. — Торопливая рука Михала протянула сыромятную темную уздечку.
Кирдун взял ее и протянул другой конец этой узды пану Юрию. Так они и стояли, соединенные двумя недоуздками, — мужик и князь…
Теперь говорил Юрий.
— Защищали панича твои стены? — спросил Загорский.
— Защищали. Как сынов, так и его.
— Дай, — сказал пан.
Андрей шагнул к паничу и вынул из кожаного мешочка щепотку жирной сажи со стены хаты.
— Мажь, — сказал отец. — Чтоб помнил.
Когда Андрей мазал прядь волос на Алесевой голове, мальчик поднял на него умоляющие глаза. И Андрей, перехватив взгляд, незаметно для других улыбнулся ему краешком губ.
Мешочек с оставшейся сажей спрятали в железный ларец.
— Водил ли ты его по земле, куда мы все пойдем? — спросил отец.
— Да, — ответил Михал.
— Тогда получи тридцать… — отец взглянул на Алеся и поправился: — Нет, даже сорок восемь десятин… Тот клин, что за Луговым. Чтоб тебе и детям твоим было где по земле ходить… Эта твоя земля освобождается от поборов и навеки остается за твоей семьей.
Юрась, видимо заранее подготовленный, встал на колени, и пан Юрий положил ему на руку щепотку земли.
— Учил ли ты моего сына быть милостивым к животным, как то надлежит человеку?
— Да.
— Тогда получи семь коней-двухлеток и двух коров для женщин.
Ресницы у Алеся были влажные. Как бы там ни было, а это его, Алеся, продавали сейчас, и в этом было его сходство с другими людьми в белом.
— Дом твой будет крепким, — сказал пан Юрий. — Под каждую пяту твоей хаты и хаты сыновей ты положишь по десять рублей, потому что воспитывал в труде и поте моего сына. Шесть сыновей — двести сорок рублей…
Кожаный мешочек звякнул, упав к ногам Михала.
…Потом Алеся посадили на Ургу, и пан Юрий повел коня вокруг усадьбы. Остальные шли за ним. Отец остановился на высоком берегу Днепра и обвел рукой все, что видел вокруг.
— Это твое, — сказал он. — Твоя земля и твое небо. Помни: всю жизнь ты будешь пить воду из Днепра и обмывать его водой своих новорожденных. И отнять это у тебя не может ни человек, ни бог, ни дьявол. Одна смерть.
Кирдун подошел к Алесю и прицепил к его ремешку кинжал и пистолет. Затем подал князю короткий меч — корд — в серебряных с золотыми травами ножнах.
Отец встал рядом с конем и засунул саблю в петлю высокого седла.
— Ты носишь хорошее оружие, чтоб не злоупотреблять им, и богатую одежду, чтоб не гордиться ею перед остальными.
И он легонько перетянул сына плетью по спине, а потом прикрепил арапник к другой петле седла.
— Помни.
За всеми этими церемониями не заметили, как сильно устала пани Антонида. У нее разболелась голова, и пан Юрий даже с некоторой радостью отпустил ее.
— Устал? — спросил отец ласковым голосом, сочувственно заглядывая сыну в глаза.
— Нет.
— Это хорошо. Сейчас, братец, начнем обряд, на котором никому не дозволено присутствовать, кроме нас… Хорошо запомни… Потому что доведется передавать сыну…
Лицо его было усталым, видно, что ему надоело все это, однако даже он находится сейчас под страшным грузом чего-то обязательного, предначертанного и незыблемого.
…Они миновали дворец и пошли по незнакомой аллее в ту часть запущенного парка, куда отец до сего времени никогда не водил Алеся.
Здесь, видимо, вообще ходили мало; траву, которая проросла сквозь гравий, очень давно не выпалывал садовник. Вместо светлых лип, осокорей и итальянских тополей по обе стороны аллеи все чаще попадались черные и какие-то зимние ели да мрачные вековые дубы. Можжевельник сплошным мощным ковром устилал лужайки, нетронутый папоротник клубился над поверженными деревьями. Здесь парк превращался уже в настоящий лес.
И тут в непроходимой чащобе блеснуло прозрачное, видимо от мощных ключей, озерцо, а над ним на мрачной от тени поляне выросло удивительное строение, узкое и высокое, сложенное из серого и розового дикого камня.
Собственно, таким был лишь первый этаж. Выше камень был обтесанный, были даже кое-где романские арочки. А еще выше, почти достигая вершин пятисотлетних замшелых дубов, возносились две кружевные готические башенки. Мрачноватое строение думало о чем-то, что не касалось двух человек, которые сейчас шли затененным лугом к его двери, и этот его покой был покоем конца.
Перед строением в высокой траве лежали кругом семь обтесанных камней, а в центре круга — восьмой, с чашеобразным углублением наверху.
— Садись на землю, — сказал пан Юрий. — И слушай.
Безотчетно проникаясь чем-то таинственным, Алесь сел.
На одной из сторон центрального камня неумело был высечен нарушенный во всех пропорциях образ доброго пастыря, несущего на плечах агнца.
— А теперь вообрази, что сорок длинных человеческих жизней лежат между тобой и этим пастырем. Сорок. А ты сорок первый, — сказал отец.
Они молчали, склонив головы. Было так тихо — листик не шелохнется.
— Сорок. Это те, которые были до нас, и мы, и те, что еще будут. И каждому следующему труднее, потому что он несет бoльшую ношу. Будут и те, кому станет нестерпимо тяжело, и я молюсь богу, чтобы это не был ты. Каждый должен будет нести слабого, его боль и его обиду. Кто этот более слабый — каждый выбирает сам. А теперь посмотри: на другой грани еще более старые рeзы. Этот молодой месяц означает серп, а эти мохнатые тростинки — колосья. Кто будет жать — об этом молчат годы и молчат столетия. Никто еще не додумался — кто, потому что тот, кто их высек, умер и не скажет… Посиди, сын, подумай или просто помолчи.
Алесь и так молчал. Его трогали не слова, а мертвый сон камней, деревьев, строения, которое окружали дубы.
— Здесь было языческое капище, — сказал наконец отец. — Какому богу они молились, никто не знает. Потому что из них никто не уцелел… Они оставили эти камни и этот лунный серп и исчезли, как облака. Здесь они собирались, а этот камень и чаша на нем были, видно, жертвенником. Сколько лет так длилось, неизвестно. А потом из Полоцка пришел по Днепру ближний дружинник Глеб, и тогда эти люди увидели кровь. Не стоило, если не хотели креста? Конечно. Но кто обращал внимание на то, чего хочет и чего не хочет муравейник? Не обращал и Глеб… Капище искали долго. И нашли… И вот под этими камнями погибли все его защитники. До единого.
Отец помолчал.
— Здесь раньше было два ряда камней. Внешний забрали, заложили в фундамент строения. Но потом Глеб раздумал. Видимо, потому, что здесь был такой покой и нельзя было не полюбить это место. Поэтому он приказал освятить главный камень образом пастыря, однако тех камней из фундамента не вынул. Ты их можешь увидеть… Вначале построили первую часть строения, самый низ. Вторую часть надстроили через триста лет, когда уже и кости Глеба сгнили в Кутеянских пещерах. Башенки возвели еще спустя двести лет… И вот все это стоит: камни на берегу озера, дубы, которые в три раза моложе них, и мрачное строение.
— Что это? — спросил Алесь.
— Это усыпальница Загорских, сыне.
Отец медленно раздвинул траву перед образом пастыря.
— Когда-то мы, наверно, могли быть великими, но не сумели. Наше политическое бытие окончилось. У нас — только могилы. Только одни могилы, разбросанные по этой земле. Курганы на берегу Днепра, холмы на крестьянских кладбищах, твоя и моя усыпальница, сыне. Вот она…
Молча, словно все было сказано, они пошли к усыпальнице.
Отец открыл дверь. В верхнем помещении стояла тишина, через узкие окна лился пыльный свет. На стенах висели старые чеканы, двуручные мечи, кольчуги. В нишах, под замком, лежали свитки каких-то документов, книги в деревянных переплетах. Между ними стояли серебряные ковчеги для особенно важных манускриптов.
Отец снял с гвоздя длинную гибкую кольчугу.
— Видишь, это про нее сказал Симеон Вежа: «Бог свидетель, тогда было горе. Я сам видел человека, у которого на каждом мелком кольце кольчуги было выбито название места, где случались стычки и сечи, заговоры и поединки… Человек тот был мой отец».
Кольчуга переливалась в руках отца.
— Видишь, на груди и животе ни одного кольца без надписи…
По каменным плитам пола пан Юрий прошел к одной плите, в которой было кольцо.
Перед ними открылась пасть ямы. Ступеньки вели вниз. Пан Юрий первым спустился туда. Протянул Алесю руку.
Внизу вспыхнул трут, а за ним фитиль толстой и высокой, в рост мальчика, красной свечи в низком подсвечнике.
Стены глубокого и узкого помещения были усеяны нишами, похожими на печные устья. Часть их, не более трети, была закрыта — это были места захоронения. Налой с Евангелием, свеча и ниши — больше ничего. Да еще на потолке старая красная фреска: архангел с мечом в одной руке и церковью на ладони в другой.
— Вот, — сказал отец, — это все они. Это ниша Акима Загорского. А тут еще две пустые. Старого Вежи и моя…
Ему было трудно говорить.
— В следующую… положи это.
Он вынул из-за пояса железную шкатулку, ту самую, в которую сегодня клали сажу.
— Через сто лет положат тебе под голову, — сказал отец.
Алесь подошел к темной нише и засунул в нее шкатулку.
— А теперь иди сюда.
Они стояли у подсвечника. Отец опустил руку на плечо сына.
Пламя свечи делало его лицо суровым, пожалуй, даже величественным. Только это давало Алесю силу не чувствовать отвращения, протеста против всего, что здесь происходило.
— Повторяй за мной, мальчик, — сказал отец.
— Хорошо, — шепотом ответил Алесь.
— Я пришел к вам, — прошептал отец.
— Я пришел к вам.
— У меня ничего нет, кроме вас.
— У меня ничего нет, кроме вас, — уже более твердым голосом повторил молодой.
— У меня нет ничего, кроме могил, потому что я ваш сын.
— У меня нет ничего, кроме могил, потому что я ваш сын.
Отец выпрямился, словно от какого-то вдохновения.
— Я клянусь любить вас.
— Я клянусь любить вас.
— Я клянусь защищать ваши могилы мечом и зубами, даже если моя могила будет далеко от вас.
— Я клянусь… далеко от вас.
— Потому что я все равно буду здесь, с вами. Потому что меня нельзя отделить от вас.
— Потому что я… с вами… Потому что меня нельзя отделить от вас.
— Пока не прекратится живот людской на земле.
— Пока не прекратится живот людской на земле.
— Аминь.
— Аминь.
VII
Легкий звон упал с высоты звонницы на погост, на людей, выходивших из церкви, на окружающий парк. Звонница стояла неподалеку от стройной, сотканной из солнечного света церквушки, в веревках колоколов бился, словно муха в паутине, хромоногий звонарь Давид.
А из церкви навстречу солнечному июльскому дню выходили люди.
Алесь шел где-то посредине процессии.
— На твоем постриге будет мальчик, которому дадут держать твою прядь, — сказал отец. — Потом ты отблагодаришь его тем же. Это означает, что вы уже никогда не будете врагами. Не имеете права.
— А если и друзьями не будет?
Отец беспечно рассмеялся.
— Никто не заставляет. Но, я думаю, вам будет хорошо вместе. Это уж мы с матерью постарались. Он сын моего лучшего друга, покойного, — земля ему пухом, — Мстислав Маевский.
И вот теперь Алесь шел и напряженно ждал, каким он будет, этот неизвестный мальчик, с которым они теперь не имеют права быть врагами. Это ожидание отвлекало его от богослужения в церкви. Он запомнил лишь суровые, нечеловеческие большие глаза ангелов, их немножко отекшие лица и робкие, всепрощающие улыбки. Запомнил застывшие всплески их крыльев над головой и непонятного цвета — то ли розовое сквозь голубое, то ли голубое сквозь розовое — складки одежды.
Запомнил переливающуюся фиолетовую с золотом фелонь священника и то, как ниспадала вниз его епитрахиль — прямо, будто деревянная.
Страшный рык дьякона колебал огоньки свечей, заставляя иногда мелко звенеть стекла.
Все это было как сон.
Он знал, что фрески их древней церкви были чудом, о котором говорили все альбомы, даже изданные в Париже, что их протоиерей мастер и за это награжден камилавкой, набедренником и золотым наперсным крестом, что загорщинского дьякона за его чудесный бас давно собирались перевести в Могилев, к архиерею, да побоялись портить отношения со стариком Загорским.
И все это было как дурман, и он почти обрадовался, когда богослужение окончилось.
Спускаясь по ступенькам, искоса поглядывал на новую личность, которая называлась «пострижным отцом' . Пострижной шел сбоку от него, ладный, с красным лицом, седой гривой волос и короткими усами. На его загорелом лице казались удивительными наивно голубые, детские глаза.
Это был дальний родственник Алеся Петр Басак-Яроцкий, хозяин небольшого имения, бывший офицер. На поясе у Басака висели серебряные ножницы.
И вот Алесь увидел ковер, а возле ковра группу людей. В стороне от них стоял мальчик, которому было, наверно, страшновато от торжественной церемонии. Светловолосый, с золотистыми глазами, — словно напоенный солнцем мед, — видимо, немножко слабее Алеся, более худощавый, он стоял на ковре, держа в руках дорогой ему медальон на длинной золотой цепочке.
Алесь не знал, куда ему идти, и потому едва не совершил ошибки, направившись к группе людей.
Басак-Яроцкий положил руку ему на плечо.
— Правее фронт, племянничек, — чуть слышно сказал он.
Теперь Алесь шел прямо на мальчика. И едва ноги его коснулись большого пушистого ковра, со звонницы снова грянули, радостно залились колокола.
Глаза мальчика ласково смотрели на Алеся.
— Смотреть веселей, — шепнул пострижной. — Подайте друг другу руки.
Алесь почувствовал в своей руке руку Мстислава.
В тот же миг все остальные, кроме этих трех на ковре, даже отец, опустились на одно колено.
— Княжеский сын Александр Загорский, сын Георгия, внук Даниила, правнук Акима и праправнук Петра, склони последний раз свою голову.
Это провозгласил Басак-Яроцкий своим хрипловатым басом.
Алесь наклонил голову.
— Отрок Александр, — сказал пострижной, — ты постригаешься сейчас в подростки, как то велят обычаи этой земли. Видишь ты своего пострижного брата? Обнимитесь первым мужским объятием.
Они обнялись. Алесь ощутил на плече руку Мстислава.
— Скажите друг другу на ухо несколько сердечных братских слов.
Глаза Мстислава смеялись у глаз Алеся. Затем Алесь услышал шепот.
— Попался? — спросил молодой Маевский. — Плюнь. Они считают, что мы желторотые, так давай прикидываться и дальше. Пускай уж потешатся.
— А я и плюю, — с внезапным горячим чувством к этому хлопцу шепнул Алесь.
Взрослые с некоторым даже умилением смотрели на двух красивых подростков, которые с такой очевидной нежностью шептали друг другу на ухо слова братства.
— Ты, брат, вроде того скочтерьера. — Мстислав дрожал в объятиях Алеся от затаенного смеха. — Знаешь, как их щенков определяют, чистопородные они или нет?
— Знаю, — улыбнулся Алесь. — Берут за хвост и поднимают в воздух. Настоящие не визжат. Держат марку.
— Вот и ты держи марку. Постарайся уж не визжать, как дворняга. Все это чепуха. Неприятно, но это недолго.
— Постараюсь.
Они не заметили, что усы старого Басака как-то подозрительно подергиваются.
— Поцелуйтесь, — сказал Басак-Яроцкий. — И помните: вы сказали слова братства и целовались еще тогда, когда были детьми.
Они поцеловались. Басак-Яроцкий положил ладонь на голову Алесю.
— Ты носил длинные волосы, с которых сегодня упадет одна прядь. Завтра их укоротят, и такими они будут, пока ты не станешь настоящим мужем. А тогда носи их как хочешь, только помни, что люди нашей земли любят носить длинные волосы и усы, но не любят и никогда не носили бороды, если они не попы, не монахи и не мудрые столетние деды.
Он взял ножницы.
— С первой прядью ты перестаешь быть ребенком и сможешь сидеть с мужами, потому что сам получишь имя мужа… Помни, князь: с этой минуты душа твоя принадлежит только богу и этим полям, сабля — воеводе справедливой войны, жизнь — всем добрым людям, сердце — любимой. Но гордость и честь принадлежат только тебе и больше никому. Тебя постригают в мужи, чтоб ты был независим с сильными, брат — с равными, снисходителен и добр — с низшими.
Теперь уже и Мстислав смотрел серьезно, эти слова трогали за сердце и его.
— Чтобы ты был добр к детям и женщинам, верен друзьям и страшен врагам, потому что ты муж и оружие дано тебе для того, чтобы ты был мужем и чтобы тот, кто оскорбил тебя, никогда не отделался пустыми извинениями, а кровью платил за свое оскорбление…
Лязгнули ножницы.
Каштановая прядь упала в ладонь дядьки Петра.
Он протянул ее Мстиславу.
Тот подержал прядь, затем положил ее в медальон, а медальон спрятал под сорочку.
— Сын князя Загорского стал мужем, — сказал Басак-Яроцкий. — Помолимся за его долгий век, за его доброту и благородство, за то, чтоб бог послал ему большие дороги и силы на то, чтоб все, что с ним будет, стало великими свершениями.
С той стороны, где была усыпальница, донеслось прозрачное, как лед, и печальное, как причитание, пение серебряной трубы.
VIII
Кирдун чуть не лопнул от злости за те два часа, которые прошли со времени пострижения. Казалось, более почетной должности, чем та, которую доверили на это время ему, Кирдуну, быть не могло. Сиди на пригорке, откуда видна дорога и поворот с нее на загорщинский прешпект, держи в руках подзорную трубу и, едва заметишь карету или кабриолет, сворачивающие на аллею, давай приказ трем мужикам, в ложбинке, у пушек. И сразу — залп. Все хорошо, все чинно. Так нет, принесла нелегкая в последнюю минуту немца, чтоб его немочь взяла. Стоит себе, чертово пузо, аккурат возле него и смотрит на дорогу. И такой проворный, что замечает все раньше Халимона. А это так обидно, словно немец у него хлеб отбивает. По своей, видите ли, охоте притащился. Уж ладно, если бы кто послал. А то ведь сам.
Вид у черта важный, снисходительный. Стоит, словно Бонапарт богомерзкий, пузо вперед, и всякий раз, как ударит пушка, будто, скажи, ему игрушку кто-то дал — такое удовольствие на безусой морде.
— Einem Loven gleich… — долетают до Кирдуна отдельные слова. — Nuch?[27]
Искоса поглявывая на Фельдбауха, который опирается на тросточку, как на шпагу, Кирдун ворчит себе под нос:
— Das ist ihm Wurst… Это ему колбаса, видите ли… И все «нюх» да «нюх»… Нюх ты и есть нюх. Нюхало немецкое… Чтоб тебя черти на том свете так нюхали своими смердючими носами.
Кирдуну совсем плохо. Однако исправно грохочет пушка, и то и три, смотря по тому, какой гость сворачивает на аллею.
…Это еще кто? Шарабан старенький, конь едва переставляет ноги, — очевидно, потрескались копыта. И тут мужик-запальщик отвечает:
— Благородный пан Мнишек едет на своем Панчоху.[28]
— Ну, этому достаточно и одного выстрела.
…А это? Пара сытых коней. Тарантас лакированный… Ага, едет дедич Иван Таркайло. Этому можно ухнуть из двух.
…Карета шестериком. Кони в яблоках. Эти, видимо, рейнвейн пьют, как пан Юрий в Кельне, и хотя кони не чистокровки…
— Стреляй… Стреляй изо всех четырех. Ходанские катят!
А немец стоит. А немец черт знает зачем сюда приволокся. Мог бы стоять среди гостей, — нет, угораздило его, нюхало проклятое…
…Кирдун глядит на террасу, видит там молодого Зогорского, и жалость пронзает его сердце, заставляет забыть про немца… Боже мой, зачем это? Дитя весь день на ногах!.. Морят, убивают дитя. Паны и есть паны. Немец, видать, все же не самый худший… По крайней мере любит панича, не мучает его, как те… То, что его будто мешком стукнули, — это все чепуха: тоже без родины, горемычный. А без родины кто хочешь взбесится… Тоже пожалеть надо… Тем более — безвредный совсем, пакостей никому не делает. Только что придет вечером к экономке и просит: «Гнедиге фрау… Айн гляс шнапс…»[29]3 Тяпнет, бедняга, и пойдет… И правильно говорит, потому что у немцев почти все женщины гнедые, а экономка вылитая немка. Гнедая и есть… Только б здесь не стоял, а так совсем приличный немец… И панича любит… Черт с ним, пускай стоит, если это ему забава… Немцы — они немцы и есть. Все чисто дети. Им бы только гремело да блестело… Так бы и играли в солдатиков до седых волос… Однако же как там дитя?… Бедное дитя!
Алесю и в самом деле приходилось трудновато. Оно стоял на террасе, отступив немного от двери в дом, так, что каждый гость должен был пройти неподалёку от него. И с каждым надо было раскланиваться. Родители стояли подальше, они обменивались с каждым парой слов, улыбались, — им было не до него, он был чем-то вроде передового поста, выдвинутого в самый лагерь врага, enfant perdu — загубленное дитя.
— Bonjour, madame.[30]
Мадам сто лет. На руках у нее омерзительная курносая болонка. Мадам проходит мимо него, и он слышит, как она говорит матери:
— Il est charmant.[31]
Иногда к нему на помощь приходит француз: шепчет, какого гостя он должен встретить сейчас и должен ли сказать ему несколько слов. Некоторые из гостей вызывают у него отвращение. По своему желанию он сам никогда не встречал бы их, но так нельзя. И он важно склоняет голову с подвитыми на концах волосами.
Отец видит все это слишком даже хорошо. Даже спина мальчика выражает страдание. Но отец улыбается и шепчет матери:
— Смотри, что он выделывает… Les merveilles gymnastiques.[32]
Подходит пан Мнишек… Этого жаль. Такая сдержанная гордость в глазах и такое измученное лицо… Говорит что-то по-польски… Понять нельзя, хотя звуки и некоторые слова похожи…
А вот и пушки ухнули трижды. Лакей объявляет где-то под террасой:
— Вице-губернатор, их сиятельство граф Исленьев.
На террасу поднимается гибкий и статный старик. У него седые бакенбарды и совсем молодое, без единой морщинки, румяное лицо с ясными глазами.
О нем Алесь знает, случайно слышал разговор родителей.
Граф не сделает карьеры. У него слишком много родственников, замешанных в той несчастной истории, — о ней никто толком не знает, она произошла лет за тринадцать до рождения Алеся, когда «ныне здравствующий» царь стрелял их пушек по людям. Неизвестно, что хотели сделать те люди. Но старик приятен. И он не мучает его, Алеся. Он ласково, со старомодной галантностью кивает ему головой и сразу проходит к родителям.
Голос матери, в котором, как всегда, звучат беспомощные интонации. Она спрашивает графа что-то о переводе в Вильню… Граф сдержанно смеется.
— Мне хорошо в вашем доме… Рыцарство пришло в упадок. Мы с вами как деревья на вырубке. Их оставили случайно рядом, и они радуются этому. Чего еще требовать от жизни? Надеюсь, ваш молодой князь будет таким же, как вы.
— Я надеюсь, что он будет лучше нас, — строго отвечает отец.
Их не может слышать никто. Не слышал бы их и Алесь, если б не его исключительный слух, о котором они не знают.
…Идёт целая компания: полный седой человек в безукоризненном фраке, старуха в черных кружевах и юноша года на два старше Алеся.
— Граф Никита Ходанский!.. Графиня Альжбета Ходанская… Граф Илья Ходанский.
У старого графа любезное, снисходительное, выработанное годами выражение на полном, синем от бритья лице, — такое ни к чему не обязывающее выражение можно видеть на старых портретах. Румяные губы заученно улыбаются, — даже ямочка амура на одной щеке. Видимо, был в свое время селадон, знал себе цену.
Если спросить о таких, доброжелательный человек только и скажет: «Il a de l'esprit»,[33] — потому что больше в заслугу им поставить нечего.
Графиня поблекшая, с припухшими глазами. Сразу видно, что злая плакса. Алесь слыхал и про нее, дворня рассказывала. Говорили, что с людьми капризная, потому что всю жизнь оплакивает первенца, который умер совсем маленьким.
Зато Илья Ходанский ничего себе, этакий зверек: подвижной, ловкий, озорной. Глаза синие и глуповатые, как у котенка, волосы золотистые. Такому только голубей гонять.
Здороваются, проходят к родителям… Забавно было б сейчас удрать с этим Ильей и Мстиславом куда-нибудь в лес. Вот поискали б!
— Пан Таркайло! Панский брат Тодор Таркайло!
Эти были еще более странные. Оба в добротных, на сто лет, сюртуках серого цвета, оба хмурые, пышноусые, они чем-то напоминали комичных шляхтичей с картины «Битва под Оршей». Точнее, напоминали бы, если б хоть у одного из них было в глазах добродушие.
Настороженные серые глаза, жесткий прикус губ. Старший, Иван, жирный и круглый, тот еще силится улыбаться краешком губ, но Тодор, худой, сгорбленный, смотрит подозрительно и холодно.
Стоя рядом, они напоминали число «20». Число «20» in tiocchi,[34] которое медленно двигалось к двери в дом.
…Отец смотрел на них. Потом перевёл взгляд на спину сына. Она была слишком выразительна, эта спина. И потому он улыбнулся и отыскал глазами молодого Маевского.
— Мстислав, иди к Алесю… Постой с ним немного, сынок… Теперь уже недолго.
Алесю сразу стало легче, когда он услышал шаги Мстислава, а потом ощутил прикосновение его руки. Теперь они стояли рядом. А со ступенек, ведущих на террасу, плыл и плыл навстречу им и обтекая их пестрый людской поток, в котором уже трудно было различать лица.
— Оставь, — сказал Маевский. — Ты улыбайся, а они пусть себе идут. Chacun Son metier.[35] С чего это тебе выходить из себя да ножкой шаркать? А propos de vielles ganaches?[36]
Глаза Мстислава смеялись.
— Такая госпожа, как добросердечие, сегодня пока что n'a point paru[37]… Даже признала лишним de faire de presence ici.[38] Нечего ей тут делать.
— Слушай, — тихо спросил Алесь, — почему это все они здесь говорят не так?
— Прикидываются все… Строят из себя более достойных, чем есть на самом деле.
— Нет, я не в этом смысле. Слышишь французский язык… Он заглушает все. Наверно, потому, что очень красивый. Но они ведь не французы, эти Ходанские и другие. А вот звучит польский. Довольно сильный поток. А вот русский… И никто пока что слова не произнес на мужицком, кроме тебя…
— А мне все равно… Отца у меня нет. Мать все время на водах, больная. Никто не заставляет.
— …Да еще Басак старый и родители, когда говорят со мной, так говорят по-мужицки. В чем тут дело?
— А разве это язык князя? — улыбается Мстислав. — Это, брат, так… Мужики говорят потому, что их никто не учил. Разве их язык сравнишь с французским? Он беден и груб.
— Пожалуй, что и так, — сказал Алесь. — Однако же почему паны не стыдятся разговаривать на этом грубом языке, когда приказывают мужикам: «Дашлi сёння сыноў з крыгай. Паны юшку будуць есцi, дык, можа, якая рыбiна ўблытаецца»?[39] И тут уж не стыдятся таких грубых слов, как «крыга», «ублытаецца». Что-то здесь неладно. Тебе что, тоже не нравится?
— Мне нравится, — после длинной паузы сказал Мстислав. — Мне даже кажется он мягким, только их ухо не слышит… Здесь, понимаешь, что-то вроде пения рогов на псовой охоте. Итальянец от него уши закроет, это для него как Бетховен после Беллини, а между тем нет для уха настоящего охотника музыки более сладкой, чем эта.
Помолчал.
— Только… не нашего ума это дело. Потом додумаю.
В этот момент на круг почета въехала старинная карета шестериком и остановилась перед террасой.
— Ошибся, — глаза Мстислава смеялись, — появилось наконец и добросердечие. Вот, брат, веселья будет!
Лакей объявил каким-то особенно звонким голосом:
— Их высокородие пани Надежда Клейна с дочерью.
Саженного роста лакей соскочил с запяток и с лязгом откинул подножку, распахнул дверцу.
— Проше…
В карете что-то шевелилось, не желая вылезать.
Второй лакей успел за это время приподнять тормоз (госпожа, видимо, все время приказывала держать его на колесе, боясь быстрой езды) и снял с головного коня мальчика-форейтора, у которого онемели ноги, а из кареты все еще никто не выходил.
— Сейчас будет смеху, — повторил Мстислав.
Наконец из кареты послышалось ворчание. Потом кто-то передал на руки первому лакею моську, очень жирную и оплывшую, но — удивительно — совсем не противную. Потом еще одну. Лакей напрасно пробовал прижать их к груди одной рукой, чтоб подать другую кому-то, кто сидел внутри.
— Собакам неудобно, — проскрипело из кареты ворчливое старческое контральто. — Держи Кадушку лучше, дурень безмозглый. А Виолетту отпусти… Ты что, не видишь, что она по нужде хочет?… Да не суй ты мне свою руку. Что мне, сто лет?
Снова чудеса: мимо Алеся к ступенькам поспешил отец. Весело подмигнул сыну. Сбежал вниз и, подойдя к дверце, галантно подставил руку.
— И ты еще здесь, батенька… Авось не рассыплюсь.
И тут наконец из кареты показалась и стала медленно спускаться вниз пожилая женщина, такая необычная, что Алесь глаза вытаращил.
На старухе было платье коричневого цвета, с кружевами, такое широкое, что вся ее низенькая фигура казалась похожей на небольшой стожок сена. На седых буклях неприступно возвышался белоснежный чепец. Лицо старухи под этим чепцом казалось пергаментно-коричневым. Однако этот темный цвет не был безжизненным, слишком уж здоровый бурый румянец выступал на щеках.
— Ну-ка, — прозвучало контральто, — давай поцелуемся, что ли… Постарел ты, лоботряс, постарел… Покой появился в глазах.
— Какой тут покой! — улыбнулся отец.
— Я не говорю, что полный покой. Просто больше, чем надо, его стало. А молодчина был. Помнишь, как покойника мужа из воды выхватил? Зух был, зух.
Она взглянула на лакея с иронической улыбкой, потому что тот растерянно смотрел на Виолетту, видимо не зная, что ему теперь делать. Виолетта лежала, растопырив все четыре лапы.
— Возьми ее. Отдай Янке. Пусть лежит в карете, если переела. Удержаться не могла, требуха жадная… А сам иди в людскую, выпей…
Вопросительно взглянула на отца:
— Надеюсь, не поскупился ты на водку для людей?
— Не поскупился.
— Ну-ну! Когда профинтишь богатство, приходи ко мне. Хлигерь отведу тебе и собакам твоим.
И позвала, повернувшись к карете:
— Вылезай, Ядзя. Не бойся, не обидят.
Второй лакей достал из кареты маленькую и изящную, как кукла, девочку лет девяти. Девочка была в голубом шелковом платье, высоко, почти под мышками, перехваченном тоненьким пояском. Пепельные воздушные волосы ее были причесаны на греческий манер.
— Вот мученица малaя, — сказал Мстислав.
Алесь не смеялся. Клейна не казалась ему смешной. Больно уж хорошо, протяжно, совсем по-мужицки, говорила она. И было в ее языке то, чего не бывает у городских жителей: законченная мелодичность каждого предложения, присущая мужицкому языку. Как вдох и выдох. Сколько набрала воздуха в грудь, столько и отдала, пропела щедро, не оставив себе ни капельки, чтобы вымолвить еще одно слово.
А маленькая Ядвига и вообще растрогала его. Словно куколка. И огромные синие глаза смотрят с такой невинностью и добротой.
А старуха уже жаловалась отцу:
— Что это за время настало! Что уж за долюшка такая лихая… последняя! Шлях камнем вымостили ироды эти. Грохочет и грохочет под колесами. Раньше-то как хорошо было! Пыль мягонькая, что твой одуванчик, рессор тебе этих никаких. А теперь! И булыжная мостовая, и рессоры. Будто камнями меня всю дорогу били, как святого первомученика Стафана, пускай ему бог отплатит за все добром… Рессор напридумывали… Это даже хуже, чем корабль, на котором к мужу на Кавказ ехала, — так укачивало. Видно, последняя година наша настает. Мудрят люди!
Ядзя прижалась к ее руке, и еще более нежной казалась кожа на щеках девочки в сравнении с темными пальцами старухи.
— Смотри, — шепнул Алесю Мстислав, — это еще что?
В карете что-то зашевелилось, а потом из нее вылез кто-то такой удивительный, что Алесь оторопел. Черный, как сажа, стоял возле кареты мальчик в голубой курточке, и на лице его влажно блестели белые зубы.
— Это мой арапчонок, — с некоторой гордостью объяснила старуха. — Сослуживец покойника мужа привез в подарок. Выменял в Туреччине, когда хлот туда ходил…
Мстислав подтолкнул Алеся.
— Об этом и я слышал. Брат Таркайла пустил сплетни, что это она обычного хлопчика сажей вымазала… кичливости ради. Так она его побила. Прямо так и побила своей старушечьей палкой. Чтоб не молол вздор.
— А наши и не знали.
— Ваши мало с кем общаются. Шляхта говорит — брезгуют, загордились… Да и я только недавно услышал о нём. Однако же какой черный! Я и не думал, что можно быть таким черным.
Старуха с девочкой и пан Юрий уже направились к ступенькам террасы.
— Да зачем он вам, — спросил пан Юрий.
— А я и сама не знаю зачем. Однако уважение оказал человек, нельзя не взять. — Старуха улыбнулась. — Арап… Разные чудеса бывают… ой, разные! — И обеспокоено спросила у отца: — Был ведь, кажется, святой из арапов? Или, может, нет?
— Был, — сказал отец. — Кажется, вроде-е… Федор-мурин.
— Ну вот, — облегченно вздохнула Клейна. — А ведь и я спорила, что был. Тоже, значит, божьи души. Из собак, скажем, или обезьян святых не бывает, господь не допустит.
— А люди допустят?
— Люди, брат, за деньги все, что хочешь, допустят. Люциферу псалмы слагать будут, отечеством торговать, да еще и в Библии соответственное место найдут, что бог, мол, и это им позволил.
— Святых же, кажись, на вселенских соборах утверждали? — богохульствовал отец.
— А там что, не люди? Тоже, брат, люди. Не серафимскими же крыльями они в Никее Арию насажали синяков, так сказать. Обычными кулаками… Дрались, как мой Марка в корчме.
— Какой это Марка?
— Будто и не знаешь? Тот, что на оброке. А, господи, Марку моего он не знает! Да тот самый, что в Суходоле по улицам хлеб без корки возит…
Отец прыснул. Бабуся посмотрела на него подозрительно.
— А ты не паясничай. Бог всё видит. И твои смешки, и Марку, и жадность людскую, и никейские «серафимские крылья».
Улыбнулась.
— Бывают, значит, из муринов святые. Что ж, тогда завтра же окрещу, тебя возьму крестным отцом…
— Да какой я ему крестный? — захохотал отец.
— А ты молчи. Это и мне, и тебе зачтется за многие твои грехи. Дадим ему имя в память мученика Яна… А там я подумаю-подумаю да и в приемыши его возьму.
— Крепостного?
— Да какой он крепостной? Он ведь черный, как сапог. Бог их, видимо, за что-то цветом пометил.
И вдруг она засмеялась так, что затряслось все ее пышное тело.
— А потом дам за ним пару хуторов. Почему бы и нет? Раньше у многих калмычки воспитывались. Растили их, приданое давали, выдавали замуж. И ничего, многие женились. Даже пикантным это считалось. Так вот и я Янку женю.
— Да кто пойдёт?
— Все пойдут, — сказала старуха. — Поглядела б я, какая паненка за него не пошла б. Это чтоб против моего желания да когда я сватьей буду? О-го, поглядела бы! А что же здесь такого? Хлопчик он добрый, сердечный, беречь жену будет, ценить и счастье, и достаток. Не то что эти пьянчуги да собачники, — прости батюшка…
Помолчала, поджав губы.
— Пойдет. Добрые да богатые мужья для бедных дворянок на дороге не валяются. Пускай себе и черный. Не замарает, верно. Это у него от природы. — И тихо, один лишь пан Юрий слышал, спросила у него на ухо: — Интересно только, какие же это у них дети будут? Упаси боже, если как шахматная доска… квадратами… А?
— Такие не будут.
— Ну, тогда хорошо… Будет мне занятие на старости лет.
Она приближалась к подросткам, стоявшим отдельно. Подошла ближе всех, вперила в мальчика пристальный взгляд.
— Этот, — после мгновенного раздумья показала она на Алеся. — Глаза материнские, а взгляд твой. Хлопец будет. Будет хлопец, говорю тебе. Не приучай только собачником быть.
Сделала резкое движение.
— И отпусти. Отпусти отсюда. Удовольствия в этом мало — стоять на глазах у всех, словно муха в миске… Антонида, поздравляю тебя. Будет человек. Взгляд простой, искренний, не то что у этих лизунчиков его возраста… Ну, давай поцелуемся, Антонида… А вы, дети, марш гулять… И Яночку с собой возьмите. Да не обижайте его. Он сирота.
Детей просить не надо было. Как стайка воробьев, они сыпанули по ступенькам.
— Кого еще нет, Georges? — спросила мать.
— Раубичей нет. Кроера нет. Старого Вежи нет.
Алесь бежал впереди всех. Дети обогнули дворец, горку, на которой распоряжался пушками Кирдун, картинный павильон и остановились в зарослях парка, где была лавка из дерна.
Все сели. Зеленая сетка солнечного света лежала на лицах.
— Так как же вы живете, Ядвиська? — спросил Алесь.
Глаза Ядзи, такие невинные и синие, стыдливо смотрели на Алеся.
— Я с мамой живу. И с Янком. У меня три старших брата… Было три брата… Два погибли на войне… Один — кто его знает где, мне не говорят. Я последняя. Никто уже не ожидал меня, а я взяла да и родилась. Все за меня поэтому очень беспокоятся. Только я не боюсь. Я люблю, чтоб тепло. Люблю, когда поют. Люблю, чтоб мне не мешали. А боюсь только злых мальчиков… и собак.
Алесь слушал ее с доброжелательной улыбкой.
— Мы не будем злыми, — сказал Алесь. — Правда, Мстислав? И собакам в обиду не дадим. Что собаки? У меня вон два коня есть.
— Настоящие кони? — спросила маленькая Клейна.
— А то как же.
Девочка посмотрела на него с уважением.
— Ну, а ты, Янка? — спросил Алесь.
— Я совсем как она, — виновато улыбнулся мальчик, и все снова удивились, как почти чисто по-деревенски произносит он слова. — Только я не знаю, где мои родители.
— Так совсем и не знаешь? — спросил Мстислав.
— Помню… Слабо… Помню костры… Вокруг них на шестах сушили рыбу… И совсем не помню родителей… Только одного Кемизи… Наверно, он был мне братом… Не знаю… И еще помню женские руки… Ничего больше, одни руки… Однажды появились крылатые челны… Люди говорили «дау»[40] и указывали на них пальцами. Детей спрятали, но нас все равно нашли… Все наши, кроме немногих, лежали на песке… У Кемизи торчала в груди палка… Потом нас везли морем… Потом был какой-то берег, и белый-белый песок, и пещера с родником, куда нас загоняли на ночь. Всё это называлось Мангапвани,[41] а караулили нас люди с белыми повязками на голове… Потом я потерял своих, их не стало… Снова было море и потом большой город, где меня опять купили… И привезли сюда.
— Янка, — подал голос Мстислав, — неужели ты от рождения такой? Может, это просто потому, что ты моешься не так, как надо?
— Я моюсь, — вздохнул Янка. — Нет, тут уж ничего не поделаешь. И стараться не стоит.
— Ну и черт с ним, — сказал Алесь. — Подумаешь, беда большая.
Они сидели и разговаривали. Потом издали, из ложбинки под горой, ударили четыре пушки. Одним залпом.
— Кто-то приехал, — неохотно поднялся Алесь. — Надо идти.
— Сиди-и, — сказал Мстислав.
— Нет, брат, надо. Может дед. Тогда не похвалят.
— Деду трижды стреляли бы… Это или Раубичи, или Кроер.
— Все равно надо идти.
Когда они подходили к кругу почета, на нем, у самой террасы, бросали поводья на руки слугам два человека. Один из них, худой и жилистый, очень хмурый, был незнаком Алесю. Этот человек слезал с белой кобылки медленно, с подчёркнутой сдержанностью. Угрюмо смотрели глаза из-под косматых бровей, длинные, как вилы, усы свисали на зеленый охотничий костюм. Зато второго Алесь узнал сразу. Ни с чем нельзя было перепутать эти зеленоватые, как у рыси, глаза под бровями песочного цвета. Ни у кого не было таких цепких рук и таких кошачьих ловких движений.
Жандармский поручик Мусатов собственной персоной заглянул в Загорщину.
Передав коней слугам, оба пошли по ступенькам на террасу — один справа, второй слева, словно не желая попирать ногами одни и те же ступеньки.
Алесь заторопился. Когда дети подошли к Загорским, Клейне и Исленьеву, Мусатов уже стоял перед ними. А хмурый человек ожидал вдали, переминаясь с ноги на ногу, словно не решаясь подойти.
— Извините, мадам, — сказал Мусатов, — у меня дело к их сиятельству.
На лице Исленьева появилась страдальческая гримаса.
— Ну, что еще, — спросил он.
Чтоб не мешать вице-губернатору, пани Антонида обратилась к отцу:
— Почему же это Кроер не едет?
— Осмелюсь обратиться, мадам, — щелкнул каблуками поручик, — пан Кроер не приедет.
— Почему? — спросил отец.
— В одной из деревень пана Кроера бунт, — тихо сказал Мусатов.
— Где?
— В Пивощах.
— Из-за чего?
Поручик пожал плечами. Лицо Исленьева передернулось.
— Какие приказы вы издали? Надеюсь, никаких безобразий? Старались уговорить?
— Старались. К сожалению, не помогло. Пришлось стрелять. Есть раненые.
Румяное лицо графа побледнело.
— Знаете, чем это может кончиться?
Голос его сорвался. Надвигаясь на Мусатова, он потрясал перед его носом белыми, сухонькими старческими кулачками.
— Это черт… это черт знает что такое! Beau monde! Notabilites![42] Как вы смели приехать ко мне после такого!.. Мало было крови? Мало было виселиц?
— Успокойтесь, успокойтесь, граф, — напрасно пытался вставить слово отец.
Мусатов повернулся и пошел к ступенькам, внешне почти спокойный. И только тогда граф, глубоко вздохнув, сказал глухим голосом:
— Стойте… Возьмите с собой лекаря… Надеюсь, пан Юрий разрешит?
Отец молча склонил голову.
— Вот, — сказал Исленьев. — Прикажите запрячь лошадей… И запомните: вы не появлялись здесь с вашими позорными вестями. Я ничего не слышал… Я никого не видел…
Голос его прервался. Он напоминал теперь взъерошенного коростеля, который с криком делает достойную жалости скидку, напрасно стараясь отвлечь внимание собаки от чего-то дорогого ему.
Как-то странно загребая правой рукой воздух и не обращая внимания на гостей, которые, ничего не понимая, стояли невдалеке, он пошёл в дом.
— Достукался Константин, — мрачно сказала Клейна. — И подумать только, что он твой троюродный брат. Антонида! Почитай, из одного гнезда горлинка чистая и хищный волк. Тьфу… Надеюсь, никто не умрет…
— Кто умрет? — спросил Алесь у матери. — В кого стреляли?
— Никто не умрет, сынок, — сказал отец. — Стреляли просто солдаты на стрельбище. Чепуха все… Иди… иди к детям. Скоро я тебя позову.
И как только Алесь отдалился, сказал Клейне:
— Слышал.
— Слышал, но не понял, — сурово сказала старуха. — Тяжело понять такое.
— Я ведь говорил, — промолвил пан Юрий.
— Господи, — сказала мать, — за что же это? За что такое? Мне он, в конце концов, не более приятен, чем тебе… Такой грубый, а такое быдло… И этот несчастный, такой жалкий граф… с его жизнью, с его молодостью…
— Э, — крякнул отец, — мало ли их с такой молодостью! Вот бывший наш губернатор, Михаил, граф Муравьёв. Начинал вместе с теми. Братьев повесили, а он в чинах ходит. Братья в Сибири, а он членом Госудаственного совета вот-вот будет, если уже не есть…
— Georges, — умоляюще взглянула мать, — я прошу тебя, никогда больше не говори об убийствах… Прошу.
— Хорошо, — согласился отец. — Я только думаю… Надо объявить гостям.
— Да конечно же, — заторопилась мать.
— А ну, замолчите… воробьи, — повысила голос Клейна.
— Что? — спросила мать.
— Не мелите вздор, — сказала старуха. — Праздник юноше испортите — в чем он виноват? Он, что ли, с дурным дядькой озоровал да с поручиком стрелял?
— Что же делать? — жалостливо спросила мать.
— Молчать, — посоветовала Клейна.
— Это тяжело, — сказал отец.
— А вы тяжесть в душе несите… Это вам мука за дурного родственника…
Вздохнула. Произнесла уже более спокойно:
— Празднуйте… Празднуйте, чтоб сынок никогда не был таким.
— Я знаю, — непривычно серьезно произнёс отец. — Я и сам хочу этого.
— За это я и люблю тебя, князь-повеса, — сказала Клейна.
…А в это время Алесь спрашивал Мстислава:
— Что там произошло? Я ничего не понимаю.
— И я не понимаю. Взрослые… Ты вот скажи мне: знаешь ты того, длинноусого?
— А я знаю! — весело взвизгнула Ядзя, почти угождающе глядя в глаза Алеся.
Довольная, что и она наконец может быть полезной, девочка весело застрекотала:
— Мы с мамой были однажды у старого Вежи… Старый Вежа маму уважает… И этого длинноусого мы там видели… Это Кондратий, молочный брат старого Вежи. Он смотрит за его лесами.
…Отец между тем тоже заметил длинноусого.
— Вот он, Антонида, — сказал пан Юрий. — Видимо, и с Вежей что-то стряслось.
Кондратий приблизился к хозяевам. Смотрел на них немного виновато. И все же надменно выступала из-под длинных усов крутая нижняя челюсть.
— Что случилось, Кондратий? — спросила пани Антонида.
— Старый пан просит извинения, — сухо сказал он, — он не сможет приехать… У него… гм… подагра…
— Что за черт? — удивился отец. — Никогда у него никакой подагры не было.
— Я все понимаю, милый, — грустно сказала пани Антонида.
Кондратий крякнул от жалости.
— Пан просит извинения, — с сокрушением повторил он. — Подарки молодому князю едут. Будут здесь через час… Пан также посылает пани и сыну свою любовь. И пани Клейне посылает свою любовь…
— Больно она мне нужна, та любовь! — сказала Клейна. — И тут не мог, как все люди, сделать, старый козел… А я с ним еще менуэт когда-то танцевала.
— …и пану графу Исленьеву свою любовь, — торопился Кондратий. — А молодому князю свою незыблемую любовь и благословение. А сам просит простить.
— Кондратий, — сказала мать, — скажи, почему он так сделал?
— Не могу знать, — опустил тот глаза.
— И все же? На нас сердится?
Кондратий еще ниже опустил голову.
— Он сказал… Он сказал: «Холуи все».
Отец только рукой махнул:
— Ну и ладно. Оставайся тогда ты вместо него. И за столом на его место сядешь.
Кондратий поклонился.
— И он мне так сказал… Сказал, сказал, что счастлив был бы, если б я мог заменить его… Да только прошу прощения, пан Юрий, извините, пани, я этого не могу никак сделать, потому что хотя я и вольноотпущенный, а все равно своему молочному брату раб, а фамилии вашей до конца дней своих благодарен и вредить ее чести никак не согласен.
На лице Загорского была такая растерянность, что Клейна улыбнулась, а в глазах ее загорелся озорной, почти детский огонёк.
— Иди, батюшка, — сказала она отцу. — Иди познакомь сына с Раубичами. Я уж тут как-нибудь сама справлюсь… А ну, идем со мной, пан Кондратий. Погуляем среди гостей. Ты меня, старуху, под руку поводишь — пускай уважаемые гости осудят. Если Вежа так сказал, то мы его уважим.
— Они не отважатся, — мрачно сказал Кондратий.
— Правильно, — согласилась старуха. — В том-то и беда, что он прав, старый козел. Холуи все. Что бы сильный не сделал — смолчат. Привилегии у них отобрали — смолчали. Из старых фольварков выгнали — смолчали. Заставили право на шляхетство доказывать — и тут они смолчали.
Крепко сжала локоть Кондратию, доверительно шепнула ему на ухо:
— Ты извини, Кондратий. Ты иди и делай вид, что тебя ведут, что тебе неловко… Я придумала — мой и ответ… Очень уж мне, старухе, их подразнить хочется.
— А вы подумали, как это мне? — спросил Кондратий.
— Подумала, — очень серьезно сказала Клейна. — Подумала, батюшка. Знаю — тяжело. Но ведь я тебя, чертового сына, люблю, сам знаешь. Так ты поступись, поступись на минутку гордостью… Неужели это не стоит того, чтоб утереть нос всем этим прихвостням? А?
Кондратий смотрел на нее, сурово выпятив крутую челюсть. Потом в его глазах тоже затеплились искорки. Он решительно крякнул, освободил руку из пальцев Клейны и любезно взял ее под локоть.
Удивительная пара пошла по террасе. Клейна и Кондратий шли, чинно разговаривая о чем-то, мимо стоявших группами гостей, вызывая на лицах одних удивление, других шокируя. Тогда старуха поднимала на них тяжелый и властный взгляд, и глаза опускались.
…А пан Юрий тем временем вел Алеся через танцевальный зал, овальный, с тонкими белыми колоннами и хорами, на которых уже шумно настраивал скрипки и басы оркестр.
Многочисленные гости стояли между колонн, разговаривали, смеялись. Пан Юрий и Алесь подошли к одной из групп.
— Знакомьтесь, — сказал Загорский. — Это мой сын… А это Раубичи, сынок, ближайшие наши соседи… Вот это пан Ярослав Раубич.
Алесь наклонил голову в поклоне, а потом, может, даже слишком резко, поднял ее. Ему не хотелось, чтоб кто-нибудь заметил в его поклоне боязнь. А он побаивался. Все же это был тот самый Раубич, в доме которого горел далекий огонек, такой маленький, как искорка… Тот самый Раубич, которого деревенские дети считали колдуном. Тот Раубич, из подвалов которого тянуло серой. Тот Раубич, про которого говорили — правда или нет, — будто он стрелял в причастие, выплюнув его изо рта.
Раубич внимательно смотрел на Алеся. Был он среднего роста, но крепкого сложения, с короткой шеей и могучей, выпуклой грудью. Черные, как смоль, седые на висках волосы образовывали на затылке мощную гриву, а впереди падали на лоб косой скобкой. Лицо было широковатым в скулах, но приятным. Брови длинные, вычурно изогнутые и потому высокомерные, а лоб переходил в нос почти по прямой линии, как у древних статуй. Плотно сжатые губы большого рта, высокий лоб — все это гармонировало и делало в общем неправильное лицо по-мужски красивым.
Но самыми удивительными были глаза: холодные, карие, с такими расширенными зрачками, что райка, кажется, совсем не было. Это впечатление еще усиливали длинные и густые, совсем не мужские ресницы, от которых лежала под глазами мглистая тень.
Страшновато было смотреть в эти глаза. И все же Алесь смотрел. Лицо пугало, но одновременно чем-то притягивало. Тяжелое, изнуренное какой-то неотвязной думой, измученное и грозное лицо.
…Глаза без райка глядели в глаза мальчику, словно испытывая. И Алесь, хотя ему было почти физически тяжело, не отвел взгляда. С минуту длилась эта дуэль. И тогда на плотно сжатых губах Раубича появилась улыбка.
— Будет настоящий хлопец, — немножко даже растроганно сказал он. — Не средство, не игрушка чужой воли… Поздравляю тебя, пан Юрий.
Лишь когда Раубич отвел глаза, Алесь заметил, какая на нем странная одежда. Сюртук не сюртук, а что-то вроде короткой и широкой чуги, сшитой, видимо, первоклассным мастером из очень дорогого, тонкого серо-голубого сукна. Если б не это, Раубич выглядел бы старосветским дворянином из медвежьего угла.
Все остальное было обычным. Серые панталоны, забранные в сапоги на высоковатых каблуках. Все, кроме одного: запястье правой руки, жилистое и загоревшее, плотно сжимал широкий железный браслет, потемневший в углублениях, блестящий на выпуклостях, сделанный тоже мастерски. Алесь успел рассмотреть на нем какие-то трилистники, стебли чертополоха, шиповник на кургане и фигурку всадника на скачущем коне. От этих наблюдений его оторвал мягкий женский голос:
— Ярош, ты только посмотри, какой он сейчас хорошенький! Просто мальчик с портрета Олешкевича!
Оскорбленный этими словами, Алесь дернул головой вправо и встретил спокойный взгляд темно-голубых глаз полной женщины, которая стояла рядом с Раубичем. У женщины были русые волосы, уложенные короной, и очень женственная улыбка на привядших губах.
— Вот вам и мой старший, пани Эвелина, — представил его отец. — Видите, какой недоросль вымахал.
— Какой же он недоросль? — сказала пани. — Он просто хороший мальчик. Как раз товарищ моему Франсу. Познакомьтесь, дети…
Франс, черноволосый, матово бледный, в хорошо сшитом фраке из черного сукна, протянул Алесю руку. Тонкий рот учтиво и немножко заученно улыбался.
— Полагаю, вы теперь будете у нас частым гостем, князь, — сказал он по-французски. — Ваши торжества нравятся всем, и вы тоже.
Алесь поклонился. Поведение Франса забавляло его, но он успел заметить то, что спасало Франса и не делало смешным: какую-то скрытую иронию, с какой он относился к самому себе.
— Почему вы не привезли своей младшей? — вежливо спросил пан Юрий. — Старшую я заметил. А Натали нет…
— Что вы, — улыбка пани Эвелины делала ее лицо особенно приятным, — Натали ведь только два года.
— Это детский праздник, — подчеркнул отец, — поэтому я и пригласил всех. Для таких гостей мы отвели отдельную комнату с игрушками.
— Я думаю, в следующий раз мы исправимся, — сказала пани Эвелина. — А пока что где же старшая?
В этот момент из толпы гостей вышла девочка года на два моложе Алеся, по-детски длинноногая, в белом, колокольчиком платьице, открывавшем ее загорелые сильные ноги.
— Notre enfant terrible,[43] — с улыбкой произнесла пани Эвелина.
Enfant terrible приближалась к ним довольно решительно и почти тащила за руку Ядзеньку Клейну. Та едва поспевала за своей мучительницей.
— Вот! Вот она, Ядзя! Ей не удалось убежать от меня, — сказала девочка.
— Здравствуй, Ядзенька, — наклонилась пани. — А ты, Михалина, веди себя прилично. Вот мальчик, которого сегодня постригли, познакомься с ним.
— Его только сегодня постригли? — приподняла брови девочка. — Совсем как девочку… Бедный!
Глаза Раубича смеялись. Он искоса взглянул на пана Юрия и встретил его веселый взгляд.
— Не придирайся к словам, Михалина, — сказала пани Эвелина.
— Ма-а, — капризно протянула девочка, — ты же знаешь, я не люблю…
— Не придирайся к моим словам, Майка, — более мягко повторила мать.
— Не буду. Ей-богу, не буду. — И взглянула на Алеся холодноватыми глазами. — У вас какое-то совсем крестьянское имя, мальчик, — птичьим голосом пропела она. — Почему бы это?
Алесь рассердился:
— А почему это у вас такое странное имя, маленькая девочка?
Её белое шелковое платье приятно оттеняло слабый золотистый загар. Волосы были собраны в высокую прическу, смешную на детской головке.
«Если бы не вредный язык, совсем неплохая была б девчонка. Оттаскать бы тебя за косы, знала б, как шутки шутить».
Девочка вздохнула и первая отвела взгляд. Губки ее дрогнули, словно от обиды. Однако она сдержалась и внешне спокойно поправила на плечах кружевную накидку. Когда она это делала, ее руки оголились выше локтей — неловкие, тоненькие, как стебельки, руки с острыми локотками. И это как-то примирило с ней Алеся, потому что он почувствовал себя более сильным.
Отец подмигнул Раубичу, и взрослые перестали обращать внимание на детей. Пан Юрий подал знак музыкантам, и те заиграли какую-то торжественно-грустную мелодию.
— Крепостной капельмейстер Вежи написал, — сказал Раубичу отец. — Специально к этому дню…
Музыка звучала с какой-то таинственной, гордой силой. То ли тростник шумел на бескрайних болотах, то ли слышался во тьме устало-мужественный шаг тысяч ног? И, пронизывая это серебряным голосом, вела соло труба.
У Алеся сжало горло.
Он бросил взгляд на Раубича и увидел опущенные свинцово-тяжелые веки.
— Название? — спросил Раубич отрывисто.
— «Курганный шиповник», — ответил отец. — Пожалуй, мрачновато для такого дня. Но Вежа настаивал.
— Правильно сделал Вежа, — после паузы сказал Раубич.
Труба умолкла.
Гости стояли, немного смущённые таким началом. И в этой тишине отец вышел почти на середину зала.
— Почтенные панове! Сегодняшний день — первый день юности моего сына. Музыка, которой вы были так удивлены, была написана для него и исполнялась для него.
Отец был почти неприятен Алесю в эту минуту. Мальчик взглянул на Раубича, встретился с ним взглядом и понял, что тот переживает сейчас то же самое.
— Сегодня праздник детей, — продолжал отец, — и поэтому первый танец принадлежит им. Дети, станьте в пары… Алесь, выбери себе пару.
Непонятно, как это получилось, но Алесь стал рядом с Майкой и протянул ей свою руку… За ним, во второй паре, оказались Франс с Ядвигой, потом Мстислав с какой-то девочкой, еще и еще пары.
Торжественно грянул оркестр на хорах, и полились медленные звуки полонеза.
И тогда Алесь, почувствовав вдруг какую-то особую ловкость и легкость, чинно повёл свою «даму» к двери в маленький зал, которая совсем по-волшебному сама отворилась перед ними.
…Весь вечер Майка была изменчива, как апрельский влажный ветер. То сама искала его глазами, то вдруг не обращала внимания на то, что он ищет ее. Свободно могла завести с Мстиславом разговор о том, какие смешные слова в языке крестьян и как они смешны и неуклюжи сами. И, хотя это было несправедливо, Мстислав мучительно краснел за друга и ещё за себя, потому что она с ним заговорила, а ему это было приятно.
Алесь приглашал ее на каждый танец и видел, как сразу меняется ее капризное личико, делается покорным и почти безвольным: опущенные длинные ресницы, слегка улыбчивый рот… Она шла с ним в танце именно так, как хотел он, а в перерывах между танцами снова широко раскрывала глаза и говорила:
— Жаль, что у детей нет бальных записных книжек… О, если б были!.. На этом балу я собрала бы много записей…
И Алесь снова сердился. Один раз даже пригласил на мазурку маленькую Ядзеньку Клейну. Заметил, как охотно она подала ему ручку, как радостно вздохнула, как засверкали ее кукольные большие глаза.
…А потом был перерыв, когда разносили мороженое. И тут Ядзенькой занялся Франс. Принёс ей вазочку с мороженым, стал возле нее, потом повел ее на террасу.
Тут и подошла к Алесю Майка. Сама. Он стоял на террасе, глядел на разноцветные китайские фонарики, которые живописно убегали в темноту аллей. Майка стала рядом, кутая плечи в белую накидку.
— Скучно, когда нет танцев, — сказала она. — Я танцевала б целых три дня. А вы?
Он молча улыбнулся.
— Я тоже. Мне нравится, как вы танцуете…
— Правда? — загорелась она. — Ядзенька ведь лучше?
— И она хорошо танцует… Но мне нравится больше, как танцуете вы.
Говорила она по-французски, и ему часто приходилось подыскивать слова. Поэтому он умышленно говорил медленно, с паузами.
— Давайте убежим отсюда на несколько минут, — предложила Майка. — Пойдем в парк. Здесь душно…
В парке были освещены только главные аллеи. Вначале по ним бежали цепочки фонариков, — оранжевые, голубые, красные, они слабо покачивались среди листвы. Потом пошли обычные яркие светильники. Их пламя иногда мигало от неслышного ветерка, и тогда сетка, сплетенная из тени и света, двигалась по гравию, по веткам, по стволам могучих деревьев, по двум маленьким фигуркам, которые шли по аллее.
Светильники кончились невдалеке от пруда, над которым склонились вербы.
И тут их окутала ночь. Сквозь облака пробивался свет луны. Какое-то время дети стояли молча, глядя на лунную дорожку, яркую у другого берега и совсем тусклую у их ног.
— Рыба любит темные ночи, — сказал Алесь. — Но все равно и в такую ночь ее ловить приятно. Дети надевают теплое рыззе[44] и идут с… топтухой. — Среди французских слов странно прозвучало слово «топтуха». — Ставят ее в воду под кустами, топчут… И рыба в сетке блестит, словно голубые угли. Переливается, прыгает… А луна плывет и плывет…
Он осекся, заметив, как брезгливо опустились уголки ее губ.
— Я таких развлечений не понимаю. «Топтуха», «рыззе», — желая подразнить, сказала она, — благозвучные слова, ничего не скажешь.
Тут рассердился он:
— А в чем же еще ловить рыбу? В этой моей маскарадной чуге? В вашей мантилье? Смех, да и только…
— Чем это вам не понравилась моя мантилья? — совсем как взрослая, спросила она.
— А тем, что нечего задаваться. А тем, что эти слова нисколько не хуже ваших. — Он сыпал это на мужицком языке, словно лез сквозь бурьян без дороги. — А тем, что стыдно воображать и смеяться над людьми, которых не знаешь.
— Я и не хочу их знать, — очень неприятным тоном сказала она. — Конечно, у вас до сего времени была другая компания. La compagnie ex-ception-nelle.[45]
Она особенно подчеркнула эти слова:
— La compagnie ex-ceptee с «топтухой».
В этот момент она показалась ему такой глупой, что он захохотал. Смех смутил ее, и уже менее уверенно, но все еще заносчиво она сказала:
— Je n'aime pas le gros rire.[46]
— Я тоже не люблю, — совсем спокойно и уже по-французски сказал он и добавил: — Я думаю, нам лучше всего вернуться.
— Мне не хочется, — пожала она плечами.
— А мне не хочется быть здесь. И я не могу оставить вас одну.
— Так что? — спросила она.
— Так я отведу вас насильно.
— Ого, попробуйте!
И прежде, чем он успел протянуть к ней руку, она отпрыгнула в сторону и, как коза, побежала по наклоненному стволу старой вербы и скрылась меж ее ветвей.
— Сойдите оттуда, — сказал он. — Верба старая, хрупкая. Обломается.
— И не подумаю.
— Я вам серьезно говорю.
Вместо ответа она запела французскую песенку о медвежонке, которого поймали в лесу и отдали на выучку жонглерам. Его пытались выдрессировать, однако у жонглеров ничего не вышло — слишком тупым и неловким был медвежонок. Он так и не научился танцевать, а если начинал петь, то пел диким голосом, как в лесу, и даже жонглеры затыкали уши.
Стоя на дереве, она качалась в такт смешной песенке и пела, с особым удовольствием повторяя припев и задорно поглядывая на него сверху.
Les choses n'iront pas!
Les choses n'iront pas![47]
Песенка была даже не очень складной. Бог знает, в скольких устах она побывала, пока не приобрела нынешнего звучания.
Алесь грустно покачал головой.
— Я думал, вы совсем иная. А вы просто злая и скверно воспитанная девчонка.
С этими словами он повернулся и пошёл прочь от вербы.
И вдруг за его спиной послышался треск и вслед за этим крик. Он оглянулся. Толстый сук вербы надломился и теперь, качаясь, погружался в воду. А на нем — успела-таки ухватиться — висела Майка.
Он бросился к вербе, взбежал по стволу и, крепко обхватив левой рукой толстый ствол, правую подал Майке:
— Держись.
Она ухватилась за его руку. Он тянул ее, но одной рукой ничего не мог сделать. И тогда он сел, обхватив ногами ствол, и потянул девочку обеими руками. Наконец ему удалось втащить ее на дерево.
Они начали осторожно спускаться. Уже на берегу он окинул ее взглядом и увидел, что она даже не порвала платья. Словно ничего не случилось, она помахала рукой.
— Я же говорю — медведь. Хватает за руку, как за сук.
— Допрыгалась?
Он почувствовал что-то теплое на запястье руки: из небольшой ранки каплями сочилась кровь. Видимо, поранил о поломанный сук.
— А кто вас просил? — спросила она. — Лезете тут…
Тогда он не выдержал. Дрожа от злости, схватил ее левой рукой за плечо, а правой шлепнул по тому месту, где спина перестает называться спиной.
Девочка посмотрела на него скорее с недоумением, чем с обидой, и сказала:
— Меня никогда не били…
Он промолчал.
— Ей-богу, никогда…
Тогда он бросил:
— И напрасно. Иди сюда.
Она вздохнула и не тронулась с места. И вдруг произнесла почти с деревенским придыханием:
— Может, и ёсцека тут правда…
— Ты что же… и разговаривать умеешь? — спросил он. — Зачем же притворялась?
— Отец со мной, когда не при гостях, всегда так разговаривает, — сказала она. — А притворялась… так просто.
— Ну и дрянь! — со злостью выпалил Алесь. — Иди отсюда. Ну, чего стоишь? Иди, говорю.
— Я никогда больше не буду петь песню о медвежонке, — как бы извинялась она.
Он смягчился, обхватил ее голову ладонями.
— Ты… не плачь, — сказал он. — Не надо.
Майка порывисто прижалась к нему.
— О, прости, прости, Алесь! — вздохнула, словно всхлипнула, она. — Я никогда больше не буду так.
Алесь боялся, что она расплачется. Возможно, так и случилось бы, если б она краешком глаза не заметила кровь у него на запястье.
— Что это?
— А, пустяки…
— О, извини, Алесь… Что же теперь делать? Ага, знаю. Я перевяжу тебе руку куском мантильи. И кровь течь перестанет, и никто не узнает, что ты поранился. Подумают, что я просто сделала тебе повязку, как в песнях.
И прежде, чем он успел что-то сказать, она приподняла тонкими руками белую вуаль, повела острыми локотками в стороны, и он услышал в темноте резкий треск материи.
— А тебя не будут ругать за то, что порвала? — спросил Алесь.
— Меня никогда не ругают, — ответила она.
Она перевязала ему руку, и они направились ко дворцу, откуда уже долетала музыка.
У самого крыльца она обернулась и, глядя ему в глаза, сказала:
— Я никогда не буду… Только и ты… поменьше танцуй с Ядзенькой… Хорошо?
— Хорошо, — пообещал он.
…А потом свистели, стремясь куда-то над темными вершинами деревьев, полыхающие змеи, дрожащие блики скользили по лицам людей на террасе, а итальянские тополя, окружающие дворец, казались то серебряными, то совсем красными, как кровь. Бешено вертелись огненные круги, издавая резкие звуки, лопались многоцветные шары, горели в небе буквы «А» и «З», и Майка невольно вздрагивала при каждой новой вспышке огненного дракона.
Когда садились за стол и Майка оказалась рядом с Алесем, Алесь, взглянув на Ядзеньку, опешил: чем же так омрачена эта куколка? Моментально сообразив, в чем дело, Майка схватила Ядзеньку за руку и усадила ее рядом с Алесем, только с другой, правой стороны, начала разговаривать с ней, и Ядзя сразу повеселела, тем более что и Франс был рядом с ней, а Мстислав, сидя напротив, так изощрялся в шутках, что все хохотали до колик в животе.
А потом дети снова пошли танцевать. Однако танцы им скоро наскучили, и они начали веселую игру: во время танца кто-нибудь исчезал, а остальные начинали его искать в полутемных и совсем темных соседних покоях.
И вот, когда пришла очередь Алеся искать, он случайно стал свидетелем непонятного, но запомнившегося ему разговора.
Он обошел уже несколько комнат и неслышно вошёл в овальную. Здесь в нишах стояли цветы, и комнату наполнял сильный и приятный аромат, а в одной, самой большой, нише поплескивал фонтанчик. И вот в этой самой нише Алесь вдруг услышал голоса и остановился.
Он сразу узнал их: говорили отец и Исленьев.
Понимая, что подслушивать нехорошо, Алесь на цыпочках медленно начал подвигаться обратно к выходу.
— Tenebres! Tenebres![48]
— Будет вам, — успокаивал отец. — Все знают, что вы ни при чем.
— Ах, разве в этом дело! Как я мог думать, что можно служить и оставаться честным!
— Что же поделаешь? Надо ведь как-то жить.
Граф порывисто вздохнул.
— Я так и думал. И всё же лучше было бы не жить. Я все чаще думаю об этом. После такой пылкой юности — старость, пахнущая псиной. Смилуйся, господи, над теми, кто служит дьяволу, кто хоть словом, хоть молчанием помогает ему… Разве это дворяне?! Ни стыда, ни чести. Все равно, кого хвалить, все равно, перед кем извиваться на брюхе, все равно, кому бесстыдно поддакивать. Все равно, перед кем каяться во вчерашних подлостях, а сегодня совершать новые, чтобы завтра было в чем каяться перед другими.
Снова горестный вздох.
— Боже, какая мерзость! Какая гадость! Все свежее губят. Петлей, обманом, лицемерием… Почему я был за границей в тот день?… Я знаю, это было от страшного отчаяния… Они вышли, pour se faire mitrailler…[49]
— Chut! Il ne faut pas parler.[50] Их все равно не вернешь.
— Так, их не вернешь. А как начинали! Помню, в доме Лаваля… Споры до утра! Горячие молодые глаза, слова из самого сердца… Кондраша Рылеев, друг, такой светлый, пухом ему родная земля… Так подло его обманули на допросе! Доверчивые были, добрые, чистые. Дети…
Помолчал.
— А те, кто есть, лучше б не оставались.
— Как можно! — возразил отец. — Упрекать за это нельзя, граф.
— А начинали ведь мы, — с каким-то даже злым смешком сказал граф. — Мы, недобитые. Натерпелись ужасов, пока нас было мало, и отдали руль другим, которые пылали, а теперь охлаждают свой пыл в голодайском песке или сибирских снегах. Вы же имели счастье встречаться с Михаилом Николаевичем?[51] Самый умный из всей этой камарильи. И никак не может забыть грехов молодости, Лис Патрикеевич. Бросается во все стороны, держит морду по ветру, лишь бы себе не повредить. Подождите, он еще о себе даст всем знать, я его знаю… А ведь это мы принимали в круг первых, избранных. Я вспомнил Пушкина… Так вот, ближайшего его друга принимала в общество эта свинья с титулом графа. И вот Пущин в Сибири, наверно, умер, а свинья живет, делает вид, что забыла молодые честные слова. Да еще, может быть, рассказывает о «горячей молодости», что «мы тоже были такими», что «все это пройдет». А прикажут — будет вешать эту молодежь… Нету свиньи горше, чем отступник. Были фрондеры, а теперь один государственный муж, а второй па-лач!! О боже, боже!
— Успокойтесь, граф, не надо.
— Жить не надо, если изменили жертвеннику, если кадишь палачу, вот что я вам скажу, князь… Жить не надо… Не надо прятать голову в песок. Героическая эпопея! Великий эксперимент! А чем он окончился? Трупами и изменой. Были юные, чистые сердцем люди, а теперь старые мерзавцы, которые загубили родину.
Испуганный этими словами такого спокойного с виду человека, Алесь тихо вышел из комнаты.
Он шел в темноте к еле видимому свету, который пробивался впереди сквозь узкую щель. Глухо звучали шаги. За окнами едва вырисовывались угрожающие во тьме ночи кроны деревьев в парке.
Там, за освещенной дверью, ожидали Майка и друзья, там была радость…
Он шел, а в ушах все еще звучали яростные слова: «Tenebres! Tenebres!»
IX
В Пивощах случилось следующее. Деревня была большая, на четыреста ревизских мужских душ, и жила рыболовством — богатые и средние мужики арендовали у своего пана рыбные тони на неисчислимых старицах Днепра — и извозом. Земли было не так уж и много, да и та наполовину урожайный лёссовидный суглинок, а остальная — песок да глина. Пивощи раскинулись на песчаных погорках, окруженных с трех сторон старицами и плавнями.
Пивощинцам поэтому было легче, чем крестьянам Кроеровщины — другой деревни пана Константина. Там шестьсот остальных ревизских душ жили на земле, богаче которой была только земля Загорского-Вежи, и сполна отрабатывали барщину. Им приходилось по условию три дня в неделю работать от темна до темна, а с пятнадцатого мая по пятнадцатое августа — с пяти часов утра до заката солнца.
Работали много и тяжело, словно пан Кроер имел не тысячу душ, а каких-то сто. Притом Кроер в свои сорок пять лет ходил все еще в «девках», а такие обычно тратят меньше. Однако же известно, что неженатый пан иногда бoльшая беда, чем тот, у кого пятеро детей. А у Кроера, к несчастью крестьян, был еще и разгульный характер. Жениться он вообще не хотел и еще больше не хотел увеличивать богатство Загорских, которым после него переходили по наследству, через мать Алеся, «любимую троюродную сестрицу, святую дуру», деревни Кроера. Поэтому пан Константин кутил. Удержу ему не было. А его крестьяне работали на него лишний день, чего не было даже у более мелких помещиков, которые еле сводили концы с концами на своих считанных волоках.
И это в то время, когда по всему Приднепровью обычное право предусматривало два дня для барщины. Два дня по четырнадцать часов. Требовать большего — паны знали — невыгодно. Обычное право действовало чуть ли не с литовских времен, когда надо было угождать пограничным землям, дабы не чинили измены, и за столетия так въелось в плоть и кровь жителей, что менять его было просто опасно: начнут работать через пень-колоду, не будут беречь помещичий инвентарь, переломают его — «гори ясным огнем, если такое уж дело». А тогда поля зарастут чертополохом, и дудки уже получишь что-либо с них.
Да и уроки тяжеловатые на два барщинных дня. Хозяин дома должен был за день вспахать сохой — не мельче, чем на два вершка, — половину десятины глинистой земли, или забороновать морг, или засеять шесть моргов, что уже совсем непосильно. Или перевезти за двадцать пять верст от восемнадцати до двадцати пудов.
На пахоту и сев шли семьей, потому что одному не справиться. Семьей шли и на барскую молотьбу: за день барщины надо было обмолотить озимых одну копу, а яровых — две. А копа- шестьдесят снопов, а каждый сноп у перевясла — аршин кругом.
Более мягкий по сравнению с центральными губерниями характер барщины в Западном крае объяснялся еще и тем, что правительство тоже не очень разрешало ломать обычное право. И не потому, что оно было на руку крестьянам, — чихать на это хотел Петербург! — а потому, что оно было одним из краеугольных камней относительного спокойствия, одним из средств воздействия на дворянство. А оно все еще не могло забыть давнишней шляхетской «вольности' и волком смотрело в лес.
Мера эта, однако, была половинчатая и не удовлетворяла ни правительство, ни дворян, ни крестьян. Правительство — потому, что спокойствия все равно не было: край словно пороховая бочка, а прибыли от него — кошачьи слезы. Дворян — по тем же причинам, да еще они были обижены недоверием правительственных кругов.
А крестьян это не удовлетворяло потому, что для них с разделом Польши ничего не изменилось, да еще прибавились рекрутские наборы. При старых порядках, до раздела, служба в армии непосредственно касалась лишь дворян, а крестьянин, который по своей охоте брал оружие и шел на войну, тем самым вместе с семьей, по решению сейма, нобилитации, переходил в шляхту, ту однодворную шляхту, про которую язвили: «Два паны — одни штаны, кто раньше встал, тот и надел». На это шли редко, личная независимость не приносила богатства: все равно приходилось держаться магната, чтоб не умереть с голоду. Шли большей частью те, кто не поладил с помещиком, кому другого выхода не было.
И вот теперь наборы и многолетняя солдатчина висели над каждым и каждую минуту могли обрушиться на первую попавшуюся хату, забрать кормильца, забрать брата, сына.
Приднепровские крестьяне всегда были дерзкими, с какими-то даже, можно сказать, казацкими замашками. Роль опары в этой неспокойной квашне играли многочисленные независимые от помещиков круги и группы: бывшие пастухи королевских стад, скупо вознагражденные землей при разделе; панцирные бояре, или бывшая пограничная стража, перед которой когда-то заискивал сам король; жители многочисленных городов, у которых остерегались отнять магдебургское право; могущественные, всепроникающие общины баркалабовских и кутеянских нищих.
Нарушать обычное право, увеличивать двухдневную барщину было опасно: могли и красного петуха пустить, да еще так ловко — под только что застрахованное имущество, — что потом хозяина по судам затаскают: не сделал ли он это с целью наживы?
Поэтому даже сгон — право господина на рабочие руки кроме барщинных дней, когда гибнет на корню урожай или когда ливень или летний паводок угрожают затопить покосы, — должен был оплачиваться помещиками от двадцати до двадцати пять копеек серебром за день.
И вот пан Кроер осмелилися нарушить обычай. Дело было в том, что он год прожил в Петербурге и год за границей. Карты, рулетка, еще черт знает что. Растряс там много денег и теперь поправлял свое положение.
Началось это три года тому назад. Прежде всего он перестал засчитывать возницам дорогу, когда они возвращались порожняком. Мужики поворчали немного и утихли. Потом на целый час сократил обед в зимние барщинные дни. Стерпели и это, потому что барин должен быть немножко несправедливым, когда дело касается его хозяйства. Слава богу, всего было: и выпивал Кроер лишнее, и охотился на крестьянской озими, и насчет девок был шкодливый.
Но потом начались проказы уже совсем опасные. Пан Кроер прибавил третий день барщины. А когда некоторые попробовали возмутиться, их высекли на конюшне. Тогда кто-то поджег Кроеров амбар. В ответ на это Кроер завел волкодавов и привез из Смилович десяток людей для охраны. Это было уже совсем неожиданно.
Может, ничего б и не случилось, но навредил тяжелый год. Озимь с осени хорошо пошла под снег, хорошо вышла весной из-под снегового покрова и к Юрьеву дню выросла уже такая, что не только ворона могла в ней спрятаться, но и выпь, если б в ее голову пришла такая глупая мысль — бросать ради полей свои камыши. И тут выпал сильнейший град, захватив полосу от Могилева и почти до Гомеля. Градобой был невиданным: целые куски льда падали на бедную рожь, и она полегла начисто.
Летом пришлось туго, и, возможно, людей ожидал бы страшный голод, если б не хороший урожай овощей и яровых.
У Загорских, Вежи и Раубича, еще трех-четырех помещиков, у которых имелись запасы, было еще не так плохо. Крестьянам других помещиков могло хватить летнего урожая разве что до пятой недели великого поста.
И вот Кроер учинил пивощинцам общий сгон — горячая пора не ждала. За три дня рожь на его полях уже стояла в суслонах, а часть даже свезли к господским ригам, сложили в скирды. Люди шли на работу охотно, потому что семья из пяти человек — свою работу окончили — могла заработать за эти дни самое малое три рубля, а это значило, как на голодный год, восемь с половиной пудов ржи, можно как-то перебиться до щавеля, до «гриба бедных» — сморчка, до первой рыбы, как только спадет вешняя вода.
…На третий день сгона, под вечер, эконом Кроера объявил людям, что сгон не будет оплачен и что за него не будут платить и впредь.
Люди стояли на сельской площади, под общинным дубом, и слушали его.
Каждый думал о том, как теперь прожить. Мужикам виделась Бэркова корчма, где придется просиживать целые дни, лишь бы убежать от невольных домашних попреков, бабам — жадное и вечное, как судьба, устье печи, которая каждое утро требовала жертв.
Но все молчали.
Смущенный этим обстоятельством, эконом (пан приказал в случае чего пойти на маленькие уступки) предложил пять копеек за день. И тут Янка Губа, самый старый человек на селе, выступил вперед:
— Мы не нищие, чтобы нам замазывали глотку пятью копейками в день! Мы не чужое просим, мы просим свое, испокон веков установленное.
Глаза у него были как у обиженного ребенка.
— Пан Кроер обидеть нас надумал… Что ж, пусть подавится нашим хлебом… А за слезы сирот подохнуть ему без покаяния… Но прежде пусть знает: не будет платить, как то дедами заведено, — никто не пойдет на сгон. Барщину отработаем, а сгон пускай отрабатывает вдвоем с тобой, эконом.
Эконом был человек неумный и вспылил:
— Тогда хрен вам вместо хлеба! Жрите землю… Кто еще угрожать будет? Кто?! Холуи безмозглые! Вы же видите, какой трудный год. Разве не пан дает вам ссуды?! Разве не он за ваши недоимки перед государством отвечает своими деньгами?!
— За это мы на него и работаем. Но недоимок за нами не велось. Ссуд тоже. А если этой весной и придется занимать по его барской милости, то у кого хочешь будем занимать, только не у него, аспида ненасытного. Корчмарю иконы в залог отдадим, потому что он хотя и нехристь, а все же лучше Кроера, этой жадной глотки.
— Под ружьем пойдете, — пригрозил эконом.
И тут из рядов выступил молодой, лет двадцати восьми, пивощинский крестьянин Кoрчак, работящий отец двух детей. Он пришел сюда прямо со скирдования и потому был с вилами. Воткнул вилы в землю и спокойно оперся на рукоять.
— Не грозись, эконом. Бог не прощает за угрозу невинному.
Стоял перед экономом светло-русый, как лен, смотрел черными дремучими глазами.
— А на сгон не пойдем. Под ружьем поведут — так такую и работу от нас получит пан Кастусь. Пусть жолнеры[52] штыками снопы носят.
— Зачинщики! — сказал эконом. — Ясно.
И достал из кармана книжку и карандаш.
— Не дозволим писать! Не дозволим! — заволновалась толпа. — Черт его знает, что он там напишет… А потом печать хлопнут — и пропадай душа.
Возмущенные люди толпились вокруг старого Губы.
Первый не выдержал Василь Горлач:
— Да что же это такое?! За что?! Нас обижают, да на нас же и донос писать?
— Нехорошо поступаешь, эконом, — сказал Корчак. — Гляди, чтоб не отрыгнулось.
— Вот как?! — вспыхнул эконом. — Хорошо. Еще и угрозы? Глядите, мужики. Все это вам припомнят. И отказ от сгона, и оскорбление пану, и… то, что иконы святые заложить иудеям собрались. Гнездо гадючье! А тебе, Губа, как зачинщику, не миновать и Сибири.
Губа насмешливо смотрел на него.
— Чего мне бояться? Мне всей жизни с воробьиные подштанники. Ну и Сибирь. Пускай. Не все ли равно, откуда к праотцу Аврааму отправляться…
— Он еще и богохульствует, старый пень… Нужен ты Аврааму, труха смердючая! — огрызнулся эконом.
Со старым Губой никто так не разговаривал. Авраам Авраамом, а уважение старику необходимо даже тогда, когда он окончил земные дела. И поэтому Губа оскоромился…
Эконом увидел чуть ли не под самым носом потрескавшуюся, темную фигу, какую-то особенно издевательскую. Тогда он размахнулся и хлестнул старика плетью по пыльной, горбатой на спине свитке.
И тут произошло то, чего никто не ожидал от всегда кроткого, молчаливого Корчака. Видимо, он и сам не ожидал, потому что лицо его оставалось спокойным. А руки в это время выдернули из земли вилы и метнули их в эконома.
Вилы просвистели в воздухе и, дрожа, впились в землю между расставленными ногами эконома. Эконом побледнел.
А на него уже надвигалась толпа:
— Вон отсюда!
— Порожняк отменил, паскуда!
— Тре-е-тий день!!!
— Плати за сгон!
— Озимь лошадьми топчет, жбан пустоголовый!
Крик опьянил людей, особенно когда они увидели, что эконом вскочил в седло и припустил вдоль деревенской улицы. За околицей эконом свернул в сторону и поскакал прямо жнивьем, напрямик.
А возбуждение все нарастало, и над толпой взвился смех, задорные выкрики, свист. Не сытое было лето, голодная будет весна — черт с нею! Черт с нею, лишь бы на миг душу заполнили удовлетворение и гордость.
— Как это ты решился, Корчак? А если б попал?
— Если б захотел, так попал бы, — растерянно и немножко гордо посмеивался Корчак. — Что я, турок, чтоб в живого христианина метить?
— Да какой он христианин?! Падла он! Как же… Сгон даром робили. А теперь голод!
И тут они снова вспомнили об обиде.
— Слё-о-зоньки! — запричитала какая-то баба. — Что же им спонадобилось, глоткам ненасытным?!
— У нищего посох отняли!
— У детей голодных кусок изо рта вырвали!
Ее поддержали другие бабы. Причитания нарастали, а вместе с ними какой-то тусклый, лютоватый огонек загорался в глазах у мужиков.
Поднималась нестерпимо болезненная, до слез, обида. Она требовала неотложного выхода. И потому толпа радостно взорвалась, когда кто-то бросил:
— Сжечь Кроеровы скирды… Нехай знае.
Толпа заревела. Предложение понравилось всем.
— Не нам, так и не ему!
— Жги!
С самодельными факелами люди повалили к скирдам. День начал захлебываться в дыму… И удивительно — никто не взял ни одного снопа. Это был не грабеж, а справедливая месть.
— Пускай знает!
— Носом его, кота шкодливого, ткнуть!
…Спалив хлеб пана, люди вернулись в деревню и стали ожидать, что будет.
…Ждать пришлось недолго. Солнце еще стояло довольно высоко, когда мальчик, сидевший на вершине общинного дуба, заметил на дороге из Кроеровщины облако пыли. Хотели было броситься прочь из села, но Корчак убедил, что не стоит. Один человек — что он без других? А когда те, что шли из Кроеровщины, приблизились, всем стало стыдно за свои мысли.
Шли десять человек, а за ними ехал всадник. Люди узнали в них татар-охранников, а в верховом — поручика Мусатова.
Эконом случайно застал его в Кроеровщине и, насмерть перепуганный, стал умолять поручика, чтоб тот скакал в Суходол за помощью. Но у поручика имелись свои планы. Бунт был слишком счастливым случаем, чтоб выпустить из рук инициативу, отдать ее другому, потерять возможность утвердить за собой репутацию мужественного и деятельного человека.
Зеленоватые глаза Мусатова загорелись: он предчувствовал, он знал, что сейчас произойдет. Опасность — пустяк: что делается без опасности? Она даже придавала остроту тому, что он собрался делать. И поэтому он прикрикнул на эконома:
— А ну, замолчи! Наделают тут глупостей, а ты исправляй… Сколько охранников в имении?
— Десять.
— Давай их сюда… А сам скачи в Суходол. Скажешь — господин Мусатов сам двинул в Пивощи… Пусть не медлят.
Эконом смотрел на него с плохо скрываемым почтением и некоторым ужасом. И это было хорошо: будет свидетель. В душе поручика все ликовало от восхищения собственной хитростью. Пускай в Суходоле торопятся. Это необходимо, чтоб его не обвинили в излишней самоуверенности. Но они не успеют, они просто не смогут успеть. «Молодой и распорядительный поручик, который случайно оказался на месте», сделает все без них… Не надо было только показывать радости.
— Как же вы? — с ужасом спросил эконом.
— Служба, — ответил Мусатов.
— Благослови вас бог, — растроганно-восторженным голосом сказал эконом.
— Э, бросьте… Лучше поспешите… Все же их четыре сотни одних мужиков…
— И вы не боитесь?
— Боюсь. Но иду… — Он сдержанно перекрестился и сказал подчиненным: — Двинем, братцы.
…И вот теперь отряд вступал в Пивощи, и чем дальше он продвигался вперед, тем больше росла молчаливая толпа под дубом. Когда до нее осталось каких-нибудь шагов сорок, Мусатов остановил своих людей, а сам отъехал вперед, к толпе, на длину корпуса лошади, не больше. Он знал, что приближаться нельзя: стащат с коня, и тогда подчиненные не успеют помочь, побоятся стрелять и, возможно, бросятся наутек.
Могли даже просто набить морду. Нельзя быть смешным. Он ощупывал своими зеленоватыми глазами молчаливую толпу, а его руки, цепкие, нервные, со сплющенными на концах пальцами, лежали на луке седла.
Наконец он понял: опасность есть, но очень маленькая. И это приободрило его.
— Что здесь случилось? — спросил он.
В ответ молчание.
— Чьи суслоны горели?
Снова молчание.
— Молчите, сук-кины дети? Вилами кидаетесь?… Знаете, чем это может кончиться?
Некоторые опустили головы. Боже, только б не рухнули на колени!
— Что ж вы, братцы? Как это вы осмелились? Разойдитесь, не вводите в грех христианина… Разойдитесь мирно по домам.
Голос его смягчился, стал снисходительным, — так кот на миг отпускает жертву, чтоб было что догонять.
— Вы что, сожгли барскую рожь? Нехорошо…
— А то, что он с нами сделал, хорошо? — взорвался в толпе чей-то голос. — Обычай ломает, за сгон не платил.
— Будете отвечать!
— Вот что, — сказал, выходя из рядов, Горлач, — ступай отсюда, пан офицер. Мы натворили — наш и ответ. Иди… Правда, люди?
— Тогда отдадите свой хлеб, — сказал Мусатов. — Сейчас же отдадите… И на сгон пойдете завтра, хамские морды.
И обратился к отряду:
— Слушай меня… Пойдете к их скирдам и возьмете то, что они сожгли. До последнего снопа…
Удар был рассчитан точно. Толпа взревела. Угроза была нелепая и именно поэтому вызвала гнев, при котором не рассуждают.
— Пусть попробуют взять!
— Поглядим, как возьмут!
В конце концов, с офицером было только десять человек. И толпа полукругом двинулась на них.
Мусатов понял, что переборщил. Он не хотел драки, он хотел только возмущения, при котором можно стрелять поверх голов. «Распорядительный молодой поручик залпами поверх голов заставил смириться мятежный сброд…» Но рассуждать было поздно — в руках у крестьян появились камни. Надо было действовать решительно, иначе конфуз.
— А ну, попробуйте возьмите!
— Бей их в мою душу!..
Толпа надвигалась грозным полукругом. И тогда Мусатов почти пропел:
— Шту-церы на руку-у…
Толпа заволновалась и пошла немного медленнее.
— Братцы! — крикнул Горлач. — Не будут стрелять! Приказа такого нету! На нас кресты! По крестам не будут!
— Пли!
Залп секанул воздух. Все остановились, растерянные. Пороховой дым еще не успел развеяться, как в толпе истошно завопила баба:
— А-а-а!!
И этот пронзительный крик решил дело. Толпа, почти шестьсот человек, бросилась бежать, топча тех, кто упал.
…Корчака что-то обожгло. Не замечая, что из-под правой ключицы начала сочиться кровь, он пятился назад, с ужасом и гневом глядя в расширенные, бессмысленные глаза бегущих.
— Братцы, куда же вы?! Братцы, опомнитесь!
Он видел, как, держась за голову, бежал Горлач, как, часто хватая воздух ртом, зажимал красное пятно на рукаве старый Губа, но все еще беспорядочно махал ненужными вилами.
— Братцы!
Второго залпа не понадобилось. Мужики бросились огородами наутек.
И тогда Корчак побежал тоже. Вначале он не знал, куда бежит. Затем сообразил, что в камышах над старицей его не найдут, и потому повернул туда. Он не боялся, — гнев, которого он до сих пор не знал в себе, был сильнее страха, — но он все же бежал. Пожалуй, он был один, кто не потерял способности рассуждать после того, что произошло.
Он бежал огородами, потом с разгона бросился в воду старицы и, перемахнув ее, выбрался в лозняк, а затем в луга. Он долго бежал и там, всхлипывая от злости и повторяя:
— Трусы… Сволочи…
Потом пошел медленнее, только сейчас почувствовав, что ранен.
Вместе с кровью из тела, казалось, вытекала и смелость. Рана начала гореть. Забравшись в высокие камыши, как затравленный зверь, он черпал ладонью коричневую грязь и поливал рану, но она болела все сильнее.
«Пропаду», — подумал он.
Рядом откуда-то появилась водяная курочка и смотрела на него с любопытством, совсем не боясь.
Он бросил в нее горстью ила.
И тут его охватила злость. Никто не боялся мужика, даже водяные куры. Толпа взрослых людей пустилась бежать от десяти человек…
Он чуть не заплакал от обиды, но злоба вселила в него новые силы, он поднялся и поплелся тростниками к далекому Днепру.
«А поп Василий говорил, что ни один христианин не будет стрелять в святой крест… А эти стреляли…»
Ожесточение нарастало. Он шел и шел. Только б выжить, он им тогда покажет…
Но как выжить?
И тогда он вспомнил, что в Озерище живет родственник Цыпрук Лопата. Наверное, он и не знает о событиях в Пивощах, может, и спасет. Значит, надо идти прямиком на Днепр, постараться переплыть его и спрятаться в Озерище.
В голове все мутилось. Он шел камышами, лугом и снова камышами, падая в коричневую грязь.
…Цыпрук Лопата, который задержался на реке и плыл домой, случайно заметил облепленного грязью человека, ползущего к воде. Человек полз все медленнее и медленнее, наконец обмяк, стал недвижим. Поспешив к нему, Лопата едва узнал родственника.
Лопата уже слышал о событиях в Пивощах и потому не удивился. Но он понимал и то, чего не понимал раненый Корчак: беглецов будут искать у родственников и знакомых. И потому, переправив ночью свояка через Днепр и сделав ему в хате кое-как перевязку, он с помощью сына положил его на телегу и выехал со двора: решил за ночь перевезти на мельницу дядьки жены, Гриня Покивача. Мельница стояла в лесу, за восемь верст от Загорщины.
Гринь знал травы и мог залечить рану. Кроме того, было и еще одно преимущество: на мельницу Покивача люди старались не ездить, потому что у хозяина была незавидная слава колдуна.
…Деревня спала, когда Лопата ехал улицей. Только в хате Когутов горел свет: семья допоздна работала и теперь, видать, ужинала.
Лопата благодарил бога, что деревня спит. Но он не был бы так спокоен, если бы знал, о чем говорили Когуты за ужином. А решили они через несколько дней ехать на мельницу к Покивачу с первым зерном, потому что в своей озерищенской мельнице было завозно.
X
Назавтра утром гости разъезжались. Провожая их выстрелами из пушек, Кирдун снова ворчал на Фельдбауха. И снова Алесю пришлось стоять на террасе, отдавать прощальные поклоны.
И вот остановился перед ним Басак-Яроцкий. Спокойно глядит в глаза пострижного сына ясными синими глазами:
— Будь здоров, сынок… Будет скучно — заезжай лисиц пострелять… Кгм… — И добавляет шепотом: — А когда будет тяжело, да еще, упаси боже, найдется враг, помни: есть дядька Яроцкий, который умеет держать пистолет.
— Спасибо вам.
…Вице-губернатор подходит к нему, совсем не такой румяный и свежий, как вчера, хотя старается держаться с достоинством.
— Прощайте, князь! Старайтесь быть достойным сыном России. Многое вам дано — многого от вас и ожидают.
«Держись прямо, пожалуйста, будь величественным, старый вояка, однако это ты говорил полушепотом непонятные и страшные слова, и я теперь знаю, какая бездна, какая безнадежно мертвая пустота за твоим спокойным, взрослым лицом. Да, жаль, далеко не все такие. Я не покажу тебе этого. У меня тоже ничего нет, кроме могил. Так меня учили».
Уезжают Ходанские. Любезная улыбка старого графа, слишком ласковая, чтоб ей можно было верить. А Илья — зверек. Так и не сошлись поближе.
Мальчик провожает глазами каждую семью, словно она исчезает навеки, и не знает, что все это нити того ковра, который ему придется ткать всю жизнь, длинной или короткой она будет. Иная прядь будет идти почти сплошным фоном, серо-зеленым, как дождливый понедельник. Другая встретится полоской, узкой, на день работы. Та промелькнет единственной красной ниточкой, но сквозь всю жизнь.
Люди пришли — люди исчезают. И ему кажется, что исчезают навсегда.
И Майка с Мстиславом сегодня тоже исчезнут.
А вот направляется к ступеням число «20» — братья Таркайлы.
— Бывай, князь, — басом говорит Иван. — Смотри, Тодор, какой хлопец растет. Настоящий приднепровский лыцарь. Когда вырастет, лучше с ним не связывайтесь разные там англичане да турки. Даст — лужа останется.
Тодор кисловато улыбается. А Иван басит дальше:
— Наш… Наш… Приезжай, брат, ко мне — женю. Мы такого героя каким-то сушеным рыбам и понюхать не дадим…
Ах, убирайтесь же вы быстрее со своим «лыцарством»! Потому что Майка и Мстислав тоже уезжают.
Отец провожает к карете старую Клейну, а за нею идут Ядзенька и Янка.
— Будь здоров, бэйбус, — говорит старуха. — Ты смотри у меня. Рановато начинаешь ферлакурить.
— Спасибо вам, милый Алесик. Все было хорошо, — грустно говорит Ядзенька. — Вы только не забывайте… нас — меня, и маму, и Янку.
— Прощайте, Ядзенька…
Вот уже и Раубичи показываются в дверях. Раубичи! А за ними идет Мстислав.
Желчно-красивое лицо Раубича серьезно. Холодные, с расширенными зрачками, страшные и все же чем-то притягательные глаза снова ловят взгляд мальчика, испытывают, забираются медленно на самое дно души.
— Прощай, свет ясный, — с неожиданной теплотой говорит он.
— Прощайте, милая Майка.
— Прощайте, милый Алесь.
— Довольны ли вы?
— Le plus beau bal, que j'ai vu de longtemps,[53] — отвечает за нее важный, как придворный, Франс.
А она не ответила, лишь кивнула головой.
— Майка… Через несколько дней я приглашу Когутов. Мне очень хотелось бы… Мы поедем смотреть руины старого замка. Я приглашаю Мстислава и… вас.
Майка кивает головой без особого энтузиазма. И это такое неожиданное горе, что даже сердце падает куда-то.
— Михалина, — сурово говорит Раубич, — поблагодари хозяина. И поцелуйтесь, как хорошие дети.
— Спасибо вам, Алесь, — говорит она. — Всего вам доброго.
Она приближает к нему личико, дотрагивается неподвижными губами до его щеки и подает ему руку.
И в этот момент он ощущает что-то в ладони. Он неумело сжимает ладонь и смотрит на Майку.
Ушли. Всё. Алесь идет в дом спокойно — потому что на глазах у всех — пересекает зал, а потом… Потом бешено мчится по лестнице на хоры, а оттуда винтовой лестницей на антресоли второго этажа, а потом по приставной лестнице в открытую башенку.
Он еще раз желает увидеть коляску, увозящую ее.
…Коляска отдалялась. Солнечные пятна прыгали по ней, по лошадям, по людям, которых уже нельзя было отличить друг от друга. Все исчезло, и на дороге больше ничего не видно.
Тогда он вспомнил о вещи, которую держал в руке, и разжал кулак. На ладони лежал детский железный медальон, выполненный почти в том же стиле, что и браслет старого Раубича. Маленький медальон с шиповником и скачущим всадником.
Он раскрыл его и увидел прядку пепельных волос и сложенную бумажку.
На бумажке было несколько слов из латинских букв. Несколько неуклюжих, видимо после длительных раздумий, написанных по-мужицки слов.
Он с благодарностью, с какой-то мгновенно возникшей надеждой разобрал: «Чтоб не забывал. Приезжай!»
XI
Он раскрыл глаза, и из темного моря забытья начали выплывать тусклые, но устойчивые образы.
Прежде всего космы трав, растущих вниз сухими соцветиями. А корни их на дереве. Ах, как болит тело! Оно совсем чужое: руки, ноги свои и не свои, тяжелые, как свинец, и невесомые, близкие, вот здесь, и очень-очень далекие.
Что это за травы? Ага, это они не растут, это они просто висят вниз сухими соцветиями, привязанные к слегам. Это, наверно, какой-то омшаник, но какой?
Вот тени чьих-то голов на стене. Одна мужская, другая, наверное, женская. Нет сил, чтоб повернуться и взглянуть на эти головы, от которых ложатся тени.
И почему здесь горит свет, когда за стеной день? Конечно, день, потому что он слышит пение дневных птиц. Если б была ночь, кричала бы выпь. Где это она кричала накануне? На каких приречных лугах? И что там было?
…Вспомнил! Они стреляли. Хватал воздух ртом старый Губа. А потом была та водяная курочка и бесконечная, нестерпимо длинная дорога…
Вдруг из его горла вырвался такой страшный крик, что он испугался за тех, чьи тени отдыхали на стене. Но пугался он напрасно: те не заметили и не услышали, как вздрогнуло его тело, а с губ сорвался беззвучный писк.
Поняв это, он в отчаянии попробовал сказать слово, самое легкое слово, потому что перед глазами были трещины в стене и то, что между бревен:
— Мо-ох… о-ох…
— Стонет, — послышался женский голос.
Кто-то темный и большой склонился над ним, и сразу он почувствовал на губах шершавый край глиняной кружки.
— Глотни шалянца,[54] мужик, — сурово сказала женщина, — это тебе на пользу. Какой же ты слабый…
Прояснялось в глазах. Да, это был омшаник для пчелиных ульев, теперь пустой, и в нем горел каганец, хотя за стеной был день, и плескалась где-то вода.
Вот уже ноги и руки стали не такими далекими, и хватило сил даже повернуть голову.
Прикрытая дверь. Дневной свет косо падает из нее, и в луче радужно клубится сизый дым, переливается, наплывает одним завитком на другой. И так все выше, выше.
Дым тянется от кучки смоляков, на которых стоит горшок, да еще от трубки мужчины, сидящего у двери. Что за мужчина? Весь в белом, — значит, мужик. Лицо худое и почти безбородое, усы жидкие. А глаза пронзительные, желто-янтарные, словно у коршуна, попавшего в силок. Когда подойдут люди, он смотрит на них непримиримо, с той высшей покорностью судьбе, какая бывает у зверей и хищных птиц, понимающих, что уже ничего не поделаешь.
Возле горшка сидит на колоде женщина, то, что давала пить. Странная женщина. Вся в черном, как монашка. На голове длинная черная шаль, открывающая только треугольник лица. Лицо крестьянское и не крестьянское, темно-бронзовое и сухое, закостеневшее в какой-то властности. Встретив такую — испугаешься. Но тот, коршун, чувствует себя свободно: надо думать, одного поля ягоды.
— Пей, мужик, — говорит женщина.
Над ним наклоняется лицо. Глаза страшные, глубокие и, удивительно, совсем не старые.
В этот раз питье как полынь и белена — немеют нёбо и язык, темнеет в глазах.
— Пей, мужик. Бунтовать небось слаще было, дуролом?
…Какое облегчение! Теперь можно уже и разговаривать. И он спрашивает слабым — потому что рот будто после сильной оскомины — голосом:
— Где я? Почему?
— Лопата доставил. Я Гринь Покивач. А это Марта… Гм, мать божья… И счастье, что ты у нас. Иначе подох бы, как собака, без причастья… Какой же это дурак грязной водой раны обмывает, дубина неразумная?
— Горели.
— Могли б совсем сгореть. Пока довезли, был у тебя уже антонов огонь. Кожа вокруг раны покрылась пятнами. Вот как оно, господин Корчак. Господами быть захотели — вот вам шкуру и выделали.
— Под сердцем холодеет. Значит, конец?
Мельник пускает дым.
— Поглядим, — говорит он. — Первые два дня смердела твоя рана. Поглядим, как теперь.
— Не ругай его, — сухим голосом говорит Марта.
— Как же не ругать, — говорит Покивач, — когда у него мозги в кишках. Забыл, что такое пан и что мужик.
Злость подкатывает под сердце Корчаку, и он говорит:
— Мы как волки и собаки… Одних щенков нам с ними… никогда… не плодить.
— Умен, — говорит мельник, — да только еще никогда волк не стерег жилище, а собака не выла в ночном лесу. Так, значит, и не лезьте в компанию друг к другу, не тужьтесь. Они, видишь ли, справедливости захотели.
— Оби-идно.
— Ну, а если б вы господами стали, не обидно было б? Кому-то все равно была б обида. Может, еще и бoльшая. Нет хуже пана, как из хама, а из дерьма пирог.
Эти ворчливые слова сердят Корчака, но он молчит.
— Может, и хуже, — говорит Покивач. — Потому что все равно, кто будет класть ноги на чужой загривок. Так у этих господ ноги нежнее, чем твои ступаки. Их ноги к шарканью и танцам привыкли, они такого пинка в зад дать не могут, как ты в корчме.
— Их ласку… изведал… В кресты стреляли, нехристи.
— Научили, — улыбается Покивач. — И правильно сделали, что научили. Вы же, трусы, заячьи души, деревней от десяти человек драпали. Не с вашими зубами орехи грызть. Хотя бы о том подумали: нападает ли волк в Иванову ночь?… Не-е-т. Он ожидает той ночи, которую ему бог выделил, — он филипповок ожидает и тогда в сени влезет, чтоб собаку достать. Потому что бог ему эту ночь дал для власти. А до этого он молчит, он ко двору не подойдет, как вы… Полезли и наложили всем селом в порты. Потому что как будто бы и вместе, а на самом деле стадо баранов. Ничто вас не связывает, каждому своя шкура дороже… Если не изменитесь, так вам извечно быдлом и быть. Случайно одного забодаете, сразу будет над вами новый кнут.
— Молчи, Гринь, — сказала Марта. — Ты что, забыл, что он раненый, что его сердить нельзя?
— А ты тоже молчи, — ответил Гринь. — Давай вот лучше перевязывай.
Марта разворачивала белые тряпки на груди Корчака. Раненый почувствовал, как изболевшее тело отвечает мелкой дрожью на толчки боли: Марта отдирала полотно от раны.
— Тц-тц-тц, — почмокал Покивач.
— Дрянно? — спросил Корчак, не открывая глаз.
— Лучше, — Сказал мельник, — но еще не совсем хорошо.
Его грубые руки достали откуда-то горсть сероватой с прозеленью вязкой массы и начали накладывать на рану. Корчак ощутил приятный холодок.
— Поблагодари своего бога: три недели не пекли… Лето, праснаками обходимся, — сказала Марта. — Это плесень, которая в квашне на опаре вырастает, если не пекут хлеб.
— Знаю, — сказал Корчак. — Снимаешь верхний слой, а внизу хорошая.
— Ну вот, — сказала Марта. — Если есть божья воля, поправишься.
Запах опары возвратил Корчака к воспоминаниям о доме, жене и детях. Потом он вспомнил хату и покойницу мать. Мать собиралась сажать в печь хлебы. «Иди сюда, сынок», — говорила она. Он подходил. Руки матери были оголены выше локтей. «Нагнись», — говорила мать. И потом ее рука с сильным «чвяканьем» резко входила во вздувшееся грибом тесто. Мать вырывала руку, и он, малыш, припадал носом к углублению в тесте, а оттуда — лишь на мгновение — шибало кислым и резким, аж в глаза кололо и голова шла кругом, неимоверно сытным и добрым духом. И это был самый приятный запах, домовитый, как печь, как родная хата, и приятнее любого запаха на земле — не нанюхался б и за всю жизнь. Потому что это был хлеб.
С приятной дрожью (это отходила боль) Корчак подумал, что теперь он, может, и не умрет…
…Потому что это был хлеб, а он верил хлебу. В хлеб можно было верить. В хлеб нужно верить. От хлеба жизнь и от хлеба сила. От хлеба не может не быть силы. Он несет человека, и человек живет ради него, помогает ему стать хлебом, а тот за это отдает человеку самого себя.
И это за хлеб лилась в Пивощах мужицкая кровь.
Он как-то сразу и окончательно понял, что теперь ему никогда не есть хлеба, который подходил в родной квашне. Не есть ни в материнской хате, ни в своей. Мать умерла, ее никогда уже не увидеть. А в своей…
— Гринь, — спросил он, — что в Пивощах?
Покивачу стало веселее: парень интересовался чем-то, — значит, будет жить.
— В Пивощах зажывощи,[55] — сказал он. — Еще сильнее скрутили мужика. Правда, никого не взяли, вице-губернатор защитил. Кое-кого отхлестали за суслоны, вот и все.
— Почему так… обошлось?
— Кроера сам губернатор Гамалея позвал в Могилев. Дали, видимо, «прочухана», потому что возвратился злой, как собака. Его кучеру губернаторский лакей говорил за куревом, что на пана Константина кричали… Сам кричал… Мол, с самого начала надо было говорить, что за сгон платить не можете… Злой приехал Кроер… Запоете вы теперь, пивощинцы…
Покивач замолчал.
— Что обо мне… говорят?
— О тебе?… Гм… Твои дела, брат, дрянь… Одному тебе придется расхлебывать кашу за всех. Я же говорю, что вы не руя,[56] а стадо. Ты сбежал, может, даже убит, тебя нет — твой и ответ. И татары показали, что ты вилы метнул, что с тебя началось… Да и ты заядлый — кричал, чтоб не убегали.
Да, он знал это и сам. Он бросил вилы, но он не хотел попасть. Какой же это ловкий мужик не попадает, если захочет? Однако оправдываться нет смысла. Не поверят. Не захотят поверить. Потому что они никогда не нюхали квашни, а значит, в их жилах текла иная кровь. Где крови ни ложки, там правды ни крошки… Мать, когда была молодой, иногда тихонько пела вечерами на завалинке. Луна, такая полная, выплывала над садом, и она пела:
Ой, за-а лесам, за прале-сам
З'а-л'-т'ая дз'я-а-ажа…
Потом она уже не пела… И кто б еще сказал про луну «золотая квашня»? Те не могли. Волки, которые стреляли. А с волками — по-волчьи… А значит, никогда ему уже не доведется жить возле своей квашни.
— Ты не того, — словно оправдываясь, сказал Гринь Покивач, — ты не бойся. Никто не выдаст… Вылечим… Поживешь да и пойдешь в скиты, на Ветку… Там беглых много. Староверы не выдадут, потому как считают, что власть от дьявола. Переправят еще дальше… аж на Керженец… Так вот испокон веку и таскаются люди: наши — туда, ихние — к нам.
Корчак молчал долго.
— Нет, — сказал он наконец, — я не пойду… Тут моя земля… мой хлеб… Я не должен оставлять его.
— Смотри, — сказал Гринь. — Можешь и здесь, пока не дознались.
Они молчали. Один посасывал дымящуюся трубку. Второй лежал с закрытыми глазами и думал. И вдруг темнота под его опущенными веками вспыхнула горячим золотисто-красным светом, и он догадался: кто-то открыл дверь в омшаник. Он осознал это, но глаз не раскрыл. Все равно он пока не может защититься, и если это пришли за ним, он не будет смотреть на них. Пускай берут такого, как есть. Он так и умрет с закрытыми глазами.
…А Грить обернулся и увидел в дверях Михала Когута, а за его спиной лица Кондрата и Андрея. Все смотрели на распростертое тело. Только Михал смотрел мрачно, а близнецы удивленно.
Гринь поднялся навстречу, почти вытолкнул их и закрыл за собой дверь. Он был зол на себя: ворон ловил, старая макитра, а плеск воды на мельнице приглушил стук колес завозников.
— Ну? — мрачно спросил Гринь.
— В нашей завозно, — сказал Михал. — Так мы к тебе.
— Идем.
Все время, пока длился помол, завозники и мельник не обмолвились ни словом. Молча таскали мешки, молча засы?пали, молча пускали воду.
Усилившийся шум воды долетел и в омшаник и успокоил Корчака: значит, не за ним.
А люди у мельницы не смотрели друг на друга. Да и что было Когутам до мельника? Мельник как мельник. Куда интереснее была древняя мельница, узенькая лента единственной дорожки, которая вела к ней и по которой они приехали, крохотное озерцо с лилиями и дремучие лесные дебри вокруг него.
Прудок такой интересный, ровнехонький. Стреха мельницы зеленая от мха. И лоток весь бархатно-зеленый. И стеклышки зеленые. А стволы боровых деревьев совсем медные, потому что солнце заходит. Совсем медные, словно тысячи огромных змей-медянок встали на хвосты. А над озерцом толчет мак мошкара, тоже совсем золотая на солнце. Вот и смотри себе, человече. И ничего ты не видел, и ничего не слышал… Ешь борщ с грибами, а язык держи за зубами. Кто молча, у того дума не волчья… М-да… Вот оно, значит, как, знаете ли…
И только когда Михал отсыпал Покивачу положенные гарнцы, а дети отошли от телеги, мельник тихо спросил у Когута:
— Видел?
— Не видел, — мрачно ответил Михал. — И дети не видели.
Диковатые светло-синие и янтарные, как у коршуна, глаза встретились на миг и снова разошлись. Но Покивачу этого было мало. Ему надо было знать, правильно ли сделал он, Покивач.
— А если б у кого другого увидел?
— И ухвалял бы, и не ухвалял, — с крестьянской хитростью сказал Когут. — Я, брат, никогда никому ничего такого…
— Ну, а если что такое?
— Ну, а если что такое, так что ж тут такое, оно уже…
— Ну, а если что такое? — настаивал Покивач.
— Так оно ведь, как говорится, и у других не видел, и у тебя. Я человек смирный. Да и отец мой, а их дед тоже не лишь бы что, и всем, конечно, можно, если уже так, и сказать. Вот оно, как говорится, и так.
— Донесешь? — начистоту спросил Покивач. — Дети не донесут, они простые души. А ты?
Михал поглядел прямо в глаза Покивачу.
— Нет, — сказал он. — Не донесу.
Когда завозники уехали, мельник, немного успокоенный, пошел к омшанику. Перед дверью остановился, думая о том, что надо будет все же перенести раненого в шалаш возле бортного урочища. И не потому, что Когут донесет. Зная деда Данилу, этого можно было не опасаться. Просто подальше от греха. А вдруг кто-нибудь еще наткнется. Разные бывают люди. Придет, когда тебя нет, и давай шнырять…
С этими мыслями он открыл дверь. Марта сидела над раненым.
— В беспамятстве, — тихо сказала она.
Корчак не был в беспамятстве. Просто ему надо было остаться со своими мыслями, и он не хотел отзываться.
Так, для него больше не было родной хаты и родной квашни. Потому что его одного гнали, потому что крови одного его хотели за события в Пивощах. А разве его нужно судить? Разве это он стрелял? Нет, начал стрелять Кроер. Закончил тот поручик с рысьими глазами.
Корчак был спокоен. Он просто рассуждал.
Карать должны их, а карают его. «Если земной суд такой лживый, такой неправедный, почему б не судить каждому, поправляя его? Почему не губернатору? Почему не дядькованому сопляку Загорскому? Почему не… мне? Почему, в самом деле?»
Он внутренне улыбался новизне и опасности этих мыслей.
Так он и сделает. Суд так суд. И всем, кто стрелял в кресты, не уйти живыми. Он заступится за своего Христа. Все они ответят перед правдой. Потому что они не помогали хлебу расти, не помогали земле-матери родить. Они только тратили ее без пользы, и потому правды у них не было и они были волками. А с волками — по-волчьи…
XII
Вышли со двора под вечер, когда вдоль улицы насквозь розовела от солнца поднятая стадом пыль. Блеяли овцы, недоуменно толкаясь у ворот, и отовсюду долетали льстиво-безразличные, вкрадчивые голоса хозяек:
— Шу-шу-шу…
— Красуля, Красуля… Ах, чтоб ты здорова была…
Слышались скрип, шумные вздохи, звонкие женские голоса и громкие шлепки по бокам животных — звуки обычной вечерней суеты.
Но даже в этой сумятице был покой, потому что был вечер. И, словно подчеркивая эту усталость и покой, серединой улицы шел на вечерню в очередной дом озерищенский пастух Данька, лениво, от нечего делать прикладывая иногда к губам длинную трубу из бересты.
Звуки были чистые и громкие: Данька мог крутить трубы, как никто другой. Он шел, так спокойно загребая чунями пыль, что зависть брала. Дай бог быть на пасху попом, зимой котом, а летом пастухом. Дай бог! Потому что ничего нет лучше этого вечера, чистых звуков трубы и брошенных украдкой взглядов девок на пригожего пастуха.
Подойдя к детям, Данька, который совсем и не глядел на них, неожиданно поднес раструб берестянки к уху Кондрата и так рявкнул, что парень подпрыгнул.
— Да-анька, чтоб тебя!
— А чего, чего ты середкой улицы идешь? — улыбнулся ровными зубами Данька.
— Ты, Данька, брось, — сказала Яня. — Нельзя так.
Она сидела на закорках у Андрея — побаивалась коров. Глядела на Даньку с осуждением и почтением: такой озорник, а коров не боится.
— Не буду, Янечка, — сказад Данька, улыбаясь. — Ей-богу, не буду, хозяюшка. А кто же меня тогда вечерей накормит, как не ты!
Он эту неделю кормился у Когутов и был доволен: есть давали хорошо.
Каждая хозяйка улещает пастуха.
— Погодите, хлопцы, — сказал Данька. — Берите вот.
Он полез за пазуху и начал доставать дичкu, зеленоватые, с коричневыми, лежалыми боками, — каждому по горсти.
— Крупные какие дички, — сказал Павлюк, набивая рот.
— М-гу, — сочно чмокая, промычал Данька. — Это же посерки.[57] Эти есть мо-ожно.
Все ели дички. Данька, озоруя, давал Яне еще и еще. Дичков было много, они не умещались уже в детских ладошках, а пастух, такой искуситель, сыпал и сыпал. Девочка смотрела на него умоляюще, не зная, что делать.
— Янечка, — сказал хозяйственный Павлюк, — слезай с плеч, здесь коров нет. Ну вот… А теперь возьми дички в подол и не гляди на этого антихриста.
— Так что это Когуты сегодня такие когутистые? — спросил Данька. — Только пера одного у Когутов не хватает. И куда идут такие принаряженные Когуты?
— Пастуха встречать, — сказал Кондрат, — дорогого гостя.
— Ну, это еще ничего, — сказал Данька. — От озерищенцев можно ожидать и худшего.
Он был вывезен из другой деревни и поэтому всегда немножко подтрунивал над Озерищем.
— Вы люди вежливые, вы не только пастуха, вы сено когда-то колокольным звоном встречали. Думали — губернатор, потому что губернаторов вам, по мужицкой вашей темноте, видеть не доводилось, а Минка-солдат говорил: «У-га! Губернатор! Губернатор, братцы, важный, как воз с сеном». Так вы сообразили. Встретили.
— Брось, — сказал спокойно Андрей. — Вранье это все.
— А я разве говорю — правда? Так куда вы?
— К Загорскому в гости, — опустил глаза Андрей. — Позвал.
— К дядькованому паничу? Х-хорошо. Вы же там смотрите, хлопцы, не набрасывайтесь на разные добраны-смакованы, как Лопатов хряк на панскую патоку. Чести не роняйте. Не у них одних она есть.
— А мы знаем, — сказал Павлюк. — Мы не с пустыми руками идем. Мы вот семечки несем, орехи, мед.
— Да что-то поздно идете? — спросил Данька.
Дети переглянулись. Потом Андрей все так же спокойно сказал:
— А мы переночуем. А утром пойдем смотреть все.
— Ну, счастливого вам пути, — сказал Данька.
…Дети вышли за околицу. Идти было приятно. Ласковая и еще теплая пыль нежно щекотала пальцы, фонтанчиками всплескивала между ними.
— Хорошо, что ты не сказал ему, Андрейка, — промолвил наконец Кондрат. — Никто и знать не будет. Даже батькu. Только мы да Алесь.
— Что я, дурак? Скажу я Даньке, что мы задумали! Сразу б нас на телеге в Загорщину завезли. А так мы свернем с дороги, пройдем три лишних версты да и залезем в Раубичев парк. Рассмотрим все и пойдем своей дорогой… А то все — Раубич колдун, Раубич в распятие стрелял, над Раубичевым имением змеи летают, к нему болотные паны ездят… А кто видел? Кто знает? Вот и надо… пощупать…
— А если нас тые болотные паны словят?
— Ничего они нам не зробят, — сказал Андрей. — Я из-за икон освященную воду взял.
— А страшно. С одного страха можно умереть.
— Страшно, — сказал Андрей. — Ну и что ж?
Солнце село, когда они свернули с загорщинской дороги на более узкую, что вела на Раубичи. Перешли вброд неглубокую Равеку, вобравшую в себя последний багрянец неба, и прямиком направились в луга.
Отава в этом году отросла хорошая, не кололась, по ней было не больно идти. Косить начали куда раньше Янова дня.
Прошло больше месяца, как отзвучал последний шелест косы, а на дворе только начало августа, теплого и ласкового.
Неисчислимые стога темнели на росисто-серых лугах, источая тот особенный аромат, который бывает у сена, не тронутого дождем. Такой уж удачный был в том году укос. Они были огромные, те стога, и выглядели в сумерках даже немножко зловеще.
Дети шли и разговаривали. Яню несли на спине по очереди. Однако разговор понемногу затухал, а потом перешел на шепот. Потому что слева, пока еще смутно, выплыли из темноты кроны Раубичева парка. Совсем как тогда, в мае, в ночном. Они были пока далеко, не меньше как за полторы версты. А над кронами, совсем как тогда, горел едва заметной искрой далекий огонек.
— Снова не спит, — сказал Павлюк.
— Никогда не спит, — вздохнул Андрей. — Ждет.
Теперь близнецы шли первыми, рядом. Чтоб первыми в случае чего встретить опасность.
Горел над лугами далекий, очень одинокий во тьме огонь. И дети шли на него.
Кроны выросли над головами совсем неожиданно. То были далеко-далеко, а то вдруг надвинулись на детей и нависли над ними. И огонь исчез.
Ограда из толстых железных прутьев тянулась влево и вправо, и ей не было видно конца.
— Пойдем направо, — шепотом сказал Андрей. — Не может быть, чтоб дырки нигде не было.
Однако им пришлось идти довольно долго, пока Кондратова рука, которой он все время скользил по прутьям, не наткнулась на пустое место. Кто-то выломал один прут.
Надо было лезть. Но парк темнел так страшно, что они невольно медлили.
Из парка долетел писк птицы, которую, видимо, застиг в сонном гнезде какой-то хищник. Возможно, то куница хозяйничала по чужим гнездам, а может, совка-ночница. И этот писк словно разбудил всех.
— Ну-к что ж, — перекрестился Андрей. — Полезли…
Они нырнули в проем в ограде, и темные кроны парка жадно накрыли их.
…Шаги были неслышны. Густая трава глушила их. Темень остро, по-ночному, пахла грибами, влажной листвой, сильным дубильным запахом дубовых зарослей и немножко душным, банным ароматом берез.
Невидимая тропинка, которой они шли, привела к высокой сломанной березе над самым обрывом. Береза сломалась, но не упала, повиснув на соседних деревьях, и теперь жестко белела в темноте своим мертвым стволом.
Отсюда было видно довольно далеко. Тропинка здесь раздваивалась. Слева она шла к кудрявому пригорку, на вершине которого неясно белела двумя звонницами Раубичева церковь. Вторая ветвь тропинки спускалась по склону, вела куда-то ниже — видимо, к другим белым строениям, которые беспорядочно раскинулись в чашеподобной ложбине у подножия церкви. И, замыкая ложбинку с другой стороны, полукругом лежала подкова свинцового озера.
— Пойдем по правой, — сказал Кондрат. — Ну ее к дьяволу, церковь. Раубичевы говорили — стоит, как гроб.
Тропинка спускалась по склону наискосок и вскоре вывела на открытый с двух сторон выступ пригорка. Здесь густо росли деревья, а между ними серело узкое строение, похожее на церковь без куполов. Это, видимо, была старая башня при доме. Таких в то время много было разбросано возле приднепровских замков. Всегда расположенные немножко поодаль от новых домов, старые прибежища рода на случай войны, теперь уже никому не нужные, холодные, как подземелья, потому что солнце не успевало за лето прогреть и высушить двухсаженную толщу стен, они медленно разрушались, роняя из кладки на траву источенные каменным слизняком валуны. Со временем стены начинали напоминать черно-желтые соты, мертвую вощину без пчел.
Когда-то были пистолетные выстрелы, когда-то были осады и пчелиное гудение стрел. Теперь — ничего, кроме разрушения.
Дети, медленно продвигаясь вдоль левой стороны башни, увидели овраг, рассекавший ложбину, а за оврагом господский дом. Дом был совсем темный — ни одного освещенного окна.
— Откуда же свет? — шепотом спросил Павлюк.
Андрей пожал плечами. И как только они зашли за угол башни, такой, казалось, неживой, такой безнадежно мертвой, они увидели отблеск этого света на кроне дуба-богатыря, который рос у стены.
…Светилось окошечко в верхнем этаже башни. Светилось неживым, синим, каким-то дрожащим светом — иногда сильнее, иногда слабее.
— Заглянуть бы, — прошептал Кондрат.
— Потом на дуб полезем, — сказал Андрей. — А теперь обойдем башню. Черт его знает, где тут дверь. Вдруг кто выйдет и схватит… Я же говорил, нечисто здесь.
Они двинулись дальше, медленно обошли уже три стороны постройки и теперь должны были выйти на четвертую — к обрыву.
Двери не было и здесь, словно тот, кто зажигал огонек, залетал сюда по воздуху. Но зато здесь было окно на уровне земли, видимо пробитое позже в глухой стене, и из этого окна падал на обрыв красноватый свет.
Они увидели этот свет и одновременно услышали негромкое и редкое постукивание железом о железо, почувствовали сладковатый серный смрад.
С замирающими от любопытства и ужаса сердцами они поползли к этому окну. Павлюк остался с Яней в зарослях, а ребята поползли все ближе, ближе. Красноватые вспышки делались ярче, постукивание тревожнее и отчетливее.
Стук-пых… Стук-стук-пых-х…
Окно было зарешечено, и сквозь решетку они увидели огромное подземелье с каменным полом и сводами. Все стены его, кроме одной, тонули во мраке, а та одна была освещена сверкающими вспышками горна, над которым нависал черным грибом колпак. У горна стояли каменные столы с удивительными инструментами из стекла и металла.
Стук-пых… Стук-стук-пых…
В подземелье было четыре человека. Один сидел за столом возле горна и держал над жаровней что-то похожее на сковороду. Это со сковороды временами полыхало винно-красное пламя, и тогда человек снова сыпал на нее черный порошок, качал головой и продолжал калить.
Второй сидел поодаль. Перед ним дрожала зажатая в тиски металлическая полоса. Он постукивал по ней небольшим остроконечным чеканом.
Стук-пых… Стук-стук-пых-х…
Двое других сидели, закутавшись в грубые суконные плащи, и смотрели в огонь. Все четверо были чем-то похожи; угасала красная вспышка, и тогда даже в свете горна можно было заметить фарфоровую бледность лиц.
И все молчали, как будто слова между ними были совсем не нужны.
Пламя вспыхивало все чаще. И вот человек у горна вынул из чугуна круглую бутылку с узким горлышком, встряхнул какой-то осадок и показал человеку с чеканом. Тот утвердительно кивнул.
Трепетало красное пламя.
Человек подал полосу одному из сидевших. Освободил вторую полосу, крутой дугой выгнутую между тисками, и подал соседу первого. Те сбросили плащи и, оставшись в суконных штанах и белых сорочках, начали молчаливую и страшную своей молчаливостью игру во вспышках красного света: по очереди начали бить полосой о полосу, по-разному держа их. Затем один бил по полосе другого, воткнутой одним концом в отверстие между плитами. Потом второй бил довольно толстой кувалдой по полосе первого.
Один из ударов сломал металл. И владелец кувалды молча, с мрачным лицом развел руками.
И тут вспышка небывало красного густого пламени осветила подземелье. Человек с жаровней стоял и скалил зубы в потоках красного света, которые змеились все выше и выше. Руки его были победоносно подняты вверх.
Это было так страшно, что мальчишки бросились прочь и опомнились лишь за углом башни.
— Что видели? — спросил Павлюк.
— Вызывали кого-то, — коротко ответил Андрей.
— Кого?
— Не знаю. Но не к добру. Пошли отсюда.
— А огонь? — напомнил Кондрат.
— Да, огонь… — У Андрея упал голос.
Они подняли глаза к окну и увидели, что синий огонек погас. На его месте теперь темнел провал окна. Обычный мертвый провал. Больше ничего.
И мальчики сразу почувствовали, как страх уступил место разочарованию. Столько раз видеть искру над кронами парка, решиться наконец идти сюда, натерпеться страха, увидеть огонь вблизи, такой изменчивый и синий. И все испортить.
— Пошли, — сказал Андрей.
Снова тропинка, на этот раз с уступа в обход небольшой подковы озера. Снова запах грибницы и студеная роса.
Мальчики шли молча, с опущенными головами. Было холодно и неуютно под кронами деревьев. Хорошо еще, что хоть Яня не плакала, потому что ей было все равно, так она хотела спать. Андрей снял с себя свитку, и они подвязали девочку на спине у Кондрата, смастерив что-то наподобие мешка, в котором было тепло и уютно. Кондрат теперь мог освободить руки, ему стало легче.
— Придем еще сюда? — тихо спросил он у Андрея.
— Придем, — подумав, ответил Андрей. — Надо прийти.
— Кого же они все-таки вызывали? — спросил Кондрат.
Андрей не ответил. Да и что можно было ответить?
Мрак. Глухие шаги. Сонное посапыванье Яни на спине у Кондрата. Начинает пробирать холод, тот сонливый холод, когда челюсти раздирает зевота и человек мечтает как о наивысшем благе о копне сена, в которое можно забраться и уснуть.
Они миновали озеро, с которого тянуло влажным холодком и рыбной сыростью. Парк снова сделался густым, — не парк, а какие-то дебри с кучами валежника, с редкими глухими тропинками.
По одной из таких тропинок они шли довольно долго. Шли и почти не надеялись, что когда-нибудь ей будет конец. Но тропинка привела их к небольшой поляне. Поляна тоже была темная, потому что над ней склонялись, закрывая шатром небо, ветви могучих деревьев. А под шатром, занимая почти всю поляну, стояла самая удивительная постройка, какую им довелось видеть за свою короткую жизнь.
Постройку окружал частокол из заостренных бревен. Над частоколом поднимались лишь два-три венца стен да трехъярусная крыша из грубой обомшелой щепы. На коньке верхнего яруса неподвижно возвышался «болотный черт» — вычурная коряга, которой ветры и гнилая вода иногда придают сходство с уродливым идолом.
В венцах стен кое-где тускло поблескивали слепые окошечки с резными наличниками. Такие же резные ворота разрывали в одном месте частокол. Колья его венчали побеленные непогодой лошадиные черепа с темными провалами глаз.
Дети не знали, что это была баня Раубича, выстроенная в «сказочном» стиле, но, дрожа, чувствовали это сказочное и страшное. Видимо, сюда, к этим воротам, должны были приезжать, чтоб погибнуть: вечером — светлый день, а перед рассветом — черная ночь.
Из темного туннеля дороги долетел редкий стук копыт, а потом появилась сама ночь, как ей и надлежит, на черном коне и в черном плаще.
Конь шел мерной поступью, а всадник сидел на нем, склонив голову, и длинный черный плащ, похожий на обвисшие огромные крылья, прикрывал репицу животного.
— Вот кого вызывали, — шепнул Кондрату Андрей.
Мальчики не удивились, узнав ночь в лицо, узнав эти длинные усы, эту рукоять пистолета, которая выглядывала из переметных сум.
Всадник подъехал к частоколу и с минуту постоял перед ним. Потом, не поднимая головы, медленно снял ружье и трижды, с большими интервалами, стукнул прикладом в доски ворот.
…Не ожидая больше ни минуты, дети в страхе бросились бежать.
Они не помнили и не знали дороги, не обращали внимания на усталость, от которой резало в груди, не помнили, где перелезли ограду. А может, ее и совсем не было? Они бежали и опомнились только на знакомом перекрестке, от которого до Загорщины было не больше двух верст.
* * *
Было темно. Пахло березовыми вениками. Потом вспыхнул огонек. Рука с железным узорчатым браслетом на запястье поднесла «серничку» к толстой восковой свече. Потом к другой. К третьей.
И тогда другая рука, загоревшая до горчичного оттенка, сняла со стола украшенный серебряными насечками пистолет. Спрятала под стол.
— Боишься? — с иронией спросил Раубич, сбрасывая плащ.
— Берегусь, — сказал Война.
Раубич поставил на стол лукошко.
— Перекуси.
Исполосованное и изрезанное страшными шрамами лицо улыбалось.
— «Правда ль, что Бомарше кого-то отравил?» — спросил Война.
И хозяин бани ответил в тон ему:
— «Гений и злодейство — две вещи несовместные».
— Знаешь классику, — сказал Война.
Они сидели за одним столом. Война ел, искоса и настороженно поглядывая на собеседника. Его черные брови были нахмурены.
А Раубич сидел напротив, и его лицо оживляла ироническая улыбка. Большие, совсем без райка, темные глаза спокойно наблюдали, как пальцы Войны обламывали куриную ногу.
— Изголодался ты, братец.
Причудливо изломанные, высокомерные брови Раубича дрожали.
— И так двадцать лет, — сказал он. — Боже мой, сколько страданий! И главное — напрасно. Все время спать одним глазом. Все время недоедать.
— Лучше недоесть, как ястреб, чем переесть, как свинья.
— Намек? — спросил Раубич.
— Ты что? — сказал Война. — Нет, кум, тебя это не касается. Ты тоже не тихая горлинка, тоже «хищный вран» над этой полуживой падалью. Это не о тебе. Это о тех, кто зажрался, кто забыл.
Они смотрели друг на друга. Предбанник, освещенный язычками свечей, был неплохой декорацией: выскобленные до желтизны бревна стен, пучки мяты под потолком, широкие лавки, покрытые мягкими красными ковриками, стол, на столе еда и обливной кувшин с черным пивом, а у стола два настороженных человека.
— В конце концов, кто меня выручил, раненного, — сказал Война, кончая есть, — кто подобрал в овраге? Кто выходил? Кому же может больше верить Черный Война?
— А ты не гордись, Богдане, — жестко сказал Раубич. — Я тогда не знал, что ты Черный Война. Просто видел твою перестрелку с земской полицией. А у меня, куманек, с этой публикой свои счеты. Да и потом… когда шестеро нападают на одного, правда не на их стороне.
— Рыцарь, — сказал Война. — Ты же смотри, рыцарь, не забудь предупредить «голубых», что меня видели в округе.
— Предупрежу, — спокойно сказал Раубич. — У меня тоже есть то, чего нельзя ставить на карту.
Война сворачивал самокрутку. Изувеченные пальцы плохо слушались хозяина.
— Дай я, — сказал Раубич.
— Не надо. Во всяком случае, один палец у меня здоровый. Тот, который ложится на курок.
— Война, — сказал Раубич, — не рискуй собой, Война. Подожди немного. Час приближается. А ты можешь не дожить. Ты будешь нужен живой, а не мертвый. Пересиди год-два. Место я тебе найду. Отдохни. А потом я тебя позову.
Тень головы Войны неодобрительно качнулась на стене.
— Ты неплохой человек. Но я говорю — нет. Потому что ты ищешь друзей. А друзья продадут. Человек — быдло. В отряде — из троих один изменник. И потом — у меня нет времени. Старые солдаты живут, пока идут. Если я присяду, я не поднимусь, — такая усталость в моих костях. Я подаю тебе знак и прихожу сюда, когда уже совсем невмоготу. Я сплю здесь как человек, но потом мне снова тяжело привыкать к настороженным глазам, к дождю, к своей берлоге… как двадцать лет тому назад.
Он прикрыл глаза.
— Сегодня я расскажу тебе что-то, — не очень охотно сказал он. — Ты помнишь бунт в тридцатом году?
— Да. Только тогда я был иным и не понимал его.
— А я понимал. Мне тогда было девятнадцать, и я верил в людей. Верил в бунт, в наше восстание, в то, что люди не изменят. Верю я в это теперь или нет — мое дело. Золото — самый грязный металл, однако из него делают корону, и ее хозяин с мозгами каптенармуса получает право сидеть на человеческой пирамиде, измываться над людьми, мозоли которых он не стоит. Горностай — подлый и алчный зверь, однако из его шкурок шьют белоснежную мантию, и ее хозяин почему-то получает право помыкать своим народом и множеством других.
Война положил на стол тяжелую ладонь.
— Я верил, что остальные думают, как я. Видимо, потому, что я любил свое Приднепровье и верил, что мои друзья желают ему добра. А потом началось. Прежде всего изменила эта сволочь, Хлопицкий. Диктатор восстания тысяча восемьсот тридцатого года. Наполеончик… Потом другие. Разгул подлости и животного страха… Нечего удивляться, что нас разбили, что мужики нам не верили. Но я верил. Через год я пришел к некоторым из друзей и сказал, что время начинать сначала. И увидел, что один разводит капусту, а второй служит столоначальником. Увидел пустые от ужаса глаза… А они ведь были совсем такими, как я. И я понял: они остановились в ненависти. Что мне было делать? Начальники предали. Друзья тряслись. Народ покорно тянул ярмо. Все, во что я верил, было, выходит, сказкой для глупых детей, а моя мечта — поломанная игрушка.
Он улыбнулся.
— Я был молод и горяч. Один так один. И я решил: восстание будет жить, пока буду жить я. Должна же быть правда!
Теперь в его словах звучала наивная, но твердая гордость.
— И вот оно живет. Они думают, что задушили его, а оно живет, двадцать лет звучат его выстрелы. Какой еще мятеж держался столь долго?! Потому я и сплю одним глазом, потому остерегаюсь. Оно должно жить долго… пока не подстрелят меня. Мне нельзя останавливаться. Иначе получится, что я даром жил.
Вздохнул.
— Иногда мне тяжело. Я гляжу издали на твоего Стася. Гляжу на твою Наталью. На Франса. На Майку. Я люблю детей. Иногда думаешь, что сопротивление ни к чему не ведет. Можно бросить все и жить… Но потом я вспоминаю, что каждый мой выстрел — это пощечина тем, с пустыми глазами… И вот потому мне с тобой не по дороге. Я не могу ждать.
— Хорошо, — сказал Раубич. — А сейчас я пойду, ты уже совсем засыпаешь… Спи спокойно, кум.
— Почему же не спать? Буду спать. Инсургент спит, а восстание продолжается.
XIII
Когда первая птица тенькнула в кустах, никто не отозвался. И это означало, что был август, месяц жатвы, и птицы стали ленивее.
Такая, наверно, холодная роса! Так не хочется оставлять гнездо! Кто это там отозвался? Ах он неугомонный!.. Хотя бы еще минутку! Ми-ну-точку!
Росы действительно были холодными. Листики сирени, густо покрытые ими, казались серыми. Серый, туманный пробивался сквозь листву свет.
Встряхни ветку черемухи — студеный и даже колючий, как дробь, дождь промочит с головы до ног.
В сером свете вывели коней на темный от росы гравий. Логвин, зевая, смотрел, как Кондрат и Андрей запрягают в маленькую, игрушечную коляску двух шотландских пони. А те запрягали и не переставали удивляться животным. У пони были чубчики и такие доверчивые глаза.
Худой, подтянутый Логвин был доволен тем, что не придется ехать. Он постоит-постоит, а потом пойдет и доспит часок-другой. Пускай себе едут одни. Кто обидит детей? Дети — улыбка божья. Их обижать нельзя.
И потому Логвин довольно ухмылялся. Разбудили девочек, швырнув горсть песка в окно первого этажа. Они оделись быстро и, потворствуя капризам Майки, вылезли через окно и, конечно, сразу же промокли. Потому их под общий хохот пришлось усаживать в коляску и укутывать верблюжьей попоной. Так они и сидели, словно близнецы. И приятно было смотреть на горделивое лицо Майки и свеженькую мордочку Яни.
Живой, как сверчок, Мстислав сразу же забрался в коляску, на место кучера, чтоб быть ближе к девочкам. Логвин, глядя на него, только головой качал: «Ловкий, черт, как ртуть. Уж такой татарин. Просто диву даешься».
Алесю подали Ургу, Андрею — мышастую Косюньку, Кондрату и Павлюку — спокойных чалых кобылок.
Алесь осмотрел кавалькаду — все было готово. И к нему пришло то ощущение счастья, которым он жил уже второй день.
…Мать в эти дни немного занемогла и не выходила к ним. У нее как раз начиналось то настроение особенной впечатлительности, которого пан Юрий всегда побаивался и которое продолжалось обычно несколько дней в году.
Начиналось это с первыми желтыми листиками на березе, после Ильи, который, как известно, сбросил с каждого дерева по два листа. Деревьям еще долго было зеленеть, однако неуловимая грусть, которая разливалась с этого времени в природе, неуловимые для глаза первые приметы умирания будто сразу убивали печальную и слабую жизнерадостность матери, и она замыкалась в себе.
Ускорял все это день, когда пан Юрий собирался на первую настоящую охоту. Вчерашние хлопунцы поднялись на крыло. Кряковые еще не начинали линять. Приближался день большой птичьей крови.
Готовились с вечера. И сразу у матери начинала болеть голова, а глаза грустнели. Зная, что ничего не изменится, что добрый и мягкий пан Юрий станет, как только дойдет до охоты, настоящей убоиной и ни за что не послушается ее, она все же предпринимала достойные жалости попытки удержать его.
— Как вы можете это, Georges?
Пан Юрий молчал, уставившись в тарелку.
— Филёмон, — так она называла Филимона, — говорил, что вчера видел — утка вела хлопунцов. Их еще много. Они у всех уток, у которых лиса разрушила первое гнездо.
— Да мы, матушка, хлопунцов не стреляем, — защищался пан Юрий. — Что у нас, ума нет? Мы сегодня на бекасов едем.
— Еще хуже. За что таких маленьких?
Пан Юрий молчал. Что он мог сделать, когда с лугов и болот летел такой призывный клич?
И пани Антонида понимала, что она ничего не изменит.
Тогда она закрывалась в своих комнатах, не допуская к себе никого. Даже маленький Вацлав в эти дни переходил на руки мамок. Что с того, что у него нежные розовые пальчики? Они тоже будут держать ружье.
Это было какое-то печальное недоразумение перед началом убийства, которое жило в душах многих.
Пан Юрий, встречая сына, говорил ему:
— Ты, брат, не лезь к ней. У нее, знаешь ли, не то что у нас…
Комнаты матери были темными, как и ее мысли.
Зато детям с паном Юрием было легко и просто. Он садился за стол и прежде всего спрашивал у детей грубым голосом:
— Что, дети, лили ли вы олей[58] в бульбу или не лили?
И тут же спрашивал другим голосом:
— А чего ты лиликаешь?
И снова отвечал первым голосом, только виноватым:
— Я не лиликаю, я спрашиваю.
Дети хохотали. А у отца хоть бы улыбка, совсем серьезный, даже мрачный. Разве что в глазах прыгали веселые чертики.
Дети еще больше полюбили его, когда он согласился отпустить их одних осмотреть старое загорское городище с руинами замка.
Когда все разошлись на покой, отец и сын остались в курительной. Пан Юрий задумчиво пускал дым изо рта.
— Батька, — сказал Алесь, — у меня к тебе дело.
— Слушаю.
— Отпусти Когутов на волю.
Отец взглянул на сына с удивлением. Тот сидел в кресле, в серых глазах — непримиримость.
— Мне стыдно смотреть им в глаза. Я хочу, чтоб они приходили ко мне сами, а не тогда, когда я их позову. Им надо дать волю и… учить того из детей, кто этого хочет. Может. Павлюка, ему как раз время.
Отец не рассердился.
— А ты подумал, захотят ли они этого? Ведь вся ответственность сразу ложится на плечи вольного. Ответственность за неурожай, за возможный падеж…
Пан Юрий с уважением смотрел на сына.
«Взрослеет, — подумал он. — Даже умеет рассуждать. И имеет какие-то убеждения».
И, скорее умиленный этой неожиданной взрослостью, чем от сознания необходимости дать вольную кому-то из Когутов, отец сказал:
— Хорошо. Через две недели я поеду в Суходол и оформлю вольную. А ты не боишься, что, вольные, они оставят тебя?
— Их право, — ответил сын. — Да только они не оставят.
— Хорошо, сын. Я сделаю это для тебя.
— Для себя, — поправил сын.
— Ну, для себя. Что еще?
— Учить их надо.
Отец помолчал.
— А ты подумал, сын, ведет ли это к счастью?… Сейчас у них простые мысли и чувства, уверенность в том, что полезен их труд и они сами. Чем ты хочешь это заменить? А ты знаешь, какие бездны — и одна страшнее другой! — раскрываются пред глазами сведущего? Какие бездны ужаса и холода? Сам я не так далеко ушел, и то иногда чувствую ледяной холод и ледяное одиночество. С каждым вопросом все меньше да меньше понимаешь. Простой — он видит только слаженный шаг человеческих когорт. Мудрый слышит топот стада, бегущего к пропасти. Он видит, что те, кто его ведут, ненавидят стадо и друг друга. Он видит, что весь наш хваленый мир — рота, которая шагает не в ногу и в которой лишь поручики, лишь правительства империй идут в ногу… чтоб довести человечество до общей гибели.
Он покачал головой.
— Так не лучше ли пахать землю? Охотиться?
Сын серьезно смотрел на него.
— А мне ты желал бы этого?
— Нет…
— Так не желай тогда и им.
…Вспоминая теперь этот разговор, Алесь не мог не думать, что сделал правильно.
Все хорошо. Теперь надо ехать. И он легко занес ногу в стремя.
— По седлам, хлопцы!
Урга, слегка пугая, дал свечу. Потом опустился на передние ноги и затанцевал, косясь на коляску и девочек золотым глазом.
Двинулись.
Застоявшиеся кони пошли легким шагом. Всадники, окружив коляску, ехали молча — лишь бы быстрее с глаз взрослых. По обе стороны аллеи стояли туманно-голубые деревья. Они медленно отплывали назад.
А Майке все это было ново. И то, что подростки эскортировали их, и то, что все молчаливо признавали вожаком этого немножко неуклюжего мальчика, который ехал впереди всех на арабе, и то, что рядом с ней сидела эта совсем не неприятная крестьянская девочка с диковатыми голубыми глазами.
— Он жил у вас, — шепнула она. — Какой он?
— Го-ожий, — сказала Янечка. — И сме-елый. Он от меня годовалого бычка оттащил. Я с того часу боюсь коров.
И Майка почему-то была благодарна ей за добрые слова.
— Алесь, — позвала она.
Алесь придержал Ургу, поехал рядом.
— Ты молодчина, что сделал так.
— Как?
— Ну… что мы без взрослых.
Близнецы переглянулись, заметив маневр Алеся. Пожалуй, это было ему ни к чему — оставаться с дочерью человека, в парке которого они позавчера были. Но они смолчали. Они вообще ничего не рассказали Алесю о своих ночных приключениях, когда увидели, что утром приехала Раубичева дочка. Не стоит. Тем более что она довольно ничего. Бывают же и у колдунов хорошие дочки — это все знают хотя б по дедовым сказкам. Приедет королевич — так они его еще и от злого отца спасут. Когда влюбятся, конечно.
Мстислав сидел на месте кучера, и потому Алесь и Майка не обмолвились и словом о медальоне.
Когда выехали из парка, восход уже алел вовсю. Хлопцы начали дурачиться, гоняться друг за другом. Отъезжали так далеко, что делались игрушечными, а потом наметом с дикими выкриками летели прямо на коляску.
Потом поехали заливными лугами вдоль Папороти. Тут травы никто не косил — слишком далеко было, — и кони почти скрывались в ней. Буйно цвел малиновый кипрей, качались, сколько видел глаз, желтые конусы мощного царского скипетра. Кондрат на ходу срезал полый стебель дудника и сделал из него пистолет, а потом, неожиданно налетев на коляску, наставил его на Мстислава.
— Кто такой? — спросил Мстислав.
— Ваўкалака,[59] — оскалив зубы, сказал Кондрат. — Давайте дукаты в худую суму, давайте княгиню — с собою возьму.
И тянул руки к Янечке. Девочки визжали, хотя оборотень был милый и совсем не страшный и даже нравился Майке.
Было весело. А потом Андрей запел песню про Ваўкалаку, и ему подтянул неожиданно приятным голосом Мстислав:
Што то за сцeжка — без краю, без краю?
Што то за кoнік — ступoю, ступoю?
Злыя татарнікі пад капытамі,
Вoўчае сoнейка над галавoю.
А потом запели другую — как молодой Ваўкалака пошел отбивать у гайдуков отцовских волов и не вернулся в дом и как ворон на сухом дубе говорил ему, что делает во дворе отец Ваўкалаки. А отец ломал руки и приговаривал:
Я, жывучы, валoў нажыву,
А цябе, сынoчак, увек не знайду.
Песня летела над морем разнотравья, и всем было жаль старого отца, но так и подмывало самим пойти в лес, на волю, под «волчье солнце».
Потянулись мягкие холмы, поросшие вереском. Солнце поднималось за спиной, когда они взобрались на один такой холм, а по другую сторону еще лежали тень и туман. И тут перед глазами детей вспыхнула белая широкая радуга, слабо-оранжевая снаружи, серо-голубая изнутри. Потом солнце оторвалось от земли, и белая радуга исчезла, и вереск лег перед глазами, украшенный миллионами паутинок, которые сверкали в каплях росы.
— Что же это она? — жалобно спросила Майка. — Зачем исчезла?
— Погоди, — сказал Андрей, — сейчас будет тебе награда.
И награда появилась. На паутинках на росном вереске вдруг возникла вторая радуга. Вытянутая, она лежала прямо на траве, сияла всеми цветами, убегая в бесконечность от их ног.
— Ты откуда знал? — спросила Майка уважительно.
— Знал, — ответил Андрей.
Майка вздохнула от зависти.
…А потом, как продолжение этой феерии, над вереском, над холмами, поросшими лесом, на месте слияния Папороти и второй речушки, на высокой горе между ними, возникли развалины — три башни и остатки стен.
Вброд перешли Папороть. Майка, Алесь и Андрей взобрались на одну из башен. Стояли наверху и смотрели на необъятный мир, который, казалось, весь принадлежал им. Зубцы башни седели полынью, коричневые от ржавчины арбузы ядер были кое-где словно вмурованы в кладку. А дальше была Папороть, луга, леса, мир.
— Этот замок однажды взяли крестьяне, — сказал Алесь.
Майка невольно взглянула на Андрея.
— А что ж? — ответил Андрей. — Что мы, немощные?
А снизу маленький Кондрат кричал брату:
— Слазь уже, голота! Слазь!
— Слазь! — кричал Мстислав. — Слазь, тиун Пацук![60] Тут тебя оборотень с белоруким Ладымером ждут!
Разозлившись на «тиуна Пацука», Андрей полез вниз.
А они стояли вдвоем и смотрели на землю.
— Ты прочел? — спросила она.
— Прочел.
— Красиво здесь?
— Очень… И… знаешь что, давай будем как брат и сестра.
— Давай, — вздохнула она. — На всю жизнь?
— На всю жизнь.
После того как поели в тени одной из башен, Андрей предложил податься в лес, потому что там, на этой самой Папороти, живет мельник, колдун Гринь Покивач.
Солнце поднималось все выше. Яростный, лохматый шар над землей. На горизонте легла уже белая дымка, над которой плавали в воздухе, ни на что не опираясь, верхушки деревьев и башни загорского замка.
Лес встретил прохладой, звоном ручьев, солнечными зайчиками.
Вскоре Павлюк заметил маленькое лесное озерцо, спрятанное между деревьями. И тут все поняли, что никакой мельник им не нужен. Распрягли лошадей, а сами разлеглись в густой траве. Сияло солнце. Над зеркальной поверхностью воды стрекозы гонялись за своей тенью. Замирали в воздухе, чтоб обмануть тень, а затем бросались на нее. А ниже их по поверхности скользили водомерки. Их лапки опирались на воду и прогибали ее, и потому по дну озерка от каждого маленького конькобежца бежало по шесть маленьких пятнышек тени с ореолом вокруг каждого пятнышка.
Алесь и Майка, прихватив с собой Яню, решили обойти озерцо вокруг, чтоб посмотреть, откуда оно берет воду. Наткнулись на ручеек, который бежал среди свежих мхов по дну влажного оврага, и пошли навстречу течению. Здесь и деревья были могучие, солнце почти не пробивало их широколистой сени. Местами вода образовывала зеленоватые лужицы.
…Гулко, словно из пушки, вырвался из трясинистой лежки дикий кабан. Бросился в чащобу.
Испугавшись, дети поспешили дальше, теперь уже не оглядываясь по сторонам. А на одном из валунов, чуть не над их головами, стояли Корчак и Гринь Покивач, смотрели, как маленькие фигурки пробираются по темному дну.
Когда они скрылись в зарослях орешника, бледный Корчак перевел дыхание, сжимая в руках Покивачеву двустволку.
— Одного знаю, — шепотом сказал он. — Троюродный племянник нашего Кроера. Этого бы…
Покивач испугался:
— Ты что?
На щеках у Корчака ходили желваки.
— Их всех под корень… панят, княжат…
— Ну и дурак, — сказал Гринь. — С ними крестьянская девочка. Да и сами они чем виноваты, дети? Ты лишнюю злость из себя выпусти, задушит.
— Лишней злости не бывает, — сказал Корчак. — Идем отсюда.
Густые заросли орешника и волчьего лыка поглотили их.
А дети тем временем нашли в самой глубине оврага, под плотным покровом ветвей орешника, сквозь который пробивался к воде единственный лучик, криничку.
Криничка, спокойная на поверхности, выбрасывала из глубины своей песчаные фонтанчики. Вечно живые песчинки двигались, растекались по дну от середины жерла, прыгали. А рядом второй, малый «гейзер», почти на поверхности, тоже тужился родить воду, но у него не хватало сил, и он только иногда выпускал из себя сытые пузырьки.
— Отец воды, — шепотом сказала Майка.
— Отец вод, — поправил Алесь. — Вот так и Днепр начинается где-то.
— Живая вода, — сказала Яня.
Она опустилась на колени и сломала пальцами кристальную поверхность.
— Пейте. Будете жить сто лет.
Они легли на животы и долго пили воду, такую холодную, что от нее ломило зубы.
А вокруг был зеленый и черный полумрак, и лишь один луч падал меж их голов на невидимую воду, мягко золотя дно.
XIV
В один из дней — стояла середина августа — отец с матерью о чем-то долго шептались перед ужином, а лица у них были встревоженные и торжественные. Наконец, когда убрали со стола, мать сказала:
— Дедушка прислал с нарочным письмо, сынок.
Алесь поднял глаза.
— Он просит, чтоб ты приехал к нему… один.
Отец вынул из бумажника письмо и прочел:
— «Мизантропия моя и хандра разыгрались. Мне тяжело видеть новых людей. Потому и вас не звал. Лик подобия божьего мне опротивел, так мало в нем божьего. Однако поскольку настроение сие все продолжается и конца ему не видать, а в животе нашем бог волен каждый день, то внуку моему Александру надлежит знать, во владение чем он вступит после моей смерти и успешного отхода в то, что после нее. Поэтому пусть приезжает ко мне на один-два дня…»
Мать закрыла глаза рукой, пальцы ее дрожали.
— Я знаю, Georges, почему он не желает видеть тебя. Это из-за Кроера. Из-за него он и меня не любит.
— Нелепость, — сказал пан Юрий. — Бессмысленность. Ах, черт старый, семьдесят восемь лет, а он скоморошничает, как подросток. У него капризы, как у беременной! Ты для него святоша, я — собачник, непригодный к делу.
— Georges! При ребенке?! Ты что?
— А потому, милая, — неожиданно твердо сказал пан Юрий, — что издеваться над собой я никому но позволю, хотя бы и родному отцу. Привык, живя в другом веке, мудрить и свои прихоти ставить выше всего.
— Оставь, — перебила пани Антонида. — Я, наверно, ошиблась. Он действительно старого века человек. Столько видел, что ему надоели люди, хочется покоя.
И тут неожиданно вмешался Алесь:
— А у меня никто не спрашивает…
— А что тут спрашивать? — отозвался отец.
— А то, что я не поеду, — заупрямился сын. — Я не кукла. Тяжело ему видеть людей — нехай не видит. Я тоже человек, а не котенок какой-то.
Пани Антонида испугалась.
— Ты это ради меня сделаешь, сынок, — мягко попросила она. — Ты не обращай внимания.
— Не поеду.
— Может, ты и понравишься ему.
— Не хочу никому нравиться. Что я, девка? — совсем по-деревенски сказал Алесь.
Вмешался пан Юрий:
— Он твой дед, у вас одна кровь. Самое дорогое, что есть у тебя. Никто еще не говорил, что Загорские не уважают предков.
— Я тоже Загорский.
Отец притворно вздохнул.
— Нет, брат, ты не Загорский. Загорские не боялись самых трудных людей. Они — вот хотя б твой дед — с императорами не ладили, короля не уважали, пока он был того достоин.
Еще раз вздохнул:
— Ты не из тех… А я думал… Есть у Загорских обычай один… да ты до него не дорос.
— Какой?
— Когда видят, что хлопец стал совсем взрослым, он идет странствовать. Совсем один. Сам едет, сам ночует, где хочет. По корчмам или просто у костра. И этим доказывает, что он взрослый. Вот я и думал, что таким странствием тебе будет поездка к деду. Поедешь один, вооруженный. Урга конь деликатный, ему уход нужен, так ты взял бы Косюньку… И поехал. А я, зная деда, который может любого задержать столько, сколько захочет…
— Как это?
— Он знает, что дворянину пешком ходить позор. Вот и замкнет коня. И человек сидит… Так я, зная это, к Длинной Круче, которая недалеко от усадьбы, потом дослал бы Логвина и приказал бы ему два дня ждать. Если б ты не захотел оставаться, прошел бы какую версту да и вернулся б домой. Тем более что такого ожидать не приходится: дед приглашает на один день.
Он говорил убедительно.
— Но ты, видать, не дорос до такого путешествия. Что ж, подождем.
Румянец залил щеки Алеся. Блестя глазами, он сказал:
— Хотел бы я посмотреть, как кто-то меня задержит или прогонит! Я поеду. А если ему тяжело видеть новых людей, так я ему привезу новую собаку… Алму с собой возьму.
— Ты что? Ты не верхом поедешь?
— Я приучил ее сидеть на луке. И если он хотя бы словом меня заденет, ноги моей больше у него не будет. Еду на один день.
Отец отвернулся.
…Алесь выехал на рассвете второго дня, чтоб к вечеру добраться до имения деда.
Никто не вышел его провожать. Отец объяснил ему дорогу и приказал Логвину набить саквы и скатать плед. Потом выбрал сыну ружье и сделал ему три заряда на уток.
…Косюнька покорно стояла у коновязи, дышала в руки и лицо мальчика теплым и приятным. Сумы были уложены хорошо, ружье и корд приторочены к седлу. Алма, вся дрожа от нетерпения, вертелась под ногами.
— Оставайся дома, — с напускной строгостью сказал Алесь.
Она прижала длинные, в завитках уши, но тон хозяина не оставлял сомнений, и тогда сука упала на живот и, повизгивая, поползла к ногам мальчика.
— Ну ладно уж. Давай поедем, — смягчился Алесь.
Глаза собаки загорелись. Она подпрыгнула в воздухе и, поджав короткий хвост, начала стремительно бегать по кругу. Уши реяли, как два крыла. Алесь вскочил в седло.
— Вы же смотрите, княжич, — сказал Логвин. — Дорога прямая, все берегом. Паромом на ту сторону, там заливными лугами, лугами. А потом, за Длинной Кручей, еще версту — и мост.
— Знаю. Завтра подъедешь к Круче.
— Хорошо.
Алесь наклонился и протянул руку:
— Гоп!
Алма подпрыгнула, чтоб хозяин смог поймать ее за загривок, и вскоре уже чинно сидела па луке седла.
…Косюнька ступала аккуратными копытцами. Алма, устроившись на луке, иногда начинала дрожать, когда проезжали мимо кустарников, — видимо, там отстоялся птичий запах. А «рыцарь» сидел спокойно, готовый ко всем неожиданностям.
Поля. Поля. Поля. Несчетное число раз омытые крестьянским потом и кровью. Нет на них места, на котором не ступала бы нога мужика, над которым не запела бы его коса, не хлестнула плеть.
Желчью мужичьей, злобой мужичьей дышишь ты, онемевший простор полей. Почему это так? Кто проклял тебя? Доколе будешь ты рабыней, моя земля?
* * *
Алесев прадед Аким Загорский, тот самый, при котором произошла история с баней Когутов, родился в тысяча семьсот тридцать девятом году и до Христова возраста прожил «при королях», сполна изведав и анархию последних лет «короны», и шляхетскую «вольность». Лично ему было не так уж и плохо при вольности: слишком был богат и силен. Такого и король не затронет, и соседи побоятся не то чтобы обидеть, но и взглянуть косо.
Мог бы, кажется, жить и жить, вмешиваться в политику, а со временем, возможно, и влиять на нее. Но ему было противно подпаивать шляхту, рвать горло на сеймиках, смотреть, как потные и очумевшие люди решают политические вопросы в драке и яростно секутся на саблях.
Фу! Точно воду в ступе толочь. От всего этого у него болела голова, а от ярости на человеческое быдло бывали приступы антропофобии. Вина он не любил, табака терпеть не мог. Оставались дамы, которыми он и занялся, потому что был необычайно красив. И при этом вид имел не изнеженного придворного, а скорее воина и сокольничего, опасного для каждой райской птицы, которую отметит своим оком.
Из Варшавы его выслали за покушение на королевскую честь, — говорили, не безуспешное. Да и как еще мог бы с ним бороться даже король? Не привлекательностью же, не силой.
И, наверно, стал бы Загорский вторым де Маранья, если б не встретил девушку, которая полюбила его, но не пошла навстречу ему, потому что с детства была обещана монастырю.
Загорский повел неравную борьбу против веры людей и веры самой девушки, против законов, обычаев и властей.
И победил. А победив, женился и поселился в Загорщине, где построил себе и жене «итальянский дом», иногда заезжая в Вежу, где начал строить дворец в честь жены, задумав сделать его самым лучшим из всего, что когда-нибудь видели Приднепровье и обе столицы. Огорчало лишь то, что у жены не было детей. Только это было тучей на светлом небосклоне.
Так прошло пять лет, пока в Загорщине, Витахмо, Озерище, Татарской Гребле, Веже, Святом, Дреговичах, Милом и других деревнях князя не заревели, разрываясь, пушки.
Родился сын. Наследник. Родился Данила, сын Акима и внук Петра, а правнук Северина и праправнук Глеба.
Шел тысяча семьсот семьдесят второй год. Как обухом по голове, ударил по дворянам первый раздел Польши. Россия присоединила Приднепровье. Многие радовались, многие возмущались, кое-кто пробовал протестовать. Но Акиму Загорскому до всего этого не было дела. У него был сын от самой любимой женщины.
Государства проходят, и царства проходят, вечна лишь любовь, и человек не может умереть, не оставив следа на земле. Не он, так его брат. Так гори они ясным огнем, государства, пропадай они пропадом!
…Аким прожил с женой только семь лет. Она заболела и умерла, оставив вдовцу двухлетнего сына. Коротким было счастье, вырванное у бога.
…А ему надо было как-то жить дальше. Ради сына. И князь замкнулся в Загорщине, отдавая свое внимание только ему. Бывший «шематон и ферлакур преважнецкий» жил теперь почти как суровый монах. Охотился, ночевал на лугах, пропах дымом костров и вереском. Сына возил с собой, чтоб рос здоровым, потому что это было последнее, что у него оставалось, и он хотел, чтоб это последнее жило бесконечно.
От суровой жизни глаза у него стали наивными, как мир, и бесхитростными, как широкое небо над головой. Как будто все простое отразилось в них: предсмертный взгляд затравленного волка, широта рек, дым ночных костров и васильковое небо с первой звездой.
Женщины теперь были не нужны ему. Он твердо, не видя в этом жертвы, решил, что их не будет у него больше никогда.
И тут началась семейная легенда.
…Весной семьдесят пятого года императрица Екатерина решила навестить свои новые земли. Она ехала туда для встречи с императором австрийским Иосифом, который должен был прибыть в Могилев инкогнито, под именем графа Фалькенштейна.
Потемкин, которому указом от первого января были поручены губернии Новороссийская и Азовская с укреплениями Днепровской линии, бросил Крым и поскакал в Полоцк — первый пункт, где должна была остановиться самодержица.
Отовсюду собирались в Полоцк дворяне. Вооруженные магнаты ехали со своими знаменами, ведя под ними отряды своей загоновой[61] шляхты. От могилевского дворянства для встречи императрицы был направлен в Полоцк князь Загорский. Он не отказался — собрание оказало ему честь — и двинулся во главе двух сотен «своих» сабель.
Екатерина ехала в Могилев с новым своим фаворитом Ланским. Что б там о нем ни говорили, но он по-настоящему, не из почтительности, любил ее.
…Он боялся. Он знал, что он безоружен, что от него, как и от других, ничего не зависит, что в каждый миг его вместе с его любовью могут бросить в черную бездну, которой представлялся ему мир без нее…
В этом была страшная горечь, потому что он душой чувствовал: если его оставят, то по заслугам. У него не было ни мужественной силы и ума Потемкина, ни красоты Зорича. Чем он мог удержать ее? У него была лишь любовь, трогательная своей непосредственностью и глубиной.
Все это делает понятным то, что произошло дальше.
…Самый древний город восточных славян был украшен флагами, сиял золотом, гремел музыкой, переливался всеми расцветками одежд.
…Земля дрожала от гула колоколов. Два сверкающих шествия текли по городу. Императрица шла в православный, Потемкин — в униатский собор.
Так столкнулись в праздничном Полоцке двое мужчин, связанных с одной.
Но героем этих дней не стал ни один из них.
Героем стал человек тридцати шести лет в скромной с виду местной одежде, которая стоила, если брать вместе с саблей, дороже одежды всех других. Только его взгляд не выражал ни ожидания, ни иронии, ни страданий, а был простым вежливо-преданным взглядом. Простым, как вольное небо над этой рекой. И властительница заметила этот взгляд. Заметила еще тогда, когда он непринужденно и естественно подал ей руку, чтоб возвести на ковер у собора.
Звонили колокола. Цвели деревья. И на миг ей показалось, что вот он — тот, кто освободит ее от безнадежной любви одного и иронии другого.
А он шел в стороне и ни о чем не думал. Он и саблю приобнажил не из почтения к царице, потому что никогда не думал, хороший или плохой она властелин, а из почтения к женщине. Он не знал, нравятся ли ему эти легкие и слегка припудренные золотистой пудрой волосы, ярко-синие глаза, ямочки на щеках и приятная полнота. Она была женщина, а он уважал настоящих женщин.
И она чувствовала этот особенный, величественный склад души неизвестного ей князя, и на миг ее охватило такое желание при всех склонить ему на плечо голову, что она лишь большим усилием воли сдержала себя.
…Иллюминация заливала город, как будто пылал Рим. Пять пирамид возвышались выше здания иезуитского коллегиума, летели ракеты, неистово вертелись огненные колеса. И все время, весь этот вечер, она на приличном расстоянии видела простодушное, искреннее и не совсем безразличное к ней лицо удивительной красоты. Когда князь случайно оказался рядом, она не выдержала.
— Как красиво! — сказала она. — Признаться, даже я никогда не видела таких высоких пирамид.
— Что удивительного? — бесхитростно сказал он. — Их сделал я.
И это не было хвастовством.
— Почему? — спросила она.
— Если б это было не здесь, а в столице, где всего больше, я сделал бы их втрое выше. Ради вас.
Это было слишком просто и невероятно преданно для комплимента.
Он был самым привлекательным существом, которое ей доводилось встречать в жизни. И первым существом, которого она ни капли не понимала.
— Надеюсь, вы не оставите меня в этом путешествии, князь?
— Я сопровождаю вас до самого Могилева. Приказ дворянства.
Пели соловьи.
Интерес к князю был так велик, что она почти не запомнила первых дней путешествия, не обратила внимания на роскошь приема Зорича в Шклове.
А он про чудеса Зорича лишь сказал:
— Вкуса маловато. Богатый римский вольноотпущенник.
Дерзостью это опять-таки не было — тон был не тот.
— А что б сделали вы? — не без кокетства спросила она.
— Этого я не сделаю вам. И не потому, что не могу, а потому, что не хочу. Я попросту поставлю вам шатры, государыня.
Шатры он действительно поставил. Во время одной из дневок большого кортежа. Поставил на высоком берегу Днепра, откуда было видно на тридцать верст, поставил в седой пышной полыни и вереске.
Несметное количество белых шелковых шатров с золотыми макушками и один, самый высокий, из красного шелка. А в полыни неподалеку паслись белые, как снег, кони. Словно так всегда было. Весь день проплывали рекой челны, в которых люди играли на рожках грустную мелодию.
После шумных, расточительных празднеств это было лучшее из всего, что доводилось переживать, это был такой покой, что она не знала, как благодарить его.
…Она стояла с ним над обрывом. Свита сидела в шатрах, таков был приказ. И что ей было до страдающих глаз Ланского?
— Вы любили когда-нибудь, князь?
— Любил, государыня.
— Ну, а я вам нравлюсь? — пошутила она.
— Я в восхищении от вас, — бесхитростно ответил он.
— Надеюсь, вы восхищаетесь мной не как государственной особой? — погрозила она.
— Я не думал о вас в этом смысле, — просто сказал он.
Нет, она не понимала его. Однако же ни к кому ее так не влекло.
— Я жду вас сегодня вечером, князь, — тихо сказала она.
Он молча склонил голову.
Они встретились еще раз. Через десять лет.
Все эти годы Загорский жил в усадьбе, воспитывал сына, строил дворец в Веже.
Всех удивило, что он ничего не получил за тот фавор. Это было странно, потому что все помнили глаза императрицы, которыми она смотрела на него при прощании.
Летом тысяча семьсот восемьдесят пятого года императрица ехала в Крым. За год до этого умер Александр Ланской, умер от злоупотребления кантаридами.[62] Она свыклась, сжилась с ним за десять лет. Что поделаешь, если настоящего нет? Шесть месяцев она была неутешна.
И вот ждала дорога. Ожидали в Киеве убранные галеры, ожидали потемкинские деревни…
Все время ее мучила мысль: встретит ли ее он? Выедет ли навстречу?
Когда открылся глазам Днепр, на крутой обрыв противоположного берега вылетели всадники, и кони под ними по самую грудь тонули в цветущих травах.
Попутчики все еще рассуждали, кто б это мог быть, и только она одна знала: «Он».
Флотилия челнов летела с той стороны, на широких плотинах везли коней, пятнистых дрыкгантов, которыми славилась эта земля. Кипела вода под веслами, а на носу переднего челна стоял с веслом в руке тот, кого не могло забыть сердце, потому что он был не неизвестным фаворитом, затерянным где-то между Ланским и Мамоновым, а возрожденной на одну, последнюю ночь молодостью, горьким запахом полыни за шелком шатра.
Не дождавшись, когда челн ударится о берег, он прыгнул почти по колено в воду и размеренным, легким шагом начал подниматься по пологому склону к ее карете.
Он был тот же, лишь седина густо лежала в волосах да спокойнее стали глаза. И он просто бросил к ее ногам шкатулку с землей, шкуру серебристой лисицы и золотой слиток. А спокойные глаза договорили: «Помню».
«И я не могу забыть», — ответили ее глаза.
И вдруг боль сжала ее сердце. Вот снова течет река, снова серебрится полынь, как шкура этой лисицы, снова стоит он. Ничего не изменилось. Лишь непоправимо постарела, лишь изменилась она сама.
— Возьмите этот табун, великая мать! — сказал он. — Таких коней нет больше нигде. Пусть они верно носят вас, как верно будет носить вас моя земля.
— Не надо, князь.
И он склонил приветливо и непринужденно седую голову.
— А где ваш сын, князь? Он здесь?
— Данила! — позвал князь. — Выйди.
И тут она увидела, как из пестрой толпы выступил тринадцатилетний мальчик, стройный, похожий и непохожий на отца. Легким шагом подошел к ней, ловкий, как сказочный царевич, в расшитой серебром голубой одежде, в голубых сапожках, с золоченым кинжалом па боку.
Шел и не знал, что каждый его шаг — шаг по сердцу той, которая смотрела на него. Если б ей такого сына!
Данила подошел, остановился и стал без страха смотреть ей в глаза. Это была царица. Та, которой следует поклоняться. Мальчик смотрел на нее, и она показалась ему красавицей. И он подал ей букет полевых цветов, окаймленных дымчато-сизой полынью. Его никто не учил. Просто он любил полынь.
— Маленький литвин, — грустно и горько сказала она. — Когда-нибудь он сменит этот кинжал на саблю и пойдет на нас. Вы же нас всех ненавидите.
Щеки его вспыхнули, он глубоко вздохнул. А потом вынул лезвие из ножен, сломал сталь и бросил обломки к ее ногам.
…Отъезжая, она сказала Акиму Загорскому:
— Не захотел взять тогда — возьми теперь. Для него.
— Для него возьму.
Это были земли на юге. Те, которые через двадцать лет были проданы за два миллиона. Акиму они не принесли и полушки. Он не хотел этого.
Данила проводил ее до Киева. Она сама попросила об этом.
Даниле Загорскому было двадцать четыре года, когда умерла императрица. Аким Загорский умер на год раньше. В какие-то пятьдесят лет. Доконал его, видимо, тот образ жизни, которого он придерживался последние двадцать лет. Натура, избыток сил не могли смириться с бездеятельностью. Лишь память о жене и сын, да еще охота. И вот, как только сын перестал требовать внимания, началось угасание.
Пан Аким был в отъезжем поле еще за два дня до смерти. А назавтра слег. В горле что-то клокотало, а потом утихло. Сильные руки неподвижно лежали на атласе покрывала. Причастившись святых тайн, он простился с сыном и умолк. И лишь за пять минут до смерти, не открывая глаз, сказал едва слышно одно слово:
— Полынь…
И неизвестно было, о чем он это, о той лунной полыни или вообще о жизни.
…О смерти отца сын сообщил в Петербург. Еще тогда, во время путешествия, прощаясь с ним, она просила обо всех изменениях в жизни писать лично и дала свою печать.
Он ничего не сказал в то время отцу. И вот теперь написал.
Месяца два ответа но было. А потом па загорщинское подворье восьмерка коней привезла окованную железом повозку. На ней была большая цельная глыба малахита высотой в два человеческих роста. Какого-то удивительного дымчато-зеленого малахита в серых разводах — как полынь.
На глыбе было лишь четыре слова:
«Vale, principium finis mein!»[63]
Только считалось, что Аким Петрович был похоронен в усыпальнице Загорских. Там лежал один ларец с его землей. А сам он нашел покой в мавзолее — вместе с женой, куда глыбу затащить было нельзя. И потому малахит поставили на холмик, насыпанный снаружи. С той стороны мавзолея, с которой, внутри, лежал он.
Спустя несколько месяцев императрица умерла. Но еще до этого, в год смерти отца, молодой князь женился. До сих пор отец заполнял всю его жизнь, и, потеряв его, Данила почувствовал страшное одиночество в холодном, пустом доме.
Отец, жалея беспредельно сына, не утруждал его науками и не старался привить ему серьезное направление мыслей, то, которое заставляет человека сознательно выбрать себе дорогу и потом всю жизнь придерживаться ее.
Года за четыре до смерти пан Аким кинулся было разбираться в происходящем, читать философские книги новейшего времени и едва не стал мартинистом, но потом оставил это занятие. Фармазоны показались ему до невозможности нудными — сидят себе в подполье, как кроты, со своими циркулями да молотками, обтянули стены черным бархатом, отняли у мира его краски. Заговором это попахивает, вот что. А если уж ссориться с теми, кто имеет власть, так не заговором, не шипением в норах, а мятежом. Да и матушка их не жаловала, последняя его женщина, а пока она жила, он не мог фрондировать.
Изо всей этой компании ему нравился один. Тот, который написал книгу — таким страшным языком — и которого за эту книгу загнали в Илим. Книгу эту пан Аким купил за сто рублей серебром, прочел и не то чтоб пришел в восторг от предложений автора, а просто так — понравился ему человек. Смелый. Приятно было б видеть его рядом.
И вот поэтому в голове молодого Загорского была мешанина: рыцарский кодекс и книга, купленная отцом, обожествление царицы и ненависть к Петербургу, песни, услышанные на охоте, и галантные романы, вольные рассуждения и тайная, не очень почтительная вера.
А над всем этим вольный дух первых лет царствования Екатерины: книги Монтеня, Дидерота, Бекона, Руссо — в диком соединении с куртуазными романами. И при этом некоторое пренебрежение к книгам вообще, потому что он любил простор, бег коня, копье, которое впивается на скаку в шею кабана между черепом и первым позвонком.
Он пренебрегал соседями. Избалованные бабы! Холуи! Пренебрегал их терпением, раболепством и пресмыканием перед сильными. Пренебрегал их поездками — каретами для детей, каретами для дураков, каретами для больных собак, каретами для крепостного гарема, фургоном для музыкантов, фургоном для буфета и поваров.
Тьфу! Раньше этого не было! И как не понимают, что седло под головой удобнее?… Собачники!!
Это был человек одновременно очень хороший и очень дурной. Его хорошие качества были природными. Его недостатки — недостатками века. И все, что бы он ни делал, свидетельствовало об этом.
Уже за год до смерти отца его уважали и боялись как огня. Это началось так. В тысяча семьсот девяносто четвертом году новоиспеченная приднепровская помещица Прасковья Зубова попросила у императрицы разрешения сдавать своих могилевских крестьян в рекруты вместо крестьян из ее рязанских вотчин, «равным образом и впредь так поступать». Разрешение дали.
— Несправедливо, — сказал Данила, услышав об этом. — Почему должны вместо кого-то идти в солдаты те, кто еще двадцать два года тому назад не знал рекрутства? Что ж, выходит, мы неравные дети?
Пример Зубовой показался соблазнительным. Могилевские крестьяне были дерзкие. Избавиться от некоторых было просто благом. И вот сразу после Зубовой о том попросили еще три помещика, у которых имения были в Приднепровье и за его границами, — Дмитриев, Иванов и Суканевич.
И тогда Данила не стерпел. Он воспользовался губернским балом и вызвал всех троих. Они попробовали оправдаться — тогда Загорский влепил Суканевичу пощечину, а Иванову бросил в лицо перчатку.
Друзья урезонивали его, но он цедил сквозь зубы:
— Справедливость так справедливость. Что-о это?
— А Зубова?
— Она баба, чего вы хотите? Если будет так поступать, ей сами мужики красного петуха пустят.
Назавтра он на месте уложил Дмитриева и Суканевича выстрелами из пистолета, а Иванову проколол шпагой грудь.
Новый обычай вывелся сразу. Даже Зубова вынуждена была отступить.
Отец ничего не сказал, услышав о том, что вчера три человека дали свою последнюю сатисфакцию его сыну. Двое из них были военными и умели защищаться. Сын рисковал, как и они.
Данила любил отца. Отец понимал его как никто. И вот теперь мавзолей и малахитовая глыба возле него. Хоть бы кто рядом!
Спустя три месяца он заблудился на охоте, попал в имение небогатого дворянина Богдановского, увидел его дочь Ксени, — бывший мечтатель, который ожидал королеву и потому относился к женщинам с пренебрежением, влюбился в нее с первой встречи и через неделю женился.
Невеста была прекрасна, как Кутеянская матерь божья.[64] Продолговатый разрез глаз, брови до висков, печальный маленький рот. Но она не успела полюбить мужа. Еще и потому, что считала все подобное грехом. Женятся для детей и чтоб не жить век одному. А желать объятий мужчины, самой идти навстречу им — это невозможно. Данила посмеивался, а потом махнул рукой. Через год, как раз, когда умерла императрица, родилась дочь. Загорский намеревался даже подаваться в верха: он знал, что трудолюбия и способностей у него хватит.
И тут на престол вступил Павел, которого Загорский не ставил и в грош, вопреки всему уверенный, что он не родной сын Той.
— Подменыш, — при всех говорил он. — Кукушкино яйцо.
Началась вакханалия. Император вынюхивал подозрительных, на Украине секли головы, женщинам резали роброны, встречая на улице. Как наивысшая непристойность был запрещен вальс. Полкu маршировали с развода прямым ходом в Сибирь. Из кулинарных книг вычеркивались слова о жареных поросятах, которых нужно, «не томив, ставить на вольный дух».
Загорский отошел от дел. Демонстративно занялся поклонением тому, что он понимал под екатерининским духом и что на самом деле было якобинством.
Не удивительно, что на него кто-то слепил и послал в Петербург донос. И достукался б, наверно, Данила до Сибири, но тут Павла задушили офицерским шарфом.
— Дали б ли вы, пан Загорский, свой шарф для такой цели?
— Я у своего свинаря Янки шило одолжил бы, которым он свиней колет, да и послал бы им. Они, мясники, другого не стоят… Да и он, свинья, тоже.
На службу он так и не возвратился. Тем более что и без службы влияние имел огромное.
Через четыре года после смерти Павла он продал в государственное ведомство и частным лицам свои южные земли, получив за них что-то около двух миллионов, и сразу выделил триста тысяч на расширение парка и разное строительство в своем вежинском имении.
Чего ему было желать? Владелец двадцати тысяч мужских душ и бесконечных земель на Могилевщине, родовитый. И, однако, полного счастья не было. Жена была красивая, добрая, но не любила его. Чистая до святости, святая до нелепости. Упорный вольтерьянец смирился б с ее верой, только б она любила его.
Он хотел сына от любимой, «сына любви», веря, что такие дети особенно удачны.
Случай помог ему. Охотясь, они напали па кабанье стадо и конно ринулись на него с одними копьями. Пан Данила ударом копья убил матку, и тут старый секач бросился на коня и свалил его вместе с всадником.
…Загорского принесли домой без сознания, с тремя ранами.
Увидев его, беспомощного и окровавленного, жена поняла, что тайно, даже себе в том не сознаваясь, любила его.
— Господи! Если б только выздоровел! Господи! Если б только выздоровел!
Она целовала ему руки. По нескольку раз в день теряла сознание, и лекари начали бояться за ее жизнь. Ночами простаивала па коленях в молельне, но при первом же стоне раненого была возле него.
— Матерь божья! Иисусе наисладчайший! За что? Я ради вас его забыла! Дайте возможность искупить мой грех грехом перед вами.
Раненому стало хуже. И тогда Загорская начала богохульствовать:
— Что вы можете? Вы, наверно, просто ничего не можете! Даже ради меня? Ради той, которая из-за вас его убила. Лучше уж с дьяволом… Если б только выздоровел! И взглянуть бы на вас не взглянула!
Загорский выздоровел. Зажили раны. И жена сдержала слово — перестала даже заглядывать в молельню, всю страстность перенесла на мужа, на него одного.
Пан Данила забросил охоту. Больше ему ничего не надо было от жизни. Когда она сама, впервые за пять лет, припала к нему, казалось, что сердце его разрывается. А она с каждым днем делалась все нежнее, всегда хотела быть рядом.
Да ведь он после ее хулы на бога и в самом деле был последним спасением, тем, кто защитит от тьмы ночью и не отдаст ее злу днем.
В счастье прошел год. Ксени забеременела. Он был уверен, что родится сын, и был спокоен. А ее мучили кошмары, ей казалось, что она умрет. Беременность ударила по изболевшей совести: Ксени боялась уже даже верить, потому что не ждала пощады за свой проступок против бога. Муж успокаивал ее, целовал и говорил, что у сына обязательно будут тaкие же глаза, как у нее.
У сына, Юрия, действительно были ее глаза. Вежа грохотала пушками (в Загорщине не стреляли, оберегали покой роженицы). А пану Даниле хотелось обнять весь мир.
И тут в имение Богдановского пришли ночью солдаты во главе с офицером и арестовали старого пана и сыновей, отца и братьев Ксени за сепаратизм и участие в заговоре против государя императора и властей.
Это был конец. В аресте отца она увидела перст божий. Напрасно муж говорил, что люди имеют право восставать, если им не нравится правительство, а у правительства есть право арестовывать тех, кто восстает. Напрасно он говорил, что сделает все, чтоб их освободили.
— Нет, — говорила она, — это он хочет покарать меня.
И ее глаза мертво глядели куда-то.
Загорский сделал невозможное — связями и огромными взятками добился, что Богдановских выпустили на поруки и обещали оправдать. Но не сказал жене, что это сделал он.
— Видишь, их выпустили. Все хорошо.
— Да, все хорошо, — сказала она. — Он милостив. Это Он предупредил меня, чтоб я готовилась.
На следующий день у нее началось что-то вроде запоздалой родильной горячки. Женщина таяла, как воск.
— Одумайся, — умолял он, — не оставляй меня.
— Что ты? — говорила она. — Он милостив. Я искуплю все своими мучениями. А если нет, предупрежу тебя, где я, чтоб ты… потом со мной…
— Не оставляй, — умолял он, — Как же тогда верить в людей и бога?!
— А ты верь, — тихо говорила она. — Ты знаешь, я благодарна Ему. Потому что Он разрешил мне согрешить против себя самой. Иначе я так и прожила б без твоей любви. А Он дал мне целых два года. Пусть после этого и ад.
— Она еще благодарит… — без слез рыдал он. — Да что же это? Да что же э-это та-кое-е?!
Плоская, истаявшая, она все глубже проваливалась в перины, в шелк простыней.
Когда уста ее не оставили никакого, даже самого маленького пятнышка на зеркале, он посидел немного, подумал, а потом поднялся и пошел в молельню, стал там перед фамильной иконой Спаса Темные Глазницы. Молельня была родовая, и на стенах висело оружие, по обещанию положенное под иконы теми из Загорских, кто шел в монастыри.
— Слушай, — сказал Загорский спокойно, как равному, — она же верила в тебя. Набогохульствовала в горячке, но все же верила. Она верила, а ты ее так, а?
Икона молчала. Глядела темными глазницами, в которых не было видно глаз.
Постояв, он снова пошел в опочивальню и сел возле жены. Он сидел так и ждал, пока старая нянька Евдоха не подошла к нему.
— Прикажете позвать обмывальщиц, князь?
Он поднял глаза и, словно только теперь что-то поняв, махнул рукой:
— Зови.
Потом он возвратился в молельню, встал перед Спасом и просто, как когда-то покойник отец, спросил:
— Пекло? Ну, пускай берет двоих, если ты не хотел…
В его руках очутилась старая боевая секира — гизавра. И он вдруг запустил ею прямо в темные глазницы с такой силой, что лезвие на три вершка впилось в дерево и задрожало.
— Дрожишь? — спросил он. — Ну, дрожи.
И вышел, закрыв за собой дверь.
И все время, пока он, внешне спокойный, хоронил ее, принимал соболезнующих и носил траур, в душе его жил нестерпимый гнев. Нестерпимый гнев и один вопрос: «За что?» Она ничего не сделала тому, она была более святой, чем святая Ольга, которая кидала людей в яму, а сверху бросала челн, ломавший и крошивший им кости… Вот возлагают венчик в знак надежды получить венец на небесах, а ей безраздельно обещали ад. За что?… Вот после панихиды гасят свечи в знак того, что «жизнь наша, пылающая, как свеча, должна угаснуть, чаще всего не догорев до конца». Но кто же думает о конце в тридцать три года? Ты, чья икона в ее изболевших, прозрачных руках? Ты мог, ты мужчина, ты за всех. А за кого она? За что?… Вот служат требу, и ее лицо повернуто к алтарю. При жизни ты не пускал ее в алтарь… За что? Она женщина. А твоя мать не была женщиной?… А теперь не пустишь в царствие небесное. За что? За то, что она богохульствовала, изнемогая от горя и от любви к человеку, от той любви, за которую погиб ты? «И в землю отыдеши…» Но не перестанешь быть «образом славы Божьей». Если уж такая слава, так к дьяволу ее…
«Господняя земля и исполнение ее, вселенная и все живущие на ней…»
Несчастный колос! Несчастный колос под неведомым серпом. Да и разве под одним?… За что?…
И поскольку на один этот вопрос, лишь на один, только на один, не было ответа, гнев все нарастал. В ад так в ад. И иди ты с твоей хваленой милостью, если ты не мог смилостивиться над одной, одной-единой твоей овечкой. Не над волком, а над овечкой. Может ведь быть так, что и овечка, спасаясь, попробует укусить? Так волкам позволено кусать множество раз, а она попробовала один раз — и ее за это косой по горлу.
…Молельня била закрыта, священник изгнан в Милое, в старую церковь-крепость, самую неуютную и сырую из всех церквей, какие были и его владениях. Вскоре туда же последовали и попы из Вежи, Святого и Витахмо.
— Буду платить вам вдвое, лишь бы духом вашим не пахло ближе, чем за двадцать верст.
Он ненавидел попов, ненавидел теперь бога, ненавидел солдат и жандармов, тех, от которых разит доносом и кровью, тех, что арестовывают людей за настроения и этим сводят в могилу существо, которое никому не причинило зла. Он ненавидел молодого царя, сделавшего так, что людей, дворян, которые отвечают за свои политические взгляды, хватают в их крепостях.
Он закаменел. Он баловал дочь, одарял деньгами, нарядами, драгоценностями. И совсем не интересовался, что она там делает на своих балах. Он знал, что ей принадлежат две тысячи душ и что найдется порядочный человек, который будет любить ее. Что может найтись и непорядочный, он не подумал. Дочь убежала с молодым офицером расквартированного в Суходоле полка…
Пан Данила теперь спал днем, а ночью читал, молча гулял по парку или слушал в музыкальном павильоне «Реквием» Моцарта. Всегда одну и ту же часть — «Лакримозо». Играл, сидя за глухой ширмой, органист, которого привезли из Суходола. Князь слушал с сухими глазами. Нарушать его покой боялись и потому объявили о побеге дочери поздно.
Приступ гнева у него был страшный. До сих пор спокойный, сдержанно-сильный, князь был в ярости, словно хотел сразу выплеснуть свой гнев.
Его дочь! С кем?! С офицером!
И это переполнило чашу его гнева.
— Где?!
— В греко-российском монастыре в Липичах, — ответил Кондратий, молочный брат, единственный, кто не боялся гнева князя.
Ясно. Монахи всегда рады напаскудить ему. Черные божьи кроты!
— Наверно, уже обвенчали, — сказал Кондратий. — Поздно.
— Поздно?! — Крик был таким, что дворец замер от ужаса. — Я им дам «поздно»! Людей! Шляхту!! Мужиков вооружить!!
— Не пойдут, — сказал Кондратий. — Побоятся!
— А меня они не побоятся? — кричал князь — Не пойдут — шляхту прогоню, и пускай подыхает от голода! Не пойдут — каждого десятого в рудники продам! Кондратий, бутылку водки каждому! Мужикам по три рубля! Шляхте по пять! Семьям убитых пенсии! Лошадей! Пушки!
Кавалькада из шестисот человек ринулась на Липичи. Грохотали, подпрыгивая на ухабах, пушки, ветер рвал пламя факелов. И у пьяных людей, скакавших за князем, все возрастал бесцельный гнев, наливались кровью глаза.
Монастырь обложили в полночь. Монахи из-за каменных стен увидели факелы, рвущееся в небо пламя зажженных костров. Услыхали ржание коней. Они ожидали гнева, но не такого.
Игумен вышел на стену и увидел прямо перед воротами расхристанного князя с остекленевшими глазами.
— Дочь… — сказал князь.
— Здесь, — не соврал игумен.
— Открывай ворота, пес.
— Не оскверняйте обители, — сказал игумен. — Монастырь не может отказать рабам божьим, которые умоляют об убежище.
— А гореть твой монастырь может?
— А в Соловки в заточенье не хочешь? — спросил игумен.
Он чувствовал за собой силу государства, силу стен, четырехсот монахов и десяти пушек. Не разучилась еще братия с тех времен, когда монастырь был пограничной крепостью.
— Лизоблюд! — гневно сказал князь. — Холуй петербургский!
— Анафему наложат, — сказал келарь. — Ты, быдло, дзекало недобитое.
— А я вот дам вам анафему! Сводники! По сколько копеек с кровати берете?
— Не оскорбляй бога, арестант соловецкий, — сказал игумен.
— Кто это бог? Ты? Козел ты!
В ответ из-за стен рыгнула пушка.
— Хо-рошо, — сказал князь. — Т-так. Хорошо же вам будет из небес на меня в Соловках смотреть!
Испуганный этим спокойным тоном, игумен хотел было позвать назад неистового Данилу, но тот ушел уже в кроваво-черный мрак. А через пять минут оттуда заревели пушки. Сорок штук.
Стреляли час — не по людям, по стенам. Эконом хватался за голову. Пускай бы били в ворота, их отстроить легко. Нет, бьют по стенам.
…А князь с окаменевшим лицом приказывал пушкарям сыпать двойной пороховой заряд.
— Ничего, не разорвет! Сыпь! Бей!.. И вот что — раскалите ядра. Бейте ими по крышам! По крышам!
Монахи вначале отстреливались, потом перестали. Было видно, как они простирали руки к небу, стоя на стенах. В багряном зареве лицо князя стало ужасным…
Пылали щепяные крыши… И вот со страшным грохотом рухнула, упала в тучах красного дыма угловая башня.
Осаждавшие ворвались в охваченный пламенем монастырь.
Монахи не защищались. Отца келаря, который спрятался на скотном дворе, за оскорбление тыкали носом в лошадиный навоз.
Перед воротами, на голой земле, два мужика хлестали отца игумена, предварительно сняв с него куколь и камилавку.
Дочь и ее мужа выволокли за стены монастыря, связали и бросили на разные телеги.
Князю еще и этого было мало. Гнев душил его, тот гнев, от которого он не мог избавиться столько лет.
Страшная кавалькада двинулась назад. По дороге взяли без боя, лишь выломав ворота, католический монастырь и за сутки выпили в нем все вина и ликеры.
Праздновали, стало быть.
Монахи, обрадованные позором конкурентов, сами угощали вояк. Черт с ними, с ликерами! Будут еще. Но ведь пан схизматов «поддержал». И столы аж ломились от яств.
Подступали потом, пьяные, и к монастырю монашек-визиток и грозились взять, но пожалели женщин. Писку много!
…Невесту, когда приехали домой, князь приказал запереть в дальних комнатах, жениха — бросить ручному медведю.
…Князь сидел и думал часа два. Потом приказал привести жениха. Того освободили из мягких объятий медведя, всего вылизанного, розового.
Пан Данила встретил его, сидя за столом, на котором стоял зеленый штоф из дутого стекла.
— Выпей. Полегчает.
Тот выпил.
— Как же это вы? И не спросили…
— Она сказала, что все равно за военного не отдадите.
— Правильно, — грозно сказал Загорский. — От военных, которые жандармов слушают, все злое на земле. Они в пушечки играют, они на рассвете приходят за добрыми людьми. Почему оружие не сложил перед сватовством?
— Гонор.
— А ты знаешь, что их породу когда-нибудь на парапетах цитаделей расстреливать будут? Как собак! За все горе!
Молодой человек всхлипнул.
— Ты чей?
— Полоцкий.
— Пей еще, — смягчился Данила. — Православный?
— Православный.
— Имения есть?
— Одна деревня.
— И это ничего. Становись на колени!
Тот встал. Князь отвесил ему три звучные пощечины.
— Не служи курице, которая кричит петухом. Не сватайся за спиной. Не ищи у церковных крыс спасения… Встань… Садись… Пей… Голоден?
— Да.
— Кондратий, курицу зятьку! Каплуна! Чтоб помнил, что каплуну служил.
Молчали. Князь Данила пил водку, лицо у него было страшное.
— Службу оставишь сегодня же… перейдешь в униатство…
— Вы же православный…
— Я не православный. Я никакой. А ты перейдешь, чтоб никогда с теми не сталкиваться, у кого защиты искал.
Помолчал.
— Получите две тысячи душ. И отправляйтесь в свою деревню. Прочь с глаз. В Вежу и Загорщину ей — никогда. Деньги будете получать аккуратно. Когда увижу, что выполнил мои приказы, что не будешь служить этой тронной б… с выхоленными ручками и слащавой улыбкой, когда узнаю, что дочь забеременела, получите на все души дарственную. Все… Можешь брать и ехать.
И, подняв его с кресла, как куклу, поцеловал в лоб.
— Иди… сын.
— Неужели вы с ней проститься не захотите? Она ведь любит вас.
— И я ее люблю, — сказал князь. — Но за то, что она забыла, от чьих рук погибла ее мать, нет ей прощения… моего.
— Я виноват, — осмелился молодой человек, — с меня и взыскивайте.
— Твоя провинность — в огороде хрен. На то мужчины и есть, чтоб шкодить… А она должна была знать… Все я тебе простил… За смелость, что не побоялся со мной связаться. Таких людей, сыне, мало на свете… Или, может, не знал, что это такое?
— Знал, — искренне признался зять.
— Ну вот. Возможно, я полюбил бы тебя, если б не виделись мы сегодня в первый и последний раз… В конце концов только когда все обойдется, можешь приехать… Один.
— Один нe приеду.
— Оно и лучше, — молвил князь. — Это вам только повредит. Потому что я смертник.
— Почему?
— Не родился еще человек, который меня голыми руками взял бы. Да и потом… расстрелянным быть — это еще ничего. Но меня за богохульство могут в Соловки отправить… к церковным крысам. А я лучше со змеями и аспидами сидел бы. Поэтому хватит загоновым мой хлеб даром есть… пусть вместе со мной льют кровь. Я не в Соловках умру. Я умру здесь, па моей земле, в моих стенах. Иди. Передай дочери мое благословение.
Молодожены уехали. А пан Данила начал укреплять Вежу. Вокруг башни, в стороне от дворца, день и ночь насыпали валы, втаскивали пушки на стены, под надсадный крик катили бочки с порохом. Под дворец тайно подвели фитили, чтоб в случае чего поднять его в воздух вместе с гостями, которые конечно же разместятся в нем на время осады. Князь не хотел никому отдавать своего чуда.
Он знал: смерть могла прийти каждый день.
И он не жалел об этом.
…Сына отправили в Загорщину и, окончив все, стали ждать.
Это происходило в мае, а в июне Наполеон перешел Неман. Некому было заниматься Загорским, как и всей приднепровской землей, отданной врагу.
— Что ж, — сказал друзьям Загорский, — гуляйте. Приговор пошел на обжалование.
Он ожидал, присматривался. Бои гремели уже за Днепром.
Наполеон был ему даже немножко симпатичен. Во всяком случае, смелый. Воин. И потом так все же было лучше, чем быть отданному в лапы тому, кто приказывал хватать людей. Тому, кто отправлял людей в монастыри.
Но, с другой стороны, слишком уж радовалась Варшава. Он ничего не имел против поляков. Их гонор был близок ему, и он признавал их право на обиду. Однако при чем здесь он, Загорский? Отца выслали из Варшавы, а теперь Варшава сама идет к нему на французских штыках. Быть затычкой? Нет, хватит. С него достаточно и православной сволочи в рясах. Иезуитов на фонарь!
Он недаром был вольтерьянцем. Раздавите гадину! Раздавите инквизиторов — все едино, попов или ксендзов. Хрен редьки не слаще.
Поэтому на вопросы соседей он отвечал уклончиво:
— А что корсиканец? Корсиканским чудовищем я его назвать не хочу. Но и от Августа в нем пшик. Я сам, возможно, не хуже его, только революция меня не возвысила до консулов, армии не дала.
Потом Наполеон вознамерился ограничить домогательства Варшавы, образовав литовско-кривское государство. Варшавское панство обиделось. Местные дворяне загорелись необоснованным энтузиазмом, предложили Загорскому возглавить движение. Он отказался.
— Почему? Вы не одобряете замысла? — спросили делегаты.
— Я не поддерживаю вас, хотя и благодарю за доверие.
Те не поняли.
— Это не борьба за родину, господа, — сказал князь. — Он увидел вашу силу и решил извлечь из нее пользу. Этот ловкач имеет свой расчет. Потому что он хочет водить вас за нос, господа, и вы, приднепровские дворяне, сейчас в незавидной роли кота, который таскает обезьяне из огня каштаны.
Он прикрыл глаза.
— И еще, панове… Народ не с вами. Он ненавидит Курьяна, шпицрутены, рекрутские наборы. Но француз пришел в его дом, забрал его сено, расстрелял отца, осиротил детей… когтем зацепил за сердце. А вы знаете, что такое наш народ, когда его когтем за сердце… Так вот, я не большой любитель кулаги, лаптей, народных запахов. Но против народа я не пойду…
И посмотрел прямо в глаза делегатам.
— Если б я был трусом, я, спасая свою шкуру, возглавил бы ваше движение, чтоб отдалить расплату лично со мной… Сколько вас? Только на Могилевщине около тридцати тысяч. Сколько б пошло дворян со всей территории возможного — гм! — государства? Шестьдесят. Шестьдесят тысяч отчаянных голов. Больше, чем корсиканец потерял при Бородино. Корсиканец в Москве. Чаши весов колеблются… Скажем, если б была надежда на успех, трус в карты не играет. Что тогда? Марионетки в руках человека, которого ненавидит мой народ? Великая держава Шлезвиг-Суходольская… «Их глаубе, герр Кёниг…» — и руки по швам.
Он грустно улыбнулся.
— Это не шутки, господа. Не делай другому того, что тебе не мило. Не засовывай пальцы меж дверей. Мой Янка сделал из этих двух пословиц одну: не засовывай пальцев, куда тебе не мило. Не будь пушечным мясом для чужих капризов. Вы не слуги Курьяна и не слуги маленького капрала. Теперь вы только металл под молотом… Вы еще не раз будете глотать желчь… Но те, белые, внизу, — они не с вами, и не с капралом, и не с Курьяном… И вот поэтому я не буду спасать своей шкуры их, и вашей и всякой другой кровью, а просто подожду. Подожду, несмотря на ваше презрение, пока не придет Курьян, чтоб как можно дороже продать свою жизнь… Все.
Часть дворян все же пошла, вооружив своих мужиков и шляхту. Услыхав об этом, он пожал плечами:
— Les sal-laries.[65]
Он вымолвил это так, что в слове выразительно прозвучало соединение «sal».[66]
«Ах маленький капрал, ловкач, маленький шельмец, сбивающий груши чужими руками! Почему же ты тогда не сбил с дерева и нас? Это же так легко. Во Франции нет крепостного права. Сделай, чтоб его не было и здесь, и в России. Как сразу загремит Курьян! Да нет, куда тебе! У тебя есть сила — и то не всегда, — чтоб столкнуть лбами людей с разным честолюбием и разными страстями, но ты не можешь усмирить море. Ты боишься, что оно разбушуется. И это доказательство того, что ты великий полководец, но не великий человек. Великий не испугался б моря. А ты испугался. Тебе так дорого стоило взнуздать это море там, у себя. Ты слишком хорошо помнишь, как корзины под гильотинами делались скользкими от крови. Ты боишься того же и у нас. А почему? Зачем тебе жалеть мою голову? Ты ведь не пожалел бы подставить ее под пулю на одном из бесчисленных редутов. Значит, дело не в моей голове… Просто ты кукольник, который дергает нитки марионеток, как каждый тиран, в котором всегда есть и будет что-то от холуя. Кукольник, а не Ладымер из сказки, тот самый, что вспахал лемехом море.
Ну и черт с тобой. Ты дал мне только один добрый совет. Буду отбиваться, когда за мной придут. Но я попробую также подергать за ниточки, если ко мне придут с хитростью. Подергаю просто из интереса, чтоб посмотреть, как низко может пасть человек. Я знаю, что Курьян душитель, но я не знаю, подлец ли он. Я испытаю это на его холуях. Каков хозяин, такие и слуги.
А напрасно ты не попытался разнуздать море, корсиканский озорник. Ей-богу, интереснее погибнуть от руки местного Робеспьера, кровавого и с вилами (на гильотину он тратиться не будет, держи карман), чем от Курьяна с мизерным задом, затянутым в лосины. Янка-Робеспьер — так это хоть интересно. А ты не пожелал. И вот за это накостыляют тебе аж по самые… И полетишь ты рылом в свое же дерьмо. И начнут тебя же по крепостям таскать, имя грязью обливать, возвеличивать, снова обливать, пока не придут к выводу, что было положительное, а было и отрицательное, и только неизвестно, что перевешивает, да и вообще стоит ли этим заниматься, тем более что все твои дела давно утонули во тьме веков и за ненадобностью убраны на антресоли архива матушки истории. Костям и то покоя не будет. Должен был знать историю маленького Наваррца.[67] Пришел с юга, променял Париж на мессу, умер, забальзамировали итальянским способом, на века. Положили в каком-то там аббатстве… Сен-Дени, что ли? А тут Робеспьер… Санкюлоты подумали-подумали. Хороший, кажется, был король, песенки о нем поют.
Vive Henri quatre…[68] Да и труда людей жаль… А потом, подальше от греха, в огонь, вместе с Людовиком Одиннадцатым, Окаянным… Так и будет. Твою Вандомскую колонну обязательно кто-то сбросит рано или поздно. Твой прах положат в Дом инвалидов, — кто-то выбросит.
Ну вот, знаешь, а лезешь.
А напрасно ты не попытался разнуздать море!»
Таким мыслям предавался Данила Загорский, продолжая строить укрепления. Он готовил еще одну хитрость и пил, словно в пустыне. А потом, когда корсиканец действительно загремел, из Петербурга приехал ревизор, чтоб расследовать дело о монастыре, генерал-адъютант Баранов…
«Эге, силой брать не будут, — подумал князь. — Дело со временем приутихло и кажется уже не таким важным. Надо рискнуть».
И он рискнул, пригласил генерал-адъютанта в Вежу. А затем — на ужин. А затем — в крепость.
Баранов увидел валы, порох, пушки, вооруженных людей, а в башне бесценные гобелены, античные скульптуры, картины.
— Почему это здесь? — Баранов вспомнил бочки с порохом в подвалах и вздрогнул. — Жизнь вам, надеюсь, не надоела?
— Я фаталист. Попадет так попадет.
— А коллекции?
— Я не хочу, чтоб ими тешился кто-то еще. Впрочем, вам могу подарить этого фавна.
Фавн со временем приобрел благородную темную патину, втертую в мрамор. Она не снижала его белизны, а лишь придавала камню рельефность и красоту живого тела.
Фавн язвительно улыбался Баранову. Генерал не помнил себя от радости. Это было более ценно, чем «Нерон» Юсупова, обычный официальный бюст римских времен. У Юсупова была лишь одна стопа с такой вот патиной. А это… Эллада! У него, Баранова, есть уже бюст Агриппины. Теперь он переплюнет и Юсупова с его «стопой», и Шереметьева с его знаменитой помпейской «Козочкой».
— Берите, генерал. Я освобождаю этого фавна от предопределенности.
Загорский увидел, что клюнуло. Несколько таких ловушек для каждого типа людей было расставлено у него.
— Пожалейте это, князь, — взмолился ревизор. — Взрыв и…
— Все равно живем на вулкане. Не я, так кто-то другой.
Баранов понял намек. Но ему было страшно: а вдруг и на него донесут?
— Вы знаете, что на вас есть анонимный донос, князь?
— Возможно. У меня много врагов.
— О монастыре.
— Слышал и это. Надеюсь, не игумен жаловался?
— Нет, он как раз молчит.
«Еще б он кричал! — подумал князь. — Кто его, если он кричать будет, битого на месте оставит?»
— Видите, ветра из монастыря… мне бояться не приходится. Я же говорю — сплетня врагов.
— А дочь?
— Да что дочь! Вы лучше спросите у нее и у зятя. Живут. Приданое — две тысячи душ. Чего им еще?
Баранов заметно успокоился.
— А монастырь-то кто сжег?
— Французы, милый генерал, французы. Всё они, фармазоны. Буонапарте…
— А католический монастырь?
— Да, — сказал Загорский, — угощали нас там, угощали. Такие гостеприимные люди.
И спохватился:
— Неужели они жаловались?
— Что вы! Наоборот, хвалят.
— Вот видите, генерал, как можно обращать внимание на донос без подписи… Да и вообще — что говорить об этом… Давайте лучше в фараон перекинемся.
«Сволочь, — подумал Баранов. — Еще дразнит. Ну, я же тебе сейчас за фавна деньги проиграю! Отказаться не могу, по несчастной слабости моей к антикам, но я сделаю так, что я у тебя этого фавна куплю. И руки будут свободными».
— Пожалуйста, князь.
«Дурак, — думал Загорский, — Ты ведь не только дурак, ты еще и сволочь. Посмотрим, кто проиграет. Чтоб проиграть вовремя и умело, на то лучшие мозги нужны, чем твои.»
Перед рассветом Загорский поднялся из-за стола с чудовищным проигрышем — проиграл Загорщину. Баранов, не понимая, как же это так получилось, что он взял взятку, умолял его не считать игру всерьез.
— Родовое имение, князь. Его ведь нельзя проигрывать.
— Нельзя. Но карты. Несчастная слабость!
— Давайте не считать.
— А честь, генерал? Нет, карточные долги надо платить.
Баранов и верил во взятку, и не верил. Но даже если и не взятка, кто поверит, что не взятка? Родовое имение того, кого проверяешь. Да и не позволят! Опекунство над «умственно несостоятельным» князем. Ужас! Свидетели рядом.
— Оставьте, генерал… Загорщину, конечно, жаль. Так давайте я под расписку отдам вам за нее деньги. А? И неловко не будет. На империалах печати нет, откуда они.
«Запутал, загубил, окаянный… Одной веревкой теперь связаны. Он на дно, и я за ним… Деньги, конечно, не скажут, откуда они. А расписку он не покажет. Господи, только б голову из петли, да давай бог ноги».
И, внутренне примирясь со всем, махнул рукой.
А Загорский, отсчитав деньги за треть имения: «Хватит и этого, да и фавн дополнит», — радушно сказал:
— Так я статую к вам отправлю со своими.
Баранов надрался в имении до адских видений. Его усадили в карету и еле живого отправили в Суходол. Оттуда он послал в Петербург депешу, что «монастырь сгорел от неизвестной причины и, предпочтительно, едва ли не от руки злодея-корсиканца. Дальнейшее же дело за давностью и неотысканием следов, князя Загорского обеля, следует предать забвению».
Загорский победил. Но это не принесло радости. Мерзко! Падший мир!
И он пустился в разгул так, что самому делалось страшно. Загорщину записал на сына. Миллион еще до войны был переведен за границу и положен равными долями, под три сложных процента годовых, — половина в швейцарский, половина в английский банк.
Наследникам нечего укорять его за разгул. Он никого не обидел. Он пропивает южные земли. Пейте, люди! Пейте! Гуляйте все!
Скакали кони, захлебываясь бубенцами, стреляли пушки, лилось вино, покупались статуи и картины. Каждый месяц кто-то, перепив, отправлялся к святым дарам.
…Понемногу это опротивело князю. С немногочисленными друзьями он заперся в имении, образовав что-то вроде братства, философом которого был Эпикур, а религией — Вольтер.
Музыка. Спектакли крепостной оперы. Все, что может дать искусство и утонченность, природа и любовь.
И пустота.
Постепенно отходили верные друзья. И лишь он со своим железным здоровьем жил, все глубже погрязая в меланхолию и мизантропию. Умерла дочь, и ко всему этому (с возрастом он стал помягче) прибавилась тоска, угрызения совести.
Ему было пятьдесят четыре, когда он окончательно потерял веру в совесть и честь властей, в полезность государства, в то, что мир движется к лучшему. В этот год царь стрелял в людей из пушек. Те люди были храбрыми, братьями по духу, бескорыстными, честными. Не курьяны, не барановы, — цвет земли! И что же сделали с ними? Вешать дворян! И кто?! Фельдфебель!..
Женился сын, родился Алесь. Ничто не изменило гордого одиночества старого князя. Только от сына он отдалился — сноха снова завела в Загорщине попа. Он видел их редко, раз в год-два.
Когда родился второй внук, он оживился. Ему показалась забавной новая идея. Отцовской властью он приказал, чтоб внука крестили в костеле.
— Народ разделили этой верой. Ссорятся, словно не одной матери дети. И каждый считает, что прав, когда рычит. Так пусть хоть два брата будут разной веры.
Вынуждены были сделать, как он хотел, и внуку дали имя Вацлав.
Однако ничего не изменилось.
Пышный и могучий обломок старины, он угасал, окруженный искусством, парками, удивительной скульптурой и музыкой.
Ему ничего не было нужно. Он знал людей. Он знал свет.
К этому человеку ехал теперь Алесь.
XV
На том берегу тянулась и тянулась Длинная Круча, Днепр в этом месте был прямой, как стрела, и, как стрела, мчался между берегами — высоким и низким. А круча на том берегу была самым удивительным из всего, что когда-нибудь он, озоруя, мастерил.
Длиною с версту и высотой саженей пятьдесят, ровная, словно по линейке проведенная, она была из кроваво-красной глины, твердой, как камень, неприступной ни для непогоды, ни для воды. И на этой круче корнями вверх кое-где висели сосны с золотистыми стволами и свежей хвоей, висели между небом и землей, изогнутые, перевитые, как связка змей, непокоренные в своем желании жить там, где не смог и не захотел жить никто.
За кручей и выше нее Днепр, разливаясь, делался шире. Круча сдерживала его, не давала прорваться вниз и смыть все на своем пути.
Косюнька ступала устало, но все еще игриво. И вот за кручей, за небольшим разливом, глазам Алеся открылись пригорки, на которых густо зеленел необъятный парк. А в парке, на гребне высокой гряды, сверкало что-то голубое.
За мостом дорога сворачивала и вела вдоль Днепра. Саженей через пятьдесят он заметил золоченую парковую ограду, словно свитую из стеблей и трав.
Ограда тянулась и вправо и влево, теряясь в зелени. А там, где к ней подходила дорога, были ворота, широко раскрытые в зеленый сумрак аллеи. Людей не было. Только где-то далеко, в кронах, мягко звучали какие-то струны, словно арфа. Алесь не знал, что за ним давно следят две пары глаз.
Постояв перед воротами, погладив Алму, которая привстала на луке, топча лапами хвосты двух уток, молодой всадник пожал плечами и направил коня в сумрак аллеи. Солнце было еще довольно высоко.
Откос, поросший вековыми деревьями, тянулся с левой стороны. В одном месте на него взбегала извилистым серпантином мраморная лестница с широкими ступеньками. Затем аллея повернула в широкий овраг, где буйствовало разнотравье. Еще с самого, как его называли, «большого сидения в крепости» за парком перестали ухаживать. Когда же сидение окончилось, деду так понравилось восхитительное сочетание труда садовника, который распланировал и до времени досматривал деревья, и шалости природы, освободившей их от угнетения ножниц, что он приказал оставить парк в покое. И вот теперь парк дико разросся, и в нем было удивительно хорошо. Среди буйствовавшего леса, слегка очищенного от сухостоя и сорняков, изредка попадались, только чтоб показать, что это не лес, то два-три диких камня над входом в пещеру, то зеленый амур, весь в искусственно возращенном на нем мху. Амур смотрел на всадника, приложив палец к устам, а у его ног было высечено на камне: «Chut!»[69]
Аллея забирала по невидимой дуге все левее и левее, и вот глазам открылся боковой двор дворца, жадно, словно клешнями краба, охваченный двойной колоннадой. В том месте, где она расступалась, золотились раскрытые створки ворот. И снова мертвая тишина. Песок двора ровный, и на нем ни одного следа. Как будто он так и лежит сто лет.
Посредине двора молча стоит мраморная, в натуральную величину, копия с флорентийского Давида.
Алесь соскочил с коня и начал отвязывать уток, спиной ощущая безлюдье и мертвую тишину.
Он не вздрогнул, он все время ждал этого и, все еще стоя спиной к голосу и отвязывая уток, ответил:
— День добрый!
Потом, держа уток в руке, обернулся на голос. На верхней ступеньке крыльца стоял человек.
Он был, пожалуй, саженного роста, могучий, но казался маленьким и одиноким посреди этого мертвого двора.
Человек стоял и смотрел на него спокойно, немножко иронично и испытующе.
Алесь протянул человеку уток:
— Это вам.
— Надеешься, что за день больше не съешь? — холодно спросил тот.
— Надеюсь.
Человек оценивал. У человека была седая грива волос, наперекор обычаям века не знавшая парика.
Неподвижно стоявший человек все смотрел на Алеся и оценивал:
«До чего похож на прадеда Акима! Даже жесты. Даже манеры. Даже голос. Волосы, правда, и у снохи каштановые, но это не от нее… Такие у Акима, у отца, были… И не изнежен… Соколятник, как прадед… Манеры только хуже, величия мало… Это уж от проклятого века… Все Акимово… Нет, не все… У того были синие глаза, а у этого серые, материнские… Значит, дрянь внук, потому что это женщине подходит, а мужчине, да еще Загорскому, н-нет… Будет, как сынок, ни теплый, ни холодный… Да еще, храни господь, в церковь потянется… К крысам, к Курьянову племянничку, капралу…»
И, словно сразу утратив всякий интерес к Алесю, человек сказал:
— Так тому и быть… Идем, князь…
Это «князь» прозвучало ровно, спокойно.
Вежа бросил уток на ствол пушки и пошел впереди, вытирая ладони. Пошел, не интересуясь, идет за ним внук или нет.
Косюнька осталась посреди двора, и только Алма побежала за дедом, изредка оглядываясь на своего хозяина, словно не понимая, что связывает его со стариком и что вообще нужно с этим дедом делать — кусать за ноги или поджимать хвост…
— Собака?… Кто позволил?
— Никто, — сказал Алесь, глядя прямо ему в глаза. — Я подумал, что если вы не хотите видеть людей, так, может, собака хоть немного будет разнообразить наше времяпрепровождение.
— Пожалуй, ты прав, — сказал старый князь. — Собачья низость не так бросается в глаза. Она — врожденная. Довольно милая собачка.
Вышли из туннеля, и тут глазам открылся партерный фасад дворца, огромный, трехэтажный, с круглым бельведером, покрытым золотом.
— С южной стороны фасада есть каскад, — сурово сказал князь. — Сотня статуй. Некоторые с механизмами. Не будешь досматривать, загубишь — грош тебе цена.
Алесь молчал. Ему не хотелось разговаривать с этим человеком. А князь, казалось, не замечал этого.
Четвертая балюстрада кончилась над обрывом. Вниз вели ступеньки, мимо которых проезжал Алесь. А дальше аллея, берег Днепра, бесконечная даль.
…Князь торопился. Он уже жалел, что решил познакомить этого чужого человечка с его будущими владениями.
Это было утомительно.
— Надумаешь приехать… по неотложному делу — сразу же приезжай, — сухо сказал князь.
— Вряд ли надумаю приехать.
— Это почему?
— Дома веселее.
— Возможно. Но забавлять тебя мне, пожилому человеку, не к лицу. В мои времена дворяне твоего возраста валили диких кабанов… У вас вместо этого, кажется, церковь? Есть она?
— Есть.
— Тебе, конечно, там интереснее. Приедешь — поставь там за меня свечки Курьяновым святым Кукше да Сергию, да еще какой-нибудь святой Матрене-мокроподолице.
— Поставлю, — сухо сказал Алесь. — Почему не оказать услуги тому, кто верует?
Удар был несправедлив, под самое сердце, но мальчик не знал этого.
Князь, поджав губы, посмотрел на него, но ничего не сказал.
Строгое здание с узкими окнами стояло в парке, примыкая к площадке, обнесенной каменной стеной.
— Мой арсенал, сказал Вежа. — Оружие, как говорят, со времен Гостомысла и до наших дней. Здесь его чистят, берегут… Здесь учат — в этом дворе, за стеной, — лошадей, чтоб не боялись выстрелов… Все это никому не нужно… Как все на земле.
…В арсенальном зале произошла стычка.
Князь показывал сабли, старые мечи, кинжалы, корды. И вот одна сабля, легкая даже на вид, с ножнами, инкрустированными красной яшмой и медовым янтарем, показалась Алесю такой привлекательной, что он потянулся к ней и начал ощупывать инкрустацию руками.
Князь терпеть не мог этой привычки.
— Поздравляю, — сказал он. — Это тебя в дядькованье научили таким манерам, чтоб все лапать? Да, может, еще, поплевав, и потереть полой свитки?
У Алеся вспыхнули щеки. Трогать можно было все, кроме его мужицкого прошлого. Мальчик поднял глаза:
— А почему б и не взять в руки?
— Это инкрустация.
— Это сталь, — сказал Алесь. — Все остальное — только довесок к ней. А его может и не быть.
— Это парадное оружие, — сухо объяснил старик. — Украшение.
— Оружие не может быть украшением.
— Ого! — сказал князь. — Где же это ты научился уважению к оружию?
Алесь смотрел прямо в глаза этому человеку, которого он, кажется, начинал ненавидеть.
— У мужиков, — сказал он. — У тех, у кого его мало, но оно все при деле.
— При де-еле, — протянул князь. — Господские дрова рубить.
— Мало ли что оно может рубить, — сказал Алесь.
Холодная ярость звенела в его ушах. А князь подбавлял огня:
— Если б оно при деле было, как ты говоришь, не сидели б мы здесь с тобой. Так что ты мне своих чернопятых не хвали.
С огорчением покачал головой:
— Отдали, называется. Одно любопытно было б знать: чему тебя там для души научили? Во что ты веришь, кроме «ударит пан по щеке — подставь другую»?
— Я верю в коня святого Миколы, — побледнев, сказал Алесь. — И я пойду при этом коне…
— Я много видел молодых людей, смелых на язык, — сказал дед. — Они, к сожалению, не были смелыми в деле. Он «при коне»… А ты не боишься, что этот конь тебя лягнет? Он знает своих.
— Он знает тех, кто умеет ездить…
Они вышли из арсенала во внутренний двор и остановились у входа в круглый манеж.
Как раз в этот момент несколько конюхов вывели из конюшни коня. Они часто семенили и натягивали веревки, не давая животному возможность броситься в сторону или повернуть голову и схватить зубами.
Конь дрожал от ярости. Маленькие уши были прижаты, белые ноздри раздуты. Он вырывался, но те, которые так обидно унижали его, туго натягивали веревки.
— Тромб! Тромб![70] — ласково позвал дед.
Один из конюхов издали обратился к князю:
— Сбил всех и залетел в конюшню. Как услышит выстрел, сходит с ума.
— Попробуйте несколько дней стрелять почти беспрестанно, пока не отупеет.
— Пробовали, княже.
— Попытайтесь еще. Иначе какой же из него конь? Татарам разве на махан…
Послышались выстрелы. Животное приседало на задние ноги. Благородный белый дрыкгант, весь в мелких черных пятнах и разводах, как леопард.
— Отпустите! — неожиданно крикнул Алесь. — Вы что же, не видите? Он не хочет.
— Помолчал бы ты, — сухо сказал князь, — христианин.
— Так он ведь не хочет. Он протестует! А они не могут понять!
— А ты можешь? — спросил князь.
Алесь опустил голову. Все было кончено. Унижение несчастного Тромба завершило все. Он ненавидел этого человека всей силой своей молодой ненависти. Да, он не мог. Но в чем виноват Тромб?
Тромб вдруг бросился в сторону, дал свечку, и люди сыпанули кто куда — кто на стену, кто в конюшню, только ворота хлопали.
Поле битвы в мгновение ока осталось за конем. А он то бил передними копытами в ворота, то носился по манежу…
Князь почувствовал какую-то пустоту и обернулся…
…Алеся не было рядом с ним. Мальчик подлез под жерди. Он был уже почти на середине манежа. Шел к коню, тоненький и совсем маленький на пустом ослепительно белом кругу.
Поздно было крикнуть. Поздно броситься на помощь. И Вежа только впился пальцами в волосы.
Разъяренный конь заметил нового врага, стрелой метнулся к нему и вскинул в воздух передние копыта.
Князь не закрыл глаз, просто у него на миг потемнело в глазах. Сейчас опустятся копыта… Он сам не помнил, как ноги перенесли его под жерди, на помощь, на бессмысленную помощь.
Конь опустил копыта… на опилки. Мальчик стоял почти между его ногами. Шея коня была закинута, глаза смотрели сверху на человечка, и оскаленный храп был в нескольких вершках от лица Алеся.
Над манежем висела звонкая тишина. Крикни — и все сорвется. И в этой тишине ласково-печальный мальчишеский голос нежно пропел:
— Не надо… Не надо…Тромб…
Трудно сказать, как это произошло. Может, конь устал, может, понимал, что нельзя трогать слабого подростка. Но он отвел храп и громко фыркнул.
Мальчишечья рука протянула ему на ладони кусочек сахара. Конь снова прижал уши: у людей за сахаром всегда следует плеть.
— Возьми, Тромб, — спокойно сказал человечек, и в голосе его теперь не было печали. — Возьми… Ну…
Тромб покосился. Мальчик был маленький и не страшный. И это белое на ладони…
Конь потянулся и взял сахар. Алесь почувствовал ужасную слабость.
Князь подошел к нему, и Алесь сказал глухим, чтоб не расплакаться, голосом:
— Прикажите привести мне мою кобылку… Я хочу домой.
Глаза их встретились. И одним этим взглядом старик постиг душу ребенка.
— Прости меня, сынок, — сказал он. — Прости…
XVI
Они шли рядом, рука к руке. Ничего не изменилось. Только мальчик все время спрашивал, а старик все время отвечал. Только теперь князь чаще употреблял мужицкие слова, употреблял без нажима на акцент, не огрубляя их, спокойно и естественно. Конюхи, когда старый и малый уходили из конюшни, растерялись. Не было никакого приказа о Тромбе. А Тромб, словно боясь остаться один, осторожно пошел за мальчиком, косясь на людей. И тогда старик обернулся.
— Коня в стайню, — сухо бросил он слугам, — двойную норму овса и фунт сахара ежедневно. Кстати, — добавил он, — я не прочь попробовать утиного мяса. Прикажите, чтоб зажарили в испанской подливе, с гвоздикой.
Все удивились: князь терпеть не мог утиного мяса и гвоздики. Из дичи он любил только куликов, да и то под мучной местной подливой.
Все было по-прежнему. Только ненависть мальчика уступила место настороженности. Он не понимал этого старого человека.
А князь шел и, не замечая настроения мальчика, говорил:
— Любишь коней? Это хорошо… Что, отец все со своей винокурней?… Ага… хвалил, говоришь, свое хозяйство? Напрасно… Погибель эти винокурни, вот что.
Шли тем же самым неухоженным парком, где лишь редкие статуи иногда напоминали, что это парк.
Натолкнулись на озерцо, окруженное высокими искусственными скалами и потому тихое и сумрачное, как озеро мертвых. Дед достал из грота два ружья.
— Видишь на том берегу белый камень?
— Вижу.
— Попробуй попасть.
Алесь попал двумя пулями из трех, — видно было, как отлетели каменные осколки.
— Неплохо, — сказал дед. — А теперь давай я.
И начал целиться. Мертво лежала гладь глубокой, спокойной и прозрачной воды. И тут Алесь заметил, что ствол ружья неуклонно и твердо опускается и теперь глядит прямо в воду, в которой неподвижно стоит отражение черных скал и белый кружок камня-мишени.
— Куда вы? — спросил Алесь.
Вместо ответа старик нажал на курок. Так и есть, ниже, потому что брызнула вода. Но одновременно — Алесь даже удивился — от камня полетели осколки. Второй выстрел. Третий. Четвертый. Все то же.
— Тебе надо тоже научиться, — сказал дед. — Я целюсь в отражение на воде, а пуля попадает в настоящую цель, рикошетом, отскочив от поверхности.[71]
— Зачем это? — удивился Алесь.
— А затем, что плох тот стрелок, который хорошо стреляет лишь днем. Надо уметь стрелять и ночью. Во тьме ты часто не видишь врага, который идет противоположным берегом, а отражение хорошо видишь.
В небольшой разрыв листвы Алесь увидел над парком и выше всего вокруг пригорок с лысой вершиной, а на нем что-то розово-оранжевое, вознесшееся прямо в небо своими колоннадами.
— Храм солнца, — сказал дед. — Он дольше, чем все в округе, видит солнце. Но туда мы не пойдем. Там могила моего лучшего коня, звали его Эол. Все его дети и внуки не то.
— Может, не знали, как к Тромбу найти подход?
— Может, и так… Хочешь — себе возьми… И… к выстрелам все же приучи…
— Не знаю. Когда же я за это возьмусь? — сухо спросил Алесь.
Князь молча шел рядом с внуком. Лицо его было спокойным и даже безразличным. И никто не знал, не мог бы догадаться, что после случая с Тромбом в душе князя пела радость.
«Мой… Гордый, обиды не простит… Не сына, не кроеровской крови… Мой».
А вслух сказал безразлично:
— Ну, смотри, как хочешь… Там, за Жерелицей, березовая роща… Там, ближе к дому, тоже над речушкой, мой театр… Ну, а сейчас пойдем ужинать, потом будем смотреть трагедию. Ты никогда не видел театра?
У Алеся сильно забилось сердце. О театре ему рассказывали. Отец и мать видели театр много раз в больших городах — в Могилеве, Вильне, Петербурге.
— Надо только быстрее… потому что… завтра же мне ведь рано ехать.
— Ты завтра не поедешь, — сказал старик.
— Почему это? — Алесю сразу вспомнился обычай князя закрывать на замок лошадей. — Мне надо.
— Если надо, так надо, — безразлично сказал князь. — Но дела прежде всего… Завтра надо еще комнаты во дворце осмотреть, картинный павильон. И самое главное — секретарь мой на неделю уехал, женится; чужим мои дела доверять нельзя, и я думал, что ты сможешь мне помочь. Почерк у тебя хороший?
— Плохой.
— Тем лучше… Терпеть не могу людей с хорошим почерком… Да, наконец, что я? Ты же мне помочь не сможешь.
— В чем?
— Да я, как бы это сказать… составляю «Записку о властях… земных и небесных. Опыт… рассуждения неверноподданного… о верноподданных».
Никто в мире не мог бы заметить, что князь дурачится, так сух был его тон.
— Это интересно, — вежливо сказал Алесь.
— Ну вот. Я думал, ты смог бы меня выручить… дня на — гм! — четыре… Я знаю, тебе будет скучно со мной. Но дело есть дело. Три часа в день — ему. В остальное время — делай что хочешь…
Князь обмахнулся платком, незаметно прижимая его ко рту, чтоб не рассмеяться…
— И еще, — врал он, — теперь пойдут дни репетиций. Надо посмотреть весь репертуар этого года. Завтра идет «Федра». Послезавтра опера — «Волшебная флейта» и еще что-то вроде добавления к ней, «Мятлушки[72] весенней ночи» — это балет. В следующий вечер должен идти «Дубина, полесский разбойник, или Чудеса заброшенной мельницы», потом «Сид», «Ричард Третий», или история о том, как злодей король утопил брата в бочке с мальвазией… Ну, словом, много. Еще пять пиес.
Князь нарочно прибавил к названию знаменитой трагедии длинную тираду, чтоб было интересно. Потом закончил:
— В конце концов, как хочешь… Если тебе срочно надо в Загорщину, я не буду тебя удерживать. Завтра же прикажу оседлать твою кобылку, и поезжай.
Сердце Алеся разрывалось между гордостью и возможностью посмотреть все, чего он еще не видел. Гордость наконец не так и мучила теперь, потому что тон князя изменился и из суховато-издевательского сделался почти миролюбивым. И мальчик вздохнул:
— Я думаю… родители простят меня, когда узнают, что я остался.
Князь сделал вид, что считает по пальцам:
— Сегодня… «Федра»… «Флейта»… так… Ого, четырнадцать дней! Наверно, ты столько не выдержишь… Да и мне… Ах-ах! Вот неудача какая! Но вернется секретарь, будет легче. И обещаю тебе: после двух недель делай что хочешь… А хочешь — и раньше.
— Я думаю… я смогу остаться на столько. Надо же помочь.
«Ах, черт, — думал князь, — ах какой стригунок гордый!.. Ну, я уж тебя взнуздаю, если понадобится… Это же подумать, сколько он меня заставляет возле себя прыгать!»
За столом кроме них сидела еще женщина лет под сорок, видимо та самая, которую доезжачий Карп, не заметив Алеся, назвал как-то «последней метреской» князя.
В слове «метреска» было что-то таинственно-предосудительное, но — удивительно! — Алесь сразу и думать об этом забыл, как только увидел «метреску» своими глазами. Такое спокойствие было в ее движениях, такой красотой светилось это доброе лицо. Только подумалось, как это хорошо, что она такая простая.
— Поешьте, батюшка, вдосталь, — нараспев сказала она вместо молитвы. — И вы, княже, ешьте без сомнения.
Князь выпил чарку — она закачалась на столе круглым донышком, совсем как ванька-встанька, — и закусил рыжиками свежего засола.
— Да-а, — сказал он. — Христос по душе босиком прошел. Слышишь, Евфросинья Глебовна? Мы сегодня в театр идем… к девчатам.
Искоса смотрел хитрым оком.
— Вот и хорошо, — с улыбкой сказала она. — Тогда я распоряжусь, чтобы вам праздничный наряд подготовили. Девушки любят, когда кавалеры хорошо одеты.
— Может, пойдем вместе, Евфросинья Глебовна?
— Что ты, батюшка! — подняла она руки. — Грех такой! Да и страшно. Люди ножами режутся. Гром гремит. А я грозы боюсь.
Князь пожал плечами.
…В здании театра царил полумрак, лишь изредка бесконечные коридоры освещались свечками в жирандолях…
В фойе с мраморными бюстами и статуями муз пахло духами и еще чем-то таинственным. В проем дверей был виден темный зал, занавес, освещенный снизу и потому словно живой, слышались звуки скрипок.
В темноте и незнакомых запахах готовилось какое-то таинство, потому что все напряженнее звучали, а потом вдруг смолкли скрипки и виолончели. И это называлось «Горислава и Людомир».
Поднялся занавес. За ним лежал «древний Могилев» с храмами и колоннадами. И все это тянулось метров на пятьдесят — такой глубины была сцена. А дальше, уже нарисованная, возвышалась городская стена и за ней Днепр, похожий на море. На сцене стояли воины и о чем-то спорили, размахивая мечами. И так красиво они говорили стихами, что к городу приближается враг — войско во главе с князем Людомиром. А дочь могилевского князя Горислава все последние дни печальная и плачет.
И все же Алесь ожидал чего-то еще лучшего.
…На сцену в длинном блестящем плаще вышла девушка лет восемнадцати. У нее было бледное лицо с огромными глазами. Они были больше, чем у всех людей на земле…
Алесь не знал, что он присутствует при чуде, большом даже на фоне этого хорошего театра, на фоне исключительной для крепостных игры других. Он просто почувствовал, как от первых звуков ее голоса мурашки пробежали по спине.
Вот гонит ночь златых плеяд узоры, Как сонмы кораблей в угрюмом море, Враждебных кораблей. Ах, вижу, вижу я: Она плывет сюда, погибель уж моя!Неровные, то неплохие, то до ужаса бездарные слова — это уже не имело значения… Они были из ее уст, и эта девушка в своем блестящем плаще была выше всех остальных.
Ветром веяло со сцены, таким ветром, что волосы на голове вставали дыбом.
Была битва. Страшно и неустанно гремел гром. Сверкали молнии, освещая на сцене горестную фигуру.
А дед искоса поглядывал на внука, на бледное лицо, на руки, что впились в бархат барьера, и только качал головой.
…Гремел гром. А за стенами шло сражение. И Людомир, которого Алесь еще не видел, но знал, что он хороший, временно отступил. А потом была их тайная встреча. А потом извивался, как червь, рассказывая об измене, и шипел, как змей, перед могилевским князем омерзительный дружинник Щур.
— Как же тебе не стыдно? Плохой ты! Злой человек!
Актеры встрепенулись.
И тут… Она забылась и взглянула на него. Князь крякнул от досады, решил отметить этот недостаток.
— Она посмотрела на меня, — шепотом сказал Алесь. — Посмотрела.
Крик Алеся, казалось, заставил ее играть еще лучше. В чертах лица была смертельная боль. А голос срывался, и нестерпимо сжимало сердце.
О рабство! О мой лютый рок свирепый!
Вы горше смерти, угнетенья цепи!
И гаснешь, гаснешь в клетке золотой
Ты никому не нужной сиротой.
Оковы рабства на руках, как змеи,
А за стенaми теплый ветер веет.
А за стенaми мир! Сады! Поля!
Голос ее сник, и тут старый князь почувствовал, как затряслось от рыданий тельце рядом с ним.
— Мальчик мой!.. Это ведь выдумка! Хочешь — она придет и утешит тебя?
— Нет! Нет! — И непонятно было, не хочет он, чтоб его утешали, или просто не верит, что это выдумка.
Благородный Людомир, узнав о страданиях любимой, явился в город, оставив флот, чтоб освободить ее или разделить с ней судьбу. Обоих разрывали страсти — любовь к родине и любовь друг к другу.
Влюбленные стояли на кострах из бревен, которые вот-вот должны были запылать.
О, мой любимый, близится кончина!
Яркие языки пламени охватили ее. А над пламенем сияли ее глаза.
…Дед сам отнес его в комнату рядом со своей, вместе с Глебовной раздел его.
Алесь лежал, бессонно глядя на огонек ночника. Спать он не мог. Что же делать потом? Как жить без этого? Он кончит помогать деду и станет ему не нужен. И тогда снова… видеть его раз в год, как родители.
Спустя какой-то час он услышал в коридоре голос деда, который наставлял повара:
— Коптить фазана будешь, как всегда, на деревянных опилках с сахаром. И чтоб тушки не соприкасались! А индюка, прежде чем резать, напои допьяна, за полчаса влей в рот ложку водки — мясо будет вкуснее.
Дверь в спальню отворилась. Дед вошел и присел у кровати.
— Не спишь? — спросил он.
— Не-е-т.
— Все мучаешься?
Дед молчал, и тень от его головы склонялась все ниже.
— Хочешь остаться со мной?
— А родители?
— Ну, приезжать будешь, когда захочешь…
— Хочу.
— Ну вот. А я стал ленив на доброту… Все думаешь: может, в другой раз. А так нельзя!.. Я все обдумал. На всех актеров — завещание, что они будут вольными после моей смерти. А ей — вот он, — и дед показал желтоватый лист бумаги. — Завтра она может идти, куда хочет.
— И она может?…
— Здесь сказано: хочет — пусть уходит, хочет — пусть остается в моем театре, играет уже как вольная.
Алесь приподнялся и схватил дедовы руки.
— А теперь иди отнеси сам…
…Он мчался ночным коридором, и эхо повторяло его шаги. Бросился в дверь и побежал переходом над аркой. Загрохотали шаги по винтовой лестнице, ведущей на антресоли.
…Он неожиданно тихо постучал в дверь…
Дверь отворилась, и он увидел женскую фигуру в длинном ночном халате, волосы, стянутые лентой, и глаза.
В этих глазах и теперь жила печаль, но они немножко потеплели.
— Заходите, — сказала она.
…Простой туалетный столик, две свечи на нем. Раскрытая книга.
— Садитесь.
Все было обычным. И все же за этой комнатой он видел осужденную и пламя костра.
Покраснев, протянул ей бумажный свиток.
— Что это?
— Прочтите. И не бойтесь тюрьмы. Я вас защищу.
Она с улыбкой посмотрела на него, такого наивного в своей вере. Что мог сделать он?
Потом развернула свиток и с той же снисходительной улыбкой начала читать.
Улыбка исчезла. Страшно бледная, она смотрела на него.
— Старый князь пишет, что он освобождает меня по вашему желанию.
— Если он так пишет, значит, он добр ко мне.
И тут он увидел ее глаза. Что произошло, он не знал, но это были совсем другие глаза, не те, что были на сцене.
Молчание царило в комнате. А за полукруглым окном лежала глубокая ночь.
— Благодарю вас, — сказала она. — Я этого никогда не забуду. Никогда…
Ему это было не нужно. И он, чувствуя, что слезы вот-вот снова брызнут из глаз от восхищения и жалости, повернулся и бросился из комнаты.
XVII
Утром солнце пробивалось сквозь плющ на огромную террасу со стороны фасада. В вольерах ссорились и кричали попугаи.
Дед сидел в кресле. Перед ним дымилась чашечка шоколада и стояла бутылка белого вина. В стороне сидела с коклюшками Глебовна. А перед Алесем, рядом с чашкой шоколада, лежали листы бумаги цвета слоновой кости, стояла в чернильнице китайская тушь. Дед в этом отношении был большой сноб: если уж писать, то чтоб было приятно — лоснящимся черным по гладкой желтоватой бумаге, тогда пишется что-то толковое. «Современные писаки потому и пишут лишь бы как, не придерживаясь стиля, что перед ними корявая бумага и черт знает какие перья — скребут и скрипят».
А перья были особенные: гусиные, тонко заточенные, мягкие, всегда из левого крыла, чтоб удобно было держать в руке.
Дед пригубливал вино и начинал диктовать, будто забавлялся новой игрой, но так, что этого нельзя было заметить:
— «Рассуждения о преступлении и наказании…»
Перо у Алеся начинало бегать.
— Не спеши, — говорил дед. — Выслушивай и записывай самое главное… Так вот, мы остановились на несоответствиях между человеческими законами и естественным законом природы…
Дед думал с минуту.
— Человек следует законам природы лишь в худшем. Он карает смертью даже за то, что природа прощает по милости и жестокости своей… А между тем, безусловно, смерти подлежит лишь одно преступление — издевательства над человеческой душой, пытки над человеческим телом… Сюда надо отнести насилие над женщиной…
— Батюшка, — с укором сказала Глебовна, — ему рано.
— Молчи… Завтра я, может, умру, так и не дождавшись, когда ему будет «время». Пусть слушает. Он не поймет этого дурно…
— Тебе лучше знать, — примирилась она.
— Вы говорили, что в Пивощах стреляли, — сказал Алесь. — Что атаман Пройдисвет убивал от голода… Тогда и… нас…
— Возможно, сынок.
— Ба-атюхна мой! — вздохнула Глебовна. — Вы же не ударили никого за всю жизнь.
— Он рассуждает умно, матушка, — сказал князь. — Я не ударил, но мое положение таково, что я могу ударить человека, который не может ответить. Значит, разница небольшая.
— Вы барин милосердный.
— В милосердии и дело все. Милосердный. Осчастливил. А его сын, скажем, будет немилосердный. Или мы погибнем во время грозы на Днепре. Все.
— Свят-свят! — крестилась Глебовна. — Вы что-то ужасное говорите.
— Правильно, дедуля, — сказал Алесь. — Я и сам это думал. А потом придет какой-то Кроер.
— Вот, — продолжал дед. — И потому мы, независимо от наших хороших качеств, участвуем в одном огромном преступлении, имя которому… Российская империя.
Старый вольтерьянец улыбнулся. Зеленая и солнечная тень лежала на его лице, а в вольерах далеко и приглушенно кричали птицы.
— Почему же не изменить этого? Есть понимание, есть желание, есть оружие.
— С кем изменишь, сынок? Если б было с кем, я первый благословил бы тебя на это, — грустно улыбнулся старик. — Не с кем. Погоны, ордена, привилегии развратили почти всех. Это подлость. Это замаскированные взятки, которыми покупают жадных к почестям и просто нечистых людей. И вот потому я говорю тебе это, чтоб ты не был похож на них. Никогда не бери приманки, никогда не бери славы и власти, даже если тебя силой будут тянуть к ним. Никогда не иди в совет нечестивых, блажен муж.
Сияло солнце, заливались птицы в тени деревьев и вольерах.
— Не с кем, сынок… Времена… Ровесник Шекспира имел возможность видеть большинство прославленных английских драматургов. Ровесник царя — чуть не всех мерзавцев и подлецов мира, потому что и в том и в другом случае существовали условия, которые благоприятствовали их появлению и развитию. Короче — какая эпоха, такие и таланты.
— А мы? — спросил Алесь.
— А что мы? Историю Приднепровья должен был бы писать палач. Он имел возможность наблюдать за кончиной всех сколько-нибудь значительных людей твоей и моей родины. И он был бы самым просвещенным, потому что лишь он один мог знать, сколько тайных заветов передали они плахе своими обескровленными губами… Больше никто не знал. Больше никто не слышал…
Алесь давно бросил записывать. Но старик не замечал этого.
— Вот, скажем, знаменитые Царь-пушка и Царь-колокол… Это пренебрежение законами природы и механики, пренебрежение сознательное, пренебрежение во имя царской глупой спеси, во имя варварского стремления удивлять всех размерами, величиной, весом… Сотни людей страдают, добывая железо и медь, задыхаясь от дыма у форм… И все ради того, чтоб пушка не стреляла, а колокол лежал на земле, не выдерживая своего веса, и не звонил…
Алесь, вначале очарованный этой желчной логикой, понемногу начал сопротивляться:
— Есть ведь оружие, чтоб воевать. Можно убеждать, спорить, собирать друзей…
— Это значит — политика? — спросил старик.
— Как бы ни называлось.
— Политика — грязное дело. Ты знаешь, в чем она, политика?
— Наверное, есть и хорошая политика.
— Кто это тебе сказал? Те, что украшают свои делишки павлиньими перьями? А сами они, говоря красивые слова, что делают? Ты на их дела смотри — волки. Mon fils, il n'y a qu'une politique, c'est de tenir le pot de chambre a l'homme au pouvoir, et de le lui verser sur la tete, quand il n'y est plus.[73]
И князь отодвигал бокал. Поднимался.
Потом вместе шли гулять. Осматривали комнаты, залы для балов, малых приемов, греческий зал для античных статуй, египетский для монет, затем самый большой, версальский, — для фарфора и новых картин.
Осматривали жилые комнаты, которые были вдвое ниже парадных, осматривали библиотеку с бесконечными шкафами, в которых чернели древними досками и золотились новым тиснением бесчисленные книги.
И всего этого было так много, что становилось не по себе. Зачем это? Сразу понятно, почему здесь почти не живут, почему отдают предпочтение комнатам, которые вдвое ниже и уютнее.
Вечером Алесь шел в театр и там смеялся, и оплакивал горестную судьбу Аглаи из «Полесского разбойника», и дрожал от жалости и печали, когда в «Ричарде III» урод король, убив Ее мужа, с дьявольской хитростью обманывал Ее. Она стояла, гордая в своей ненависти, и понемногу тот горбун пробуждал в ней гордость женщины, которую любят. На глазах у Алеся рождалась любовь, о которой он лишь смутно слышал… В Ее влажных глазах, тускло освещенных ненавистью, рождался целый мир — доверие, боль, а за ними свет самих небес…
Он еще не мог сдерживаться, и потому в зале часто звучали его рыдания. И люди на сцене чувствовали, что один благодарный зритель заменяет им полный зал.
Когда спустя много лет знаменитую актрису спрашивали, помнит ли она дни, когда играла лучше всего, и кто это видел, она отвечала:
— Помню. Но этого никто не видел. Только один. Вся остальная моя игра — подделка под те дни. Лишь для одного я могла так играть.
— Где же он, этот счастливец?
— Счастливец?… Нет…
Она больше ничего не говорила. И неизвестный «один» стал легендой.
Нельзя сказать, что у него не было огорчений. Как-то дед рассказал, как два года тому назад нескольких «фалангистов» закутали в саваны и, привязав к столбам, держали с мешками на головах долгое время под дулами ружей, а потом загнали в Сибирь. Это было в Петербурге, и среди «фалангистов» был писатель. Как не прочесть такого? У деда нашелся журнал с его повестью. Повесть называлась «Бедные люди», и Алесь, с трудом осиливая язык, прочел ее за два дня…
В эти дни как раз окончился срок, назначенный дедом. Алесю надо было ехать. Дед ходил мрачный, да и Алесь не находил себе места. Дед, узнав внука за эти дни, теперь ужасался, что мог оттолкнуть его в первый же день. Все свои черты, все черты людей, которых он уважал, он предчувствовал в этом человеке. Вежа видел во внуке самого себя, только неизмеримо улучшенного, и гордился этим.
Накануне старик не выдержал:
— Едешь? Наверно, рад?
— Дедушка… — с укором сказал внук.
— Едешь только на несколько дней… Конечно, родители… Но за твоей наукой буду следить я. По крайней мере год-два, пока мне не станет трудно. И когда я захочу тебя видеть, по первому же моему зову ты должен лететь сюда и жить столько, сколько я захочу.
— Я сделаю это… — ответил внук.
Алесь попросил деда дать ему с собой журнал, чтоб показать повесть матери.
— Здесь все твое, — мрачно сказал старик. — Сделай одолжение, никогда не спрашивай.
…В Загорщине мальчика встретили радостно, даже с гордостью — он смог завоевать сердце старика. Синие глаза отца сияли теплотой, мать улыбалась сыну ласково и грустно, как всегда.
Молча прочла повесть и опечалилась. Потом она сидела в загорщинском архиве и что-то искала по «Привилегиям», «Бархатной книге», «Серебряной книге Загорских» и по грамотам и явилась к ужину немного успокоенная, словно поняв что-то…
— Погубили гения, — сказала она.
Алесь молчал.
— Даже если вернется, то вернется изувеченным, — продолжала мать. — Что же это за подлый век! Человек такой впечатлительности, разве он выдержит?
Она подошла к балюстраде и стала смотреть в темный парк.
— Погубили не только гения, — сказала она наконец, — погубили человека одной крови с нами и нашего дальнего родственника.
— Родственника? — Алесь встрепенулся. — Как родственника? Все говорили, что он сын лекаря.
— Из наших, — сказала мать. — Род старинный, но пришел в упадок. Я думала, и не осталось из них никого. Однако есть. Их майорат — Достоево под Пинском, и они оставили его, обеднев, лет сто назад. Они от «сына любви» одного из Загорских, младшая, боковая наша ветвь. А их герб — «Радван».
— Не может быть.
— Смотри. — Мать развернула лист с выписками. — Слишком знакомая фамилия. Смотри: шестнадцатое столетие, ответвление «Радвана»; тысяча шестьсот седьмой год — процесс Марины Достоевской-Карлович… Смотри — вот ее брат Ярош сидит в Мозыре. Тысяча шестьсот тридцатый — Достоево имеет уже трех хозяев. В том самом году судья Петр Достоевский рассматривает дело о колдовстве. Тысяча шестьсот сорок девятый год — крестьянин на «копном суде» признался в ограблении, учиненном в имении Романа Достоевского. А вот март тысяча шестьсот шестидесятого года — дело о пропаже вещей, закопанных в землю во время нашествия врага. Подписался Ян Достоевский. Первая и единственная подпись по-польски…
— Д-да-а, — сказал Алесь.
— Значит, конец «Радвана». Оборвался род. Сколько уже их, отрубленных ветвей… Да разве топор жалеет? А молодой человек был бы светочем человечества.
…Спокойное течение жизни в Загорщине прервалось свадьбой старшего сына Когутов, Стафана. Мать за два дня до свадьбы отпустила Алеся в Озерище.
Повеселились вдоволь. Все были рады Алесю. Снова шутил Кондрат, снова ласковыми, немножко женскими глазами смотрел Андрей. Михал и Марыля не знали, куда усадить парня. Павлюк, хозяйственный Павлюк, показал ему все, что он заимел за то время, пока они не виделись: настоящую кожаную пращу, лосиный череп с рогами и пещеру, которую он нашел в овраге, на берегу Днепра. Яня хотела сидеть только у него на коленях, Юрась показал ему два заветных грибных места.
Это была простая, нетребовательная любовь. И он окунулся в нее, платя тем же, как окунулся с благодарностью в песни, которым его начал учить дед Данила Когут. Тоже Данила, как и тот. Так в чем же, наконец, разница? Этот дед не родной, но тоже близкий и простой. А его песни — чудо! И язык его легкий, привычный. Старый Вежа иногда говорил по-мужицки, но как сложно это было! А здесь было просто, как дымный овин, просто, как звезды сквозь дырявую стреху сеновала.
Гнали и настаивали «трижды девять»,[74] варили пиво, собирали грибы на свадебный квашеный борщ. Яня ходила вся в муке и поправляла, как мать, платочек тыльной стороной ладони. Кондрат лизнул еще теплого пива и делал вид, что он такой пьяный — просто ужас, и все хотел сесть на голову, как это делают совсем глупые щенки.
Накануне свадьбы решили наловить рыбы, чтоб и рыба была на свадебном столе. Юрась и Павлюк должны были ловить удочками, близнецы — топтухой, одолженной у Лопат, Алесь и Стафан — бреднем.
Душегубок напросили у соседей целых пять штук (Павлюк и Алесь должны были плыть в одной) и отправились ловить в затон у Лысой Горы.
Это была воля!
И разве сам Алесь не был все эти дни вольным среди вольных? Разве не мог он ответить песней на песню, которую пел кто-то в лугах, на берегу старицы? Разве не было и в нем чего-то от этой реки, от полета аистов?
Мысль была неожиданной, и он словно вырос.
…Челны плыли у самого берега. А на берегу стояли девушки. Нет, не все девушки: у одной на голове поверх платка был женский белый наголовник, который лежал тюрбаном и спускался на плечи и шею, оставляя открытым одно лицо.
Алесь даже удивился, какие они все были красивые и почему-то не такие, как всегда. Сегодня он не мог бы запихнуть кому-то из них за ворот майского жука, чтоб послушать, как девушка будет визжать. Он смотрел на них какими-то новыми глазами. Все в пестрых домотканых юбках со складками, в разноцветных шнуровках, которые так ловко и совсем по-новому стягивали их фигуры.
Павлюк, который греб с Алесем, сказал тихо:
— Озерищенская только одна. Остальные из Витахмо. Видно, на фест, идут в Милое. А вон та с ними — Владька, солдатская вдова. Наверно, к парому идти не хотят.
Девушки и в самом деле махали руками.
— Дяденька, перевезите!
Кондрат, который плыл первым, начал тормозить, пропуская вперед Стафана. Зубы у Кондрата сверкали: предчувствовал веселье.
— Нельзя, девки, — сказал Стафан. — Видите, душегубки.
Солдатская вдова хмыкнула:
— А может, я и хотела б с тобой душу загубить, соколик?
— Раньше бы… — сказал Стафан. — Теперь… поздно.
— Ну и сокол ты! Поздно ему, горемычному.
— Дяденьки, милые, перевезите. Не ночевать же нам под кручей.
— Утонем, девки, — рассудительно сказал Стафан.
— Тот не утонет, кто висеть должен, — ответила вдова.
Нерасторопный на язык Стафан лишь покачал головой.
— А то перевез бы, — сказала Владька. — Под дубом посидели бы… Желудь нашли бы…
— Что я, свинья? — нашелся Стафан.
— Свинья не свинья, а так, подсвuнок, — a сказала вдова.
— Нaсвинок, — сунул свои три гроша Кондрат.
— А ты уж молчи, — ответила Владька. — Возится там в своей топтухе, как воробей в вениках.
На Кондрата посыпался град незлых насмешек.
— Ах, какие же вы все удалые хлопцы… бaтьковичи какие видные. Особенно этот, с подковой на лбу…
— Это, девки, чтоб знали, за кого в темноте деретесь, — скалил зубы Кондрат.
— Очень ты нужен кому, Копша.[75]
— От Копши еще никто не убежал — ни королева, ни святая дева.
— Нет, девки, вы на него зря, — сказала Владька. — Посмотрите, какой красивенький. Головка как маковка. Правду бают, что к дураку и бог милостив.
— Милостив бог, да тебе не помог. Со мной смел. Хорошенькая пара: он гол, как бич, да остер, как меч, а у нее глаза по яблоку, а голова с орех.
Девки увидели, что ребята упрямятся.
— Брось ты, Владька, нечего тому богу кланяться, который на нас не глядит.
И пошли на косогор.
— Так не перевезете, мужики? — спросила Владька.
— Нет. Сама видишь, — уже издали сказал Стафан.
Владька рассердилась:
— Эх вы! Дак поймать вам того язя, что кудысь лазит.
Никто ничего не понял, кроме старших. Зато Кондрат захохотал так, что откинулся в сторону. И тут душегубка вильнула и перевернулась вверх дном, а Кондрат юркнул под нее, прямо головой в воду.
Теперь хохотали все. И Кондрат, вынырнув из воды. Хохотали девки на косогоре. Мокрого Кондрата посадили снова в долбленку, поплыли дальше.
Андрей плыл последним и заметил, что не все девушки поднялись на косогор. Одна стоит на том самом месте, большеглазая, скромная, Кахнова Галина.
— Что же ты стоишь? — ласково улыбнулся Андрей.
— Не хочу на паром. Там, наверно, Лопатин Янук.
Янука Лопату Андрей не любил. Ершистый, злой человек.
— Что ж, так и будешь стоять?
— Может, кто-нибудь перевезет, — вздохнула она. — Жаль, что у вас душегубки.
Андрей улыбнулся. Красивая головка, склоненная, как цветок «сна», немножко на сторону, приподнялась.
— А может… попробуем?
— Опрокинемся.
— Постараюсь не опрокинуть.
Она ступила шаг. Очень уж не хотелось на паром.
— Хорошо-о, — вздохнула она.
— Садись, Галинка, — сказал Андрей, почти поставив челн на песок. — Давай руку и садись спиной ко мне… вот так.
Осторожно оттолкнулся, словно тарелку с водой нес, погнал душегубку на другую сторону.
Вода несла их ровно-ровно, зеленая у берегов, бездонно-голубая на середине. Галинка сидела неподвижно, но Андрей видел — боялась.
— Ты только не вздумай труса праздновать, Кахнова Галинка, — мягко сказал он.
— Я… не буду, — ответила она тихо.
— Ну вот и хорошо. Ты лучше на берег смотри.
Он помог ей выйти из челна.
— Спасибо, — сказала она.
— Ничего, — сказал он и потому, что жаль было отпускать девчину, не сказав больше ничего, спросил: — Как у вас там горох сегодня?
— Сегодня у нас горох ничего, — ответила она. — Подсох, аж звенит.
— И у нас сегодня ничего, — сказал он. — Уколотный.
Помолчали.
— А песни у вас там, на выселках, играют?
— Играют.
— Надо будет зайти.
— Зайдите, ежели выберете время… Это же вы дядькованые братья нашего пана?
— Эге, вот и он там в челне плыл.
— Не знали мы, — сказала она. — Молчать надо было.
— Чего-о? Он хороший хлопчина. Может, и вместе когда зайдем. Он песни любит.
— О вас говорят — хорошо поете.
— Ат!
Он молча сидел в челне, глядя на нее.
— Так, говорите, хороший горох?… Это хорошо… Ну, бывайте уже. Хорошего вам праздника…
Алесь издали смотрел, как они разговаривали и как потом Андреев челн догонял их по спокойной воде. И все это было как продолжение его мыслей. Он не удивился бы, если б за первым же пригорком открылся глазам городок за частоколом, совсем как в одной дедовой книжке. И чтоб был в нем праздник, и чтоб горели дымные костры, чтоб были девы, подобные той, и отроки, подобные Андрею. Ведь эта же самая река была и за тысячу лет до их дней, те же берега и те же дубы на них. Он путает своих предков, а его далекие потомки будут путать его с Андреем, а их — с теми, кто жил на этих берегах давно-давно. Потому что пройдут такие большие тысячи лет, что всем будет все равно…
И это как-то страшновато приблизило его, Алеся, ко всем людям, даже к тем, чьи курганы стоят вот уже сколько столетий по берегам великой реки. Его курган спутают с ихними. Пройдут многие тысячелетия, и людям будет все равно. Поэтому, наверно, и надо держаться за тех, кому не все равно, и любить их.
Он думал, что это лишь продолжение того безмерного счастья, которое жизнь любовно дарила ему, связи его, счастливого, со всем живым. Он как бы почувствовал всю бессмысленность времени и освободился от его цепей.
…В этом новом настроении он был как бы всеобъятным.
В Веже произошли изменения: дед нашел учителя, сухощавого, очень умного молодого человека. Учитель начал преподавать Алесю родную историю, литературу и общественное право. Он делал это хорошо, но мальчика все это словно не касалось.
Настроение всеобъятности сделало то, что Алесь теперь очень часто летал во сне под самым потолком, потом выплывал из окна и плыл над землей. Однажды он спросил об этом у нового учителя и получил ответ:
— Атавизм.
— А это не от стихов?
И прикусил язык. Не стоило кому-то рассказывать о том, что жило в нем.
— Стихи — чепуха, — сказал учитель, поправляя длинные волосы. — Это хорошо для сытых, а вокруг столько бедных людей. Им нужно просвещение. Учителя. Медики.
Бедных людей было действительно много, и стихи им были не нужны. Но ведь он спрашивал не о тех стихах, которые в книгах. Он спрашивал о тех, которые поднимают человека над земным и позволяют одновременно быть со всеми.
Алесь замкнулся, никого не впуская в свой мир. Он слушал споры нового учителя с Вежей и чувствовал себя в чем-то выше их. Они не знали его тайны, которая давала силу ему, Алесю, любить всех людей, как самого себя, потому что все были одно и над этим одним было не властно время.
Учитель и дед не понимали этого. Они спорили.
— Потомки славянофилов! — кипел учитель. — Запад для них разврат, зло, крамола. «А вот мы — нерушимое единство православного блаженненького народа с православным белым царем. Носители величия! Третий Рим! Сила, которая спасет гнилой мир. Крест на Софии, государь-батюшка, славяне богобоязненные, душа смиренномудрая! Свет величия и правды — не то что безбожные западные аспиды…» А за этими их идеями — грязь. Мы потомки других людей, мы несем родине отрицание, свежую струю воды в ее трясину.
Дед величественно улыбался.
— Я уважаю ваши мысли, — сказал он. — Но не вы, да и не ваши апостолы первыми сказали это. Еще какой-то боярин бубнил о «богомерзких немцах с их геометрией». А другой резал ему бороду. Это было и это будет через десять и через пятьдесят лет. Повторится старая сказка о западниках и славянофилах. И лишь причины будут иные, а внешние проявления схожи и страшно смешны.
— Вы что же, отрицаете взгляды рыцарей духа? — бледнел учитель. — Тех, что в Петропавловку чуть не попали?
— Я тоже чуть не попал в Петропавловку, — говорил дед. — Что же я, по-вашему, человек прогресса и света?… Я не отрицаю западников. Они были нужны и необходимы. А потомки, взяв от них все худшее, превратились в карикатуру на них… Славянофилы же какими были, такими и остались, разве что не вытирают масленых рук о волосы и не сморкаются в руку, хотя склонны восхвалять и то и другое.
— А вы что же?
— Я считаю, что людям нужна новая одежда… Но сам как-нибудь дохожу в старой. Если, конечно, не влипну в вашу резню.
— Кто кого будет резать?
— Друг друга. Большая война за шелуху выеденного яйца. Княжество, как теперь мудрствующие гегельянцы говорят, «идеологических» лаптей против герцогства «теоретических» манишек. Абсолют глупости! Будете резать «тупоконечников» — не надейтесь на меня.
…Даже невозможное принадлежало Алесю. Он был хозяином времени, столетий, просторов, потому что все люди большой реки и все Люди, весь Род — это он, а он — они.
…Окончательно он понял безграничное и бездонное счастье, разлитое для него, в один из вечеров, когда забрел в заглохший уголок сада неподалеку от обрыва. Там росла маленькая еще груша, окутанная золотистой дымкой конца августа. Он сел на камень, поднял глаза и застыл: груша цвела огромными шафранными цветами.
Клубень «золотого шара» неизвестным образом попал под грушу и, дотянувшись до верхних ее ветвей, выбросил пышный букет желтых цветов, среди которых висели сочные, румяные плоды. Издали казалось, что это груша расцвела сказочными огнями. И он не удивился, потому что все было для него и это было лишь первым свершением невозможного.
Груши цвели для него золотыми огнями.
XVIII
Стояла теплая, укутанная туманами осень. Словно под серым покрывалом лежала каждое утро утомленная, ласковая земля. И лишь часа за два до полудня первый луч белого, неяркого солнца пробивал покрывало и радостно падал в пожелтевшую траву. Тогда повсюду начиналось господство радуг: сверкала паутина на траве, на заборах, украшенных подвесками капель, на череде в перерытых огородах, на блестящих боках тыкв в застрехе.
Это были маленькие радуги. А большие сверкали выше — в кустарниках, на придорожных вербах, на самых высоких деревьях над лесными стежками. И каждая красовалась, с немного грустной радостью показывая, как она похожа на маленькое солнечное гало. А хозяева радуг ловили в них последних осенних мушек — на радость себе — и золотистые узкие листики верб — на радость каждому, кто имел желание остановиться и посмотреть, на радость всем добрым людям.
Позже солнце разгоняло туман, и тогда мир лежал перед глазами покорный, далекий, тоже показывая, какая в нем может быть даль, какой простор.
«Погляди, человек. Видишь сухую полынь на дальней меже? Так до нее ровно полторы версты, А то, серенькое, видишь? Ну, там, где рыжие кони на жнивье? Такие рыжие-рыжие на желтом-желтом. Так это Витахмо. Никогда ты его не увидишь, кроме этого дня, который я щедро дал тебе. Смотри! Дыши!»
…В один из таких дней Алесь проснулся, увидел теплый туман за окном, поредевшую листву итальянского тополя и понял, что сегодня охота будет обязательно. Кто усидит в такой день дома?
И действительно, не успел он одеться, как отец прошел коридором к охотничьей комнате, грохнул в его дверь и пошел дальше, напевая словно посвежевшим после сна голосом:
Та-та-ти, та-та-ти! Рог поет в пути. Ра-ным ра-но Сбор у ракиты, Саквы сваляны, Корбачи[76] подвиты, Подви-ты, Подви-и-ты.Это и в самом деле так походило на бодрое пение охотничьего рога, что Алесь рассмеялся.
У каждого охотника были такие припевки, под пение рога и на каждый случай охотничьего счастья. Даже тот, кто ни разу не видел стихов, и тот должен был придумывать такое для себя, хорошо или плохо. А остальное зависело уже от способностей и темперамента. У отца припевки были хорошие. Надо было еще и себе придумать… Значит, судя по песне, сегодня за взятое ружье будут бить, а то еще и поломают оружие, чтоб не позорил и не ломал обычаев. Только псы и корбачи, подвитые на конце свинцом… Хорошо. Господи, какой длинный и счастливый ожидает день! Еще только пять часов утра!
…Выехали со двора «малой охотой»: только отец, Алесь, невозмутимый длиннозубый Кребс, а из слуг — спокойный Логвин, мрачноватый старший доезжачий Карп, коричневый и обкуренный, как пенковая трубка, пять псарей да Халимон Кирдун.
Алесь был на Урге, Кребс — на Бианке (выехал выгонять ее), пан Юрий — на грудастом и легком огненном Дубе, псари — на разных лошадях.
С собой взяли двух хортов, которых крепко держали на сворке, пока не выедут на большие ровные поля, — зверь заядлый, может и разбиться, — да пять гончих: Снайду, Стиная, Анчара, Стрелку и Змейку. На трех остальных псарей были три собаки-пиавки на случай, если поднимут из Банадыковых Криниц одинца.[77]
Кирдуну не дали ничего — лишь бы только с коня не упал.
Ехали в утреннем тумане, молчали. Не звякала подогнанная сбруя, лишь конь иногда попадал копытом в выбоину, и тогда отдавалось, сразу затихая в тумане, звучное чавканье. Всадники казались в тумане огромными, каждый едва не с дерево ростом.
Алесь ехал рядом с Логвином, почти стремя в стремя, видел спину Карпа, обтянутую зеленой, блеклой венгеркой, видел дуло ружья — оружие все же взяли, собирались завтра, после ночлега у одного из соседей, попробовать обложить оленя, а на время сегодняшней охоты оставить его где-нибудь под стогом, под присмотром Кирдуна.
Отец оглянулся — Алесь увидел его глаза, очень синие и простодушно-хитрые.
— Кребс вместо корбача тросточку взял, — шепнул он. — Только волк на него, а он его леской по морде — шлеп-шлеп: «О, но, мистер волк! Но-но! Англичанин нельзя».
— Но, — совсем неожиданно сказал Кребс (а ведь ехал, кажется, далеко). — Англичанин можно. Нельзя глупых и злых шутников, которые считают глупыми англичан. От них у волка бр-рум в животе.
Отец шутя втянул голову в плечи.
— Застали, брат, нас с тобой в горохе, — сказал он.
Алесь засмеялся. Снова тишина, глухие шаги да изредка бодрое в свежем тумане фырканье коня.
…Ехали садом. Наплывали неожиданно и исчезали за спиной влажные яблони. Алесь заметил в поредевшей бурой листве два забытых яблока. Сорвал, разломил, угостил Кребса, отца. Заметил суровый взгляд Карпа, протянул половинку ему.
— Не надо, панич, — сказал Карп своим звонким и немножко хрипловатым голосом доезжачего. — Ешьте на здоровье. Это не бульба.
Яблоко было студеное, в холодных дождевых каплях, и он с хрустом откусил и проглотил, как будто само здоровье проглотил.
Деревня открылась за садом верхушками колодезных журавлей, которые плавали над туманом и временами исчезали в нем, чтоб вынырнуть снова с глухим позвякиванием невидимого в тумане ведра.
— Барская охота, — оказал чей-то, словно сквозь дрему, голос. — Вола съедят, а зайцем закусят.
Потом что-то надвинулось с обеих сторон, по грибному аромату прелой листвы можно было догадаться — лес. Влажный здоровый холод пробирал до костей.
Над стежкой висели красные плахты рябин.
Лес стал редеть. Травы, ветви, свежие распростертые кустарники плакали чистой росой. И окраска всего вокруг — мухоморов, пунцовых кленов и багряных молодых осин — была неяркой в тумане, но зато более глубокой от влаги.
А когда они оставили лес и взобрались на вершину гряды, перед их глазами, вся в белом, молочном солнце, открылась земля.
Она была еще неяркая, но понемногу как будто набиралась от солнца цвета, красок, оттенков. Розовой становилась роса, радужным вереск. И в небе, еще белесом, как молоко, все яснел прозрачный голубой цвет.
И тут неожиданно запел Карпов рог:
Солн-це, солн-це, Вста-вай, ста-вай, С дон-ца, с дон-ца, с дон-ца Тум-ман выл-ливай. Зверей, Зве-рей давай, Вол-ков, Веп-рей Да-а-вай.Это был сигнал переставить карабины сворок «на рывок», когда стая освобождается одним движением руки. Зверь мог выскочить из-под самых копыт.
Двинулись дальше, по жесткому жнивью. А день все голубел, и солнце, уже немножко теплое, засверкало на стволах. И Алесю вдруг стало так радостно, что он вполголоса, подражая рогу, пропел:
Гуськом они едут в утренней мгле,
И солнце играет на каждом стволе.
Отец подозрительно взглянул на него.
— Что это такое хорошее? — спросил он.
Алесь застеснялся.
— А ну, дай рог, — сказал отец.
Приложил новый серебряный рог Алеся к губам, опробовал, перебрав несколько тонов, и вдруг словно подарил холодному свету прозрачную трель:
Та-дры-тти-тта!
И уже уверенно пропел белому солнцу всю серебряную мелодию:
Гусько-ом они е-едут в утренней мгле,
И со-олнце игра-ает на ка-аждом стволе.
Та-ти-ти-та, та-та-ти-ти-та-а-а.
— Красиво, — сказал он. — Слова ведь не самое главное. Главное, чтоб ложилось на рог и настроение… Слова — это ты сам?
— Сам, — признался Алесь.
— Ну вот, видишь, ничего трудного. Вот и твоя первая припевка. Это если радостно ехать на охоту.
— На охоту, по-моему, всегда радостно ехать.
— Не скажи, брат, — ответил отец. — Иногда так тяжело — места себе не находишь. Счастье твое, что сегодня едем на хищника и первым в твоем сердце проснется азарт, а не жалость. Азарт этот — душа охоты. Настоящий охотник не пропьется, в карты не проиграется — ему этого не нужно. И вообще картежники достойны сожаления, потому что не знают каков он, настоящий азарт…
День в самом деле был чудесный. Последний туман уполз с бесконечных ржищ и лугов, и мир лежал весь голубой и прозрачный.
Кое-где серебрилась в воздухе летающая паутина. И далеко-далеко стояли на мягких пригорках красные и золотые деревья, на которых можно было рассмотреть каждую ветвь.
Воздуха как будто совсем не было. Вместо него было только что-то печальное и синее, обволакивающее всё, что есть на земле. И грудь радостно чувствовала бодрый и свежий холодок этой синевы и печали.
Ехали жнивьем до Черного рва, глубокого и длинного, версты на три, оврага в поле. Он был такой глубокий, что кустарники и молодые деревья, росшие на его дне, не могли дотянуться до его верха своими верхушками.
Там водились и туда осенью приходили на дневку волки.
Логвина и Кирдуна с оружием и хортами оставили под стогом, осмотрели корбачи с вплетенным на концах свинцом. Потом люди с собаками направились к ближайшему спуску в овраг (там одна свора должна была двигаться дном, а вторая — бровкой), а отец, Карп, Алесь и Кребс поехали к соседнему отрожку, откуда мог выскочить волк.
— Бить знаешь как, — на ходу учил отец Алеся, — одной рукой за луку, наклоняешься, и когда нагонишь, ударь, чтоб попасть по кончику носа. Такой удар убивает сразу. Коня старайся вести легко, не насиловать, потому что волк, если его припереть, может броситься и выпустить животному требуху. А со слабыми поводьями конь спасется сам.
Всадники остановились, чтоб не испугать зверя, и стали ждать.
Алесь напряженно смотрел на выход из отрожка — круглый лаз в ежевичнике и дубняке. Долгое время ничего не было слышно, но вот далеко тявкнула, словно пробуя голос, собака. За ней — вторая, уже более уверенно. А ей тонко, как будто прося извинения, ответила Змейка.
И вот уже залилась, перекликаясь, вся свора.
— Подняли, — сказал отец.
— Дух учуяли, — мрачно бросил Карп.
Лай, все еще неровный, усилился.
— Вот теперь подняли, — сказал Карп. — Впереди Змейка, лает с осторожностью.
— А-я-яй! А-я-яй! А-я-яй!
Свора заливалась лаем на все голоса. И все это — в синем воздухе, в желтом кустарнике, в серебряной паутине — сливалось в диковатую, далекую, неповторимую музыку.
Волк выскочил неожиданно, и не из лаза, а из высокой глухой травы. Никто не ожидал его оттуда, и потому в первые две-три минуты хищника не заметили. А он шел размашистой трусцой, так, что взлетала на ляжках свалявшаяся шерсть.
— … пай! — первым крикнул Карп и припустился за зверем.
Отец резко повернул своего Дуба и так рванул с места, что только из-под копыт в стороны брызнул вереск. Алесь спохватился поздно, всадники были уже далеко.
Урга стлался над землей. Ветер свистел в ушах.
— А-я-яй! А-я-яй! — звенели за спиной собаки.
Первая свора выгнала из оврага второго волка, за ним погнался Кребс и два псаря. Но Карпу, князю Юрию и Алесю не было до этого никакого дела. Даже если б сейчас выскочила из ежевичника целая стая волков, они не обратили б на нее внимания. Они гнались только за тем, одним.
— А-я-яй! А-я-яй! — отдаляясь, звенело за спиной.
— Гам-гам! Гам-гам! — с перепадами и тоже далеко гудело, разносилось на две оврага.
А они летели бешено, и белый конь все догонял и не мог догнать огненного и чалого. Расстояние между ними сокращалось, но Алесь с отчаянием видел, что они нагонят волка раньше, чем он доскачет до них.
Отец скакал левее, Карп — правее. Они неуклонно приближались, и корбачи парили в их поднятых руках тяжело и угрожающе.
Каждый из них невольно уступил другому: пан Юрий потому, что Карпу неудобно было бить с левой руки, Карп потому, что он был слугой.
Кони почти столкнулись, и в этот момент случилось неожиданное — зверь отсел. Он неожиданно взрыл всеми четырьмя лапами землю и повалился на зад и немножко на бок. Мгновение он сидел так, ощетинившись, а потом — от Алеся до него было не более трех саженей — мелькнул в отрожек оврага, маленький, совсем незаметный, который Карп видел, но считал, что должен не допустить туда волка князь, потому что он скакал с той стороны, а князь считал, что не пустить должен доезжачий.
Алесь чуть не рвал на себе волосы.
А всадники с ходу пролетели над зверем, и их тяжелые корбачи скрестились там, где должен был быть волк. Скрестились, свились, дернулись и начали раскручиваться.
Наконец всадники осмотрелись. Волка не было. На их лицах было отчаяние и ярость. Кто уступил, кто не закрыл отрожка, кто задержал корбач?
— А-ах! — простонал князь Юрий.
И неожиданно изо всех сил огрел Карпа корбачом по спине. А тот отца-а! А тот ег-го!
Несколько минут они сопели и дико вращали глазами.
Первым опомнился князь.
— Хорошо, — сказал он и смущенно оглянулся.
Никто не видел стычки, кроме сына, и князь вдруг налился краской:
— Ко второму отрожку!.. Карп, ходу!.. Алесь, за мной!.. Не жалей головы!
Это уже было не к месту. Алесь пустил Ургу вскачь.
Ровно, корпус к корпусу, глотали простор Дуб и Урга. Потом Алесь начал наддавать, обгоняя отца… Через вымоины, ямы, бревна.
«Нет, не здесь… Нет, не здесь… Все еще впереди…»
Над буераками Алесь лишь привставал еще выше на стременах, как будто совсем отрываясь, когда конь пролетал над канавой.
Деревья кончились. Снова потянулась бесконечная бровка оврага, снова отрожки и седая молодая полынь между сухими стеблями старой.
…Волк выскочил из оврага далеко впереди, тот самый, сомнения быть не могло, и той же трусцой, казалось бы неспешной, начал пожирать расстояние до большого острова кустарников. Это был мудрый, матерый волчище. Один раз он даже на неуловимое мгновение остановился и повернулся всем туловищем к всадникам, чтоб посмотреть, стоит ли бежать.
Бежать стоило: они приближались, особенно тот, на белом. И зверь снова ринулся в свой извечный горделивый бег, со звериной яростью спасая для себя этот синий день, паутинки, которые он рвал грудью, и последнюю свалявшуюся шерсть, которую он сегодня собрался отодрать в глухой чащобе, на лежке.
Урга летел так, что ветром захлестывало рот. И зверь приближался — Алесь видел это с безумной радостью. Ближе, ближе, вот он почти у самых копыт. И он отбросил свое ставшее невесомым тело и со свистом опустил корбач.
Удар пришелся не по носу, как учил отец, а по голове. Зверь «копанул репу», но, поднявшись, прыгнул в сторону. И тут мимо Алеся на последних Дубовых жилах вырвался отец. Он мелькнул наперерез волку.
Два тела, большое серое и длинное огненное, сближались наискосок. Слились.
Человек наклонился.
Волк упал.
Он лежал в каких-то двух саженях от кустарника, и его глаза тускло отражали небо, жнивье и серебряную паутину, что кое-где трепетала на нем.
А пан Юрий поднял рог и приложил к губам, прикрыв глаза. Рог запел так ликующе-грустно, что даже красные и желтые кустарники перестали шуметь листвой. И это было словно в песне об Оборотне, который убил белого волка вересковых пустошей.
Я не берёг своей головы,
Я не застал тебя в лежном сне.
Хватит неба, и хватит травы.
Сегодня — тебя,
Завтра — меня.
А волк тоже лежал спокойно и как будто слушал, длинный, неестественно вытянутый, с сединой, что пробилась на холке, с рассеченными в боях молодости ушами и горделиво сжатой пастью.
Пан Юрий поднял зверя и, поднатужась, перекинул его через высокую луку Алесева седла. Лоснящаяся шкура Урги задрожала. Князь погладил коня.
— Твой, — сказал он Алесю. — Без твоего удара я б не успел. Он бы спокойно ушел в кусты.
И вскочил в седло.
— Поехали.
На ходу похвалил:
— А ездишь хорошо. Лучше, чем я в твои годы. Стоишь в седле как влитой, не то что какой-то чужак приблудный, который трясется да еще и подпрыгивает в седле, свесив ноги, как воеводская корова на заборе.
Алесь покраснел, это была желанная похвала.
Отец снова приложил рог к губам, и звуки, серебряные и тонкие, полились в холодном воздухе.
Рука хлопца, погрузившись в серый, еще теплый мех, придерживала на луке тяжелое тело. Урга летел прямо в синий день. А глаза волка тускло и мудро отражали жнивье, небо и серебряную пряжу божьей матери — все то, что он сегодня не сберег.
…Закусывали под стогом.
Два волка лежали на пожелтевшей траве, и собаки сидели вокруг неподвижно, как статуи, и пристально смотрели на них.
Доставали из сакв и ели багровую от селитры домашнюю ветчину, серый ноздреватый хлеб и копченые колбаски. Охотничий устав требовал, чтоб люди были сыты, а собаки голодны до самого позднего вечера, когда раскинут перед ними полотняные кормушки.
Князь взял большую, на целую кварту, бутылку, налил из нее в серебряный дорожный стаканчик на донышко и подал сыну.
— С полем, сын, с первым твоим волком.
Алесь глотнул, да так и остался с открытым ртом. Все захохотали.
— Почерк, брат, у тебя хороший, — сказал отец, переворачивая пустой стаканчик. — Ну вот, а теперь до семнадцати лет — ни-ни.
И подражая старому Даниле Когуту, — прямо не отличишь! — забормотал:
— Гэта ж мы, ведаете, с дядькованым племянничком юшку варили.
Зашамкал ртом и по-стариковски покачал головой.
— Юшка розовая, добрая. Кобелю на хвост плесни — непременно ошалеет. А перцу сослепу столько насыпал, что племенничек глотнул, и до трех сосчитать не успели, а он от Турейки ужо в Радькове был. И там ужо… выл.
Все смеялись.
…Отец выпил чарку и подал бутылку доезжачему. Сказал в гонором, сквозь который проглядывала вина и стыд перед сыном за то, что произошло:
— Пей.
— Благодарим, — сказал Карп и тоже виновато крякнул.
Наконец первым бросил слово пан Юрий:
— Ты, брат, того… не очень.
— Да и я, пане… не того, — опустил голову Карп. — Не этого, значит.
Никто так ничего и не понял. Поняли только, что Карп чем-то провинился.
…И снова мягко ступали по жнивью кони… А вокруг лежала блекло-желтая земля.
Часа в четыре после полудня заметили на пригорке двух всадников, медленно ехавших навстречу.
— Кто такие? — спросил Кребс.
— Раубич, — ответил Карп. — Раубич и еще кто-то… Глядите вы, чего это тот, второй, замешкался? Во, обратно, поскакал.
Второй всадник на вороном коне и в самом деле исчез.
А Раубич медленно подъезжал к ним.
— Его-то мне и надо, — сказал князь.
Всадник приблизился. И Алесь снова с любопытством принялся рассматривать черные как смоль волосы, высокомерный рот и темные, как провалы, глаза под густыми ресницами.
Раубич поднял руку с железным браслетом. Плащ распахнулся, и все увидели за поясом пана два больших пистолета, украшенных тусклым серебром.
— Неудачной вам охоты, — бросил Раубич. — Волкu — в лескu.
— Спасибо, — ответил пан Юрий.
И вновь Алесь встретил взгляд Раубича. Глаза без райка смотрели в глаза мальчика, словно испытывая. И снова Алесь не опустил глаз, хотя выдержать этот взгляд ему было физически тяжело.
— Не испортился твой сын, — сказал Раубич. — Что ж, для хорошей, вольной жизни живет… Спасибо тебе, молодой князь, за Михалину. Только о тебе и разговор, как ты хорошо принял гостей. А почему не приезжаешь?
Алесь почувствовал, что железный медальон на его груди стал горячим.
— Ярош, — сказал пан Юрий, — отъедем на минутку.
— Давай, — согласился Раубич.
Они отъехали саженей на пятьдесят, к подножию высокого кургана.
— Ну? — сказал Раубич.
Князь медлил.
— Ты извини, не мое это дело, — заговорил он наконец, — но у всей округи распустились языки, словно цыганские кнуты… Все о… Раубичевом колдовстве.
— Ты же знаешь, я выписывал из самой столицы человека, чтоб обновить мозаику в моей церкви. — В глазах Раубича ничего нельзя было разглядеть. — Он варит смальту, испытывает составы, подгоняет их по цвету под те куски, которые еще не осыпались… Вот и все.
Отец рассматривал плетеный корбач.
— Конечно, я ж и говорю, что тебе нечего бояться. Но заинтересовались голубые… Поручик… извини, какой там высший чин, не помню… Мусатов просил маршалка[78] Загорского, чтоб тот не поднимал лишнего шума, если подземельями пана Раубича заинтересуется жандармерия.
— И что сделал маршалок Загорский? — с улыбкой спросил Раубич.
— Маршалок Загорский не обещал ему удовлетворить просьбу, потому что это оскорбит чувства дворян.
— Разве чувства наших дворян еще может что-то оскорбить?
— Да… Псам нечего делать в наших домах. Их место на псарне, у корыта с овсянкой. Но ты берегись, потому что на предводителя тоже могут не обратить внимания и обойтись без него.
— Пускай обходятся, — более тепло сказал Раубич. — Мне нечего бояться. Но за благородство, во всяком случае, спасибо предводителю дворянства Загорскому… дворянину Загорскому.
— Не за что, — ответил Загорский. — Потому что сказал тебе об этом не предводитель, а гражданин.
Оба замолчали. Курган над их головами был оранжевым от низкого солнца.
— И тот же гражданин Загорский просит тебя, гражданин Раубич, чтоб ты был осторожен, чтоб ты еще раз подумал.
— Не понимаю, о чем ты это?
— Дворянский заговор страшная штука, — прямо в черные зрачки Раубича глянули синие глаза пана Юрия. — Надо быть благородным и помнить, что имя нашему изуверу Николай, что одна гверилья окончилась гулом орудий, что фрондерство и распущенный язык обернуться лишь горем для несчастного края.
Лицо Раубича задрожало всеми мускулами.
— Несчастного края… Я не понимаю, о чем ты говоришь… Но дышать, дышать тяжело от позора и стыда за людей.
— Именно стыда, — сказал пан Юрий. — Надеяться на людей, за которых стыдно, которых ненавидят за порку и грабеж собственные мужики, «горемычный народ»…
— Будь на губернском съезде дворянства, — неожиданно повернул разговор Раубич. — Обязательно будь.
Пан Юрий взглянул на него с любопытством.
— Что-нибудь будет?
— Будет, — сказал Раубич.
— Вы?
— Нет, не мы, но нам на руку.
— Буду, — пообещал пан Юрий. — И только еще раз прошу: не занимайся ты своим… колдовством, не кричи. Не будь слишком открытым, знай себе цену. Недавно из Петербурга выслали человека за одну фразу, брошенную в театре.
— Какую?
— Шла «Жизнь за царя». Хор пел: «После битвы молодецкой получили мы царя». И молодой человек бросил реплику: «Говорил ведь я вам, что драка к добру не приводит».
— Молодчина, — сказал Раубич.
Величественный молчаливый курган возвышался над ними, сизый от полыни и розовый от вереска, седой от паутины, спокойно-гордый и высокий в сиянии свободного синего дня. Мускулистая безволосая рука Раубича, украшенная железным браслетом, указала на него.
— Этому легче, — сказал Раубич. — Счастливый!
XIX
Зал губернского дворянского собрания напоминал море в непогоду. Весь этот полукруглый зал, все места за колоннами, подиум и амфитеатр хоров — все было забито людьми.
Председатель Басак-Яроцкий в своем кавказском офицерском мундире и при всех регалиях устал бить молоточком в гонг и лишь укоризненно покачивал головой:
— Черт знает что. Еще называется дворяне! Хуже маленьких детей.
— Дай им выкричаться, Петро, — спокойно бросил Юрий Загорский.
Он возвышался в первом ряду почетных кресел на подиуме. Рядом с ним пристроился старый граф Ходанский. На синем от бритья лице, как всегда, играла любезная улыбка.
Немного дальше — Исленьев. Румяное, как яблоко, старческое лицо его было недовольно, немножко даже брезгливо: разговоры, разговоры, разговоры — надоело.
В конце стола, возле урны, поодаль от всех развалился по-барски, с мягкой старческой грацией, в кресле старый Вежа. Рукой прикрыл рот. Людям в зале виден поверх руки хитрый, с искоркой, глаз.
Пан Юрий, маршалок Юрий — потому что здесь он был совсем иным, неизвестно откуда и величие взялось — обводил глазами зал
…Все знакомые, каждое лицо, каждая фигура. Вон сидит единственная среди всех женщина, Надежда Клейна (у нее в доме нет взрослых мужчин, и она ездит на собрания принципиально). А вот там почему-то волнуется пан Мнишек с измученным лицом и сдержанной гордостью в глазах. Рядом с ним Раткевич Юлиан, глава младшего рода Загорских, человек с нервным желтоватым лицом. Он говорит о чем-то с Мнишком. Иногда к ним наклоняется из заднего ряда голова Миколы Браниборского, также родственника из младшего рода. Неприятное лицо, алчное, с хватким как у головля ртом. Этот, видимо, заправляет делами в своем уголке и сейчас что-то готовит.
В первом ряду желчное лицо Яроша Раубича. На подлокотнике кресла тяжело лежит безволосая рука с железным браслетом. Глаза-провалы иногда встречаются с глазами пана Юрия и сужаются, как у утомленной птицы.
…Пан Иван Таркайло с братом. Эти, видимо, что-то прослышали, потому что насторожены. Оба пышноусые, оба в добротных, на сто лет, сюртуках.
«Ох, что-то будет! Ей-богу, будет», — думает пан Юрий.
Тем более что на заднем ряду сидит далекий братец жены, милый Кастусь Кроер, распатланный, как всегда в подпитии, с такими безумными серыми глазами, что хоть ты перекрестись, заглянув в них случайно.
Говорят, после бунта в Пивощах братец совсем распоясался: пьет, как одержимый, распутничает, проматывает состояние. По деревням стоит ругань, плач, мордобой. Подружился, сволочь, с Мусатовым, дал ему, говорят, куку в руку, только б тот помог ему поймать того беглого мужика, что метнул вилы… Как бишь его? Кошик?… Корчик?…
И вот загонные вместе с голубыми рыскают по лесам, ловят. Да только черта с два вы его без предательства людского поймаете… Сколько лет гуляют знаменитые бандиты? А сколько повезет. Пройдисвет гулял несколько лет, Чертов Батька — шестнадцать и еще одно лето, пока собутыльники сами же и не порешили. А Черный Война гуляет уже двадцать лет. Леса немереные, стежки знакомые.
Пан Юрий почти желал, чтобы в одной из деревень Кроера произошло что-то из ряда вон выходящее. Тогда дворянская громада, под его, пана Юрия, руководством, имела б право и возможность требовать опекунства над этим разъяренным псом.
Пусть один будет изувечен, зато остальная тысяча душ вздохнула б с облегчением.
И ничего, ничего с ним нельзя поделать, пока он бароном сидит в своих деревнях. «Мой дом…» И идите вы, мол, к дьяволу с вашими указаниями, господин предводитель и господин губернатор.
Старый Вежа смотрел на сына и улыбался. Все же чего-то он да стоит. Даже все эти soi disant gros bonnets[79] смотрят на него не без уважения.
Ну, положим, уважение у них приобрести легко.
Вежа наклонился к Исленьеву, шепнул ему:
— Гляди, как мой будет укрощать «совет нечестивых».
— Вы ворчун, князь, — сказал Исленьев. — Вы снова ругаете этих людей, и правительство, и веру. Просто диву даешься.
Они улыбнулись. Из всей этой компании Вежа уважал лишь одного Исленьева. Уважал за чистоту совести, хотя и относился к нему с каким-то странным снисхождением, объясняя это тем, что Исленьев служил. Мягкотело служил.
…Загорскому удалось навести тишину. Он сделал знак Басак-Яроцкому, чтоб тот продолжал.
Председатель для порядка еще раз ударил в маленький гонг. Бронзовый звук как-то жалобно пролетел над огромным притихшим залом, прозвучал под сводами и умолк.
— Тихо, господа дворяне! — сказал Яроцкий. — Мы специально оставили время для того, чтоб обсудить записку, поданную дворянскому губернскому съезду и подписанную восемью дворянами… Браниборским, Витахмовичем, Вирским, Панафидиным, Яновским… Раткевичем…
— Семь пар чистых, — сказал Кроер, и все посмотрели на него.
— Ямонтом…
— Семь пар нечистых, — сказал Кроер, но уже тише.
— И Мнишком… При этом пан Мнишек поставил подпись только вчера… А господин Раткевич, хотя идея записки была его, снял свою подпись, не соглашаясь с дополнениями, внесенными Браниборским, и согласился снова подписать только сегодня, требуя, однако, возможности высказаться особо.
— …в проруби, — сказал, Кроер.
— Господин Браниборский, — сказал Яроцкий, — идите сюда, читайте.
Браниборский поднялся, чеканя шаг, пошел на подиум. Красная сафьяновая папка с золотыми шнурами зажата под мышкой, голова гордо поднята.
…Достав из папки листы голубой бумаги, Браниборский начал читать, держа лорнет гораздо выше листа.
Все слушали. Это были обычные сообщения о бедственном положении в губернии, о граде, о неслыханной болезни картофеля, когда клубни почти нельзя отличить от грязи, о залоговых платежах, о недоборах… Все знали это, но факты, собранные воедино, звучали более веско и даже устрашающе.
Положение в самом деле было угрожающим.
Покончив со вступительной частью, Браниборский обвел всех взглядом, умолк на мгновение — в зале было тихо — и повысил голос:
— «Для отвращения гибельных последствий несостоятельности владельцев, происходивших от постигших губернию в минувших годах неурожаев, прибегнуть к чрезвычайным средствам, а именно…»
Зал молчал.
— «А именно: изъявить готовность отказаться от крепостного права над людьми и при представлении высшему правительству о нуждах дворянства просить о дозволении составить комитет для начертания на вышеизложенном основании будущих прав и обязанностей владельцев и крестьян».
Молчание было свинцовое, и в этом молчании прозвучал голос:
— Резонно!
И в ответ ему полетело с разных сторон:
— Правильно!
— Хватит уже!
— И они голодают, и нам не мед!
Вдруг взвился над своим креслом Кроер:
— Нет!
Его сумасшедшие серые глаза, расширенные, остекленевшие, казалось, вылезут из орбит.
— Нет и еще раз нет! Кто придумал? Голодранцы придумали! У которых своих душ нет. Зависть их берет! Мнишки придумали, Вирские! Люди с двумя дворовыми. Нищие!
— Я не нищий и не голодранец, — сказал длиннющий, как рождественская свеча, Юлиан Раткевич, желтоватое лицо его было нервно-злобным. — Я не голодранец. А мое отдельное мнение — вот оно. Браниборский предлагает отступить от местного принципа: «Крестьяне не наши, а земля наша» — и от принципа центральных губерний: «Крестьяне наши, а земля — ихняя» — во имя принципа: «Крестьяне не принадлежат нам — земля не принадлежит им». Это, я считаю, нечестно, это лишает крестьян достояния, делает их нищими. А мне, да и всем здесь, не нужны работники-нищие, помощники-нищие. Я сожалею, что позволил Браниборскому дополнять мою записку. Жалею, что теперь остался в меньшинстве с паном Мнишком. Я считаю правильным принцип: «Они не наши, а земля пополам». А то получилось, что я начал это дело потому, что мне лично крепостное право невыгодно. А это не так. Все.
— Ты начинал это дело, потому что ты якобинец, — Кроер кричал с круглыми от гнева глазами, — потому что от тебя несет французятиной. Смотрите, дворяне! Это начало вашего конца!
Зал взорвался шумом. Собутыльники тащили Кроера на место. Раткевич рвался к нему.
— Мужицкие благодетели! — кричал Кроер. — Якобинцы! Княжествами им владеть надоело! Они босяками стать захотели, шорниками!
…Исленьев наклонился к Веже и тихо спросил у него:
— Ну? Ожидали вы этого?
— Давно ожидал, — Вежа смотрел на бурлящую толпу, — но немножко другого.
— Чем вы все это объясните?
— Подлостью, — спокойно сказал Вежа.
— Почему-у?
— Дурак Кроер неправ, — сказал Вежа. — Они не хотят стать ни якобинцами, ни шорниками. Таких среди них — Мнишек да Раткевич. Это святые олухи. Словно кто-то им позволит быть святыми в этом притоне. А остальные? Слышите, как кричат на Кроера? Разве только те, что подписали? Нет, большинство. Большинство против крепостного права. И они не шорниками хотят быть, а богатыми людьми. И вот поэтому я против, чтоб отменили крепостное право в их имениях.
— Н-не понимаю вас, — сказал Исленьев.
— Отвязаться, отделаться захотели от своих мужиков, — сказал Вежа. — Окунуть в голод и нищету… Мне, граф, конечно, не хочется ради внука, чтоб отменили крепостное право… Но если б решили отменить по совести, я первый оформил бы. Грешное, злое дело. Устаревшее.
— Ненужное.
Его уста были полны горечи.
— Когда бабу… целовали, так сережки обещали, а как баба рожать, так они убегать… Было — они наши, потому что земля наша. А тут, выходит, все наше: и деньги под залог, и земля — только они не наши. Зачем они нам с голым пузом? Пусть пo миру идут. Пусть сами за себя платят недоимки, которые до сих пор за них платили мы. А недоимок у этих вон хозяев набралось чуть не со времен царя Гороха… Люди голодные, как им платить? Правительство шло на некоторую отсрочку, чтоб последней шкуры с мужика не содрать. А вы спросите у хозяев: забыли ли они хоть один год мужика постричь? Вот… Вот то-то оно и есть.
— Что б вы предложили?
— Услышите, — сказал Вежа. — Они у меня должны спросить. И я отвечу.
Шум все нарастал.
— Выродки! — кричал Кроер. — Социалисты!
— Кроер, я оборву вам уши, — сказал Раткевич. — Я думаю, вы еще не заложили в трактире вашу шпагу?
Кроер взревел. Вдруг перед ним выросла Надежда Клейна.
— Ну! — сказала она. — Ну! Что ты собираешься делать, аспид, дай глянуть.
— Женщина, отойди!
И тут Клейна ловко, как кошка, ухватила его пухлой ручкой за ухо.
— Не дергайся, батюшка. Я тебе теперь не женщина. Я в собрании. Такая, как и все. Садись, батюшка… Сиди тихонько и слушай, что умные люди говорят.
Зал захохотал. И хохот сделал то, чего не сделали б оголенные шпаги. Кроер сел.
И сразу ударил в гонг Басак-Яроцкий.
— Я полагаю, лучше всего решить этот вопрос, ввиду разбушевавшихся страстей и резкого размежевания собравшихся, путем баллотирования. Но раньше, думается мне, надо спросить нескольких известных своим состоянием и возрастом дворян.
— Да, да, — загудели голоса.
— Тогда я начинаю, — сказал Яроцкий. — Господин граф Ходанский.
Ходанский поднялся. Снисходительная, заученная улыбочка неподвижно лежала у него на губах.
— Не понимаю причины спора, — сказал он по-французски. — Среди Иванов пока что не замечено ни Лавуазье, ни Мармонтелей. Пан Раткевич, конечно, выступает за народ, а не за свой карман. Он сам говорил, что делает это не из-за выгоды.
— Дурак, — тихо сказал Вежа. — Всегда думал, что Ходанский дурак. И злобный. Человека хочет опозорить.
— Так вот, — говорил дальше Ходанский, — я заступился б за господина Раткевича, но зачем мне заступаться за мужика, который не чувствует никакой необходимости в изменении своего положения? Он еще не дорос до свободы. Ему еще триста лет будет нужен сатрап с плетью. Если оставим его мы, культурные, он найдет себе другой хомут, еще жестче. — Он наклонил голову. — Я призываю всех дворян, кто хочет пахать землю, хочет, чтоб в креслах этого собрания сидели Зoхары и Евхимы, а на месте предводителя дворянства — кровавый палач… я призываю всех этих дворян класть белый шар за мужицкую свободу.
И сел. Часть зала одобрительно загудела.
— Ясно, — сказал Яроцкий. — Пани Клейна.
— Не знаю, батюшка, — вздохнула старуха. — По-старому мне удобнее. Но как подумаю, что на собраниях вместо дебошира Кроера будет сидеть мой дед Зоoхар, как сейчас пообещал Ходанский, так мне сразу веселее делается.
Махнула рукой:
— Белый шар.
Все молчали. Потом Яроцкий вздохнул:
— Господин Раубич.
Раубич смотрел на Загорского. И Загорский, оберегая его, отрицательно покачал головой.
— Я отвечу баллотированием, — глухо сказал Раубич.
Загорский кивнул.
— Дело ваше, — сказал Яроцкий. — Господин предводитель.
— Свободу, — бросил пан Юрий — Я с Раткевичем.
— Господин Ваневич?
— Свободу.
— И, наконец, самый влиятельный из дворян губернии — князь Загорский-Вежа.
Загорский встал.
— Свободу, — сказал он. — Свободу в тех имениях, на которых нет недоимок и где уплачены проценты по закладным.
Слова упали в настороженную тишину зала, как картечь. Те, в которых попало, зашумели. Приблизительно третья часть зала, в той стороне, где сидел Браниборский.
— Почему вы кричите, панове? — сузив глаза, спросил Вежа. — Разве я изрек что-то неожиданное, что-то такое, о чем вы не думали?
— Чепуха! — крикнул Иван Таркайло. — Я даю мужикам взаймы, я отвечаю за недоимки, за неуплату мужиками налогов. Они не стоят того сами, вот что.
— Садитесь, христианин Таркайло, — брезгливо процедил Вежа.
— Что б вы предложили? — внешне спокойно спросил Браниборский.
— Продайте предметы роскоши, — сказал Вежа. — Уплатите по закладным. Уплатите недоимки: вместе наживали их — вместе и отвечайте. А потом, чистые, будете думать.
Суровые брови старика разошлись.
— Обнищание? Возможно. Однако ж вы жили их трудом на вашей земле. Так вот, когда вы все будете чистыми, освободите их. Отдайте им половину земли, и, свободные, они пойдут и на вашу землю тоже. За деньги. И эта половина вашей земли даст вам втрое больше, чем теперь вся.
Было тихо. Потом кто-то из окружения Кроера попробовал свистнуть.
— Зачем же вы так? — спросил Вежа. — Я ведь, кажется, не за отмену стою? Я ведь предлагаю оставить на год все как оно есть.
И тут сторонники Браниборского и Кроера взорвались возгласами:
— Социалист! Гверильеро!
Вежа с нарочитым недоумением пожал плечами.
— Карбонарий! Кинжальщик! Лувель! Якобинец!
Надрывно звенел гонг: Яроцкий тщетно призывал к спокойствию. И тогда Вежа, сделав ему знак остановиться, подался вперед.
— Ну? — почти прошептал он.
Он обводил ряды глазами, и вид у старика был такой, что те, кого достигал его взгляд, сразу замолкали.
Воцарилась тишина.
— Вот так-то лучше, — сказал Вежа и добавил: — А для себя… для себя я стою за белый шар.
И резко бросил:
— Свобода!
Сидел, сразу утратив всякий интерес к тому, что происходит в зале. Он рассчитал правильно, он понял их и потому сумел столкнуть лбами. О-одна сволочь! Что ж, теперь осталось только опустить свой белый шар и ехать домой, к внуку.
Хорошо, что мальчик не среди этих чудовищ, что он не видит разгула низменных человеческих страстей.
— «На основании сто десятой статьи устава о службе по выборам, — читал Петро Яроцкий, — третий том, и сто двадцать восьмой статьи девятого тома свода законов Российской империи (издание сорок второго года) — постановления дворянства производятся посредством баллотировки и признаются обязательными, если они приняты единогласно или не менее как двумя третями голосов всех присутствующих дворян».
Он кашлянул.
— Теперь, после того как я напомнил вам это, мы можем начать баллотировку, господа. Прошу брать шары.
Вежа взял шар первый. Помедлил и, склонив седую голову, опустил его в белую половину урны.
Шар звучно ударился о чистое дно.
А потом шары начали падать чаще и чаще, и удары звучали все глуше и глуше.
…Подсчитали шары поздно вечером, когда за окнами уже давно горели городские огни.
Маршалок Юрий подошел к отцу Старый Вежа ожидал, стоя у окна и глядя на тусклую во тьме ленту Днепра. Пан Юрий встал рядом с ним.
— Эти шары стучали страшно, — сказал Вежа. — Как камни по гробу.
— Действительно, отец, — ответил пан Юрий, — похоронили мы этими шарами записку Раткевича. Все.
— А что, разве похоронили?
— Похоронили, отец. В собрании было четыреста двадцать восемь дворян. Чтоб записка об отказе прошла, надо было не менее двухсот шестидесяти двух голосов. И вот…
— Сколько?
— За отмену — двести шесть, против — сто восемьдесят семь.
Вежа двинулся было к выходу, но потом остановился. Лицо его было суровым, когда он сказал сыну:
— Ты, маршалок, должен был из кожи вон вылезть, а дознаться о предложении Раткевича. Наверно, не одни эти восемь человек знали.
— Не одни.
Старик сверлил сына глазами.
— Раубич знал?
— Откуда-то знал. Раткевич с ним достаточно близок.
— Ну вот. Ты должен был знать. Должен был сказать мне.
— Чем бы ты помог?
— Деньгами. Я привез бы в собрание всю мелкую шляхту, которая имеет право голоса, но не имеет крестьян, даже денег не имеет, чтоб поехать в губернию, где, в конце концов, им, обиженным, нечего делать. А они б голосовали как ты, как я. Я привез бы только еще сто человек, и Кроер полетел бы рылом в навоз.
— Зачем тебе это?
Вежа улыбнулся:
— Так просто. Клейне приятно сидеть рядом с Зoхаром, мне столкнуть эту сволочь, заставить их драться. Наконец, мне просто забавно было б посмотреть, что из этого будет. И я не люблю Кроера.
XX
Я пишу эти строки на бумаге, соленой от морского ветра. Море, темно-синее, в редких белых кружевах, разбивается о большой камень, на котором я лежу, всплескивает пеной у моих ног, а иногда, когда повезет, только одними брызгами падает мне на спину.
Холодные, как ожог, поцелуи соленой морской воды.
А земля вокруг сухая, потрескавшаяся, как ладонь обезьяны, пепельно-серая или голубая. И среди этой суши огромный, аж до Турции, и глубокий, насквозь синий, до самого дна, прозрачный кристалл — чистейшей воды. Море пахнет йодом и водорослями, земля — пылью, сухой колючкой, нагретым мрамором, корицей и перцем, сухим овечьим пометом.
Илиадой!
Я прикрываю бумагу своим телом. А вода мчится справа и слева от меня, рвется в бухту, разбивается о скалы, несет с собой, как тысячи лет назад, дымные агаты, зеленоватые халцедоны и винно-прозрачные (как молодое местное вино) сердолики.
Иногда в глубинах мелькнет синее веретенце скумбрии, по раскаленным, ароматным бокам камня бегают любопытные крабы, а море наступает и отступает, и мой камень, кажется, качается в воде, то вырастая, то опускаясь, звонкий, словно бронзовый корабль аргонавтов, бессмертный «Арго».
Поднимаю глаза и замечаю — далеко! — прозрачное деревцо гледичии. Огромные сухие стручки на нем, как связки скрученных темных змей.
Поднимаю глаза еще выше и тогда вижу, как на вершине Карадага, на вершине Святой горы, спокойно отдыхают два маленьких прозрачных облачка. Ночью над Карадагом взойдет луна, осветит их, и каждое засияет прозрачным, слабо-розовым и винным, жемчужным светом — как сердолик.
Но главное — море!
Это то самое море, в которое впадает мой Днепр.
И он, и еще тысячи, тысячи рек, ручьев и просто струек отдают морю воду, отражения берегов, которые они видели на всем своем пути, цвет вод, ветви, листья своих лесов и трав и, наконец, самих себя, свою жизнь.
Мы несем в это море все доброе и злое, что мы видели, мы несем в него свою жизнь, даже больше — свою душу.
И каждый впадает по-своему. Одна река с древних времен знает, в какое море она плывет, вторая с трудом пробивает себе путь. Одна видит море с самых своих истоков, вторая мучительно долго, очень долго, ищет его. Третья теряется в песках, пересыхает и гибнет, так и не достигнув морских волн. А четвертая неожиданно, еще за минуту до того не зная ничего, впадает в него, как струйка воды в Сердоликовую бухту.
Я лежу на горячем морщинистом камне и думаю, не достаточно ли мне водить без дороги тонкую, детскую струйку жизни дорогого мне мальчика. Впереди, конечно, еще скалы, в которых надо прорыть себе дорогу, пески, в которых надо не высохнуть, изящные, как девушки, вербы, корни которых надо напоить, и поля сеч, с которых надо милосердно смыть кровь.
Но пускай он хоть бы издали, хоть бы дождевой каплей на листике днепровского явора, каплей, которая через мгновение упадет в криницу, увидит далекое-далекое море, к которому лежит его путь. Так ему будет легче. И нестерпимо тяжело. Потому что, увидев море, человек перестает быть ребенком, человек становится человеком.
Не надо отговаривать Время. Пусть быстрее течет вода. Достаточно медлительности. Иначе долго, слишком долго доведется течь.
А море ждет. И пускай ручеек увидит его неожиданно, ибо так было тогда с каждым ручейком, ибо они не знали, какое море ожидает их, и падали туда, еще не зная о существовании моря, каждый по отдельности, срываясь с обомшелых скал, как звонкая струйка в Сердоликовую бухту.
Иногда так бывает и теперь. Тогда это случалось только так.
— Спеши, струйка воды! Море ожидает! Море шумит подо мной!
Дед возвратился с губернского собрания злой.
Все три дня, что его не было, Алесь приучал Тромба к выстрелам и еще читал начатки генеалогии и геральдики. Дед перед отъездом достал и положил ему на стол «Парчовую книгу Загорских», «Книгу младших родов», «Хронику Суходола и Збарова», «Бархатную книгу», «Государев родословец», «Городейский привилей» и «Статут Литовский». В этих книгах самое важное было отмечено, потому что все они, кроме двух, были рукописными копиями.
А днем он приучал Тромба. Он просто вспомнил, что щелканье пастушьего кнута очень напоминает выстрел. И щелкал, угощая коня сахаром после каждого «выстрела». Этого Тромб не боялся, он помнил, как щелкали кнуты на выпасе чистокровных лошадей, где он бегал стригунком. И он любил маленького хозяина. На исходе второго дня Алесь одновременно со щелчком кнута выстрелил из пистолета негромко, холостым зарядом. И сразу увидел, как мелко задрожала, переливаясь, лоснящаяся, пятнистая шкура коня.
Перезаряжая пистолет, Алесь ласково разговаривал с Тромбом.
Снова выстрел. На этот раз немного громче, чем кнут. Конь не выдержал и бросился вскачь. Но никто его не держал, не было страшных веревок. Отбежав, конь глянул издали на хозяина и увидел, что он даже не смотрит в его сторону, что у него ничего нет в руках, кроме куска сахара. И он издали легонько заржал.
Алесь сделал несколько шагов навстречу, дал коню сахар, сел на него и, успокаивая, объехал большой круг по желтой луговине.
И снова выстрел. И снова то же.
Старый Вежа, подъезжая вечером к парку, еще издали заметил дикого маленького кентавра. Кентавр наметом летел ему навстречу и еще издали выстрелил из пистолета в воздух. А потом еще и еще — победно и гордо. И конь даже не содрогнулся, лишь косил бешеным глазом.
…Вечером они сидели в библиотеке. Свет луны пробивался сквозь цветные стекла, падая на бесконечные корешки книг.
Сидели втроем. Евфросинья Глебовна вязала кружева. Дед сидел в кресле и попивал вино. А Алесь сидел за своим столом, заваленным книгами.
Было тихо. Лишь гудел да иногда постреливал искрами камин.
— Что было на выборах? — спросил Алесь.
Дед даже покраснел, вспомнив.
— Ат!
И зло бросил:
— Доробковичи. Выскочки.
— Оскорбитель ты, батюшка, — сказала Глебовна.
— А что у них за душой? — с горечью спросил князь. — Расея у них за душой? Польша у них за душой?! Своя земля?! Польшу они пропили. Расея для них чернолапотница. Своя земля им мачеха. Сволочь пан, кругом сволочь… Васьки Вощилы на них мало, Емельки Пугача, Ромки Ракутовича на их паскудные шеи!
…Дрова в камине иногда вспыхивали, и тогда на книги, освещенные свечами, падал легкий багрянец.
— Дед, — сказал Алесь, — я вот хотел узнать у тебя о царском титуле.
— А зачем это тебе? — иронично спросил Вежа. — Плюнь. Читай то, что о нас.
Алесь захлопнул огромный том и уставился в огонь. Сквозь голые кроны парка, сквозь непогоду долетел бой часов готической часовни. Девять часов.
— Шел бы ты спать, Алесь.
— Погоди, дедусь, погреюсь.
Дед пошевелил дрова и спросил:
— Так что это ты там хотел узнать про титул этой скотины?
Алесь снова раскрыл книгу.
— Понимаешь, зачем такой большой и непонятный титул?
— Для важности. Чтоб знали, сколько земли государь награбил. А что там тебе не понятно?
— Ну вот, «самодержец всероссийский… царь польский… великий князь финляндский…» Это все понятно… А почему в старом титуле такие удивительные слова: «всея Великия и Малыя и… Белыя Руси»? Это еще что за глупость? Почему не «зеленыя»? Не «широкия»?
— Это названия такие.
— Названия чего? Ну, «Великая Русь» — это понятно. Империя действительно большая.
— Не туда гнешь, — сказал старик. — Великая Русь — это все, что от истоков Днепра и Сожа и аж до восточного места, до пустынь, до гор… Малая…
— Это еще что?
— Живет на юге такой народ. Это там, где Киев, и Полтава, и Миргород. Когда я ездил до Киева с императрицей, то насмотрелся. Народ интересный, на наш взгляд непривычный, но хороший.
— А «Белая» — это что?
— А это Приднепровье, Полесье, Минщина — все, аж по самое Подляшье.
Алесь покусывал перо.
— Что же, тогда выходит, что мы жители Белой Руси?
— Еще чего! Мы приднепровцы. А слово это — «Белая Русь» — окончательно устаревшее, очень давнее слово, которое никто не помнит. Сейчас оно и вообще под запретом, много лет нигде ты его не встретишь.
— Ну, а почему же так?
— А потому, что никому до этого нет дела. О другом надо думать.
— О чем?
— Ну хотя б о том, что приднепровские дворяне стали холуями, что нет больше в Приднепровье ни силы, ни ума, ни чести. Что мы вымираем.
— Что ты, батюшка! — ужаснулась Глебовна. — Разве нам есть нечего? Да спаси господи!
— Помолчи минутку, — мягко сказал старый князь. — Вымираем, Алесь. Это правда. Не дай бог только дожить. Ни тебе, моему внуку, ни твоему внуку. Возьми ты Могилев. Был богатый большой город. Возьми Полоцк… Загорск стал большой деревней, Друцк — маленькой и нищенской. В Суходоле два года тому назад было мужчин две тысячи без двухсот, женщин — полторы тысячи да сотня. Первый признак! И в этом году родилось сто пятьдесят девять человек, а умерло двести семьдесят семь. На сто восемнадцать человек стало меньше. И так почти каждый год.
Пошевелил щипцами дрова. Сноп искр рванулся вверх.
Алесь молчал, глядя на мигающее пламя. Он тяжело, не по-детски, думал. Отблески пламени трепетали на его лице, и потому казалось, что оно густо залито кровью.
— Я не понимаю, — сказал он наконец глухим голосом, — не понимаю, почему так говорил в усыпальнице отец: «У других есть имя — у нас нет ничего, кроме могил»? — Узкая его рука сломала перо. — Да нет, нет. Есть имя. Не одни могилы. Имя тоже есть, забытое, древнее. Однако же есть.
— Возможно, — пожал плечами дед. — Только все это не то. Иди лучше спать, внучек. Поздно тебе здесь сидеть и думать.
Вставая, Алесь с каким-то удивительным чувством погладил пальцами лист титула. Этот печальный, никому не нужный лист с длинной надписью.
* * *
…Я спускался с вершины Святой горы. Было поздно, и солнце давно село за горы. Ломая дубняк, ступая на жесткие подушки камнеломки, я спускался все ниже и ниже, туда, где над бухтой горели невероятно синие огни.
Пошла сухая горная трава. Справа от меня, на обрыве, возносился в небо Чертов Палец.
Я выбрался на дорогу и быстро зашагал вниз.
Ползли по склонам серые пятна, и приглушенно долетало оттуда «глок-глок» — колокольчики овечьих стад.
Теперь я спустился низко, и вокруг были одни морщинистые горы.
Что-то тусклое появилось рядом со мной — слабая еще, невыразительная на сером тень. Моя тень. И я подумал, какие они были бедные, несмотря на богатство, те, что ожили под моим пером. Как они были достойны сожаления! Как тень.
А тень появилась и теперь все густела и густела, потому что луна, восходя над миром, делалась все ярче и наливалась светом.
В ложбине пустовали каменные коробки каких-то низких строений, заросших шиповником и колючками. И это было как на Марсе, где пески заносят развалины старых городов. А луна рождала в строениях тени и делала морщинистые горы совсем голубыми.
И вдруг огромное счастье родилось в сердце. Я жил, и я шел среди руин, под этой голубой луной, я продирался сквозь колючки, что аж скрипели от мертвой сухости. И я шел навстречу тому, о чем знал в этой теснине один я. Только один.
Я миновал теснину, и после аромата сухой земли, колючек и полыни теплый, роскошный, безмерный аромат моря, его бесконечный шум заполнил мне уши и сердце.
Море горело лунным огнем меж сухих скал.
…И все эти дни и ночи я жил им, даже когда не видел его.
Жил в скалах, жил в степях, жил среди теснин.
Иногда, проснувшись ночью и лежа бессонно с раскрытыми глазами, или поздним вечером, сидя за своим столом, я вздрагивал от неожиданного ощущения холода и дикого осеннего одиночества.
Потому что за окнами стоял глухой шум, какой бывает у нас лишь поздней осенью, когда порывы ветра бегут по голым вершинам неуютных деревьев.
А потом мне сразу делалось тепло, и я вспоминал и улыбался сам себе в темноте, потому что это было — Море!
XXI
Рождество украсил свежий и пушистый снег. Снег был на всем — на заборах, на стрехах, на деревьях, на тулупе ночного сторожа и в ведрах с водой, только принесенных от колодца в хату.
Земля помолодела.
Майка Раубич, проснувшись утром в сочельник, сразу поняла, что на дворе снег, — так светло было в комнате. И она вскочила с кровати, набросив одеяло на подушку, чтоб не ушло тепло, и босиком подбежала к окну.
За окном было белое и черное: снег и ветви деревьев.
Ноги немножко зябли на полу, и девочка прыгнула снова в постель, которая не успела благодаря ее хитрости остыть, и аж засмеялась от счастья, что тепло и что на дворе снег.
А потом задумалась, не зная, приснилось ей то, что она видела вчера вечером, или было на самом деле.
Накануне нянька Тэкля пугала ее, что вот приближается рождество и теперь как раз раздолье для разных нечистиков, которые торопятся перед рождением господа нахватать себе как можно больше озорных и непослушных девочек.
— Лазник[80] вось. Як во-озьмет за бок, ды я-ак потя-янет на полок, ды як начнет щекотать, тут ужо молись як хочешь — не поможет. Потому як не слушалась родителей и няньки Тэкли.
— А какой он, Лазник?
— Страшный, — отрезала Тэкля. — Одежа у него из веников, вместо усов — два лазенных опарыша. А сам весь курится паром. И горячий такой, щекотливый.
— Не верю я тебе, бабуля. Вон говорили на празднике огня,[81] что Паляндра страшная. А то был Тодорка-водовоз. И смешил детей. И совсем он не страшный.
— А вот поглядишь, поглядишь! — пугала старуха.
И тогда Майка решила посмотреть. После ужина она, вместо того чтоб идти в библиотеку, набросила шубку и крадучись пошла мрачным парком к бане. Она не боялась, что ей помешают: отец всегда разрешал ей делать, что она хочет.
Продутый насквозь ветром, звонкий от мороза парк, редкие холодные звезды в ветвях. Скрипнула калитка в частоколе, высоком, страшном в темноте, с лошадиными, неясно белеющими черепами на нем.
Она в самом деле увидела Лазника. В бане горел желтый блеклый огонек, и девочка, прижавшись снаружи к восьмигранникам толстого пузырчатого стекла в свинцовой раме, увидела предбанник, похожий на пещеру, лохматый от сотен веников, а на скамеечке — его.
Он был похож и непохож. Веники были не на нем, а вокруг. Видимо, разделся и сбросил их. Но даже без веников он был страшен, хотя совсем не курился: такой черноволосый, темный и неясный через стекло.
Дрожа от страха, она расплющила нос, прижавшись к стеклу, и круглыми от ужаса глазами следила за ним.
Лазник, видимо, что-то услышал. Он поднял глаза и посмотрел на окошко.
Она скатилась вниз по ступенькам с галерейки и припустилась бежать так, как не бегала никогда в жизни. Чуть не потеряла в кустах шубейку, исцарапала руки в живой изгороди, больно ударилась ногой о камень. А теперь вот лежала и думала, было все это или нет.
Истопник грохнул в коридоре дрова на железный лист возле печки, и она представила, как хорошо эти дрова пахнут — свежестью, ароматом морозного дерева и подтаявшим снежком.
Ярош Раубич, войдя в комнату, тоже принес запах снега и чистоты. Присел на край кровати.
— Что ж ты лежишь, доченька? Сороки снег принесли.
— Я еще капельку-капельку, — сказала она.
Лицо Раубича, если на него не смотрел никто чужой, было совсем не желчно. И в глазах не было той пытливости, которая обычно смущала всех. Была в них даже какая-то вина, нечто вроде вечного осознания какой-то погрешности в том, что он делает.
Майка играла браслетом, вертя его на отцовском запястье.
— Шиповник, у-у, как колется… Курган, у-у, какой высокий… А вот «бу-у» — страшный рогатый бык. Гам — и съест.
— Бык? Это зубр.
— А зубр разве не бык?
— Пусть так. Однако же зубры никого не едят… Однажды шляхтюк в сильный мороз ехал на санях, полных сена, пущей. Зубр подошел, осторожно подцепил сонного шляхтюка на рога и положил его на снег.
— Неправда, папа. А кони?
— А кони думали, что это корова. Кони ведь не боятся коров.
Майка засмеялась.
— А потом зубр пошел за санями и ел сено, пока не съел все. А шляхтюк ругался: «Корова ты гадкая! Бык ты холерный! Чтоб тебя так волки ели, как ты мое сено съел, чтоб тебя…»
Девочка, смеясь, прижалась щекой к железному браслету.
— А зубр?
— Съел и ушел. Они добрые. Они страшные только для врагов, зубры.
— Ласа-зубр. Хороший зубр. У, какой железный!
Раубич погладил ее по головке.
— Достаточно, детка. Не стоит тебе играть с этой штукой. Это игрушка для взрослых.
Приподнял ее вместе с одеялом.
— А я тебе секрет раскрою, хочешь?
— Хочу.
— Алесь прислал за тобой лошадей. Хочешь с мамой съездить к нему на рождество?
— А ты?
— Я не могу, — серьезно, как взрослой, сказал Раубич. — Мне надо ехать почти на другой конец губернии. Понимаешь, мужские дворянские дела. Это тебе не интересно. Так хочешь?
— Хочу, папа, — вздохнула она. — Только тебя жаль.
— Тогда одевайся. Сама. Как взрослая. Одевайся, Михалина.
И развернул вокруг ее кровати и умывальника японскую ширму.
— Папа, — спросила из-за ширмы Майка, — Лазник есть?
— Какой Лазник?… А-а. Нет, детка. Никого такого нет. Ни лазников, ни водяных — никого. Это только ворчливые бабуси пугают девочек. Но ты не верь и никого-никого не бойся. Страшными бывают лишь злые люди.
Майка фыркала в ладошки над умывальником.
— А кого же я тогда вчера видела в нашей бане? В окно. Сидит, черный такой. И веники с себя снял.
— Раубич осекся.
— Ну, один, может, и остался, — наконец сказал он. — Только он старый, он, наверно, скоро уйдет в лес и уснет там навсегда среди берез. А пока ходит себе из бани в баню. Носит детям подарки перед рождеством. И тебе принес. И золотой медальон принес вместо того, что ты… потеряла. Ты ведь теперь почти взрослая, девушка. А значит, можешь носить золото.
— Папа, разве мы так бедны, что носим железо?
— Это не просто ржавое железо. Это железо даже без пылинки другого металла…
Помолчал.
— Нет, детка, мы не бедны. Мы еще держимся за старый-старый обычай, ставший нашим фамильным. Мы, мужчины из Раубичей, носим только железо, потому что золото очень грязный металл. Самый грязный, какой есть на земле.
— А как же мне его носить?
— Девочкам можно. И потом — это старое золото. Его добыли деды… железом. Такое можно.
Майка, уже совсем одетая, выбежала из-за ширмы и бросилась Ярошу на шею. Он подхватил ее, легонькую, теплую, самую дорогую ношу на земле.
«Боже, — думал он, — что ж это я делаю все последние годы?! А она что? Что она будет делать, маленькая?»
Но он знал, что все останется по-прежнему, и ничего ей не сказал, лишь поцеловал темно-голубые глаза.
— Слушай, — сказал он, — слушай меня, лапуся. Будь умницей, не обижай Алеся, не «вображай» перед ним, как вы, дети, говорите.
Он, конечно, понимал это неблизкое обещание взрослости в любимой дочери. Но говорить об этом было нельзя. Рано.
— Я менее всех других хотела б его обижать, — вздохнув, сказала она. — Да что поделаешь, если он такой медвежонок?! То ловкий и веселый, а то увалень увальнем.
— Ты все же постарайся, — сказал Раубич.
— Я постараюсь, — пообещала она.
…Выехали в зимнем возке впятером: мать, Франс, Майка, младшая сестра Наталья и Стась, самый маленький из всех.
В окошечки возка были видны ложбины, заснеженные леса, птицы, что прилетают из далекой Лапландии и зимуют у нас, косогоры над белым Днепром и лиловые кустарники на гривах.
Кучер пел что-то грустное и раздольное, покачивая в такт пению головой.
Звонко визжали под полозьями морозные колеи.
Ветер принес далекое волчье вытье и редкий орудийный гул льда, ломающегося на Днепре от мороза.
От неподвижности всем в возке было немножко холодновато.
А потом с гряды заметили далекие огни в снегах. Лошади побежали быстрее. Возок остановился, резко развернувшись, у парадного крыльца.
…Навстречу высыпали люди, быстро несли детей в дом, раздевали их, пахнущих морозом, сажали на длинную горячую лежанку в гардеробной, давали по глотку горячего вина с корицей.
Алесь то пожимал руку Франсу, то наклонялся к Майке, то целовал маленькую Наталку (Майку целовать он стеснялся).
А потом сюда ввалилась целая гурьба приехавших ранее гостей: Мстислав, Ядзенька Клейна, Янка, черный, как сапог, и бесконечно веселый. Объятия, визг, смех.
— Чего-чего, а шуму будет. И не говори, кума, — сказал пан Юрий.
Он был счастлив. На рождество в Загорщину неожиданно приехал старый Вежа.
Вежа встретил детей на верхних ступеньках лестницы. Брал детей на руки, смотрел им в глаза.
— Это чья же такая? Твоя, пани Надежда?
— Моя.
— Красивая какая. А это? Ого, ну, это я сам догадываюсь. Новый приднепровский дворянин, усыновленный Ян Клейна. Смотри ты, какой! Получишь от меня саблю.
— Спасибо вам, — серьезно сказал мурuн. — У Реки много врагов.
Дед неожиданно вздохнул и поцеловал Янку.
— Придет время — я сам найду тебе жену и оружие. Алеся хоть любишь? Будь ему другом. Как нитка за иголкой. Ты, брат, смотри. Тебе еще придется всей жизнью доказывать… что ты — наш.
Легонько сжал в висках голову Мстислава.
— Пустите меня, пожалуйста, — серьезно сказал Мстислав.
— Почему это?
— Мы уже взрослые.
— Правильно, — согласился дед Вежа. — Вы взрослые. Так, значит, ты самый лучший друг моего внука?
…Наконец дошла очередь до Майки. И тут дед изволил присесть на поставленное сыном креслице.
— Раубичева? Ну, дай посмотреть на тебя.
Долго рассматривал пепельные, с золотистым оттенком волосы, сиреневое платьице с короткими рукавами, темно-голубые притворно-наивные глаза.
— Чертик? — спросил он. — Чего тебе не хватает для того, чтоб стать хорошим и добрым, чертик?
Майка улыбалась краешком рта. Ее сердил этот осмотр, она чувствовала в нем что-то неловкое и про себя решила отыграться за него на единственном человеке, которого было почему-то приятно дразнить, — на Алесе.
— Взрослости, — сказал Вежа. — Жизнь тебе позволяла все, капризный чертик. А вот когда она начнет сопротивляться, начнет мять, — тогда ты поймешь и станешь хорошим, чертик с изумительными глазами.
Погладил ее ручку.
— Будь добрым с… людьми, чертик. Так или нет? Будешь?
— Попробую, — сделала она книксен.
Пошла дальше. Старик смотрел на нее и думал:
«Самая подходящая пара будет для Алеся. Честная семья. Одна из немногих настоящих. Однако кто знает, что получится из девочки через семь лет…»
И после разговора с детьми Вежа стал особенно язвительным с гостями, шокировал их всех мужицким языком вперемешку с самым утонченным французским, умышленно нападал на то, что было дорого собеседнику, — словом, расклеился.
На него смотрели с удивлением, поражаясь грубым мужицким фразам, которые он произносил с особенным смаком. Пока что на людях это позволялось лишь Клейне.
Они просто забыли, что Вежа и раньше отличался этим. Забыть было легко — старик не появлялся среди них целых десять лет.
А старый князь — к детям. Сам открыл им дверь в зал, где стояло что-то таинственное, раскинувшее в разные стороны лапы. Сам приказал зажечь свечи, стрелял вместе со всеми из хлопушек, помогал разбирать подарки, первым вел детский хоровод.
Прямо на анфиладе, из комнаты в комнату, двигалась пестрая цепочка, а впереди легко вышагивал седой человек почти саженного роста и напевал:
Антон козу ведет,
Тпру да ну — коза не идет.
В голубой гостиной хоровод налетел на китайскую вазу на подставке. Черепки с синими рыбами разлетелись в стороны.
Дед сокрушенно почесал затылок и вдруг с легкого шага перешел на пляску.
Никто не видел, что Клейна стоит в дверях и наблюдает за пляской. И вдруг все замолчали. А Клейна сказала:
— А вот пани Антонида заметит да ухватом вас, лайдаки. За этим старым дурнем и вы…
Словно здесь была крестьянская изба.
— Это мы празднуем! — крикнул старый Вежа. — Касьян, подбери черепки! Утром раздашь детям по одному в коробочке. Это будет «общество разбитой вазы». Лет через сорок склеите. Друг друга не терять!
Пан Юрий смотрел из двери на пляску вокруг разбитой вазы и хохотал.
— А ну, за мной! — крикнул он и повел детей снова к елке.
Она сияла в полумраке, огромная, вся в таинственных тенях, пахучая. Красным светом горела на ее верхушке Вифлеемская звезда. А в ветвях, словно в зеленой пещере, стояли игрушечные овцы, и волхвы в чудесных одеяниях шли к яслям.
…А потом навестили дворец крестьяне с «козой». С лицами, намазанными сажей, в вывернутых полушубках, в удивительных «турецких» шапках, они принесли с собой мороз, звуки дуды, цимбал и бубна.
«Коза» была в серой волчьей шубе, с хвостом из мочалы, в овечьей маске. Вместо бороды у нее был пук колосьев. Коза блеяла и пела дурашливым голосом.
Это была уже не забава, а важное дело. Ведь от козы зависел предстоящий урожай. Всем известно, что душа нивы, кому повезло ее увидеть, похожа на проворную козу, которая умеет бегать на задних ножках. Такое уж оно существо. Вначале ей хорошо жить, но потом жнеи жнут жито, и все меньше и меньше остается места, где могла б укрыться душа нивы. В отчаянии она прячется в последнюю горсть колосьев — это и есть борода козы. Последнюю горсть срезают осторожно. Она лежит под иконами и выходит из хаты на рождество, привязанная к голове «козы». Она веселится вместе со всеми и решает: надо сделать, чтоб людям было хорошо.
И люди не бросают ее. Люди держат «душу» до весны, а весной выносят и осторожно «отпускают» — кладут в уже подросшую зеленую озимь.
И снова душа властвует в своем царстве, не давая погибнуть ни одному растению, а сама свободно ходит на задних ножках по всем просторам приднепровских нив.
…Прерывисто гудела дуда, сопровождая песню:
Где коза ходит, там жито родит;
Где коза хвостом, там жито кустом;
Где коза стопою, там жито копою;
Где коза рогом, там жито стогом.
…Разгоряченные пляской, Алесь и Майка выбежали из комнаты и остановились в прохладной лоджии. Через большие окна светились морозные звезды.
Две маленькие фигурки остановились у окна и прижались друг к другу — обоим стало немножко жутко. Ощущая под рукой плечико девочки, Алесь сказал:
— Звезды. Учитель говорит, что на них тоже есть люди.
— И мы их никогда не увидим, — сказала Майка. — А что, Алесь, может там быть, как у нас… в Загорщине? Есть там такие, как мы?
— На одной нет, и на другой нет, — ответил Алесь. — А на тысячной… может, и есть. Стоят где-то, как и мы, такие же мальчик и девочка, смотрят на нас и думают: есть ли там кто?
— И тоже никогда не увидят, — вздохнула Майка.
Звезды мерцали над парком.
— Алесь, — спросила она, — может родиться человек с такими глазами, что увидит их?
— Не знаю, — сказал Алесь. — Глаза у всех разные. Видишь Ковш?
— Вижу.
— А вон вторая звездочка в его ручке. Посмотри, что ты видишь возле нее?
— Ой, — шепнула Майка, — еще одна звездочка!
— Это Мицар и Алькор, — сказал Алесь. — У тебя хорошее зрение. А вон ту звезду как ты видишь?
— Никак. Звезда как звезда.
— А я знаю, что она двойная. Это альфа Весов. Учитель удивляется, какие у меня глаза. Он проверял. Он видит лишь в трубу то, что я хорошо вижу и так. Знаешь, Вечерняя звезда имеет серпы, как луна. А когда на ней серп, то иногда можно увидеть, что остальная ее часть пепельная… Я вижу даже еще больше. Возле Волчьего Ока[82] есть две совсем малюсенькие звездочки. Но я их вижу только в сумерки, когда на небе совсем мало звезд. Тогда никто не забивает их своим сиянием.
Помолчал.
— Может, когда-нибудь и родится несколько человек с таким зрением, что сумеют увидеть на звездах людей.
— Слушай, — сказала она, — давай сделаем… знаешь что?
— Знаю, — сказал он, каким-то шестым чувством угадав, что она думает. — Надо назвать эти две звезды возле Волчьего Ока. Их ведь никто не видит. Так мы дадим одной твое имя, а второй — мое. И это будет наша тайна. И наши имена будут вечны, как те звезды. Всегда.
— Всегда-всегда, — согласилась она. — Даже когда нас не будет… через тысячу лет… Звезда Майка и звезда Алесь.
…Святки продолжались — в танцах, переодеваниях, гаданиях, в полете санок, окутанных радужной снежной пылью. А возле Волчьего Ока жили и светились никому не известные звезда Майка и звезда Алесь. Им было хорошо и весело вместе со всеми, но еще лучше одним.
Они говорили и говорили. Алесь рассказывал ей о встрече на лугу с Черным Войной. Она даже похолодела, услышав, как он похож на ее Лазника. Но ничего не сказала ему об этом.
…Однажды — это было на четвертый день рождества — они удрали от всех и пошли в дальние, нежилые комнаты дома «искать интересного». Интересное было всюду. То это была «шкатулочка Пандоры», которую они нашли на столике в угловой комнате. Они долго не могли открыть ее, а потом случайно нажали на блестящую пластинку, и из шкатулки вслед за откинутой крышкой выросли кавалер и дама из «бисквита».[83] Они медленно поворачивались в каком-то неизвестном танце, а вокруг них шустро кружился черт.
Интересны были старые портреты, потому что они не могли прочесть на них надписей, выполненных вязью и по-латыни. Интересен был калейдоскоп, который они нашли в пустой комнатке. Калейдоскоп лежал в коробке вместе с разноцветными стеклышками. Дети сели на кушетку и начали через эти стеклышки смотреть в окно на деревья и облака.
Они посмотрели через синее стеклышко — и мир за окном стал синим и неживым.
— Я не хочу такой земли, — сказала она.
— Я тоже. Нa тебе желтое стекло.
Желтое было веселым и радостным. Мир теперь лежал перед Майкой светлый, и она смеялась.
А потом попалось красное стеклышко. Устрашающе багровое небо, тяжелые кровавые облака, такие неумолимые, медленные, ужасные.
— Страшно, — сказала она. — Возьми скорее.
Они сидели молча, ошеломленные страшным зрелищем. Майка была такая угнетенная… Алесь сам не знал, как это у него получилось. Но он обнял ее невесомыми руками и неумело поцеловал в неподвижный ротик.
На мгновение она было рассердилась, но потом поднялась с кушетки и пересела в маленькое креслице у стены. Сидела молчаливая и такая тонюсенькая в своем сиреневом платьице, что ему стало жаль ее.
Но он не знал, как вымолить прощение. Он просто смотрел на нее большими умоляющими глазами. А Майка даже глаз на него не подняла.
Тогда он перевел взгляд на стену и увидел удивительное. Заходящее солнце лежало на стене комнаты. И там же, на стене, Алесь увидел чернолицую Майку с фиолетовыми волосами и в платье оранжево-багрового цвета. Черную-черную Майку с фиолетовыми сияющими волосами.
— Майка! — крикнул он таким голосом, что испугал ее. — Майка, смотри на меня. Долго-долго смотри.
Недоумевающая, она все же подчинилась.
Закат лежал на стене комнаты. Она смотрела на мальчика, на его зеленую куртку, видела его умоляющие и испуганные глаза и понимала, что напрасно обиделась на него.
— А теперь смотри на стену.
Она отвела глаза и увидела черную тень Алеся, одетую в пурпур.
— Ты, — сказала она, — ты… совсем черный, ты сливаешься с тенью, тебя не видно. Лишь одежда багровая… плавает.
— А ты в оранжево-багровой… Твои волосы лиловые.
Они повторяли и повторяли опыт, перепуганные до глубины души.
…Черный мальчик в пурпуре. Майка недаром читала романы.
— Словно… голову тебе отрубили, — сказала она. — Словно… призрак багрового человечка.
Он пристально взглянул на нее. И тогда она спохватилась:
— Ой, я что-то не то сказала. Прости меня, Алесь.
Поднявшись с кресла, она быстро подошла к кушетке, склонилась над ним и, обняв его за шею, сама нежно и целомудренно поцеловала.
XXII
Алесь читал, сидя на застекленной террасе. Стекла были очень старые и потому приобрели легкий фиолетовый оттенок. За садом плыло солнце, светило Алесю прямо в лицо, и буквы в книге казались красными.
Он нашел в библиотеке деда Яна Борщевского. Книга называлась «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах». Сейчас он осиливал уже четвертый том. Это было первым подтверждением, что не один он открыл Море, и потому он мог многое простить автору.
Было хорошо. Перед ним возникал симпатичный человек, который каждую весну, как перелетная птица, не мог усидеть в Петербурге и пешком, с посохом в руках, шел на родину, в Белоруссию. Он шел и слушал пение жаворонков в жарком небе. А в душе его рождались строки… Возникал человек, который в метель ставил на окно свечу, чтобы путники шли к нему. Он кормил и поил людей, только бы они рассказывали ему истории и предания.
Было жаль, что он пишет по-польски, вставляя в книгу белорусские диалоги. На своем языке он мог бы стать великим. На чужом — лишь выше среднего.
Борщевский, способный и добрый человек, во многом близкий Гоголю, называл себя белорусом, а родину — Беларусью, возможно, даже слишком настойчиво. Он нежно любил край, его предания, его людей.
«Ну, а я?» — подумал Алесь.
…И как раз в этот момент пришли в Загорщину к нему Кондрат и Андрей. Кирдун привел их на террасу, и вот они сидели перед ним. Такие похожие, что даже смеяться хотелось, и одновременно такие разные. Кто умел так шутить, как Кондрат, и кто пел такие песни, как Андрей? Дороже всего были их улыбки — хитроватая Кондрата и ласковая, почти женская у Андрея. Правильно сделал отец, что отпустил их и отдал Павлюка с Юрасем в школу. И Алесь без сожаления отложил книгу человека, который открыл Море на шесть лет раньше его, Алеся, даже успел написать об этом, но не понимал волн, из которых это Море состояло.
— Слушай, Алесь, — сказал наконец Кондрат, — у нас к тебе дело.
— Ну? — сказал Алесь.
— Но прежде ты дашь нам слово, что об этом никто не узнает, даже родители…
— Мы тут думали, аж головы трещат, — сказал Андрей. — Но теперь масленица. Все ездят. В гости. А Кроер… твой дальний родственник…
— Стойте, ребята, — прервал их Алесь. — Ничего не понимаю. Да мы и не ездим туда никогда. Мои не любят Кроера.
— Тем лучше, — вздохнул Кондрат облегченно. — А мы думали… Значит, все хорошо.
И засмеялся:
— Юрасю отец два подзатыльника влепил. Пришел хлопец из церкви, а в кармане у него четыре гривенника. Отец спрашивает: «Откуда»? А тот говорит: «А там, где все брали, там и я взял. С блюда». Мы чуть не подохли со смеху.
Андрей смотрел в сторону. Да и смех Кондрата был неискренний. Алесь с болью видел это, видел, что ребята чуть было не рассказали ему о чем-то тайном и вот теперь переводят разговор на другое.
— Как хотите, хлопцы, — сухо сказал он, — но я думал, что вы мне верите, что я для вас остался братом. Даже теперь. Что ж, пусть так…
— Да мы ничего, — замялся Кондрат. — Мы только хотели просить, чтоб не ездил к Кроеру… Не любят его…
— Сам знаю, — сухо сказал Алесь.
Молчали. Алесь знал: дружбе и откровенности конец. А тут еще Кондрат неожиданно, только б не молчать, начал рассказывать очередную побасенку:
— У Лопаты гости были. Положили их, подвыпивших, в чистой половине. А дети взяли да придвинули к двери стол. Ночью встает человек, ищет выхода… Но сколько ни щупает, нет двери… Аж зубами скрежетали.
Андрей даже крякнул с досады за брата. Строго поднял глаза.
— Несешь вздор, оболтус, — прервал он. — А ну, давай выкладывай все. Алесь наш, мужик. Не скажешь — всему конец. Где нет веры, какая там может быть дружба?
— Что вы, — сказал Алесь. — Чему конец? Да я и не хочу.
— Видишь? — спросил Андрей.
— Кондрат все еще колебался. И тогда глаза Андрея вспыхнули.
— Не хочешь? Тогда я сам. Только ты, Алесь, знай: на тебя все надежды. Молчи во имя матери и пана Езуса.
— Это уж напрасно, хлопцы.
— Не напрасно, — отрезал Андрей. — Каждый за своих: дворяне за дворян, мужики за мужиков. А если доведаются, тогда нам конец. Потому что знали, а не сказали. Деда старого хорошо если только выпорют. А нам, и Лопатам, и Кахновым людям, может, и Сибирь.
— Тогда и говорить не надо, — сказал Алесь уже серьезно.
— Надо, — сурово сказал Андрей. — Мы дядькованые братья. Раз смолчим, два смолчим — и конец братству.
Он передохнул.
— Кроера хотят убить, а имение его сжечь. Корчак. Тот самый, что вилы метнул. У него кровь в сердце запеклась на пана Кастуся. Его дети торбы пошили и пошли просить подаяние. За самим Корчаком охотятся, как за зверем. И Корчак решил — убить. Тот, кто убил, — это уже не человек, а хуже сумасшедшего. Он отравлен убийством. За змею бог сто грехов прощает. И он убьет в один из дней масленицы. Чтоб грешить не в пост. Так что не езди и своих отговори.
— Мы никогда к нему не ездим, — сказал Алесь. — Мы враги. Я никому не скажу, можете мне верить. Только ведь его, Корчака, поймают. Мусатов за ним повсюду гоняется. Жаль смелого человека!.. А кто это вам сказал об убийстве?
— Петро Кахно слыхал от Лопат. А те к Покивачу ездят, где Корчак скрывался.
— Болтун ваш Петро, — процедил Алесь. — На радостях, что эту грязную свинью убить собираются, распустил язык.
— Он никому больше не сказал, — покраснел Андрей. — Не думал я, что ты, Алесь, нас упрекать будешь.
Теперь стало неловко Алесю.
— Я не упрекаю. И я никому больше не скажу. Могила!!
Это была самая страшная клятва о молчании. Ребята поверили и ушли успокоенные.
…Утром следующего дня в Загорщину прискакал из Кроеровщины гонец, мужик лет под сорок. Пан Юрий и Алесь как раз выходили из дома, когда мужик грузно сполз со своей неуклюжей лошаденки.
Та сразу же словно уснула, расставив свои косолапые топалки. Мужик стоял рядом с ней, мял в руках грязную, дырявую магерку — валяную шапку — и не смотрел на господ, только на мокрый снег, в котором утопали его раскисшие поршни.
— Накрой голову, — сказал пан Юрий. — Не люблю.
Диковатые светлые глаза мужика на мгновение впились в него.
— Их благородие пан Константин Кроер померли. Они просят, чтобы дворяне стояли… у гроба.
— Как это он просит? — еще не веря, спросил пан Юрий. — Мертвый просит?
— Еще когда… живые были.
— Как случилось?
— В одночасье… почти. Говорят, жила лопнула. Уже и в гроб положили.
Пан Юрий перекрестился.
И увидел белую голову мужика, на которой таяли мокрые хлопья последнего снега.
— Накройся, говорю тебе. Иди в людскую. Попроси там водки. И овса коню.
— Нет, — сказал мужик. — Приказано еще оповестить…
Загорский рассердился:
— Иди, говорю! Иначе я, пока там что да чего, сам тебя в батоги возьму. Логвин, Карп, возьмите его, дайте ему сухие поршни, водки, — словом, что нужно.
Мужик пошел со слугами, покорно опустив голову.
— Собирайся, Алесь, — сказал пан Юрий, взбегая по ступенькам.
Не ехать было нельзя, отец так и сказал матери.
Неожиданно мать отказалась.
— Ты можешь ехать с Алесем, — сказала она. — Тебе нужно. А я не могу. Я не любила его.
Поехали вдвоем. Конно. По настилу из лозняка переехали толстый, но уже слабый, как мокрый сахар, днепровский лед. Дорога шла вначале лугами, потом заснеженной возвышенностью, которая переходила где-то далеко справа в Красную гору. Скоро должна была открыться глазам Кроеровщина.
Мокрый, местами уже грязный снег укрывал поля, а на снегу сидели угольно-черные вороны. Иногда они взлетали, и тогда сразу становилось понятно, как тяжело им лететь сквозь сырой, тяжелый ветер. В поле Загорских догнал Януш Бискупович, личный враг Кроера, тоже верхом. Поздоровались. Алесь с любопытством рассматривал попутчика, его живое, красивое лицо с бархатно-черными глазами. Бискупович был небезразличен ему еще и потому, что был самым богатым из всех охотников Приднепровья на «песни рога».
Он сочинял не только их, но еще и стихи, серьезные и душевные — по-польски, шуточные — по-местному. Кроер чуть не вызвал его на дуэль за стихотворение о пивощинском бунте. Там, между прочим, были такие строки:
Пан жандарм его целует,
Хоть он кукишем глядит.
Пан Юрий относился к Бискуповичу с уважением, но был откровенно удивлен, что тот тоже едет.
— Как же это вы?
— Каждый из смертных должен надеяться на последнюю милость собратьев.
— А спор вы с ним затеяли напрасно, — сказал пан Юрий.
— Грозен рак, да в ж… глаза, — улыбнулся Бискупович.
— Ну, пророков нет.
— Есть пророки, — ответил Бискупович. — К худу или к добру, однако моя эпиграмма неожиданно быстро оправдалась.
— Какая?
— А та, которой я ответил на его угрозы.
Пан Юрий вспомнил и не очень весело рассмеялся. Эту эпиграмму помнили все и знали, что Кроер не простит ее. Потому что ничто еще так не клеймило его, как эти строчки:
Smierc Krojera w Krojerowszczyzbie zrobi zmiane znaczna:
Panowie pic przestana, chlopi zas jesc zaczna.[84]
И вот Кроер умер. Теперь в самом деле не будет кому поить мерзавцев, а крестьянам станет легче.
…Кроеровщина удивила Алеся. Огромное село расползлось по богатому лёссовидному суглинку, по бровкам яра, по склонам, по косогору над речушкой. Нигде ни деревца, ни кустика. У общинного векового дуба, что на площади, осталась лишь одна ветка, — торчит, словно человек, вопя, воздел одну руку. Крестьяне, которые попадались навстречу, затравленно глядят в землю.
Огромный господский дом стоял тоже на пустом месте, неуютный, мрачный. Страшное запустение царило вокруг. Маленькие полукруглые ворота, глухой, без окон, нижний этаж, два крыла террасы.
Та же картина была и в комнатах. Старая, заброшенная, никому не нужная роскошь, молчаливые слуги, молчаливые группки гостей, съехавшихся воздать последние почести покойнику.
А был когда-то богатый дом, даже очень богатый.
Кроер лежал в парадном зале, окна которого начинались на уровне человеческого роста. В зале стоял стол. Рядом с ним пюпитр, за которым человек в монашеской одежде читал Псалтырь. Капюшон закрывал его лицо.
А на столе в дубовом гробу лежал Кроер. Две толстые, с руку, восковые свечи бросали желтовато-розовые отражения на неподвижное лицо.
— Отгулялся, — сказал пан Юрий.
А в полумраке зала раздавались страшные монотонные слова псалмов «в утешение печалящимся».
Дневной свет едва пробивался в высокие окна, пыльный, словно в подземелье, грифельно-серый. И освещенное пятно — это только лицо Кроера, руки, сложенные на груди, и красноватая парча, закрывающая тело до самых рук.
Люди шли мимо гроба и крестились. Некоторые — с нескрываемым удовольствием и с деланно-печальным выражением на лице.
Пан Юрий и Алесь остановились в ногах покойника.
— Прощай, шурин, — сказал пан Юрий. — Пусть бог будет милостив к тебе, как прощает он всякий грех.
Алесь немного испуганно глядел на троюродного брата матери. И вдруг мальчик вздрогнул: сквозь прикрытые веки виднелась желтоватая полоска белка.
Кроер смотрел.
— Иди, — сказал пан Юрий. — Рано тебе. Иди и не смотри.
Они прошли около гроба.
— Шурин пришел, — услышал пан Юрий тихий голос. — Добрый день, шурин.
Не понимая, откуда этот голос, пан Юрий оглянулся. И вдруг по залу, словно ветер по ночным ветвям, пробежал вздох ужаса:
— О-о-ох-х!
Они оглянулись. Толпа отшатнулась от гроба, как рожь под ветром.
Мертвец сидел.
Алесь сжал челюсти, чтоб не закричать. А покойник сидел и смотрел на людей. Потом достал из-под красной парчи огромную бутылку шампанского.
Пробка выстрелила в потолок — по бутылке потекла белая пена. Одновременно широко распахнулась дверь в столовую, и все увидели там море огня от свечей, бочки с вином у стен, салфетки, белизну скатертей, столы, изнемогающие от яств, что громоздились на них.
В зале гремел хор обычных собутыльников пана. Пели задостойник:
— «Ангел вопияше благодатней: чистая Дева, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнутый: людие, веселитеся!»
Пан Юрий недоумевающе смотрел на все это.
— Свинья, — сказал Бискупович, — матерь божью не пожалел, богохульник.
И тогда пан Юрий плюнул.
А покойник, протягивая чашу с шампанским, вел:
— «Со страхом божиим и верою приступите…»
Пан Юрий тащил Алеся к двери.
— «Не препятствуйте детям приходить ко мне», — пел мертвец. И, протягивая чашу, провозглашал: — Пейте от нея вси.
— «Видехом свет настоящий, — пели голоса, — прияхом духа небесного… То бо нас спасла есть».
Пан Юрий не шел, а летел к двери. И тут дорогу ему преградили вооруженные загоновые шляхтичи.
— Шурин, — позвал Кроер, — троюродный шурин, куда же ты? Послушай меня.
Загорский остановился.
— Извините, господа, за шутку, — сказал Кроер. — Иначе никто не приехал бы.
— И правильно, — сказал Бискупович. — Потому что в этом доме после каждой пьянки кто-нибудь да умирает.
— Забудем споры, — увещевал дальше Кроер. — Мне надоело одному. Забудем споры хотя бы на несколько дней. Я ничего для гостей не жалею. А ты куда, шурин?
У пана Юрия дрожали ноздри. Он сделал шаг к двери — загоновые сомкнулись. Загорский, Алесь и Бискупович положили руки на эфесы кордов.
Кроер обводил все это безобразие сумасшедшими глазами.
И, видимо, не пожелал портить праздник.
— Пустите их, — бросил он. — А ты, шурин, подожди моей смерти еще лет двадцать.
Он имел в виду свое наследство. Но Загорский раздвинул руками загоновых и ушел не оглядываясь. Этот человек не мог оскорбить его.
— И прости, — сказал, юродствуя, Кроер.
Потом он встал в гробу.
— Остальных прошу не обижаться. Дорога длинная, мокрая, живите здесь.
Люди оглядывались. Во всех окнах возвышались уже вооруженные загоновые. Человек тридцать, пропустив Бискуповича и Загорских, сомкнулись и стояли в дверях. Люди опустили головы, потому что все знали, как горька чаша гостеприимства Кроера.
Но никто не протестовал. Крупных дворян, с которыми Кроер побоялся бы ссориться, в зале не было. И люди двинулись в столовый зал.
Тяжело закрылась за ними дубовая дверь.
Кроер накинул на плечо парчу наподобие плаща и соскочил на пол. Его немножко пошатывало, он был обессилен многодневной пьянкой, но старался стоять ровно.
Один из загоновых подошел к нему, что-то сказал, и у Кроера оскалились зубы.
— Где? — страшным голосом спросил он.
— Возле крыльца, пане.
Кроер устремился к двери. На ходу остановился.
— Все с окон. Все к дверям, и не отходить. В противном случае засеку… на земле, а не на подстилке.[85] Следите, чтоб никто из гостей не сбежал… чтоб трупами лежали до утра.
И почти выбежал из парадного зала.
…Он обогнал Загорских с Бискуповичем, когда те выходили на крыльцо. И, не обратив на них никакого внимания, бросился по ступенькам вниз.
Пан Юрий сказал одному из загоновых, который провожал их:
— Коней.
— Сейчас, — заторопился тот.
Они ожидали лошадей, стоя на нижней ступеньке, и смотрели на то, что происходило ниже, на площадке, покрытой грязноватым, истоптанным снегом.
На площадке стоял в окружении трех «голубых» и десятка земских русый крестьянин в расхристанном кожухе. Рукав кожуха был оторван, из большой дырки, словно бахрома эполета, падали на плечо клочья овчины. Обыкновенный крестьянин лет под тридцать, обветренный, сильный. Необычными были лишь глаза. Черные, дремучие, они с нескрываемой ненавистью смотрели на пана Кроера, который приближался к группе людей бесшумными, кошачьими шагами.
В стороне от этой группки стоял Мусатов. Смотрел словно бы в другую сторону, поглаживал щетинистые бакенбарды. Зеленоватые, как у рыси, глаза пробежали по лицу Алеся, пана Юрия, Бискуповича и безразлично начали рассматривать, словно впервые видели, блестящие от влаги дикие камни дома, высокие окна, подушки зеленого мха у водостоков.
Мусатов знал бешеный нрав Кроера, знал, что тот может сгоряча учинить такое, чего потом семи умным не расхлебать, тем более что свидетелем будет сам предводитель дворянства. И Мусатов пошел мимо Кроера к ступенькам. Проходя, сделал ему приветственный жест.
Кроер улыбнулся. Он понял это так, что Мусатов развязывает ему руки. «Что ж, хорошо. И какое, действительно, кому может быть дело до отношений господина со своим рабом?»
Мусатов скрылся в доме. А Кроер, дождавшись этого, подошел и остановился шагах в трех от мужика.
— Что, недолго довелось ходить? Погулял — плати.
Сумасшедшие глаза смотрели с улыбкой.
Корчак молчал.
Три человека, стоявшие на крыльце, подняли головы, услышав имя.
— Отец, это он? — спросил Алесь.
— Ты не слушай, сын, — сказал пан Юрий, — мы не имеем права вмешиваться.
Кроер делал шаг то вправо, то влево — рассматривал.
— Так господин Корчак уже и эполет приобрел? В генералы пану Корчаку захотелось? Может, пан Корчак и в императоры метит?
Корчак молчал.
— Намеревается, — с деланным сочувствием сказал Кроер. — Неграмотный, бедолага. Не читал. Не знает, чем царь Мурашка кончил.[86]
— Почему не знаю? — сказал вдруг Корчак с каким-то залихватским отчаянием. — Очень даже хорошо знаю:
Головонька бедная от жара трещит,
Ножки на красном на железном седле.
В ответ пан Кроер ударил крестьянина, но, видимо, не очень сильно, потому что был обессилен пьянкой.
Алесь смотрел на происходящее растерянными глазами: он впервые видел, как бьют связанного.
Голова у Корчака не пошатнулась от удара. С какой-то злобной радостью он сказал:
— Плохо бьешь… А жаль, паночек, что меня по дороге к своим схватили. Ух, как бы из этого гнезда дымком рвануло! — Корчак глотнул воздух. — Жаль… Одного жаль — рассчитаться не успел…
Кроер отдыхал, и глаза его были мутными от гнева.
— Так у тебя еще и свои были? — тихо спросил он.
— А как же. Не святым же я духом жил от жатвы до масленой. Прятали, помогали.
— Где прятали? Кто?
— А это ты уж сам дознайся.
Кроер плюнул и снова, двигаясь как-то наискось, устремился по грязному снегу к связанному.
— Где? — Он ударил снова, в этот раз под нижнюю челюсть.
Корчак сплюнул кровь в снег.
— Угодил-таки, — сказал он. — Конечно. Над пешим орлом и ворона с колом.
Это было уже слишком. Кроер ощутил свою слабость и стал искать глазами что-нибудь более тяжелое.
Как раз в этот момент конюх привел господам лошадей.
Пан Юрий разбирал поводья. И тут Кроер заметил в руках у конюха корбач. Рванул его из рук дворового и с подскоком, согнувшись, ударил Корчака по лицу. Плеть не была подвита свинцом, лишь гибкой медной проволокой, и это спасло Корчака от немедленной смерти.
Лицо крестьянина залилось кровью. Губы у Кроера дрожали. На щеках пятнами появлялся и исчезал румянец. Десять, двадцать, сорок ударов…
Алесь смотрел на расправу обезумевшими глазами. Били связанного человека, который не мог защищаться…
Корчак не мог уже стоять. Он сел на снег, залитый кровью, хватал воздух.
— До-бей, — только и сказал он.
И упал лицом в снежную кашу.
— Аз-зиат, — внешне спокойно сказал пан Юрий и добавил: — Александр, в седло.
Алесь не в силах был отвести глаза… Удар… Еще… Еще удар. Как по сердцу.
Человек в снегу вытянулся.
И тогда, сам не понимая, что он делает, Алесь бросился к Кроеру и подставил руку. Плеть рассекла одним махом одежду и кожу, обвилась вокруг запястья. Алесь перехватил ее и со всей силы рванул.
Ему удалось вырвать окровавленную плеть из рук Кроера. Бледный, с красными пятнами на щеках, Кроер недоуменно смотрел на Алеся.
— Сволочь! — В детском горле клокотало. — Низкий, злой человек.
Кроер угрожающе двинулся на него.
И тогда Алесь, трясясь от злости, зная, что этот может ударить его, размахнулся и рукояткой со всей силы влепил в перекошенное лицо Кроера.
Кроер схватился за челюсть. Потом поднял кулаки.
…И тут сильная рука пана Юрия отбросила его от сына. Возле них мелькнул Бискупович, схватил плеть и отшвырнул ее в снег.
— Слушай, ты, — сказал пан Юрий, — дерьмо! Если ты тронешь его, желчью рыгать будешь…
— Подождите, Загорский, — спокойно сказал Бискупович. — Не пачкайте рук.
— Стра-ажа! — едва выдавил из себя Кроер, и это прозвучало тихо, но гневно.
Руки пана Юрия и Бискуповича легли на рукояти кордов.
— Вы пожалеете, Кроер, — спокойно сказал Бискупович. — Чтоб проломить вам голову, достаточно секунды.
Кроер оглянулся. Но жандармы, очевидно, боялись вмешиваться в ссору высоких господ. Стояли молча.
Пан Юрий спокойно усадил Алеся на Ургу и подвел Бискуповичу коня.
Они вскочили в седла. С места — только грязные снежные брызги полетели — взяли вскачь.
…Верст через пять, когда стало ясно, что погони не будет, пустили разгоряченных лошадей рысью. Алесь засучил рукав, рассматривая кровавый рубец.
— Он меня ударил, — недоуменно сказал он.
Отец с состраданием смотрел на сына.
— Ты погорячился, сынок. Потому что три человека могли б сложить головы за одного, которого все равно ожидает Сибирь, смерть в рудниках… А как бы горевала твоя мать… Или жена пана Бискуповича… Обещай мне, что ты…
Алесь не очень вежливо ответил:
— Этого я не могу обещать.
— Правильно! — сказал Бискупович.
…Корчака действительно ждала Сибирь. Когда Мусатов, услыхав шум, выбежал из дома, Корчак, залитый кровью, но все еще живой, без сознания лежал на снегу.
Мусатову удалось отговорить разъяренного пана от погони. Корчака он отдал жандармам и приказал везти в Суходол.
А Кроер приложил к разбитой челюсти снег и направился в дом.
— Водки, — только и смог сказать он загоновым.
…Начался неистовый, страшный разгул. Три дня Кроеровщина захлебывалась в вине. Три дня в имении царил пьяный угар.
На пятый день на ногах остались лишь Кроер да Иван Таркайло. Сидели при свете одной свечи в домашней молельне, чокались друг с другом и обезумевшими глазами следили друг за другом, чтобы каждый выпил до капли. Кроер спьяна начал было уже процеживать вино из бутылки сквозь пальцы, потому что в каждой бутылке сидел черт, очень похожий на морского конька, но все как-то обошлось. Чтоб не ругаться, решили весь вечер разговаривать по-французски. Иван этого языка не знал, а пьяный язык Кроера с трудом мог сплести два-три слова.
— Шли бы вы спать, черти, — грубил Петро, лакей Таркайла.
— О, мои диё… нон… Алон! Перепить — кураж! — плел неведомо что Таркайло.
Петро смеялся. Кроер смотрел на него мутными глазами.
— А ты чего ржешь, Петро? Понимаешь нас?
— Он зна-ает, — говорил Таркайло.
— Знаешь французский язык?
Петро обиделся:
— А то как же.
— Ну, так какой же он?
— Красный, — сказал Петро. — Как…
— Пр-равильно, — сказал Таркайло.
Оставив одуревших от вина господ, Петро закрыл их в молельне (вдруг надумают освежаться в проруби или скакать на конях), а сам пришел в людскую и сказал кухарке:
— Последние дни доживают. И живут не по-людски, и пьют, как перед погибелью.
— Эка невидаль! — бросила кухарка. — Теперь еще, говорят, в Петербурге змея пустили по железным колеям… Змей, понимаешь, бегает по дорогам. Это уже конец света.
— Так, — согласился Петро. — Этот не пощадит. Этот сожрет всех.
XXIII
Первыми выпустили свои «котики» вербы. Перед пасхой начали сочиться прозрачным соком пни срубленных берез. Затем почки стали зелеными, а леса темными. Перед Купалой заплакали травы — назавтра им суждено было погибнуть. А затем пришел черед полечь колосьям.
Год не порадовал. Он многое обещал дружной, теплой весной и спорыми, буйными дождями. Но ничего не дал. Снова не дал. В который уже раз.
Дожди шли непрерывно. Ростки захлебывались в глубокой холодной грязи, желтели и гнили. А с конца апреля навалились холода и цепко держали нивы до самой середины июня. Земля была липкой, как глина, выброшенная с самого дна могилы.
Потеплело лишь в конце июня. Холод словно подготовил почву под свою зимнюю страшную жатву и щедро бросил людям ненужное теперь тепло.
На озими не собрали даже потраченных семян, поэтому людям пришлось спасаться — перепахивать поля и засеивать их под ярину. И этот поздний сев едва закончили на Купалу, а это означало, что осенью всходы определенно побьют заморозки.
Все еще, третий год подряд, неизвестная хворь одолевала бульбу, и клубни ее разлезались в пальцах и были черные, как грязь, — не отличишь от земли.
Пан Юрий и старый Вежа в конце июля наполовину опустошили свои амбары ссудами. Понимая, что надеяться не на что, они отпустили крестьян на годовой оброк. Пускай идут плотогонами, пускай отправляются в извоз, на строительство железной дороги, лишь бы не голод, лишь бы не опустошить амбары до дна. Ведь неизвестно еще, что будет в следующем году.
В конце июля клич о помощи долетел из местечка Свислочь, где жила дальняя родственница пани Антониды, двоюродная сестра ее матери, Татьяна Галицкая.
Пан Юрий решил отправить туда обоз семенного зерна — для следующего года. Послали еще и триста рублей денег, на случай настоящего голода, чтоб хоть раз в день кормить горячим детей, женщин и слабых (у тетки было что-то около восьмидесяти душ, жила она одна, просила только семян, — возможно, как-то и перебьется с людьми).
Сопровождать обоз должен был Алесь. Во-первых, люди из конторы были в разъезде, во-вторых, пускай привыкает к делу, в-третьих, время парню и вообще посмотреть свет. Целую зиму еще сидеть ему в Загорщине или в Веже, прежде чем пойдет в гимназию. Целую зиму учиться, практиковаться в языках, слушать Фельдбауха, monsieur Jannot и других. Отец и тот удивлялся успехам сына и его долготерпению… Пускай едет, пускай посмотрит на белый свет.
И началась далекая дорога.
Скрипели телеги, шли рядом с ними мужики. А молодой Загорский то ехал возле обоза на мышастой Косюньке, то сворачивал с дороги и скакал мягкими проселками, проезжая деревни и хутора, то лежал на телеге и смотрел на золотые облака.
Бесконечные дороги! Запутанные перекрестки с десятками тропок, что вливаются в них! Покосившиеся деревянные кресты, серые, в глубоких трещинах, стоящие на перепутьях.
Тянутся мимо них телеги, проходят путешественники с трехгранными острыми посохами и котомками за спиной. Идут баркалабовские нищие с синеокими мальчиками прозрачной, иконописной красоты.
Бабы несут за спиной поклажу, узлом завязав на груди концы платков. И узкими, какими-то особенно женственными кажутся их подавшиеся вперед плечи, сжатые жесткой тканью, в которой лежит неподвижный груз.
Поет лира под придорожным вязом. Иногда солнце закроет дымно-агатовая завеса мимолетного дождя. И тогда ноги месят дорожную грязь, тысячи ног, и корчмы выглядят особенно темными, а полoвая шкура лошадей становится гнедой.
И на все это — сколько уже лет! — глядит обведенными синькой глазами, весь в подтеках, выкрашенный охрой и медянкой распятый Христос.
…Свислочь, о которой Алесь до сих пор даже не слышал, была маленьким местечком.
Среди домов едва не самым большим казалось здание прогимназии. Но и оно имело такой же запущенный вид, как почти все остальные дома местечка. Там, где когда-то были площадки для игры в мяч, цветочные клумбы, теперь — и во дворе, и на улице — раскинулись заросли пахучей мелкой ромашки да подорожника, среди которых терялись тропинки.
Местечко готовилось к годовой ярмарке, открытие которой должно было состояться послезавтра, пятнадцатого августа, и потому на площади было уже довольно шумно и людно. Стояли нагруженные возы, тюками лежала шерсть, жевали жвачку волы.
Дом тетки был в полуверсте от местечка — большой, деревянный, под соломенной крышей на галереях и крытый щепой над жилыми комнатами. Большой сад спускался во влажный, звенящий многочисленными ручьями, тенистый овраг.
Старосветские уютные комнаты с низкими потолками. На окнах кроме первых рам были и вторые, с разноцветными стеклами. Они заменяли ставни. А в самих комнатах стояла старая мебель: пузатые ореховые секретеры, дубовые резные сундуки вдоль стен, и в углах — одна на четыре комнаты — очень теплые печки, выложенные голландским кафелем. На белых плитках плыли под всеми парусами синие корабли.
Тетка, маленькая подвижная женщина в очках, встретила Алеся объятиями.
— Приехал, сынок… Ну, вот и хорошо, что приехал… Ярмарка начнется, наедут окрестные с хлопцами и девками… Будет и у нас весело.
Семена приказала ссыпать в амбары, но от денег отказалась.
— Слава богу, голодать не придется. Обсеменимся вашим зерном, а остальное можно пустить на хлеб. Мне что? Еда своя, наливки свои, одежды — полные сундуки. И ничего мне не надо, разве что колода карт — одна на три месяца: в хобаля сыграть да иногда пасьянец (она так и сказала «пасьянец») разложить.
Суетилась, собирая на стол вместе с девушкой.
— Спасибо пану Юрию. Такое уж несчастье! Прямо хоть садись на землю да пой «Ой вы, гробы, гробы, вселенские домы…».
Посерьезнела:
— Пусть пан Юрий не думает, семена следующей осенью верну. Ради спокойного сна. Не хочу, чтоб мне ночами дьяволы снились да еще, упаси господи, язычники-солдаты.
— Помилуйте, тетушка, — рассмеялся Алесь, — какие же солдаты язычники?
— Язычники, — убежденно сказала Татьяна Галицкая. — Кто же, кроме язычника, будет стрелять в людей, только из-за этого оружие носить, да еще и клясться нечистой клятвой, что будет стрелять и не будет сопротивляться, когда прикажут… Язычники и есть!.. Ну, а если б Христос второй раз пришел? То-то же! Так бы они и стояли со своей клятвой второй раз у креста, как, прости за сравнение, римские голоногие бандиты.
Тетка Алесю понравилась. Показала хозяйство: четырех лошадей, две из которых были под выезд, трех голландских коров, пекинских уток и кур-леггорнов.
Показала цветник с «разбитым сердцем» и «туфельками матери божьей», с маттиолой и золотым «царским скипетром».
В самом глухом уголке сада — чтоб, не дай бог, не наелась домашняя птица — лежали на траве выброшенные из наливки красные вишни. Красивый махаон сидел на них и дышал опалово-синими крыльями. Пил.
Пьяный-пьяный, такой счастливый махаон.
А вечером сидели на террасе, пили кофе с маслянистыми холодными пирожными и беседовали о том о сем.
— Вы так одна и живете, тетушка?
— Совсем одна. Да мне никто и не нужен после смерти Евгена.
— Он кем был?
— Он в двенадцатом году набрал горстку людей — десять шляхтичей да три десятка своих мужиков. Ну и пошел. Сожгли они однажды навесной мост, сожгли французское сено. Потом ловили да били этих… как их бишь?… мародеров? фуражиров? Ну, все равно. А потом уланы пришли их ловить, так они и уланов перебили.
— И родственников других не было? Совсем-совсем?
— Теперь нет. Только твоя мать. А еще раньше, до смерти мужа, был у него двоюродный брат Богдан. Но тот еще, дай бог память, восемнадцать… нет, двадцать лет назад исчез…
— Как исчез?
— А так… Связался с мятежниками, когда здесь у нас дворяне бунтовали. А когда они не бунтуют? Всегда грызутся, как собаки. А женам — лей слезы. Вот и он пошел с оружием, да так и пропал. Ничего после того о нем не слыхали. Наверно, кости дождик мочит, ветер сушит. Так что ты теперь мой наследник. Пусть будет так. Здесь охота хорошая. Выдры этой самой — утром по берегам так наследит, словно гуси ходили. Лапы большие, с перепонками.
Пошла и принесла пожелтевшую костяную шкатулку. Сидя в кресле, разбирала ее.
— О, — произнесла наконец, — это единственное, что от Богдана осталось. Мужчин в доме нет. Возьми себе.
Это был амулет из старого дутого золота. Размером с ладонь ребенка, он таинственно и тускло мерцал на руке Алеся. А на нем Белый всадник с детским лицом защищал Овцу от Льва, Змия и Орла.
— Спасибо, тетушка. — Алесь знал: человек не должен ломаться, когда ему дарят. — Но куда же его?…
— А ты его к медальону, — сказала тетка. — На одну цепочку. И носи. Говорят, помогает. Кто носит, никогда не попадет в руки врагу. Трижды три раза избежит неминуемой смерти. И еще — все его будут любить, потому что он защищает Овцу от Льва, то есть от власти, от Змия — от хитрости — и от Орла, то есть от хищника… Может, и Богдан спасся бы, да вот, уходя в лес, забыл.
Алесь привязал подаренный амулет к стальной цепочке медальона, который ему подарила Майка. Про себя он посмеивался. Ну какая неминуемая смерть может ему угрожать? Какие такие у него могут быть враги?
…Через день началась свислочская ярмарка «Пречистая». Торговые ряды выплеснулись далеко за границы площади.
Торговцы ловко мотали на медный аршин вишневые и белые сукна. Свистел, по-змеиному извиваясь в воздухе, шелк. Ползла шерстяная ткань, и весело бегал ситец.
— А-а, горлачи-горлачи-горлачи![87] Звенят, как колокола, звенят, как войтова голова!
— Же-лезо, же-лезо! — это басом. — Кос-са — на эконома, безмен — на тещу!
Взмывали, словно корабли на волнах, пестрые качели. Оттуда доносился неискренний девичий визг.
— Эх, навались! Эх, навались! Все дорого — мое дешево. Все дорожает — мое дешевеет. Дешевеет мыло, дешевеют веревки.
Шарманщик-итальянец пел чахоточным голосом о неизвестном. Обезьяна в зеленом платьице протягивала ладонь, прыгала около хозяина и смотрела в глаза людям горестно-недоумевающими детскими глазами.
Торговал тканями красивый перс с пылающей бородой. Водил мишку цыган.
— Батю, подходи — поиграем!
Страстно спорил с русоголовым мужиком перекупщик лошадей. Звучно, наверно аж пальцам было больно, бил по коричневой, как земля, ладони, с хрустом кусал уздечку в знак того, что не обманывает.
Узкоглазый караим, похожий одновременно на дикого хазара и на великого раввина Якова Леви, ругался с горбоносым евреем, возле которого в ряд стояли водочные кружки, кварты, полукварты и другое счастье пьяниц.
Алесь ходил среди этого разноголосого, пестрого моря немножко обалдевший и как будто сонный, но радостно возбужденный.
Висели золотые бороды льна, приятно пахло рыбой и кисло — кожами.
Громоздились пирамидами яблоки, над сизыми, словно затуманенными дыханием, сливами пели коричнево-желтые осы. Сапежанки, урьянтовки, слуцкие беры пахли так, что во рту делалось сладко. Всюду лежали овощи, битая птица, мясные туши. А рядом — рябчики, утки, дупели для господского стола. Бочонки лесного меда и желтоватые круги воска. Шкуры диких зверей.
Страна была богата. Страну ожидал голод.
…Возле слепого нищего с лирой почти не было людей: не дать — грех, а дать было нечего. Старик пел — темный провал рта в серебристой бороде. А возле него кроме двух плакавших женщин стоял парень, может, на год старше Алеся, невысокий, коренастый, с темно-русыми красивыми волосами. Черты лица у парня были неправильные, но крупные и даже чем-то привлекательные. Тяжелый подбородок, большой твердый рот. Жестковатый неправильный нос. Из тысяч и тысяч людей по одной лишь форме носа с крутыми ноздрями Алесь всегда узнал бы в нем местного, здешнего.
Небольшие, синие, с искорками глаза парня были теперь задумчивые и мягкие. Прядь волос падала на высокий чистый лоб. Он слушал. Слушал, нахмурив тонкие и черные, словно тушью нарисованные, брови.
Алесь стал рядом с ним и тоже начал слушать лирника под печальные вздохи баб.
Ой, то не черная туча подступает, То турецкий король наступает.Турецкий король наступал, чтоб взять за себя Андрееву дочь. И не только ее.
Сватать нивы, боры, перелоги, И луга, и правдивого бога, Сватать дым в закуренной хате, Всю землю нашу бедную сватать.И не выдержало женское сердце. Андреева дочь убежала в лес и, сидя на дубе, готовила подарки королю, приказывала подружкам точить ножи, чтоб кроить ими для него рушники. И вот король подступил со всей своей черной силой. И тогда…
Не попала она в полотенце, А попала в горячее сердце И коню под подковы упала. Умирая, так слово держала: Страшно гудели струны: «Ой, не будешь иметь, чернорогий, Ни лугов, ни правдивого бога, Ни боров, ни девчат, ни богатства, Даже дыма в закуренной хате. За какое ни схватишься сердце — Все ответят единою смертью. И ответят пожарами хаты И земелька, которую сватал».Нищий умолк. Парень тяжело, словно от сна отрываясь, вздохнул и бросил на лиру три медные копейки. Недоуменно взглянул на Алеся. И вдруг глаза стали холодными и немножко злыми: увидел, что красивый подросток с серыми глазами хочет положить на лиру серебряный полтинник.
— Сдурел, что ли? — спросил он громким насмешливым голосом.
Алесь терпеть не мог насмешек незнакомых.
— Тебя не спросили, — ответил он.
— Оно и видно, что из золотых кафтанов. Головка как маковка, а ума как…
Загорский знал, что продолжение в присказке злое и немного непристойное.
— Ты б повторил, — с угрозой сказал он.
— А я не глухому говорю, — ответил парень.
— То-то и видно, что скряга. За такую песню полрубля ему жаль.
— За эту песню мне миллиона не жаль. Да только не из твоих рук.
— А что мои руки?
— А то, что иная доброта хуже глупости. А доброта богатого…
— Зато ты, видно, богат. Семь коп лаптей…
Алесь сказал это от большой обиды. Но подросток, одетый и в самом деле скромно, казалось, не обиделся.
— Люблю Серка за привычку, — показал он ослепительно белые зубы. — Да только не те паны, что деньги бросают, а те, что бога знают. Возьми свои безбожные деньги.
— Чем это они хуже? — спросил Алесь. — Что ты ко мне привязался?!
— А потому, что они дурной головой даны, эти деньги.
Алесь мерил парня глазами. Да тот был, видимо, сильнее, но менее гибок и ловок.
— А я вот дам, так ты ногами накроешься, — сказал парень.
— А ну, дай. Сам пятки задерешь.
В следующий миг они молотили друг друга со всем усердием подростков. Только пыль курилась над местом драки.
Наконец они устали и, сопя, остановились, настороженно следя друг за другом.
— Получил? — спросил парень.
— Да и ты получил.
У парня действительно распухла и без того пухлая губа; у Алеся ухо было красное и горело.
— Ну и что? — спросил парень.
— А то, что ты дурак, — уже не так сердито сказал Алесь.
Они все еще следили друг за другом, но было видно, что драка угаснет.
— Это ты дурак, — сказал парень. — Старика за твой полтинник могли б в полицию отвести. У бедных людей бывают только медные деньги.
Алесь понимал, что парень говорит правильно, но ухо горело, а незнакомец еще и ругался. Враждебность снова начала нарастать.
— Ты кто такой? — не очень вежливо спросил он.
— А тебе что?
— Ну, кто? Поляк? Мазур?
И тут он услыхал такое, что даже глаза округлились от удивления.
— Белорус, — спокойно сказал парень.
— Что-о?
Алесь не мог понять, откуда этому парню стала известна его тайна, его открытие. Но парень, видимо, понял вопрос как возглас презрения.
Алесь не удержался:
— Откуда ты это узнал? Ведь это я открыл. Это я белорус.
— Один Гаврила в Полоцке, — улыбнулся парень. — Здесь все белорусы! А он открытие сделал… Первый… Нашелся еще мне Коперник!
— Но я ведь знаю лишь троих, кто ответил мне так. У остальных нет имени…
Алеся теперь тянуло к этому парню. Потому что он, не зная Алесевых мыслей, пришел к тому самому, что и он, Алесь.
А парень вдруг сказал:
— Я жалею, что тебя ударил.
— И я тоже жалею. — Алесь подал парню руку.
Парень сделал шаг, и подростки крепко пожали руки.
— Ты откуда такой? — спросил парень.
— С Днепра. А ты?
— Я здешний. Отец привез товар, а я с ним.
— Твой отец купец?
— Нет, дворянин. Но у него есть маленькая фабричка. Скатерти, салфетки, — словом, все такое.
— Значит, вы небогаты?
— Небогаты. У нас большая семья. Одних детей считаешь-считаешь, да и собьешься.
— Ты учишься где?
— Здесь и учусь, — сказал парень, — в прогимназии. Через каких-то пятнадцать дней конец свободе. Зубрежка эта начнется. А ты любишь учиться?
— Люблю. Только я дома учусь. Меня готовят в четвертый класс.
— Счастливчик! Я тоже учиться люблю, да только учителя у нас дрянь. — Вздохнул. — Окончу — пойду в университет. Уроками буду зарабатывать, а выбьюсь. С нашей земли не проживешь — отец всех не прокормит.
Дотронулся до распухшей губы.
— Дерешься ты здорово, — рассмеялся он. — Приложил руку, прости за сравнение, не хуже станового пристава… Давай знакомиться, что ли?
Алесь подал ему руку.
— Давай. Я Алесь Загорский.
— Кастусь Калиновский, — сказал парень.
Они стояли и рассматривали друг друга.
— Давай удерем, что ли, — сказал парень. — Пока купцы у отца товар берут, походим, послушаем.
— Давай… Только полтинник этому деду все же отдадим. Разменяем на медь и отдадим. Пусть помнит, как мы дрались здесь и мирились.
— Давай, — согласился Кастусь.
Разменяли деньги, всыпали старику в шапку целую горсть меди и пошли в толпу.
— За что это ты, брат, так на меня взъелся? — спросил Алесь.
— Да гляжу — стоит такой павлин, только что хвост веером не распускает. Серебра ему, видишь, не жаль бедному человеку.
— Ну и что?
— Если б ты знал, как страшно бьют этих людей, ты б так легко не смотрел на это. Тем более лирников. Этих каждая сытая харя считает непойманными ворами и преступниками.
— За что?
— Подозрительные люди. Приедет откуда-то из Питера мордастая погань. Такой уж магнат, такой нобиль — фигою нос не достанешь: «Дикари грязные, туземцы…» По ярмарке идет, как чума, ты скажи, идет — ярмарка пустеет, все разбегаются кто куда. А нищие — они ведь слепые. Подойдет, слушает, слушает. «Эт-то что же ты, па-дла, поешь? Какой такой турецкий царь?! На каком эт-то соб-бачьем языке, пр-ро какого эт-то Ваську Вощилу?! Пр-ро какого эт-то свинского Михася Кричевского?!» Ну, старик оправдывается: «Он, паночек, тишайшему царю споспешествовал, Алексею…» — «Что?! Мерзавец, быдло, червяк мог царю споспешествовать?!» Да старому в ухо. А лиру ногой.
— Лиру зачем?
— Книг лишили — хотят и лиры лишить. Знают: пока слушают люди хоть одного лирника, не умерла свобода.
Шли в людском море. Вокруг стояли смех, причитания, беззлобные проклятия.
— Знаешь, — сказал Алесь, — я очень был удивлен. Стоит себе человек — и вдруг говорит о самом твоем заветном, о том, о чем ты сам думал.
— Но ведь и они, — рука парня сделала круг в воздухе, — тоже такие же, как ты, только не нашли, как себя называть.
И повторил, видимо, чужие слова:
— Безгласное море.
— Как это они такие? — спросил Алесь. — Мы, конечно, все от Адама. Один народ. Но ведь мы дворяне.
— Ну и что? Было же у нас когда-то так, что мужик, если он по собственному желанию шел на войну, становился дворянином. Так, видимо, и все. Твои предки раньше пошли, и потому они аристократы. Мои — позже, и потому я просто из небогатых дворян. А есть еще шляхта, которая сама землю пашет. Те совсем вчерашние мужики.
— Дворяне наши царю тоже опасны.
— Есть и такие.
— Недаром же после последнего восстания многие тысячи из них, самых опасных, перевели в однодворцев. Опозорили людей. Голодать заставили.
— Мы тоже из таких, — с каким-то вызовом сказал Кастусь.
— Так и вы однодворцы?
— Да. Сенат не утвердил.
— Дед говорил, это они нарочно, — сказал Алесь. — Ну, у владельца грамоты за столетия сгореть или истлеть могли. Так поищите же в королевских архивах, в списках, в старых книгах… Нет, хотят как можно больше людей унизить.
Кастусь кусал длинную травинку, которую выдернул из воза с сеном.
— Отец мой никак примириться не желает. Ездит, старается, столько денег переводит. Сказали: «Будет имение — будем искать». Купит, наверно, в этом году или немного погодя. А мне так все равно. Я знаю, откуда идем. И предков знаю. Я не ниже хама, который мной руководит. А так — хоть горшком назови, да в печку не ставь. Если захочу, и арапом назовусь. Последний наш мужик честнее первого из жандармов.
Парень говорил это с достоинством, но, очевидно, заученно, с чьих-то слов.
— Где это ты такого набрался?
— Брат говорил, — с каким-то сразу посветлевшим лицом сказал Кастусь. — А ты откуда?
— А у меня дед.
— Ясно, — сказал Кастусь. — Вот и знаем уже самую первую заповедь. Брата и деда не трогать. И дворянством не кичиться.
— И здесь твоя правда, — согласился Алесь. — А то совсем выйдет по поговорке «Шуми-гуди, дуброва, едет князь по дрoвы».
Кастусь красиво смеялся. Белые ровные зубы украшали лицо. И улыбка была искренняя, чистая. А еще Алесю нравилось, что глаза у Кастуся были не совсем симметричные — один чуть-чуть выше другого. Это придавало его лицу какую-то необычную, властную и сильную характерность.
Беседуя, они шли бесконечной ярмаркой, а вокруг них заливались глиняные свистульки, бешено крутились наполовину пустые карусели, зазывал в свой балаган дед с льняной бородой.
— Заходите, братья-сетренки родные, заходите, мужья-жены сводные! Чудеса на колесах! Мальчик с саженным носом! Морская царевна! Янка-богатырь, жрет одно лишь сырое мясо — по семь фунтов за день. Вскормила его медведиха! Есть еще удивительные звери… морская свинка и крокодил. Тот самый, что проглотил пророка Иону. По-библейски кит, по-нашему крокодил… Страшный зверь… К нам!.. К нам!..
Играл на кувшинах гончар, и в ответ ему летел поющий перезвон хрусталя, по которому водил стеклянной палочкой торговец-венгр.
Кубраки-мстиславцы совали под нос людям книги и рисунки.
— Какая богатая ярмарка, — сказал Алесь.
— Богатая, — ответил Кастусь. — Только убыточная. Отец говорил, что в прошлом году едва продали пятую часть всего завезенного. А нынче еще хуже будет. Скудеем.
— Почему так?
— Нет ни денег, ни хлеба. Земля оскудела. Леса вырубили. В реках вывелась рыба, в пущах — зверь. Раньше-то, говорят, всего было — и зверя, и птицы, и дикого меда. Иди себе, человек, в лес, расчищай вырубки. Сам ты себе хозяин. А нынче одно спасение — город. Да и там… Ну кому здесь нужны свечи? Мыло? Вот этот чай? Или сахар? Чая мужик не пьет, моется он веником, вечером сидит при лучине.
…Алесь пробыл в Свислочи еще три дня. И все эти дни ребята не расставались. Ходили по ярмарке, забирались в подземелья разрушенного костела. Побывали на посиделках с песнями и на гулянье, посвященном середине ярмарки, после чего ярмарка идет на убыль. А Алесь сводил его в балаганы, потому что с деньгами у нового знакомого, видимо, было не густо. Кастусь не стеснялся, но, как то надлежит настоящему парню, принимал каждый знак уважения к себе с чувством непреклонного собственного достоинства.
И незаметно для самих себя они подружились за эти дни. Подружились той быстрой дружбой подростков, которая возникает неожиданно, а остается надолго. Иногда на всю жизнь.
Расставаясь, они решили, что будут писать друг другу. И это было чудесно: знать, что впервые в жизни тебе есть кому писать, есть кому заливать сургучом конверт, есть для кого взвешивать унции и золотники листа, есть для кого, наконец, совсем по-взрослому ставить в конце посткриптум — так себе, между прочим, как будто что-что забыл, да вдруг вспомнил.
XXIV
Спустя год после поездки в Свислочь, тоже в августе, Алесь отправился вместе с молочным братом старого Вежи на последнюю в этом году охоту. Через неделю надо было ехать в Виленскую гимназию. Он сдал экзамены и поступил сразу в четвертый класс.
Детство кончалось. Наступала новая жизнь. Жаль было оставлять Загорщину, просторы лесов и лугов, свист утиных крыльев… Жаль было менять все это на городскую тесноту, на гимназическую муштру и зубрежку, на казенные стены, на серый снег в осеннем холодном городе.
Отец выбрал Виленскую гимназию потому, что и сам хотел пожить зиму в большом городе.
— Этак и запсеть можно в медвежьей глуши.
Тринадцатилетний княжич шел теперь с Кондратием на охоту, чувствуя, что он прощается с этим солнечным днем, с гривами леса среди озер и болот, с облаками.
Гривы тянулись одна за другой. Кондратию и Алесю надо было пройти ими версты три, а затем углубиться в лес. С правой стороны к гривам подходили старицы Днепра. Слева тянулись залитые водой болота — Равека вышла из берегов, — заросшие шпажником, или мечником, как называют его в Приднепровье, аиром и высокими камышами. Там в роскоши кормились, покрякивали и иногда целыми стайками взлетали утки.
Полоса грив кое-где, в тех местах, где излишек воды переливался в Днепр, рассекалась протоками с чистой водой и песчаным дном. Там можно было выследить куликов-турухтанов. А можно было и просто свернуть в болото и идти, черпая воду голенищами, ощущая, как тепло в ней ногам, вспугивая уток, которые лениво поднимаются в воздух.
— Какой это бандит здесь ходит?… Рап-рап… Посидеть спокойно не дают… Рап-рап…
Кондратий и Алесь шли, разделенные вершиной гряды, невидимые друг другу.
Алесь держал ружье наготове, шагал по травам навстречу полным снежным облакам, тени которых иногда спокойно проползали по камышам, по синей водной ряби, по гривам, по нему самому.
Изредка встречались низкорослые дубки, курчавился цепкий шиповник, расшитый оранжевыми ягодами. А потом снова были травы да вода, вода да травы.
Вересковые пустоши, облитые солнцем, так цвели, что медленные облака, отражая их буйное цветение, были окрашены снизу в легкий пурпур.
Алма бежала впереди, порой оглядываясь на Алеся. Весь этот комочек лохматой плоти дрожал от охотничьей страсти. А шагреневый черный нос ловил тысячи запахов: запахи вод, запахи трав и среди всего этого домовитый запах утки, диковатый — дупеля и острый — аж муторно — смрад водяного быка.
Алесю не хотелось выстрелами нарушать величественно-ласковую тишину. И, лишь услышав выстрел Кондратия, он понял, что надо начинать и ему. Алма как раз вспугнула из камышей чирка, и Алесь срезал его. Затем он свернул в залитое водой болото, даже не болото — ноги теперь чувствовали это, — а мокрый луг, на полсажени залитый высокой ильинской водой.
Собака плыла, а там, где было мелко, прыгала, делая временами особенно высокий прыжок над камышами, чтоб увидеть, где хозяин. А затем снова лишь едва заметной змейкой шевелился аир да доносилось из него характерное плюханье спаниеля животом по воде.
И вдруг это плюханье затихло. Твердо зная, что если б это был подранок, Алма на мокром месте поймала б его и принесла хозяину, а не просто виляла задом, как это делают спаниели на суше, Алесь пошел туда, где в аире затихла собака.
И остановился, пораженный. Алма стояла и смотрела в кусты, затопленные водой.
На ветви, согнув ее своей тяжестью, висели над самой водой вышитые переметные сумы, какие носят овчары, красивые сумы из черного войлока, расшитого белой шерстью. Из одной сумы торчала рукоятка пистолета, по всему видно — дорогого, украшенного старым матовым серебром. Не похоже было, чтоб сумы кто-то повесил: слишком небрежно, на одну сторону, они свисали. Наклонись ветви еще самую малость — и пистолет выпал бы в воду. Видимо, кто-то торопился ночью через болото и, потеряв сумы, не имел времени вернуться и отыскать их в темноте.
Алесь снял находку и, перекинув ее через левую руку, стал оглядываться вокруг: куда ближе всего было неизвестному человеку выбраться на сушу?
Гривы кончались немного поодаль, а за ними над затокой алели в густой зелени пятна уже побагровевших осинок. Алесь перешел вброд затоку и углубился в лес, не думая о том, что Кондратий будет искать его.
Алма вела куда-то, шаря в траве. Но вот она ускорила бег, а потом остановилась и настороженно напрягла спину.
— Тубо, Алма, — шепотом сказал Алесь.
Раздвинув ветви, он увидел человека. Человек лежал навзничь, и ноги его выше колен были облеплены коричневой коркой высохшей грязи.
Раскинутые руки обнимали землю.
Густой гривой лежали на траве черные волосы, перевитые прядями седой паутины.
Алесь присел возле человека на корточки и тронул его за плечо. Тронул и испугался, потому что тот мигом со страдальческим стоном бросился в сторону, а под его телом оказалось ружье с прикладом, залитым кровью.
Алесь протянул человеку сумы.
— Твои? — спросил он.
И осекся, увидев знакомое лицо.
— Война, — сказал он.
Рука человека схватила сумы и потянула их к себе.
— Зачем хватаешь? — сказал Алесь. — Ты бери. Отнимать не буду.
Глаза Войны рассматривали его с интересом, словно припоминая.
— А кто же это тебе позволил быть таким невежливым со старшими?
— Ты сам.
— Ого! Почему это?
— Оружие потерял, — с презрением сказал Алесь.
— Это ты правильно говоришь, — неожиданно согласился Война. — Мужчина раньше теряет голову, а затем оружие.
Со стоном сел.
— Но я ранен. Плохо мне пришлось. Никогда так плохо не было. Коня бросил…
— Зачем это вы мне… рассказываете?
— Я вспомнил тебя, — сказал сдержанно Война. — Мальчик в поскони. Дядькованый мальчик из панского гнезда.
— Ну так и что?
— А то, — сказал Война. — То, что семья, где придерживаются старых обычаев, не может воспитать иуду.
На надменных, напыщенно поджатых губах Войны появилась неумелая улыбка.
— И еще песня. Там, где поют, иди спокойно.
Война достал из сумы маленький узелочек. Копался в нем.
— Ты не презирай меня, малец. Шел болотом и не помню, как шел. В глазах потемнело. Видимо, тогда и стащила с меня ветка последнюю мою надежду. А искать в темноте не мог. Да и они шли, наступая мне на пятки. С факелами, с собаками.
— Разве собаки найдут в воде?
— Хорошая собака найдет. Ты на челне со своей собакой охотился?
— Охотился.
— Чует она, где утка?
— Беспокойно ведет себя. И я всегда смотрю в ту сторону.
— Ну вот, — улыбнулся Война. — Остальное делает выстрел. А им меня поймать не обязательно. За меня, живого или мертвого, награда в тысячу рублей… Если б у меня было две головы, одну обязательно продал бы. Утонул бы в деньгах.
Длинная прядь травы лежала на его ладони. Привядшей, но еще зеленой травы.
— Кровавка — так ее называют, — сказал он и начал жевать траву.
Выплюнув зеленую кашицу на пальцы, он оголил ногу.
На бедре кровоточила широкая рана. Война положил на нее кашицу и начал втирать. Кожа на его лице из горчичной стала зеленоватой.
— Горит, — глухо сказал он. — Значит, хорошо. Значит, антонов огонь не прикинулся.
Достав из картуза черного пороху, он смочил его слюной и положил на рану сверху. Затем перевязал ногу чистой белой тряпочкой.
Алесь смотрел немного брезгливо, и Война заметил это.
— Противно? — сказал он. — А ты не брезгуй. Без этого ни один настоящий мужчина не проживет. Может, и тебе доведется когда, упаси господь.
— Мне не доведется.
— Не зарекайся. Ты что же, любишь жандармов?
— Нет.
— Видишь, отец твой их не любит. Дед тоже. И прадед не любил. Все… Клетки не любит никто. Каждый, кроме труса, хочет ее сломать. А свободного ожидают петля, раны, смерть.
Обессиленный, он осторожно прилег на бок.
— И все равно это лучше, — пробормотал он. — Забиться куда-нибудь и… подохнуть. Лишь бы не висеть в мешке, как гусь на откорме… Чтоб не лез к тебе каждый грязными пальцами в клюв, не совал туда орешков… Чем их орешки, лучше своя ряска в болоте.
Прикрыл глаза.
— Ты один? — спросил он.
— Нет, там, на гривах, молочный дедов брат.
— Угу, — сказал Война. — Этот тоже будет молчать. Ты иди к нему. Я полежу, отдохну… Мне надо быть спокойным. И хитрым.
— Может, привести вам коня?
— Го! Это далеко… Очень далеко. Теперь мне надо добывать другого, чтоб добраться до своего.
Алесь поднялся.
— Я пойду. Я… не скажу никому.
— Знаю, — просто сказал Война.
Он умолк. Алесь окинул его взглядом, позвал Алму и пошел с ней к опушке.
Лес редел. Алесь видел, как лучи солнца все чаще пробивали своими пиками листву, как они пробирались в самую чащу, как навстречу им дымилась земля.
Между ней и солнцем в воздухе клубились рои мошек, словно тысячи докрасна раскаленных веселых искринок, что вели и вели свой тревожный и радостный танец.
…История с болотной погоней окончилась совсем неожиданно.
Война не мог знать, что на него в этот раз охотился не один Мусатов. Мусатову прислали в помощники человека из губернии. Начальству надоела неуловимость Черного Войны. С этим осколком прошлого восстания надо было кончать. Начальство не сердилось на Аполлона Мусатова: оно знало, что преступнику в своем доме помогают и стены, что Мусатов распорядительный и деятельный человек и не его вина в том, что бандит гуляет на свободе.
Собирать сведения было не его дело. Следить, расспрашивать крестьян, ловить краем уха их беседы должен сыщик.
Так появился в окрестностях Суходола Николай Буланцов, знаток нужной государству профессии, расторопный молодой человек лет двадцати.
Буланцову необходимо было повышение еще больше, чем Мусатову. Последний уже достиг кое-чего, а этот лишь делал первые шаги. Мусатов все же имел дворянство, пускай нищенское и пришедшее в упадок, а Буланцов был выходцем из кантонистов, из париев, выученных на медные гроши, из тех, ниже кого на всех обширных просторах Российской империи были лишь военные поселенцы да еще барщинные крестьяне у очень плохих помещиков.
Сын битого, сеченого отца, человек, чье детство прошло в казарме и единственным развлечением была порка, когда беглых прогоняли сквозь строй, он жаждал карьеры как избавления от окружающих ужасов, от зуботычин, от стояния с кирпичной выкладкой под ружьем.
Начальство всегда было право. А если подчиненным было и не очень сладко под его грозной дланью, тем хуже для подчиненных. Значит, надо возвыситься, чтоб не страдать от рукоприкладства. Нужно стать незаменимым, и тогда сам получишь право бить, сам заставишь других бояться и тянуться перед тобой в струнку.
Таковы были его нехитрые рассуждения. Впрочем, он мыслил, как и вся порода карьеристов, какой она была и какой она будет.
Нервный и желчный, но внешне дисциплинированный и рассудительный, Николай Буланцов понял, что Мусатов берется за дело не с того конца. Надо было точно знать, где бывает бандит, а гоняться за ним последнее дело.
И он вспомнил о тайне исповеди. А поскольку ни один уважающий себя священник не выдаст этой тайны, он подумал, что священник, наверно, может поделиться интересной новостью с дьяконом своей церкви. А у дьякона конечно же есть жена, которой нет никакого смысла особенно хранить чужой секрет.
Все церкви, кроме как в Раубичах и Загорщине, были закрыты по приказу старого Вежи.
Службы отправляли только в церкви в Милом. И там Буланцову повезло. Ему удалось втереться в доверие к дьяконице и получить сообщение, что Война помогает деньгами крестьянам глухой деревни Янушполе и время от времени пополняет там запасы овса для своего коня.
Из губернии и уезда вызвали полицию, с псарни Кроера взяли собак и незаметно окружили деревню.
Война нарвался на засаду на двенадцатые сутки. Вышел из пущи прямо под пули. Тут бы выждать немного и брать его, но погорячились земские и открыли стрельбу, когда до осторожного Войны было еще саженей сорок. Побоялись подпустить его ближе.
Раненый Война убежал. За ним гнались три часа и уже ночью загнали его в болото, залитое водой. Мокнуть никому не хотелось, тем более что шли по кровавым следам, которые тянул Война по росянке и сивцу. Поэтому реквизировали три плоскодонки и с факелами двинули за ним. Верхом поехал только Мусатов на своем чалом.
Прочесали все — и напрасно: то ли не увидели в темноте, то ли человек захлебнулся, то ли успел улизнуть из болота в лес, к счастью не такой уж и большой.
Буланцов по приказу Мусатова оцепил лесной остров. Сам Мусатов остался у края болота, зная, что волк всегда кидается от загонщиков туда, где, как ему кажется, никого нет и где его ожидает охотник.
Он думал — и вообще резонно, — что Война спешит как можно дальше уйти от болота. Он не мог и представить, что рана слишком тяжела, чтоб далеко удрать, что она в ногу, что, лишь собрав последние усилия, убегал от них так долго человек, который выше всего ценил свободу.
И Мусатов остался. Слез с лошади и присел на кочку, зная, что ожидать ему придется никак не меньше часа.
Война видел это. Он лежал на том самом месте, где нашел его Алесь, саженях в тридцати от Мусатова. А поскольку для Войны это был единственный путь спасения, он действовал более осторожно, чем его враг.
Он пополз. Пополз не спеша, зная, что каждое поспешное движение — это его, Войны, смерть.
Ему повезло. Жандарм оглянулся лишь два раза. Он знал, что зверь никогда не бежит с лежки, пока не услышит галдежа загонщиков.
Война не хотел убивать. Шум к добру не приведет. Кроме того, ему необходим был покой на пару недель, пока он отлежится и выздоровеет. Он знал: если убьет, власти нагонят в округу столько сыщиков, что это будет конец.
Он полз к коню. И когда до чалого осталось каких-то три шага, он резко поднялся и из последних сил обхватил коня за шею. Копь фыркнул и шарахнулся в сторону. Мусатов услыхал фырканье и обернулся.
Заслоненный лошадиным телом, стоял совсем неподалеку от него тот, за кем они охотились. И пистолеты были в обеих руках Войны. Первый выстрел жандарма неминуемо свалил бы коня, и первый выстрел мог быть смертельным для него, Мусатова, если в ответ грохнут пистолеты врага.
Этот не промахнется, Мусатов, к сожалению, слишком хорошо знал его.
— Мусатов, — сказал Война, — покажи свои козыри.
Зеленоватые глаза жандарма с полным сознанием опасности смотрели на Войну. Мусатов в первое же мгновение трезво оценил обстановку, понял, что Война стрелять не будет, если не выстрелит он, Мусатов, и, значит, ему не придется платить за игру жизнью.
Потому он сразу понял: проигрыш.
И он с твердой улыбкой положил руку на рукоятку пистолета.
— Козырный король, — сказал он.
— У меня туз и дама, — сказал Война. — Бросай карты.
— Я знаю, — сказал Мусатов. — У тебя две биты, у меня одна.
— К счастью, — сказал Война.
— К сожалению, — сказал Мусатов.
— Бросай, — сказал Война.
— Сейчас, — сказал Мусатов.
— Вывинти кремень.
— Почему бы и нет, когда любезный господин просит?
Руки Мусатова вывинтили кремень и отбросили его. Война знал теперь: чтоб поставить новый, надо две минуты, и пока он не двинется, Мусатов не начнет. Значит, самое малое — сто восемьдесят саженей.
Скрипя зубами, он попробовал сесть, сорвался, чувствуя, как с висков стекает холодный пот, и снова почти одними руками забросил в седло свое изболевшее, тяжелое тело.
И сразу взял в бешеный галоп прямо по воде, что заливала луг, туда, к далеким гривам, в брызгах воды, в пене.
Теперь ему, Войне, никак нельзя было проиграть.
Упадет от выстрела, свалится на этой равнине — возьмут голыми руками. Так далеко, так еще далеко до грив, до спасительных стариц за ними, до плавней с высокими камышами, до берегов, заросших непроходимыми кустами крушины, обвитыми хмелем, до Днепра, за которым леса и овраги!
Выстрел грохнул далеко за спиной. Мусатов справился за каких-то полторы минуты, даже меньше. Все равно между ним и пистолетом добрых сто шестьдесят саженей. Он недосягаем.
В душе Война дал себе слово никогда больше не шутить. Стоило чалому споткнуться — и в Суходол привезли б на телеге «труп известного бандита».
Но в душе он и гордился, ибо знал: над Мусатовым будут смеяться даже враги. И поделом, потому что он, тяжело раненный, обвел загонщиков вокруг пальца и вырвался из кольца на коне их начальника, того, кто еще несколько минут назад был уверен в полной победе.
Чалый вынес всадника на гребень гряды, и оттуда, с высоты, Война увидел оставшийся позади залитый луг, точки людей на другом его краю, а перед собой заросли и далекую-далекую ленту Днепра.
XXV
Это было тяжелое и страшное время.
Вся необъятная империя коченела и немела от чудовищного политического мороза, что вот уже двадцать шесть лет висел и космато ворочался над ее просторами. Каждый, кто пытался дохнуть полной грудью, отмораживал легкие.
Говорить разрешалось только ложь, любить — только православие да императора, ненавидеть — только вольнодумцев (которых никто не видел, так их было мало).
Литература держалась на каком-то десятке смельчаков, которых гнали и распинали все, начиная от всероссийского квартального и кончая квартальным обычным. Да и смельчаки говорили чаще всего приглушенным голосом, потому что на каждого относительно честного было по двадцать цепных псов, способных на все.
Большинство не выдерживало и, сказав смелое слово, сразу начинало шаркать ногой и просить извинения, пугаться своих прошлых убеждений. «Мертвые души» назвали «трижды ложью, поклепом на российскую действительность и опорочиванием основ».
Великие завоевания человечества империя объявила вздором, правду — злостным подкопом, инакомыслящих — преступниками, которые не хотят величия отечества.
Бог был похож на будочника, а будочники — на разбойников.
Шпицрутены и полосатые будки стали символом.
Счастливых не было.
Все приносилось в жертву идолу государственной мощи.
И потому Алесь, который до этого жил в ином мире, особенно болезненно воспринял гимназическую обстановку. Тесно, удушливо, убого по мысли, ограниченные учителя.
В здании длинные мрачные коридоры со сводчатыми потолками. Полы коридоров и ступеньки лестниц выложены чугунными плитами. Плиты отполированы до блеска в середине, а у стен черные, матовые.
Звенит звонок. Выйдешь в коридор, и за единственным окном не Днепр, а казенные городские стены, выкрашенные в одинаковый «иерусалимский», а попросту, по-малярски, в желтый цвет.
Весь город напоминает казарму или больницу. И от этой казарменно-больничной действительности хоть ты волком вой.
Он хотел было попросить родителей забрать его отсюда, отправить в другое место или за границу.
Туда пускали неохотно, но Вежа мог бы добиться разрешения.
Поначалу этому помешала гордость. А потом он даже радовался, что не убежал. Потому что Мстислав привел к нему друзей — Петрака Ясюкевича, Всеслава Гриму и Матея Бискуповича, сына того пана Януша, с которым Загорские ездили на Кроеровы «похороны». Матей похож на отца как две капли воды. Ясюкевич красив, как девочка: большеглазый, волосы словно золотая паутина. А Грима просто увалень, но самый умный из всей компании. Это было видно хотя бы по тому, что голова у него была огромная и вся шишковатая — «ум вылезал наверх».
Месяца три они присматривались к Алесю, а потом Грима зашел к нему и сказал, что они хотят организовать сообщество и предлагают Алесю стать их товарищем, если он того пожелает.
Алесь согласился, и они торжественно приняли его пятым членом в «Братство чертополоха и шиповника». Члены его читали запрещенное и спорили до пены на губах. И все это было интересно, потому что Грима доставал где-то такие книги, сам вид которых дышал запретом и опасностью. Доставал чаще всего на одну ночь, поэтому читали вслух и спорили до позднего зимнего рассвета. Это было удобно делать на квартире у Загорских или в небольшой комнатушке Гримы, где он жил один.
Читали польские подметные письма и переписанные от руки стихи Мицкевича, читали раннего Пушкина и «Письмо к Гоголю», читали, почти не понимая, Фурье (захватывала в нем смелость, а не мысли) и книги «Современника».
Однажды попала в руки каллиграфически переписанная рукопись «Тараса»[88] - его тоже приняли за запрещенное и, хохоча до рези в животе, за одну ночь переписали, чтоб у каждого было по экземпляру.
Но это было вначале. Вопрос, поставленный перед каждым, требовал ответа. Подросткам, почти детям, безотлагательно надо было знать, кто они такие. И тогда столы были завалены книгами по географии и истории. Алесь искал все, что только было возможно, по истории. На рождественские каникулы он опустошил часть дедовой библиотеки.
За месяц до этого русский флот подверг ураганной бомбардировке турецкий порт Синоп. Неистово пылали корабли, небо, само море. Началась война, которая должна была привести империю на грань катастрофы. Но ребятам почти не было до нее дела, потому что они открывали себя, плакали над судьбой Ветра, Дубины и Мурашки, слушали о подвигах князя Вячка, Михала Кричевского и князя Давида из Городка, сжимали кулаки, переживая битву на Крутогорских полях или сечу на Иваньских гривах.
…Перед глазами подростков, словно совсем неизвестный, вставал их родной край. Бесконечные болота, пущи, заброшенные древние городки на болотных островах, где и до сих пор висят на ветвях трехсотлетних дубов колокола. Мрачный, лесной, тоскливый, но самый родной мир, где они родились: Волхово болото, на девяностоверстовой глади которого горят болотные огни, а по берегам находят остатки кораблей да окаменевшие бревна бесконечных дорог, засосанных на трехсаженную глубину, Припять, седоусый Неман и богатые приднепровские города.
Они видели безграничные разливы, которые иногда несут на своей воде деревянные часовни, осенние леса, пылающие, как свеча в сретенье, и чистые родники, в которых плавают лубяные ковши.
И обидно делалось за опустошение, забытые могилы и уничтоженных людей, за угнетение, за свист шпицрутенов на Лукишках, за полосатые шлагбаумы, что закрывали все дороги, и, казалось, даже путь к счастью.
Они не знали еще, что слава человечества не в прошлом и что бороться надо не за прошлое, но их порыв был честен и чист.
Пятьдесят третий год снова принес неурожай. Плохая была озимь, плохие были и яровые, потому что во время жатвы лили дожди и несжатая рожь прорастала в поле.
Люди голодали и ели хлеб, похожий на торф. Более или менее чистый хлеб давали только совсем маленьким детям. Царь не мог не знать об этом — все слышали о донесении генерал-губернатора могилевского, витебского и смоленского Игнатьева. Тот писал о страшных вещах — о нищете одних и несомненной роскоши других.
Царь знал это, но не хотел ничем помочь земле, жители которой дошли до последней степени нищеты и унижения.
И хлопцы поняли, что это не отец, а отчим. Отчима можно ненавидеть, и они теперь ненавидели его всей силой ненависти, какую только могли вместить их души.
Алесь сделал и первый вывод из этой ненависти, когда они с Мстиславом ехали домой на рождественские каникулы в присланной Вежей кибитке.
Курилось снежное поле. Белые змеи ползли по сугробам к кибитке и пересекали следы полозьев. Призрачно дрожала в зеленоватом свете луны черная полынь у дороги. Кучер пел что-то себе под нос тихо-тихо.
Ребятам было немного холодновато, и они плотнее укрывались медвежьей полостью. Неясный свет луны падал в окошко кибитки.
— Понимаешь, Мстислав, — сказал вдруг Алесь, — сердца не выдерживает, когда смотришь на все окружающее. Так жаль этих бедных людей, эту сироту-землю.
— Тоже сказал! А кому не жаль? Но что делать?
— Остается одно, — сказал Алесь глухо.
— Что?
— Оружие.
Мстислав шевельнулся под полостью.
— Умная голова думала целых две минуты. Кто его возьмет? Ты? Я? Грима? Пять гимназистов? Ты же знаешь, и у нас, и в шестом, и в седьмом классе больше не нашлось ни одного.
— Может, и есть, да молчат.
— Так будут молчать и тогда.
— Вощила начинал с тремя друзьями, — сказал Алесь, — а потом вокруг них стало войско.
— Ну, и закончил, как начал.
— Однако четыре года тряс государство.
— Тогда народ был смелый.
— А теперь? Теперь ему еще хуже. Лучше уж смерть, чем такая жизнь. Все понимают… И это адское, оскорбительное рабство!
Мстислав смотрел в окошечко, вьюга ползла и ползла на следы полозьев.
— Нет, — сказал он наконец, — ты знаешь, я не трус. Однако сколько нас? Мы только начали понимать себя. Даже если мы найдем сотню-другую людей, все окончится потерями и гонениями. Мы просто не выдержим, погибнем, а с нами и первые ростки. И тогда — конец.
Дети серьезно говорили о восстании и оружии, и это было б даже смешно, если б не их расширенные глаза, лихорадочный румянец щек и прерывистые голоса.
— Нет, — повторил Мстислав, — мы потеряем все приобретенное с таким трудом.
— Ты меня не понял, — сказал Алесь, — я говорю про бунт недовольных, кто б они ни были. Поляки… русские, литовцы… люди инфлянтов.
— Тем более, — сказал Мстислав. — А остальным что?! У них останется много, даже если расстреляют тысячи. А у нас никого. Мы — огонек, который едва начал теплиться.
— Найдутся еще.
— Через сто лет? — иронично спросил Мстислав. — Это ты важно придумал.
— Пусть, — упрямо сказал Алесь. — А оружие брать все равно придется. К тому времени найдем людей… Пойми, надо… В рабстве гибнет дух.
Кибитка ехала теперь совсем чистым полем, оставляя за собой одинокий извилистый след. И все ползли, ползли на этот след белые змеи.
…Дед был все тот же. Встретил обоих с легкой иронией и плохо скрытой нежностью в старческих глазах. За ужином говорили о незначительном: об охоте на зайцев, о том, что Кроер еще раз повторил свои похороны, причем более виртуозно, и снова многие попали в его ловушку, о том, что в Москве сгорел Большой театр.
— Это он от стыда, — заметил Вежа. — Потому что каждый день пели «Жизнь за царя».
А после ужина Мстислав, видимо, решил немного испытать старика на радикализм:
— Достал бы ты, Алесь, то, что у тебя в кармане, да почитал пану Даниле.
Алесь побледнел. В кармане у него лежал список «Поэм на малороссийском наречии». Поэмы назывались «Кавказ» и «Сон». Фамилии автора не было, но ее шепотом передавали друг другу: «Шев-чен-ко».
Алесь посмотрел на друга с таким укором, что тот смутился. Но дед сделал вид, что ничего не понимает.
— А ну, давай, — сказал он.
И тогда Алесь начал читать. Дед слушал сурово, а когда внук окончил, долго молчал.
— Берегитесь, хлопцы, — произнес он наконец звонким от волнения голосом. — Я не буду запрещать: вижу, чего вы там нахватались, знаю, что поздно, вы не послушаете. Но берегитесь. Если хоть немного уважаете меня… прошу. Мне будет… обидно, если с вами что-нибудь случится…
Ребята, угнетенные страшной силой этого «берегитесь», молчали, словно впервые самим сердцем почувствовали опасность. И тогда старик, жалея их, вдруг грустно улыбнулся.
— А propos de[89] стихов… Я б этого хохла не в Сибирь, а министром просвещения вместо дурака Уварова сделал. Ничего, хлопцы. Все ничего.
И прикрыл большими ладонями руки юношей.
XXVI
Над Вильной медленно плыл звон. Звонили в православных церквах, звонили во всех костелах от Острой Брамы до Антоколя. Под этот звон покидала город бричка, в которой, зажатые между чемоданами и корзинами, сидели два, теперь уже шестиклассника, хлопца. Пан Юрий, собираясь уезжать из Вильны на все время, добился от попечителя учебного округа разрешения, чтоб сын и Мстислав сдали экзамены досрочно. Они и сдали. С высшими отметками по всем дисциплинам.
В последний момент пан Юрий, чертыхаясь, сообщил, что губернские дворянские дела заставляют его на неделю задержаться в Вильне и что им придется, чтоб не мозолить глаза друзьям, которые все еще потели над вокабулами в святодеянском гимназическом дворе, ехать одним, под присмотром Халимона Кирдуна. Грешно сказать, но они обрадовались и обстоятельствам пана Юрия, и путешествию.
Загорский видел это, но оправдывал их. Что поделаешь, больше всего на свете молодость любит самостоятельность.
Бричка тарахтела по мостовой, и Алесь видел на тротуаре фигуру отца.
Потом тройка повернула на Доминиканскую. Лошади нервничали, с колокольни собора доминиканов падал густой черный звон.
Над всей Вильной говорили колокола.
Доминиканам через каких-то сто саженей басовито ответил святой Ян. Слева потянулись святоянские стены, где была гимназия. На втором этаже как раз час тому назад сели за сочинение младший Бискупович, Ясюкевич и неповоротливый Грима.
Звон сопровождал бричку на всем ее пути через город. Звонил Ян, звонил костел Базилианов, плакала святая Тереза. И даже когда город исчез, ветер еще изредка доносил далекий колокольный перезвон. Колокола плакали.
Плакать было из-за чего, хотя власти в этом и не признавались, давая приказ о мессе. Приближался час расплаты за слепоту, за сорокалетнюю тупую уверенность в своей непобедимости.
Первого апреля союзники засыпали Одессу бомбами, разлили по ее улицам, садам и причалам море огня. Черноморский флот почти мгновенно потерял инициативу, а потом и совсем засел в Севастопольской бухте и был потоплен.
* * *
…На юг, где шла война, из суходольской округи пошло совсем немного людей, и в том числе молодой граф Илья Ходанский. Вышло это неожиданно. Еще накануне не думал о войне, но тут приехал — по дороге в Севастополь — в свое имение Куриловичи восемнадцатилетний красавец граф Мишка Якубович, единственный наследник вдового отца, недавно отошедшего «в лоно Авраамово». Счастливый наследник, не надеясь на лучшее в той костоломке, куда должен был попасть, закутил со всей самоотверженностью гвардейца и потянул за собой Илью. Ровесники начали пить и озоровать. Могилевские камелии, женщины с не совсем пристойной улицы в Суходоле, трактиры, рестораны, гостеванье у соседей, где было много молодежи, — ничего не обошли.
Напроказничали они с Ильей вовсю. Пьяные, пытались требовать сатисфакцию у губернского казначея (у того была молодая любовница, и они решили: даже если один из приятелей сложит голову, второму будет хорошо). Казначей под видом переговоров о дуэли заманил друзей к себе и приказал высечь обоих, как собак. Повесы едва вырвались на свободу с оружием в руках, а потом в гневе на неучтивость казначея обзывали его пошехонским графом и три ночи подряд взрывали у его дома петарды.
Потом, как раз в Судный день, пустили в синагогу пойманную где-то сову, а дверь крепко подперли толстым колом.
Полицмейстер пытался их унять — они, уплатив задаток, прислали ему гроб, обитый глазетом, и могильную плиту с гранитным крестом, на котором было уже высечено все, что надо, кроме года смерти. Полицмейстер с горя запил, а присланное сложил под навес в своем дворе: все же дешевле обойдется.
В Суходоле и вовсе разошлись. Возникла срочная необходимость выпить с офицерами, сидевшими на гауптвахте. Захватили здание «абвахты», спалив с наветренной стороны пуд и четыре фунта серы. Когда стража разбежалась, вытащили очумевших коллег из здания и умыкнули их в Куриловичи. Где ипили три дня.
Там их и застал Исленьев, который приехол в гости к Веже и, прослышав об озорстве, поехал утихомиривать повес. Разнос сделал приличный и посотевтовал, усле не хотят высылки, быстрее заканчивать идиллическое прошание с «милой родиной» и следовать дальше. Илья Ходанский, которому все равно некуда было деваться, пошел с Якубовичем добровольно сражаться за веру, царя и отечество.
Тем все и кончилось.
А Исленьев после этого неприятного случая поехал снова в Вежу. Старик обрадовался ему.
Алесь немного посидел в их компании, забившись в самый уютный уголок, положив себе на колени «Дафниса и Хлою» (такие вещи в последнее время начали интересовать его), и то слушал, то читал.
А на витражах окон плыли чудесные птицы, рыбы и крылатые женщины. Они просвечивали насквозь так, как никогда не светятся обычные краски. Светились гранатовым, желтым, апельсиновым цветом, как светятся на солнце бокалы с видом.
— Пройдисветы, — улыбался Вежа. — Ну что они, скажите вы мне, граф, сделают с теми французами да англичанами?
— А ничего. — Лицо графа было брезгливо. — Что в их голове есть, кроме этой мерзости с совой да пьянки?
— Вот я и говорю… Скажите, кто прав — те, что идут сражаться, или те, что ожидают?
Исленьев покосился на Алеся. На лице у деда появилось недовольное выражение.
— Я и сам не знаю, — сказал граф, поглаживая седые бакенбарды. — Скажу лишь, что нас побьют все равно, непременно. Плохой, пустой человек добровольно под пули не пойдет, пойдут лучшие и погибнут. А их и без того не густо.
— Бьют, — вздохнул дед. — Ой, бьют. Ткнули нас носом.
— Это все понимают. Позволили им под Евпаторией высадить десант, такой плацдарм отдали… И это злосчастное поражение у Альмы… Что меня удивляет, так это то, что, ей-богу, нечем им, врагам, особенно гордиться. Солдат наш смелый, безотказный, умный. Достойнее их по прочности, терпению, силе. Да и генералы у них не лучше. Этот их Сент-Арно — кто оп? Шулер в прошлом, актерик, со всеми отрицательными чертами этой профессии.
— Так в чем же дело?
— А в том, что самый сильный солдат без хлеба, без оружия, без отдыха, без… свободы очень скоро превращается в дохлую клячу. И самая лучшая голова, когда на нее приходится по сто дураков, ничего по может. Нахимов, бедолага, как страдает. Мужественный человек, любящий родину. А различная погань, которую всю жизнь воспитывали в надежде на приказ начальства, на старшего дядьку, — они над ним посмеиваются. Нашли у человека «недостаток», «травит» он в море, хоть и адмирал. Что поделаешь, если организм такой. Он «травит», но с мостика не сойдет, пока дело не доведет до конца.
— Нельсон тоже «травил», — сказал Алесь.
— Правда? — обрадовался граф. — Ну, утешил!
— Я солдат, — продолжал после паузы граф. — Я иду, куда мне приказывают… Но по своей охоте я б туда не просился.
— Почему? — спросил дед.
— Каждый лишний человек — это отсрочка конца.
— Хуже, думаете, не будет? — спросил Вежа.
— Хуже быть не может, — сказал граф. — Хотя бы потому, что каждое новое царствование вначале на несколько лет отпускает гайки, зарабатывает себе доброе имя.
— Чтоб потом сделаться еще хуже. Слышали мы это.
— Однако же несколько лет, — сказал Исленьев, — это очень важно. И потом почти обязательно амнистия. Значит, те, кто жив еще, вернутся. И я встречусь со своей молодостью.
Вежа осторожно подлил графу вина. Старик грустно улыбался.
— Я сегодня слышал пророчество, — сказал он. — Пророчил тут один лапотный Иеремия: «Просвистят они Свистополь».
— Ничего удивительного. Сорокалетнее скверное положение в армии. Почти тридцатилетнее замалчивание общей продажности, слабости, жестокости к простым людям, рабство.
— Все было хорошо, — поддакнул Вежа. — Уж так хорошо, что выяснилось — пороха не было. Умели ходить на парадах и не умели по грязи. Загордились. Всю историю думали наполеоновским капиталом делать…
XXVII
И снова осень. Снова гимназия. Снова зима с заснеженными вербами над Вилией, с запахом березовых дров. Только теперь Алесь жил с Кирдуном и Логвином. Было бы совсем плохо, если б не «Братство чертополоха и шиповника» да редкие, очень редкие письма от Кастуся и еще более редкие, сдержанные и суховатые, весточки от Майки. Летом почти не виделись — Раубич повез дочь на воды. А разлука и не в такие годы очень редко ведет к лучшему. Забываешь голос, жесты, черты и, наконец, даже то, что лучше всего говорит о дружбе, — неподдельное ощущение человека рядом с собой. У нее, конечно, новые знакомые, новые люди вокруг, новые мысли.
Это было больно.
А потом снова пришла весна. Осел ноздреватый снег. Чудесно синело над городом чистое, с редкими стремительными облаками небо. Облака мчались из-за горы, из-за короткой, будто нарочно усеченной сверху, Гедиминовой башни — два этажа, на которых примостился и нелепо, как жук-плавунец, махал в воздухе лапками оптический телеграф. Передавал неутешительные новости. Весь март и весь май продолжалась ураганная бомбардировка Севастополя, не хватало оружия, гарнизон обессилел и держался лишь благодаря мужеству сердец, сердец — без помощи, без укреплений, без провианта, без обозов. И еще о том, что погибли в июне Истомин и Нахимов, что власть над людьми в руках тех, кто не способен руководить даже собой.
Все чаще у витрин, где вывешивались листы-сообщения с театра войны, можно было услышать хмурое:
— Начальнички, трасца им в бок…
Главного, на голову которого следовало насылать «трасцу», уже не было. Бомбы падали на дома Севастополя весь март и май, рвали поверхность бухты, могилу флота. Но даже отголоска взрывов их не долетело до собора в северном городе, где был похоронен человек гренадерского роста, обладавший при жизни умом обозника.
…Учитель Гедимин после траурного богослужения собрал гимназистов в большом холодном зале и долго молчал, поглаживая свои бакенбарды. Из разреза фалд форменного сюртука торчал носовой платок, который он посчитал нужным вытащить заранее, еще перед началом речи.
— Плакаць будзе зараз… Свидригайло, — как всегда слишком громко, сказал рассеянный Грима.
Ближние ряды грохнули смехом. И это было хорошо, потому что они заглушили смысл сказанного. Гедимина называли Свидригайлом за въедливость и мелочную склочность. Не слишком ли много чести ему было в его настоящем имени? Кое-кто говорил, что и Свидригайлы ему многовато: крамольный князь имел хотя бы собственные мысли и не боялся бороться за них, а этот был верноподданнейшим из верноподданных и вечно гордился тем, что он «истинно русский и всех этих полячков, хохлов-задрипанцев, лягушатников, колбасников, жидов и других инородцев терпеть не может».
— Опять Грима?! — угрожающе спросил Гедимин.
И тогда, понимая, что в такой момент гнев этой падали может стоить Всеславу тройки по поведению, Петрок Ясюкевич сказал:
— Извините, господин учитель. Это я.
— Что такое? — бледно-голубые глаза Гедимина вопросительно смотрели в невинные, искренние глаза Петрака.
Глаза Ясюкевича не умели лгать. Как бы он ни озоровал, они были простыми и честными, эти глаза.
— Ну? — немного мягче сказал Гедимин.
— Я случайно наступил ему на мозоль, — объяснил Ясюкевич.
— Что он сказал?
— Плакаць будзеш зараз… Задрыгайло, — преданно и просто сказал Петрок.
— Х-хорошо, — смягчился Гедимин. — Ваше счастье, Грима.
Подумал.
— А за то, что употребляете мужицкий говор, будете наказаны, Ясюкевич. Пятьсот раз перепишете это по-французски, по-русски и по-немецки.
— По сто шестьдесят шесть и две трети раза на каждом языке, — прикинув в уме, шепотом сказал Матей Бискупович. — Как с двумя третями быть, а?
— Спасибо, Петрок, — на этот раз шепотом сказал Грима, — дешево отделался.
Сашка Волгин, тезка Алеся, подморгнул Гриме:
— Ничего, выручим.
Сашка выделялся среди всех феноменальной способностью подделывать почерк каждого человека так, что тот и сам не отличил бы.
— Гимназисты нашей прославленной гимназии, — тихим и прочувствованным голосом, который дрожал от волнения, начал Гедимин, — большое горе постигло нашу страну. В бозе почил наш император, наш полководец, государь земли русской Николай Павлович, человек большой духовной силы, благодетель всего нашего народа, зиждитель светлого храма нашего будущего и пока что самая светлая личность нашей истории после Петра Великого.
— «Пока что», — буркнул Грима.
— Лиса, — с ненавистью глядя на Гедимина светлыми глазами, сказал Сашка. — В каждом случае такое говори — не ошибешься.
Голос Гедимина сорвался:
— Русский народ в скорби и печали…
— Сашка, — шепнул Алесь, — ты в скорби или, может, в печали, а?!
— В великой, — всхлипнул Сашка. — Просто рыдаю. Хороший был человек. Христианин. Долги за Пушкина пообещал уплатить, если тот на смертном одре исповедается и святые дары примет… Уплатил…
Гедимин смотрел куда-то вверх, глазами, в которых трепетали сердечное умиление и скорбь.
— Он печалится беспредельно… наш… русский… народ…
— А чтоб ты скис! — тихо сказал Сашка.
Грима толкнул его под ребро:
— Тс-с! Посадят в карцер — кто тогда поможет?
Алесь тихо смеялся. Он знал, что это Волгин был зачинщиком истории с Гедиминовой родословной. Собралось несколько хлопцев и сочинили шутливое «древо достоинства» наставника, где самое малое семь предков были все, кто хочешь, только не русские, а отец поляк. Затем Сашка написал письмо почерком Гедимина. А в письме было покаяние в том, что вот до этого времени он, Гедимин, только внешне придерживался православного обряда, а сам считал его ересью и схизмой и больше не желает губить свою бессмертную душу. Тем более что его, Гедиминов, отец был поляк и всю жизнь боролся с неправедным делом митрополита Литовского Есипа Семашки, который зловредно, коварно и методично уничтожал унию. И что он, Гедимин, в этом достойный сын своего отца и просит считать его впредь католиком, тем более что в его, Гедиминовом, дворянском гербе есть крест. А всем известно: если в гербе есть крест — это значит, что предок был выкрестом.
Письмо с родословной отправили виленскому попечителю и стали ожидать, что из этого будет.
Попечитель поверил. Ему показалось, что Гедимин рехнулся. Он вызвал «римского католика и потомка выкрестов» к себе, и там, за плотно закрытыми дверями, произошел бурный разговор с выяснением отношений. Гедимина чуть не хватил удар.
Зачинщиков этого озорства искали, но не нашли.
…Наставник тем временем добрался до последних минут «христианина». Голос дрожал, ладони, поднятые на уровень лица, казалось вот-вот опустятся на глаза, чтобы никто не видел слез, и только чудовищное усилие воли удерживало их.
— Он руководил, как настоящий властелин, он жил, как человек, он любил жену, как христианин. А отходил к предкам, — Гедимин сделал растерянный жест. — На ложе смерти он сказал сыну и преемнику своему: «Служи России, сын мой! Я хотел возложить на свои плечи все трудности, чтоб оставить тебе великую державу, спокойную, упорядоченную, счастливую. Но всевышняя воля рассудила иначе».
Гедимин положил руку на горло.
— Он лежал на своем простом ложе, накрытый солдатским плащом… Вы знаете, он всегда спал как простой воин. Он всю жизнь не укрывался ничем другим. И этот плащ войдет в историю наравне — нет, выше! — с треуголкой Наполеона, с его серым походным сюртуком, с простой палкой Великого Петра, с седлом под головой Святослава… Плащ… простого… солдата!
Рыдание клокотало в горле наставника.
— И он сказал сыну свои последние слова… «Учись умирать…» — Гедимин сделал длинную паузу. — Вы слышите эти слова?! История запишет их на своих скрижалях!.. «У-чи-сь у-ми-рать», «Учитесь умирать» — вот какой последний завет он оставил нам, господа.
Слезы текли сквозь картинно прижатые к лицу ладони наставника.
Три месяца прошло с того времени. Далеко от северной могилы «человека и христианина», не долетая до нее даже отголоском, густо-густо падали бомбы на бухту — могилу флота — и город — могилу величия.
И еще на многочисленные могилы людей.
Потому что кто-то учил умирать, а не жить.
Отдали Малахов курган. Ушли из Севастополя.
Расплатились за все десятилетия, когда распинали все молодое, мужественное, талантливое.
А между прочим, последних слов императора, за которые с таким рвением распинались тысячи Гедиминов, не было. Их придумали потом, чтоб люди учились гибнуть не ропща.
XXVIII
В августе тысяча восемьсот пятьдесят пятого года к Алесю, который в это время жил у Вежи, прискакал из Загорщины Логвин, привез письмо в грубом пакете из серой бумаги.
«Дружище! — писал Калиновский. Я окончил свою мачеху-прогимназию. Еду поступать в альма матэр. В Москву. Хотелось бы повидаться с тобой, да только знаю: невозможно. Немножко подзаработал, получил у начальника губернии паспорт и подорожную за номером пятьдесят шестым. А в ней — все. Двуглавая курица, рубль серебром гербовых взносов, приметы (лицо — овальное, тяжелое, лет — семнадцать, рост — средний, волосы — темно-русые, брови — черные, глаза — синие, нос и рот — умеренные, немного крупные, подбородок — обычный, — расписали, хоть ты на Ветку, к раскольникам, убежишь, и то найдут). Такая чушь! Начинается подорожная, как выяснилось, словами: «По указу его Величества государя Александра Николаевича…» Аж вот как! Как будто каждого путника хлопает по плечу: «Езжай, братец, счастливой тебе дороги».
Вот я и еду. В Минске сделал остановку на четыре дня и отсюда пишу. Город большой и довольно-таки грязный. Только очень полюбилась Золотая Горка с часовней святого Роха. Деревья вокруг, и так красиво поблескивает издали Свислочь, и дома за ней, и церкви. Приятно сидеть и мечтать.
Путешествие пока что нравится. Едешь себе, ни о чем не думаешь, звонок не звенит, впереди — свобода, видишь людей и новые места.
Десятого попаду, если верить подорожной, в Оршу. Буду там часа четыре и совсем близко от тебя, каких-то сотню с лишним — точно не подсчитывал — верст. Но это тоже далеко, так что не увидимся и в этот раз. И дорого. Мне прогонных за две лошади с проводником выпало что-то около семи рублей, тебе будет — в два конца — рубля два с полтиной. Чего уж тут. Так ты в это время просто подумай, что я близко, и я обязательно почувствую.
А когда окончишь на будущий год гимназию, что думаешь делать? Сидеть медведем в своей берлоге или ехать учиться дальше? Если второе — поезжай туда, где буду я. Поговорим обо всем-всем. Есть много интересных новостей».
Алесь пошел к старому Веже. Тот сидел на своей любимой террасе.
Внук остановился, не желая его беспокоить.
— Я слышал тебя еще за пять комнат, — не поднимая век, сказал дед. — Что у тебя там?
Алесь подал ему письмо.
Старый князь открыл глаза.
— Твой Кастусь, — сказал он. — Ты даешь мне, чтоб я прочитал?
— Да.
Пан Данила далеко отставил руку с письмом и стал читать.
— У него хороший, ровный почерк, — сказал он. — Он случайно не из «умеренных и аккуратных»?
Глаза его, наверно, увидели слова «двуглавая курица», и он улыбнулся.
— Извини, сам вижу, что это не совсем то. Ну, а что, если где-то в Бобруйске сидит почтмейстер Шпекин?
Покрасневший Алесь пожал плечами.
— Печать, — сказал он.
— Печать! — передразнил дед. — Печать можно снять горячей бритвой, а потом посадить на место.
Дочитал до конца.
— Из небогатых, — сказал он.
— Я говорил вам это, дедушка.
— Вы и в дальнейшем намерены пользоваться услугами государственной почты для передачи друг другу свежих сравнений и искренних высказываний, подобных этим?
— У нас нет иных путей общения. Мы далеко друг от друга.
— Зачем ты показал мне это?
— Я хотел еще раз показать вам, какой… какой он.
— Если ты хотел показать мне, какой он умный, так ты не мог бы достичь своей цели лучшим образом. Я в восторге от его умственного развития и… гм… осторожности.
Он протянул руку за папиросой.
— Я на седьмом небе от благородного восхищения родиной. Mais il faut aussi quelque intelligence.[90]
Дед, ни слова больше не говоря, пускал душистый дым и писал папиросой в воздухе какие-то дымные иероглифы, которые расплывались раньше, чем кто-нибудь мог бы их прочесть.
Он делал это долго, очень долго.
И мысли деда прочесть было труднее, чем эти серые живые знаки в воздухе. Кондратий появился в дверях неожиданно.
— Что, — спросил Вежа, — никого больше не было?
— Я был ближе всех, — сказал Кондратий.
Алесь понял, что все это время Вежа держал ногу на звонке.
— Слушай, молочный брат, — сказал Вежа. — Я знаю, ты почувствовал, что что-то случилось в доме. Возможно, хотел узнать, что привез Логвин.
— Очень надо, — буркнул Кондратий.
— Но ты все же не мальчик, чтоб бежать на каждый звонок. Ты — брат и надсмотрщик за лесами. Твоя жена — вторая хозяйка в доме после Ефросиньи.
— Да уж, — сказал Кондратий. — Никто не запретит моей жене вымыть пол, если она захочет. Пани какая!
Дед осекся.
— Что надо пану брату Даниле?
— Тройку для панича, — сказал дед. — Сейчас.
Кондратий ушел. Какое-то время царило молчание.
— Дедуля, — тихо сказал Алесь, — я этого никогда не забуду.
— Не стоит благодарности, — ответил дед. — Я эгоист, ты же знаешь. Я хочу, чтоб у государственной почты было хотя бы на два письменных доказательства меньше. Мне не хотелось бы, чтоб тебя с твоим Кастусем за чепуху сослали куда-то на Орскую линию.
— Я понимаю…
Вежа вздохнул.
— Сегодня какое?
— Девятое.
— Одни сутки. Если поспеешь, можешь встретить.
— Тогда лучше верхом.
Дед помолчал.
— Так что хватай его на яме и тащи сюда. Передай: не приедет — тебе будет больно, а я за тебя обижусь. Любопытно посмотреть, что это за птица, с которой делиться приходится.
…С удил коня падала пена, когда Алесь, миновав аллею, ведущую к белым стенам и блестящим маковкам кутеянского монастыря, вырвался наконец на край высокого плато и увидел крутой спуск дороги, синюю ленту неширокого здесь Днепра, а за ней городок, что уютно примостился между Днепром и небольшой речушкой.
Конь, оседая на зад, спускался к наплавному мосту, неуклюже лежавшему на воде.
У Алеся не было времени рассматривать все. На станции ожидал Кастусь, который вот-вот мог уехать.
Конь застучал подковами по настилу. Воз с сеном встретился как раз на середине, и вода залила бабки коню. Конь потянулся к воде, Алесь поднял удилами его голову.
Справа торчали из воды мощные, полуразрушенные арки каменного моста, когда-то, видимо, такого широкого, что три воза с сеном могли проехать рядом и еще сталось бы место двум всадникам.
Это были руины «моста на крови», на котором когда-то решали свои богословские вопросы заднепровские монахи с их поклонниками и горожане из католиков, возглавляемые школярами из иезуитского коллегиума.
А поскольку на продолжительные диспуты ни у кого не хватало ни времени, ни ума, то убеждали друг друга в справедливости «своего» Христа способом, в котором было мало терпимости и еще меньше гуманизма. Не последними доводами в этом споре было заушательство, удары разной силы Библией или ковчежцем по голове, пинки.
К числу неопровержимых доказательств, с которыми уже невозможно было состязаться, относились удар безменом по голове и сбрасывание с высоты в воду.
Поднявшись на другой берег, Алесь опять погнал коня. Промелькнули слева замчище, Николаевская церковь и два костела. Поодаль легко возносились в небо две колокольни Покрово-Гуменной церкви.
Замковой улицей вырвался на Петербургскую, высекая подковами искры из каменных плит.
Возле одноэтажного каменного здания ямской станции стояла запыленная — хоть ты пальцем на ней пиши — почтовая карета, и люди стояли на ступеньках, а кучер с почтальоном уже привязывали веревками корзины и чемоданы.
Он осадил коня и соскочил с него, бросив поводья.
Стал рассматривать пассажиров. Старый чиновник с узелочком. Женщина в чепце — видимо, его жена… Семинарист… Два шляхтича из средних.
— Скажите, дилижанс по смоленской линии уже отправился?
В тот самый момент, когда спросил это у семинариста, с радостью увидел, что не опоздал.
Кастусь сидел у стены на лавочке, опершись подбородком на согнутую руку, и смотрел своими синими глазами, как запрягают. Смотрел хмуро и с очевидной скукой.
Это был тот и не тот Кастусь. Волосы по-прежнему падали назад, открывая высокий и чистый лоб, но были длиннее. На верхней губе едва заметно пробивались усы, и рот юноши казался от этого еще более властным.
Одет он был в сюртук, в бежевые нанковые панталоны и запыленные полусапожки. На красивой мускулистой шее стягивал ворот белой сорочки широкий красный галстук.
Калиновский поднял голову и долгим недоумевающим взглядом, словно не узнавая, обвел темного от загара Загорского.
— Алесь…
— Кастусь!..
— Господа, — сказал пропитым голосом станционный смотритель, — проше сядать.
— Я… еду сейчас, — тихо сказал Кастусь. — Вот и дилижанс.
— Пошли они со своим дилижансом! — воскликнул Алесь.
Кастусь растерянно мялся. И тогда Алесь протянул ему руки.
— Кастусь!.. Вот так Кастусь.
— Алесь! Братец! Алесь.
Они бросились друг другу в объятия.
* * *
Всадники неспешным шагом выехали из дремотной тени вековой пущи и увидели под высоченным крутым обрывом Днепр. Он спокойно и редко поблескивал мелкими волнами.
Они ехали одни, далеко впереди Логвина с подставными.
…Ночь спали в возке, а возле Докшицы встретили третью подставу и снова пересели на седла, хотя Кастусь был и неважный ездок.
Кастусь ехал на снежном Урге — тот был спокойнее. Алесь — на Тромбе, который никого не желал знать, кроме хозяина.
— Дивной красоты кони, — сказал Калиновский.
Алесь улыбнулся.
— Знаешь, мне однажды, еще в детстве, приснился удивительный сон. Была ночь и туман. И кони. Белые, изумительной красоты. Я лежал у погасшего костра, а кони наклоняли головы и тепло дышали. А среди коней стоял мокрый жеребенок. Весь снежный, а хвост смешной, толстый… И туман сбегает волнами, а везде белые кони.
— Ты, Алесь, случаем стихов не пишешь?
— Пробую, — краснея, ответил Алесь.
— И я иногда… тоже, — просто сказал друг.
— И… хорошие стихи?
— Где уж там! — вздохнул Кастусь. — Чтоб писать хорошие, надо все время работать. А я… Мне кажется, не в этом теперь наша судьба.
Алесь удивился — так помрачнело вдруг лицо друга. Что-то страдальческое появилось у него в глазах. Он был совсем не похож на Яроша Раубича, но выражение глаз, губ, сдвинутых бровей сделало их на миг очень схожими.
— Тебя что-то угнетает? — спросил Загорский.
— Потом, Алесь.
— Вижу, — сказал Алесь, — ты не хочешь, но…
— Я не хочу, но это выше меня.
— И потому ты не хочешь писать стихи? Но ведь судьба поэта — самая счастливая судьба.
— Кто хозяин своей судьбы? Кто знает, сколько ему дано жизни и когда придет смерть?
Кони шли почти над самой кручей. Сладкий могучий ветер летел из-за Днепра, приносил с собой запах стогов, аромат завядшей листвы, запах сырости и болотных цветов со стариц.
— За такую землю все отдать можно, — тихо сказал Кастусь. — Все. — И возвратился к прежней мысли: — А насчет того, что твой дед так набросился на тебя за мое письмо, то здесь я поступил как последний олух. Он, видимо, все понимает.
— Что все?
— А то. То, что раньше душили и рубили, а теперь… теперь понемногу жмут. Отними у человека в один день родных, хлеб, свободу, язык. Он ведь взбунтуется. Он оружие возьмет. А эти тянут понемногу, по капельке, по словечку, по человеку, по песне — незаметно отнимают.
— Да, — Алесь тряхнул головой. — И все же, пока тянет более теплым ветерком. Весной… Послесевастопольской весной, если уж так называть.
— Погоди, даст она нам еще себя знать, та весна… Они всегда так вначале. Вроде бы отпустят, а потом гребут да щиплют… Но, не лягайся! Отпустили ведь!
Урга покосился на ездока нервным оком.
— Новый царь, кажется мне, добрее, — сказал Алесь.
— Посмотрим, — ответил Кастусь. — Посмотрим, каким он будет, когда припечет.
* * *
Они сидели втроем в библиотеке за чашкой кофе. Дед — в своем кресле, юноши, поджав ноги, на кушетке. В раскрытые окна лился теплый вечерний воздух, сияние луны. Две свечки в кованом железном подсвечнике освещали высоко над столом сухое лицо старого Вежи, его сутулые мощные плечи, переплетенные пальцы морщинистых рук.
Дед со скрытым интересом поглядывал на Кастуся. Парень и нравился и не нравился старику. Он умный, видимо, и искренний, однако откуда в нем такая самоуверенность, чувство этакой своей racio?
А Кастусь рассматривал седую гриву волос, волну белых кружев на выпуклой груди и думал:
«Тоже еще… ископаемое. Просто «сей остальной из стаи славной екатерининских орлов». Словно законсервировали его здесь. И нa тебе, еще рассматривает».
При встрече Вежа почти ничего не сказал ему, кроме незначительных слов приветствия. Потом хлопцы обедали. И вот сидели, изучали друг друга глазами.
— Так это ты, значит, и есть Кастусь?
— Кастусь… Сын Сымона… Калиновский.
— Дворянин? — спросил дед.
— Теперь снова дворянин, — ответил Кастусь.
— Как это? Разве можно быть сегодня дворянином, завтра — купцом, а послезавтра снова в дворяне двинуть?
— При таком правительстве, как наше, все можно, — сделал Кастусь первый выпад. — Сегодня человек — мусор, завтра — дворянин, послезавтра — опять мусор.
Алесь улыбался, заметив, как одна из крылатых бровей Вежи приподнялась в незаметном для постороннего удивлении.
— Гм… Так как же это вышло, может, ты расскажешь мне?
— Могу!
Вежа удобнее устроился в кресле и через краешек чашки метнул на юношу испытующий, хитрый взгляд.
— В семнадцатом столетии мой предок Амброзий Самойлов Калиновский купил имение в Бельской земле.
— И неплохо сделал, — сказал Вежа.
— Мы там не пробыли и сотни лет. Ровно через девяносто, в тысяча семьсот шестьдесят девятом, прадед продал имение. Долги прижали, сильные соседи помогли.
— Как же звали его благородие прадеда?
— Матеем… А дальше начали жить так. Правда, в шляхетстве нам не отказывали. Подтвердили его тридцать три года назад на белостоцком губернском собрании. А через десять лет, после восстания, начали всех нас гнать в однодворцы. Тысячи людей пошли в податное состояние. Отец бился, как линь об лед. Через четыре года после восстания он (а ему шел уже сорок первый год, и поздновато было начинать «дело», но с голода подыхать тоже рано) взял в долг у фабриканта из Остроленки Игнация Бонды денег да сам доложил и открыл в Мостовлянах свое «дело». Пан Радовицкий разрешил. Жалел безземельных. Да и честь: «Споспешествовал промыслам в крае». Вначале было на фабричке четыре станка. В год моего рождения, в тридцать восьмом, — уже девять, с семнадцатью рабочими. А в сороковом году, когда Бонда поступился своей долей, стало уже двенадцать станков и двадцать рабочих.
Вежа слушал эту грустную историю изнурительной борьбы за благосостояние семьи, кусок хлеба и независимость без улыбки.
— Из кожи лез, как вол в борозде, — говорил дальше Кастусь. — Еще бы! Такая семья. Надо было увеличивать количество станков. Уже дотянул до пятнадцати, а тут чуть не крах. Полотно начало выходить из моды.
— Известное дело, — снова возвращаясь к излюбленному ироническому тону, сказал Вежа, — где уж нашим «господам» на полотняных скатертях есть, на полотняных простынях спать, полотняной салфеткой вытирать губы… А что, полотно выделывали простое?
— И простое, и узорное, и клетчатое. Но все чуть не пошло крахом. Выручила либавская филия данцигской фирмы «Ленке и Берг». У них на полотно всегда спрос, а в нашем удостоверении сказано, что наши салфетки и скатерти не хуже, а узорное полотно даже лучше заграничного.
— Сподобился пан Сымон, — сказал Вежа.
— Сподобился, да не очень, — сказал Кастусь. — Потому что как раз в это время умерла мать.
— Ты ее помнишь? — спросил Алесь.
— Плохо, — ответил Калиновский. — Почти не помню. Знаю только — красивая была. Иногда встретишь женщину с добрым, красивым лицом и ищешь в ее чертах черты матери. Может, такая была. А может, и не такая. Не помню.
— Какого рода? — спросил Вежа.
— Вероника из Рыбинских.
— Н-не знаю, — на этот раз уже всерьез сказал старик.
— Я плохо ее помню. Только руки. И еще глаза. Да песню, которую она пела. Заболела задолго до смерти. Рассказывали, как раз когда крестили меня. Привезли в Яновский костел. Был поздний вечер. Пока готовили купель, ставили, пока то да се, матуля с кумой и мной пошли по погосту пройтись. Погост там большой. Подошли к могиле Леокадии Купчевской, свояченицы Яновского пана, — она умерла молодой, и все говорили, что матуля чем-то на нее была похожа, только красивее, и потому мать всегда там останавливалась. Стоят. А из-за памятника, из-за барельефа пани Лиошки, — вдруг морда. Да страхолюдная, заросшая. Пока поняли, что это местный юродивый Якубка Кот, ноги у обеих подкосились. А тот идет за ними к костелу, вытанцовывает да говорит что-то наподобие: «Кумы дитя крестили, горло кропили, в рукав кожуха положили, по дороге потеряли… Лежит дитя на морозе, свечечки вокруг. Пальчиком шевельнет — перуны смалят, кулачок сожмет — громницы бьют. В «черного»! В «черного»! Мать шаг ускоряет, а он плачет: «Подберите дитя, добрые люди. Долго ли ему, холодному, пальчиком шевелить? А людцы мимо идут, а молнии слабеют. Вох-вох!!» Юродивого, конечно, прогнали. Только начали крестить — гром за погостом. А это сосед, Ципрук Лазаревич, собрал хлопцев и говорит: «Погремим на счастье кугакале».[91] Ну, и стреляли в небо. А всем вначале показалось — гром. После слов юродивого женщины обомлели: гроза — зимой… Крестная говорила, с этого дня у матери и началось. Начала худеть, чахнуть. Работы много. Детей одних двенадцать человек. А еще молодая. Меня почему-то очень жалела, говорят.
«Чем же вы богаты, панове? — вспомнил старый Вежа. — Детьми, да смехом, да днепровской водой».
А Кастусь рассказывал дальше:
— Умерла. Отцу надо было думать, как быть с детьми. Без матери не оставишь. А у того Ципрука Лазаревича, что на моих крестинах в небо стрелял, свояченица. Немного из тех лет вышла, когда сваты у ворот околачиваются, и красоты не первой, но добрая женщина. Так и появилась у меня мачеха Изабелла да еще семь братьев и сестер. Девятнадцать было б всех, но двое умерло.
Кастусь помолчал.
— У мачехи нашлись кое-какие деньги, отец наскреб, и купили мы фольварк, а при нем две сотни да тридцать десятин земли. По тринадцать десятин на человека. Фабрику перевезли, жить стало, если все вместе, так и неплохо. Ну и что? Поделишь — снова ерунда. Хуже иных крестьян. Отец старших сыновей — учиться, на свой хлеб. И, пользуясь тем, что земля есть, начал пороги обивать, «куку в руку» давать. И вот в этом году наконец оказали честь, издали постановление сената: «Считать владельца фольварка Якушевка, Сымона Стафанова Калиновскго, лет шестидесяти одного, вероисповедания римско-католического, как и наследников его, дворянином». Двадцать четыре года понадобилось на приговор. Начал добиваться молодым, в тридцать пять лет, мать была молодая, здоровая, а добился развалиной. Ненавижу я все это.
На челюстях у Кастуся ходили упрямые желваки, горели на щеках красные пятна.
— Ничего, брат, — сказал Вежа, — выучишься вот, голова у тебя хорошая, дойдешь до больших начальников — только перышки с «меньших» да «младших» братьев полетят.
— А что? — улыбнулся Кастусь. — И тариф над головой повешу, как зельвенский писарь: за подпись — три рубля да пирог с вязигой, за подтверждение дворянской годности — тысячу рублей да жене семь аршин бархата. А я сам в сенате шишка дюже важная. Заходит случайно государь император: «Гнать, говорит, его за такую таксу».
— Правильно, — буркнул Вежа. — «Потому как он нам всем цену сбивает, — скажет император. — Мне вон за концессию на строительство железной дороги сколько платят, и то мало. А тут… пи-рог с вязигой. У дурака и песня глупая».[92]
Лился в окна свет луны, смешивался с розовым светом свечей.
— Так что, Кастусь, — спросил Вежа, — ты, значит, поляк?
— Нет, я здешний, — осторожно сказал Калиновский.
— Он белорус, дедуня, — сказал Алесь.
— А это что такое? — недоуменно спросил дед.
И только теперь заметил, как молодой человек напрягся, словно его ударили, взглянул на Вежу потемневшими глазами.
— Он ведь вам говорил, пан Вежа, — бросил Калиновский.
— Я говорил тебе, дедусь, — сказал и Алесь.
— А, — словно вспомнил Вежа, — припоминаю. И вы верите в эти шутки?
Тут вспыхнул и Алесь. И Вежа понял, что зашел слишком далеко. Однако бес все еще сидел в нем.
— Как же не поляк? — сказал он. — Крестили тебя в костеле. Вероисповедания ты римского.
— Ну и что? — тяжело двигая челюстями, сказал Калиновский. — Прошу извинить, завтра я окрещу вас в костеле, но вы не станете из-за этого поляком. А я перейду в магометанство и не стану турком. Будет белорус магометанского вероисповедания и белорус вероисповедания католического.
— Неплохо для начала, — сказал дед.
— И для конца неплохо. Тем более что ваш младший внук — католик. По вашему приказу.
Вежа даже охнул. Чертенок бил прямо под дых.
— Однако же местность, откуда ты родом, — это Польша?
— Возможно, — сказал Кастусь. — Но теперь это Гродненская губерния.
— А завтра наш… гм… Август… присоединит к Гродненской губернии Варшаву.
— А жители, которые называют себя литвинами, а свой край Литвой?
Разговор и нравился, и не нравился Веже. Нравился потому, что чертенок знал, чего хочет. Не нравился потому, что эти знания угрожали и внуку, и самому чертенку опасностью.
— А ты умеешь говорить по-литовски? — с улыбкой спросил он. — Это же, кажется, не славянский язык.
— Я имею в виду не Литву-Жмудь, — упрямо кусая губы, сказал юноша. — Я имею ввиду Литву-Беларусь… И потом — вы же хорошо знаете, откуда выросла та ошибка.
— Я-то знаю, а вот откуда знаешь ты?
— У меня брат историк. И потом я не глухой. Семнадцать лет я слышу слово «Литва». А до меня его употребляли еще триста лет.
И тут Вежа сделал последнюю попытку повернуть вал кросен, на котором ткачиха-судьба ткала будущее этих юношей. Нанес последний и по-настоящему страшный удар.
Внешне это выглядело как милая шутка. Дед налил себе еще чашечку кофе.
— И все же никакой ты, хлопче, не белорус. Ты поляк. Точнее говоря, мазур.
Калиновский встревожился.
— Потому что твой Амброзий Самойлов сын Калиновский был с Визской земли… «Мечник Визской земли. Сын мечника Визской земли. Внук мечника Визской земли…» А Визская земля — это Мазовия.
— Так вы все знали сами, — растерянно сказал Кастусь. — Зачем же тогда?…
— Ты поляк, хлопче, — сказал Вежа. — Я знаю, тебе трудно расстаться с решением, которое вынес ты сам. Но это великий народ, который значительно больше знает о себе, чем мы все. Этим надо гордиться, а прочих «здешних» предоставить их судьбе, если уж они ничего не хотят… Главное — быть человеком, сынок.
И вдруг тишину нарушил странный, приглушенный звук. Кастусь смеялся. Смеялся горько, чуть язвительно и глухо.
— Да, Амброзий был мечник Визской земли. Но там живут и жмудины, и немцы, и поляки, и белорусы. Вы привели ненадежный довод, князь… Однако пусть, пусть даже и так… После него мои предки сто семьдесят лет жили на этой земле, ели ее хлеб, говорили на ее языке, умывались ее водой, пели ее песни… Да разве не все равно, если я сам считаю себя «литвином», белорусом, здешним — назовите это как хотите? Разве не все равно, если дома у меня говорят на мужицком языке, если только один отец — «для детей» — знает то, что у нас называется «польским» и чего не понимают поляки, потому что это исковерканные наши слова…
Глаза Кaстуся блестели.
— И разве не все равно, если покойная мать не знала иного языка, и братья мои, и я сам не знал до прогимназии другого… Вы знаете, какая та единственная песня, которую я помню от матери?
Шчыравала ў бары пчала,
Па верхавінках лятаючы, салодкі мёд збіраючы…
Вежа молчал.
— Белорус, — с глухой иронией произнес он. — Друг бредовых мечтаний моего внука. Что ж… Бог с тобой, сыне. Пусть тебе доля дает счастье.
И добавил:
— Психопаты… Неразумные… Мамкины сынки, пахнущие молоком… Что же это с вами будет, а?
…В тот год Приднепровье опять постигла беда — страшный летний паводок. Словно какое-то наваждение: вода стояла на уровне среднего весеннего половодья. Днепр залил луга, овраги, прибрежные поля. Старые русла превратились в протоки, в длинные озера.
Вода спадала понемногу, и по всему было видно, что Днепр войдет в русло лишь в начале сентября. На стволах деревьев, что освободились от воды, был тонкий пушок кореньев, — так долго стоял паводок. На пригорках коричневая корка тины лежала, словно войлок, и ноги человека ломали ее, оставляя дырки, в которых была видна чахлая, желтовато-зеленая, как в погребе, трава. Было ясно — сенокос на низинах пропал.
Кастусь с Алесем, держа в руках бредень, шли лугом. И бредень, развернутая двойная рама, обтянутая мережей, напоминал огромного прозрачного мотылька.
Шли по колено в воде. Приходилось грудью прокладывать себе дорогу в траве. Малиновый кипрей щекотал разгоряченное лицо, вьюнок цеплялся за ноги. Все вокруг краснело, белело, желтело.
Казалось, зацвело безграничное неглубокое море. Потому что травы стояли в воде, присыпанные разноцветной цветочной пыльцой.
Остановились на краю яруги — длинной, неглубокой котловины. Цветы словно застыли на ее берегах, открывая зеркальца чистой, блестящей воды.
Кастусь одним глазом глянул в мешок, подвязанный веревкой к шее. В нем переливались тускло-золотые лини, холодные густерки и голубовато-зеленые небольшие щучки.
— А неплохо мы ухватили, — сказал Кастусь.
— Это еще мало. — Алесь был красный и немного вспотевший. — Вода высокая мешает. Обычно по старицам раза за четыре столько натрясешь, а тут полдня ходим.
— Все равно интересно. Даже лучше, что много ходим.
— Ничего, — сказал Алесь, — сейчас дойдем до городища — отдохнем на сухом. А то тут и сесть негде.
— Как это негде? — удивился Кастусь.
И сел по самую грудь в воду. Сидел и смеялся. Торба с рыбой всплыла и начала шевелиться, ожила.
— Удобно, — сказал Кастусь. — Словно в теплой ванне сидишь. Только чтоб рак за какое место не ухватил.
— Здесь их нет, — успокоил Алесь. — Они под корягами да под берегом. И потом — мало стало раков. Года три назад мор какой-то на них напал. Берега кипели вороньем.
— Это они, наверно, с горя подохли. Нашелся на них какой-то свой Алексашка, — показал Кастусь белые красивые зубы.
— А что тебе этот Алексашка?
— А черт его знает. Обещает много. А у самого если и есть что хорошее, так это шевелюра и баки, да еще усы. Как пики. Но это уже скорее от парикмахера зависит.
И добавил:
— Подбородок у него безвольный. А безвольные люди — ох как часто они бывают упрямы и злобны! Из-за каждого своего каприза могут соседу шею свернуть. Как будто стараются доказать, что и у них твердость есть.
Кастусь болтнул ногами в воде.
— Справедливости, видимо, и теперь не будет. У нас вообще справедливость эту своеобразно понимают. Черной памяти Семашко[93] сам унию оставил и силой начал паству в православие загонять. Тут уж все, что хочешь, бывает — и страшное, и смешное. Смех у нас, как известно, тоже не дай бог! В петлю хочется лезть от такого. То режут людям бороды, а с тех, кто того не желает, мыт за бороду берут. А тут заставили бывших униатских попов бороды отращивать да одежду менять. Все зобородели, как козлы. И тут Семашке донос: поп такой-то бороды не хочет отпускать, а значит, и продолжает пребывать в гнусной ереси. Мечтает об автокефалии белорусской церкви, спит и видит, чтоб государь ухайдакался… Попа туда, попа сюда, попа на допрос… «Что, быдло, злонамеренные идеи в черном сердце питаешь?! Автокефалии захотел?! А в монастырь, на хлеб и воду?!» И, главное, он, холера, ни в чем не признается. Несколько месяцев таскали. Чуть в самом деле за решетку не попал. Уже и предписание было. И только потом выяснилось, что борода у попа от природы не растет.
Они широко развернули бредень и подставили его под куст, залитый водой. Алесь спиной, чтоб глаза не повредить, полез в кусты и начал бултыхать в них ногами. В следующий миг Кастусь дернул за веревочку, и крылья сомкнулись. Загорский подскочил к другу и помог ему поднять бредень над водой. В нем лежала, замерев от страха, довольно большая щука, а рядом с ней дрожали три тускло-золотых линя.
Ставя то и дело бредень, они медленно подвигались к городищу.
— И почему это, брат, так? Обычная рыба долго, мужественно, я сказал бы, держится, а щука, большая, сильная, хищная, как вытащишь из воды, так и млеет? — спросил Кастусь.
— Я думаю, что обычная рыба — она труженик. Живет себе, борется, «насущный» свой тяжело зарабатывает. А эта — хапуга, аспид хищный. Злой человек не бывает мужественным. Так и тут. На расплату, как и у всех таких, кишка тонка.
Кастусь вырвал из воды бредень, и в струях льющегося серебра они увидели еще одну неподвижную щуку и захохотали…
…Когда они уселись у подножья огромного городища и разложили сушить одежду, Кастусь, глядя расширившимися глазами на море цветов в воде, сказал:
— Ну и земля! Бог ты мой, какая земля! Так хотя б за красоту свою неужели она капельки счастья не заслужила? Тянут и тянут, душат и душат.
— Это правда, — сказал Алесь.
Калиновский лег на живот и смотрел теперь на гигантскую усеченную пирамиду городища, на следы рвов, на утоптанные временем склоны, на которых шумела трава, на одинокий дубок, что каким-то чудом примостился на краешке верхней площадки, добывая корнями бедный прокорм из твердой, как камень, земли.
— Держимся, как вон тот дубок, — сказал Кастусь, — на руинах.
— Слушай, почему ты последние две недели грустный? — спросил Алесь.
— Ты не думай, брат, — после паузы произнес Калиновский, — мне хорошо у вас, хотя и непривычно смотреть, как танцуют вокруг тебя и Логвин, и Кирдун с женой, и Карп с Анежкой, и Кондратий, и другие.
— Ну и что?
— Скажи, тебе никогда не было плохо от мысли, что на тебя трудятся многие тысячи людей? Если поселить в одно место, получился б огромный город. А вас шесть человек…
— Мне здесь пока ничего не принадлежит… А домашние — люди традиции, хотя и понимают необходимость перемен, — сдержанно сказал Алесь. — На собрании, кажется, четыре года назад, подали голоса за отмену крепостного права. За отмену!
— Ну, а ты сам как думаешь?
— Когда буду хозяином, наши люди получат свободу. Даю слово. Знаю, может, мне за это и хребетину переломят. Однако иначе нельзя.
Над головами юношей летели на городище, словно штурмуя его, солнечные, ослепительно белые облака.
…Ночью, когда Алесь и Кастусь уже лежали в своих кроватях, к ним зашел старый Вежа. Сел на краешек Кастусевой кровати, внимательно глядя на гостя.
— Ну как тебе здесь?
— Мне здесь хорошо.
— Слушай, Кастусь, могу тебе предложить кое-что.
— Да.
— Оставайся до университета у меня. Вместе с Алесем в будущем году поедете. А до того времени будешь учить детей в моей сельской школе. И подзаработаешь за год на два года, чтоб по урокам не бегать… А?
Кастусь отрицательно покачал головой:
— Нет. Я понимаю вас, пан Вежа. И я вам благодарен. Но здесь дело сложное. Мне надо потом тянуть братьев. И к тому же…
Он замялся:
— И к тому же мне надо быстрее выучиться. Я не имею права рисковать еще одним годом.
— Я знаю, ты никогда не возьмешь от меня денег.
— Никогда, — сказал Кастусь.
— Ну и дурак. Подработал бы. А то будешь сидеть на чае и хлебе.
Мускулы на щеках Кастуся напряглись.
— Чай и хлеб, — сказал он. — Вода и хлеб. Кровь и хлеб.
— Ну, этой дорогой мало кому дано идти.
Кастусь упрямо замотал головой.
— А если дано, так нельзя сворачивать. Народ наш без земли, без хлеба, без языка… И потому стоит жить и сталкиваться с врагом. Быстрее.
— Что ж, — сказал Вежа, — пожалуй ты прав…
Вежа ушел.
Юноши лежали молча и слушали свежий шорох листвы за окном. Спать не хотелось. Было самое хорошее время для беседы.
— Кастусь, что ты такими глазами сегодня на Галинку Кахнову смотрел?
— Красивая, — после паузы ответил Калиновский.
— Влюбился, горемычный?!
Кастусь помолчал, вздохнул.
— Нет. Я-то влюбчив. Даже очень влюбчив. Но я, видимо, не имею права. Жизнь не принадлежит мне.
— Как это не принадлежит?
— А так. Обычно у людей так: на первом месте — я, на втором — семья, родной дом, на третьем — родной город, на четвертом — родная земля, родное человечество. И каждый любит сам себя, почти все — семью, большинство — родной город, часть — родину. И лишь единицы любят человечество. По-настоящему, а не на словах…
Он сел и обхватил мускулистыми руками колени.
— Мы даже до любви к родине в большинстве не доросли. И потому здесь нужнее всего люди, которые прошли все ступени. Бывают такие, богатые любовью и ненавистью. Они любят человечество сильнее родины, родину — сильнее родного дома, а все это вместе — сильнее самих себя. Они, понимаешь, свободно расстаются с домом, свободно отдают жизнь, и все для родины, для человечества.
— И ты хочешь быть таким?
— Буду очень стараться… Что ж, самого себя я отдам. А кого я имею право отдать, кроме себя? Жену? Детей?
В темноте блестели его глаза.
— Нет, если отдавать, так только себя. Брат Виктор говорит: «Любовь не должна висеть камнем на ногах… Наш народ певучий, талантливый, гордый. И вот его все время благодарят за доброту, сидя на его спине».
Он стукнул себя кулаком в грудь.
— Песни наши затолкали, затоптали, вогнали в грязь, талант распяли, гордость оплевали. Все забрали — землю, воду, небо, свободу, историю, силу… А я все это люблю…
Шелестела листва. Словно тысячи тысяч вздохов летели в раскрытое окно.
— Нельзя больше терпеть, иначе утратим последнее — душу свою живую.
— Я тоже давно об этом думаю, — сказал Алесь. — Оружием надо породить уважение к себе и к мужику. И волю добыть тоже оружием. Я говорил об этом с друзьями.
— С Мстиславом?
— И с ним.
— Мстислав хороший парень. Он мне понравился. И Майка твоя мне понравилась. Однако как тебе с ней быть, если дело дойдет до оружия?
— Не знаю.
— А кто еще?
— У нас в гимназии есть общество. «Братство шиповника и чертополоха». Правда, почти детская еще выдумка. Мстислав, Петрок Ясюкевич, Всеслав Грима, Матей Бискупович и я.
— Найдутся, наверно, и другие, — сдержанно сказал Кастусь.
— В последнее время мы немного поутихли. — Алесь тоже сел. — Все же не фельдфебель над головой. Легче стало жить.
— Чепуха! — сказал Кастусь. — Легче стало жить! На это мне давно дал ответ Алекс де Токвиль.
— Француз этот? Историк?
— Да. Виктор откуда-то достал выписки из его новой, не напечатанной еще книги. Постараюсь припомнить более точно… Ага: «…не всегда приводит к революции переход от плохого положения к худшему. Чаще случается, что народ, который терпел без жалоб и более страшные условия, сбрасывает с себя их ярмо именно тогда, когда оно становится легче. Положение вещей, которое вызывает революцию, бывает почти всегда лучше того, которое было непосредственно до него, и опыт учит, что для плохого правительства наиболее угрожающая та минута, когда оно, правительство, начинает понемногу выправляться. Зло, которое терпеливо выносили как нечто неизбежное, делается нестерпимым при мысли, что можно от него освободиться…»
Кастусь стал на колени и, говоря, смотрел в парк, где билась и тоскливо вздыхала листва.
— Так, по-видимому, в нашем положении. Тем более что царек ничего значительного не делает, а так, словно медом слегка по губам мажет. Все как и предже. Государство — полицейский участок. Государство — тюрьма.
На лице у Кастуся снова появилось что-то страдальческое, тень страшной, нежелательной по молодости лет мысли.
— Ты вдруг сделался похожим на Раубича. Только моложе.
— Мне не по себе, — вздохнул Кастусь. — И мне очень страшно. Кажется, я решил бесповоротно. Иной дороги для меня нет.
Алесь развел руками:
— Если бы можно было хоть что-нибудь сделать! Школы на своем языке, постепенное освобождение — тогда еще кое-как. Однако же не дают. Не восстанешь — будешь жить, как все: жрать, напиваться, охотиться, отираться возле юбок. Совесть потеряешь. А восстанешь — тоже страшно. Это, возможно, и плаха.
Голос его сорвался:
— Главное, мало нас, мало! Единицы!
Кастусь лег на спину. Долго молчал, смотрел в темноте блестящими глазами. Потом сказал глухим, но твердым голосом, словно окончательно решил все:
— Не надо тысячи, чтоб начать. И не надо ста, чтоб начать. И не надо… двоих, чтоб начать…
XXIX
Алесь и Всеслав Грима шли по Доминиканской улице к Святоянским мурам.[94] Оба переоделись и старались держаться подальше от фонарей. Хотя гимназистам старшего класса и разрешалось не очень придерживаться часа, после которого ученики должны сидеть дома, но они шли в дом, посещение которого могло не понравиться начальству. Да и прогулки без формы не поощрялись. А иначе было нельзя. Будут смотреть как на щенят.
Они шли к Адаму-Гонорию Киркору, редактору журнала «Курьера Виленского». У него собиралось интересное общество, можно было поговорить о жизни. Бывала и музыка, а уж споры — всегда.
Хозяин был из либеральных и разрешал собираться в своей квартире самым разным людям, даже с крайними политическими взглядами.
Март даже ночью плакал капелью. С крыш то и дело сползал и хлопался тяжелый, подтаявший снег. Свет фонаря весело играл на сотнях сосулек.
Киркор жил в здании бывшего университета. Юноши огляделись. Посмотрели в сторону губернаторского дворца, метнули взгляд под темную арку двора Сарбевиуса. Надзиратель Цезарь Георгиевич, а по классной кличке Цербер Горгонович, мог повстречаться всюду.
Они перебежали улицу и нырнули в подъезд. Поднялись по лестнице, постучали в дверь. Встретила их горничная, взяла пальто.
В приоткрытую дверь доносились голоса.
…Хозяин, увидев Гриму, развел руками, словно хотел обнять. Одутловатое, все еще загорелое, даром что был уже март, лицо его как бы потеплело от улыбки.
— Смена молодая! Надежда милой родины! Так что, Всеслав, это и есть твой князь?
— Да. Только он не мой, а свой.
— Хвалю, хвалю, князь. Реферат ваш о народных песнях понравился. Исключительно. Верьте слову битого этнографа. Прошу, прошу ко мне!
В небольшой гостиной с мягкой мебелью и синими стенами, украшенными медальонами из эмали и идиллическими гравюрами из народного быта, было полно людей. Курили, пили кофе возле углового столика, спорили. Раздавались возгласы, смех, аплодисменты, — по-видимому, награда кому-то за меткое слово. Смешивались польский, французский, белорусский языки.
— Проходите, молодые люди, будьте как дома, — гостеприимно приглашал Киркор.
Было видно, что он честолюбив, гордится и этим сборищем, и гостиной, и людьми, собранными в ней, и атмосферой остроумия, споров и всего иного.
К большому своему огорчению, юноши почти сразу увидели одноклассника, графа Игнация Лизогуба. Он стоял с каким-то худощавым, чахоточным на вид человеком и едва ответил на приветствие. В черном безукоризненном сюртуке, очень сдержанный, очень воспитанный, он говорил и улыбался белыми зубами, но улыбка была холодная, безразличная. Волосы блестели от бриллиантина, словно корова ему голову лизала. Глаза табачного цвета, безразлично-внимательные. Как будто ему не семнадцать, а все пятьдесят, такой корректный.
— Вам повезло, молодые люди, — мягко кудахтал Киркор, — сегодня у меня как раз наиболее интересные гости. Редко бывает так, чтоб у каждого нашелся свободный вечер. Но сегодня вы увидите цвет нового виленского общества. Прошу быть как дома.
И убежал к другим — умиротворять: там бросить остроту, там ироническое слово, словно ведро воды на слишком яркое пламя. Юноши остались одни.
— А ты знаешь, — сказал Алесь, — мне он не нравится.
— Что-то резонное в этом есть, — покрутил тяжелой головой Грима. — Хочет, чтоб все были один к одному — святые да божьи. Видишь, вон Ходзька Игнаций сидит. Тезка поэта по имени. Богач! С ним он о золотом веке поговорит. А тот — граф Тышкевич, человек хороший, образованный. Ведет археологические раскопки. С этим побеседуют о том, как трудно было жить нашим предкам.
— А что здесь Лизогуб делает?
— Правое крыло сообщества, смену себе готовит.
— Кого ты еще знаешь?
— Вон тот, видишь? С нервным, тонким лицом…
В уголке, отдельно от всех, сидел худой человек с высоким лбом, в сюртуке бутылочного цвета и широком белом галстуке. Руки с длинными пальцами нервно теребили брелоки часов. Когда спор взрывался вдруг погрубевшими от страсти голосами, человек морщился как морщится меломан с абсолютным слухом, услыхав скрежет кирпича о кирпич. Лицо этого человека было тонким и желчным. Продолговатые, немного близко посаженные глаза смотрели грустно и сосредоточенно. И крупными красивыми волнами падали на плечи русые волосы.
— Кто такой? — спросил Алесь.
— Сырокомля. Поэт.
— По-польски пишет?
— И по-белорусски тоже.
— А тот? — Алесь показал на небольшого человечка, который пил кофе за столиком в углу и, кажется, был больше всего озабочен тем, чтоб не показать своей неловкости перед всеми этими людьми, чтоб взять и поставить чашечку с достоинством. У человечка было широковатое лицо с добрыми, видимо, близорукими глазами. Такому б сидеть дома, такому б вместо сюртука даже здесь больше подошел бы шлафрок.
— Погоди, — сказал Алесь. — Этого я довольно часто вижу на улице. Он что, тоже живет где-то на Немецкой?
— В доме на углу Немецкой и Доминиканской. Нет, во втором от угла.
— Он кто?
— Я его плохо знаю. Знаю, что служит органистом в Святоянском костеле. Интересно, почему он здесь бывает? Впрочем, тут довольно разномастная компания.
— И фамилии не знаешь?
— Она тебе ничего не скажет. Монюшко.
И вдруг всплыл в памяти Алеся разговор двух женщин, который он случайно подслушал на улице. Женщины были в глубоком трауре, и это — а также их заплаканные глаза, и молодость, и красота — заставило Алеся прислушаться к разговору.
— Грима, — сказал Алесь, — я слышал однажды, как святоянского органиста назвали богом.
— Наверно, костельные дэвотки, — буркнул Грима.
— Нет, не скажи. Каждый город, брат, — это город сказок. Идет артиллерийский поручик, а в потенции он Наполеон. Умирает в богадельне старик, выбрасывают из-под его матраца исписанные листки, потом часть этих листков вместе с газетами попадает между дверью и клеенкой, которой ее обили. А спустя сто лет меняют клеенку и случайно находят листки, и тогда обнаруживается, что в богадельне умер величайший поэт времени. Природа любит прятать бриллианты и золото в бренный ил и смешную оболочку.
— Разошелся, — сказал Грима.
— А может, и в самом деле у Святого Яна играет сам бог? Надо б сходить.
— А из гимназии вылететь не хочешь? За хождение на католическое богослужение?
А хозяин тем временем уже катился к ним:
— Нелюдимы! Нелюдимы! Не могут сами пойти туда, где им интересно. Так идемте же.
И подвел их к группе людей.
— Знакомьтесь. Господин Грима, князь Загорский.
В середине кружка на кушетке сидели два человека. Один, мужиковатый, мрачный, еще молодой, смотрел на юношей с некоторым вызовом, будто именно от него зависело, принять новичков в разговор или нет.
Однако главным в беседе был, очевидно, не он.
На краешке кушетки, в углу, сидел, удобно втиснувшись в мягкую подушку, словно утонув в ней кругловатой фигуркой, маленький добродушный горбун. Горб у него был небольшой и напоминал бы легкую сутуловатость, если б только правое плечо не было выше левого. Это обстоятельство не оказало, видимо, дурного влияния на психический склад горбуна. На круглом, мягком лице его блуждала всепроникающая, растроганная улыбка. Горбуну было лет сорок пять, но простоватые голубые глаза, светло-русые волосы, в которых трудно было заметить седину, румяный улыбчивый рот придавали его лицу доброе, наивное, детское выражение. Взглянув на него, нельзя было не сказать: «Ах, какой хороший человек!»
— А вот наши два Винцука, — знакомил хозяин. — Оба поэты. Оба благородные граждане. Оба благородные мужи.
— Ну просто хоть икону с меня пиши, — буркнул мужиковатый.
— Оба добрые патриоты. Любят родину. Любят. Знакомьтесь.
— Коротынский, — опять же с вызовом протянул Алесю руку мужиковатый.
И Алесь подумал, что этот подчеркнутый вызов — от необходимости утверждать свое достоинство. Видимо, худородный. Может, даже из крестьян.
— Дунин-Марцинкевич,[95] — подавая пухлую руку, мягким голосом сказал горбун. — Прошу не путать с Марцинкевичами-Асановичами или Марцинкевичами-Мустафами. Я пока что не татарин. Хотя? — И он рассмеялся. — Быть здешним татарином, ей-богу, неплохо. Язык один, наш. «Китаб» ничем не хуже блаженного Августина. И жен можно иметь аж семь.
Его кругленькое тело колыхалось от добродушного смеха.
— Да он еще и вольтерьянец, — заметил корректно Ходзька. — Будете отвечать на том свете, пане Винцук.
— И не буду. И вовсе не буду, — колыхался горбун. — В шутках греха нет. И что ж, что татарин? Всякое дыхание хвалит господа бога.
Киркору, видимо, было недостаточно рекомендаций, хотя для Алеся оба поэта как люди были уже понятны.
— Оба на литовско-мужицком говоре пишут.
Алесь сдвинул брови:
— По-белорусски, значит?
Ходзька нахмурился. А Марцинкевич, на миг перестав светиться смехом, взглянул на юношу доброжелательно, твердо.
«Эге, — подумал Алесь, — не такой ты, видимо, простачок, не такая божья душа. Ты, брат, где надо, и характер можешь показать». И успокоился, что встретил близкого человека.
— Видите, — сказал Ходзька, — вот они, первые плоды вашего труда. Объявился уже белорус, да еще и князь. Смотрите, чтоб в скором будущем не появился еще вместо мужицкого говора какой-то белорусский язык.
— Я не читал произведений пана Марцинкевича, — сказал Алесь. — Однако существование белорусского языка не зависит от наших с вами желаний, пан Ходзька. Как его ни называй, он просто существует.
Непочтительный Грима, как всегда, резанул прямо в глаза Ходзьке:
— Рассуждаете вы, уважаемый пан, с богатой магнатской колокольни. Эти слова о «говоре» нам в зубах навязли. Вы местный, но, извините, чем тогда эти ваши рассуждения отличаются от рассуждений покойного императора?
Киркор огляделся. Совсем незаметно для других. И сразу успокоился, увидев, что никто не обращает внимания, что все свои, что все с интересом ожидают продолжения спора.
Ходзька холодно сказал:
— Я поляк белорусского происхождения. Помня это, вы не можете упрекнуть меня в чужой крови, в нелюбви к земле, на которой я родился, в незнании говора, на котором говорят ее мужики. Я должен знать его, — иначе как вести хозяйство? Выйдет что-то вроде неприятности с вавилонской башней. Но я считаю, что этот говор изжил себя, как изжила себя еще несколько столетий назад белорусская идея. Ничего не сделали, кроме войн и распрей…
— Только Библию одни из первых напечатали, — сказал Алесь. — Первыми среди восточных славян.
В глазах Марцинкевича Алесь заметил пристальный интерес.
— Может, вы не будете меня прерывать? — спросил Ходзька.
— Пожалуйста, — ответил Алесь. — Я просто уточнил некоторые не совсем… достоверные постулаты пана.
— Так вот, — сказал Ходзька, — идея скомпрометировала себя.
— Или вы ее скомпрометировали, — буркнул Грима.
— Оживлять мертвых — это не дело истории. Мы просто ответвление польского племени, слабое, чахлое, которое идет дорогой ополячивания. И хотя на этом говоре говорят пять миллионов, он просто «рабочий язык», чтоб работники разного происхождения понимали друг друга.
— Пять миллионов! Не слишком ли много для «рабочего говора»? — заметил Алесь.
— Думаю то же, что пан Ходзька, — сказал Лизогуб. — И добавлю лишь одно. Мерзко, когда образованный человек, князь начинает носить лапти из-за каких-то там убеждений. Наречие — это для людей вашей культуры то же, что лапти вместо ботинок.
— Глупости! — вдруг сказал Марцинкевич. — Выходит, я лаптюжный поэт? И господин Кондратович тоже?
— Не обращайте внимания, — заметил Сырокомля. — Я не хочу обидеть пана Лизогуба, сказав, что его слова проявление преступного безразличия к убеждениям.
И замкнулся, нервно теребя брелоки.
Всем было немного неловко. Алесь видел, что все смотрят на него. Даже Монюшко оставил свой кофе и всматривался, щуря добрые глаза.
— Я отвечу вначале господину Марцинкевичу, — сказал Ходзька. — Нет, я не скажу, что ваша поэзия лаптюжная. Я с удовольствием слушаю ваши стихи. Ваша «Идиллия» — это хорошо.
— Когда-нибудь я напишу такую идиллию, что вы не будете знать, куда укрыться от людского смеха, — промолвил горбун.
— Нет, она не лаптюжная. Она нелепая. Когда вы пишете на белорусском наречии, вы насаждаете среди местного люда, среди мужиков и даже среди некоторых дворян, как мы видим, провинциализм.
Дунин-Марцинкевич огорчился, развел руками.
— Я не хочу распрей, — глухо сказал он. — Я хочу и стремлюсь убедить в необходимости этого всех… Я хочу, чтоб всем было хорошо, чтоб на земле господствовали гармония и радость. Достаточно уже испытал огня этот несчастный край. И что ж? Меня кусают с разных сторон. Нет такой собаки, которая не посчитала б своим долгом ухватить меня за ногу. А я не хочу давать тумаки людям. Даже плохие, они — люди.
— Гуманизм, который бьют и справа и слева, — проворчал Грима, — Все то же самое.
Однако горбун, видимо, не всегда придерживался того правила, что людям надо прощать, даже если они кусают за ноги. На его губах появилась улыбка.
— Самое удивительное, что никто не выступил против моей поэзии в королевстве — в Польше. Ругают только те, кому это дело должно было б стать близким, — наши паны. Больше ратуют за Польшу, чем сами поляки. Видимо, потому, что никогда им не быть ни белорусами, ни поляками, ни немцами, хотя они склонны быть и теми, и другими, и третьими.
— Поймите, пане Марцинкевич, — сказал Ходзька, — я не против этого в виде исключения, своеобразного раритета. Однако же это наследование неуклюжих местных песен… стоит ли повторять то, что умрет?
И тут Алесь увидел, как горестно задрожали губы у интеллигентного близорукого человека, который напрасно силился скрыть свою растерянность и неловкость.
— Я тоже gente albarutenus natione polonus1, — сказал Монюшко. — Думаю, неплохой поляк. Мне хорошо быть поляком. Но я никогда не стану утверждать, что быть поляком — значит душить остальных. Быть поляком — это скорее бороться за счастье других. И вы плохо разбираетесь в музыке, господин Ходзька, если охаиваете местные песни. Это уже я могу вам сказать как музыкант.
Лицо человечка на миг озарилось высшей, одухотворенной красотой.
— Они, песни, не хотят быть раритетами. Они звенят, смеются, плачут. Даже ночью, во сне, я слышу их голоса. Я — от Польши, я и от них.
И словно бы увял. Снова сел, не зная, куда девать руки. Монюшко и Дунин-Марцинкевич переглянулись. Горбун улыбнулся, наклонив голову.
— Что ж, — спросил Ходзька, — вместо Чимарозы вонючий мужик?
— Я из мужиков, — сказал Коротынский, — будете злоупотреблять этим[96] - кончится плохо.
— Что ж, — сказал Ходзька, — естественный путь. Вместо культурного, доброжелательного хозяина пьяный палач с плетью.
— Мы не хотим ни палача, ни хозяина, — сказал Грима. — Мы хотим свободы.
— А получите плеть… Вам дали возможность временно развивать свой говор. Потому что вы — наш форпост. Но то, что здесь происходит, это уж слишком. Писать на нем? Называть себя именем быдла? Если мы позволим такое, нас сомнут.
Алесь почувствовал, что у него звенит в голове от гнева.
— Мы, кажется, начинали спор с вами?
Ходзька с любопытством смотрел на сероглазого молодого человека.
— Говорите дальше, — снисходительно разрешил он.
— Нам не надо ничьего разрешения на то, чтоб дышать, — глухим от волнения голосом сказал Алесь. — А писать и разговаривать на своем языке так же естественно, как и дышать. — Он повысил голос: — Мы не хотим быть ничьим форпостом. Чем слово «магнат» лучше слова «барин»? Хватит, понюхали.
И тут Ходзька улыбнулся, словно нащупал в обороне молодых людей трещину.
Алесь видел глаза горбуна, органиста, Сырокомли. Во всех этих глазах светилась тревога. А Ходзька подался головой вперед и тихо процедил:
— Разве стало нашему мужику лучше после присоединения к России? Сразу солдатчина, повышение налогов…
Сырокомля нетерпеливо остановил его:
— Ходзька, это жестоко! У молодого человека не столько знаний… И его убеждения…
Алесь поднял руку.
— Не надо, пан Кондратович. — Он улыбнулся. — То, что мне нужно, я знаю хорошо. И убеждения у меня твердые и… обоснованные, в отличие от господина Ходзьки.
— Так не стало лучше? — настаивал Ходзька.
— Нет, не лучше, — спокойно сказал Алесь. — Помимо старых господ, нас с вами, появились новые. Причина этой нищеты в том, что к старым цепям прибавили еще одну, новую, — деньги. А денег у мужика при нынешнем положении быть не может. У него отнимает их то, что страшнее чумы, войны, страшнее всего на свете.
Красные пятна поползли по щекам Ходзьки.
— Что же это такое, что страшнее всего? — тихо спросил он.
Алесь побледнел от волнения. А потом в тишину упало лишь одно слово:
— Крепостничество!
Глаза у Лизогуба сузились.
Стояла тишина. Алесь торопился договорить.
— Мы никогда… — Голос его звенел. — Слышите? Мы никогда не поддадимся ни вам, ни немцам, никому. И не потому, что мы не любим вас, а потому, что каждый человек имеет право на равное счастье с другим, а счастье — только в своем доме.
— Господа, — вмешался Киркор, — господа, властью хозяина запрещаю вам этот спор.
Горбун положил руку на плечо Алеся.
— У меня есть дочь Камилла, — сказал он. — Бог ты мой, как вы похожи!
В продолжительной паузе прозвучал одинокий голос Сырокомли:
— Какая же это неизведанная поросль растет!
…Он и Монюшко шли в одну сторону с Алесем и Всеславом. Лизогуб и Ходзька пошли отдельно, хотя какое-то время им было по пути.
На углу Святоянской и Университетской Монюшко придержал Алеся и показал ему налево, на громаду костела:
— Музыку любишь?
— Да.
— Так приходи сюда. Я знаю, тебе нельзя. Но вон там дверь на хоры. Приходи к мессе и просто так. Я там часто. Музыка, князь, не знает разницы верований.
Сырокомля молчал всю дорогу. Его еще молодое, тонкое лицо выглядело больным.
Он молча кутался в меховую шубу и напоминал худую озябшую птицу.
И лишь на перекрестке, где обоим старшим надо было свернуть налево, поэт положил руку на плечо Алеся.
— Я, наверно, не доживу. Но вам… дай вам бог удачи…
XXX
Уже ранним утром следующего дня, поднимаясь по лестнице на второй этаж, Алесь почувствовал что-то неладное.
Может, оно было в том, что верзила Цыприан Дэмбовецкий, одноклассник Алеся, вопреки обычаю, оторвался от еды и, когда Алесь проходил мимо, окинул его мутным, словно неживым, взглядом. Это было удивительно, потому что Алесь, сколько был в гимназии, всегда помнил Цыприана с бутербродом в руке.
А может, неладное было в том, что второй одноклассник Альберт фон дер Флит едва ответил на поклон.
Все это была чепуха. И Цыприану не вечно чавкать, и фон дер Флит, человек холодный и углубленный в свои мысли, всегда смотрит как будто сквозь собеседника. И, однако, что-то висело в воздухе.
Первым был урок литературы. Преподаватель изящной словесности, перед тем как окончить гимназический курс, делал обзор современной литературы, той, что не входила в программу. И это было хорошо. Потому что он говорил, между прочим, и о любимом Тютчеве. Пушкин — это, конечно, Эллада поэзии. Словно вся гармония будущих столетий воплотилась в одном. И он любил его. Однако надо иметь что-то заветное, что любишь ты один. И Алесь любил Тютчева.
И эти, такие разные, имена современников, и такое разнообразное звучание их строк, в которых слышался то мед, то яростная пена прибоя, то яд, заставили Алеся забыть о том, подсознательном, что предупреждало.
Он хранил в себе имя Тютчева давно. В старых дедовых журналах отыскал когда-то и отметил в памяти эти необычайные строки.
И «Весеннюю грозу» в «Галатее», и «Цицерона» с «Последним катаклизмом» в альманахе «Денница»… Иногда он узнавал облик поэта и в стихах, опубликованных под инициалами, и это было так, как будто он узнавал близкого друга под маской.
Удивительно было и то, что Алесь еще не родился, а поэт уже ответил на те вопросы, которые начинают мучить его, Загорского, только теперь.
Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»
Здесь все было правдой. Действительно, в стране царила ночь. Действительно, все они родились слишком поздно. И все же…
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые -
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
И это было чудесно. Как чудесны были строки «Mal'aria», что списал откуда-то Мстислав. И строки «Последней любви». Учитель читал их немного нараспев, как никогда не читал Державина. И обложка журнала, из которого он читал, была старательно обернута бумагой. Потому что это был «Современник», которого боялись, как чумы, и не подпускали к стенам гимназии.
Алесю было смешно. Неужели учитель думает, что они — дети и читают только то, что предусмотрено программой. Этот номер журнала члены «Братства шиповника и чертополоха» зачитали до дыр два года назад.
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Это было неизведанное, ни с чем не сравнимое на земле счастье.
Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, -
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
В этом грустном, суровом и нежном настроении, которое всегда овладевало им после хороших стихов, он просидел второй урок географии. Мстислав со стороны смотрел на него. И в глазах была искра насмешки и иронии.
«Повело», — подумал Мстислав.
А Алесь не замечал. Как не замечал и того, что Цыприан Дэмбовецкий, украдкой жуя что-то, несколько раз оглянулся на него.
…Началась большая рекреация. Гимназисты, пользуясь тридцатью минутами перерыва, сыпанули на солнечный двор, где на припеке у стены было уже совсем тепло, булыжная мостовая нагрелась, а последний черный снег лежал только в вечной тени противоположной аркады двора.
Алесь вышел медленно, последним, и сразу увидел, что на повороте к лестнице стоит группа «аристократов из лакейской», как однажды окрестил их Сашка Волгин.
«Аристократы из лакейской» держались всегда группкой и криво смотрели на Алеся и Мстислава из-за того, что они сторонятся их и водят дружбу с Гримой и Ясюкевичем.
Они стояли группкой и теперь. Прилизанный и корректный Игнаций Лизогуб. Рядом с ним Альберт фон дер Флит с холодными глазами, которые, несмотря на светлый цвет, были тусклые, как сумерки. А за ними стоял Дэмбовецкий.
Еще один член их кружка, Ольгерд Корвид, стоял у стенки и смотрел в сторону. Красивое, жесткое лицо Ольгерда было безразличным.
И, увидев его, Алесь понял, что дело дрянь. Ольгерд Корвид был знаменит тем, что мог одним ударом под дых привести человека в бессознательное состояние и вывести из драки на длительное время.
Как на грех, никого не было рядом. Ни друзей, ни просто дружелюбно относящихся хлопцев, которые могли бы предупредить друзей. У Алеся родилось вдруг гадкое и холодное чувство беспомощности и омерзения. Его никогда не били вот так. Случались, конечно, драки где-то в уборной или на льду Вилии, но это были честные драки — один на один или стенка на стенку.
То, что драки не миновать, он понял сразу. Иначе на какого дьявола им был нужен Корвид?
— Постойте, князь, — сказал Лизогуб.
Алесь остановился.
Лизогуб мягко, почти дружески, так, что смешно было вырываться, взял Алеся под руку и отвел от ступенек.
— Мне хотелось бы получить от вас некоторые объяснения насчет ваших вчерашних слов.
— Я никому не хочу их давать, — сказал Алесь. — Что сказано, то сказано.
— Извините, не объяснения, а продолжение спора и, возможно, некоторое недоумение и озадаченность, что касается вашего поведения.
Лизогуб успел довести его до окна в тупике коридора, и только здесь Алесь освободил локоть.
— Ваше недоумение меня мало касается, озадаченность тоже. Вчера я сказал то, что хотел.
Алесь решил уйти, а сели задержат, пробиться, отбросив кого-то с дороги.
Но тут открылась дверь уборной, и из нее появились, словно черти из табакерки, еще трое. Первыми шли Язэп и Гальяш Телковские. Братья. Не близнецы. Просто оба имели привычку по два года сидеть в каждом классе. Гальяш однажды совершил подвиг — не остался. И таким образом догнал брата.
Они стояли рядом. Здоровенные, с разжиревшими мордами. Полуидиоты.
За ними выскользнул Воронов, маленький, бесцветный, как белая мышь, сын крупного акцизного чиновника.
Увидев этих троих, Алесь понял: прорваться не удастся. И сразу от злости на то, что его так ловко обманули, и от недоумения — страх куда-то исчез, а в сердце родился гнев. Они не имели права нападать на одного. Ну что ж, тогда надо драться. Прошло, по-видимому, минут десять большой перемены. Надо еще хотя бы столько же занять разговором обо всем том, что стоит между ними, а потом еще десять минут продержаться. Одному против семерых. Не упасть, не дать им делать с собой все, что они захотят.
— Пожалуйста, — сказал он, став спиной к теплой голландке и ощущая затылком медную задвижку. — Что вы хотите мне сказать, граф Лизогуб?
— Я хочу спросить: по какому такому праву вы вчера позорили Польшу, князь Загорский? Вы же знаете, это очень благородно — ругать то, что в данный момент ругает правительство.
Наглая ложь возмутила Алеся, но он сдержался.
— Я не позорил Польшу, — возможно, слишком высокомерно, чтоб не подумали, что испугался, сказал он. — Вам стоило бы придерживаться истины.
Алесь только теперь вспомнил, что с собрания у Киркора Лизогуб и Ходзька вышли вместе. Конечно, не может быть и речи, чтоб взрослый человек натравил их друг на друга. Видимо, просто высказал раздражение, возмутился «мужицким сепаратизмом изменника». Этого было достаточно. Нашел себе добровольного цепного пса. А может, и не в «мужицком сепаратизме» корень всего, а в его неосторожных словах о крепостничестве. Наверно, так.
— Я не собираюсь вилять перед вами хвостом, — сказал Алесь. — Однако я далек от мысли огулом порочить или огулом хвалить какой-то народ. Я, если вы хотите объяснений, скажу, что я люблю и уважаю Польшу, сочувствую ее несчастьям и глубоко уважаю поляков…
— Завертелся, как вьюн на сковороде, — сказал Дэмбовецкий.
— …кроме, конечно, таких поляков, как наш Дэмбовецкий. Что поделаешь, бывают печальные исключения, — сказал Алесь.
Корвид придвинулся ближе.
— Но я не понимаю, — продолжал Алесь, — какое отношение к Польше имеют немец фон дер Флит, русский Воронов, литовец Корвид, белорусы Телковские и вы, граф Лизогуб? Мне кажется, это дело господина Цыприана Дэмбовецкого. Я готов поговорить с ним на эту тему. С ним одним.
— Я поляк, — сказал Лизогуб.
— За сколько? — спросил Алесь. — И с какого времени?
— С того времени, когда мои родители поняли, что от дворянина, который называет себя белорусом, смердит конюшней и дерьмом.
— Не предательством по крайней мере.
— Навозом, — сказал Лизогуб. — И вы, кня-язь, еще осмеливаетесь ругать порядок, заведенный славными дедами! Кричать что-то о «крепостничестве»!
Алесь засмеялся.
— Вон оно что, — заметил он. — Я так и думал, что не в нации здесь дело, что я ударил вас не по национальной чести, а по карману.
— Слышите? — спросил Лизогуб.
— Слышим, — мрачно ответил Гальяш Телковский. — Я думал, ты врал.
— Я тоже думал, что все преувеличено, — отозвался фон дер Флит. — Извините, граф.
— Ясно, — мрачно сказал Корвид.
Воцарилось молчание. Потом Лизогуб прошипел, весь дрожа от ярости:
— И ты еще хочешь, чтоб я назвал себя твоим скотским именем, хам с титулом?
— Нет, для тебя это слишком большая честь.
— Кто вас принимает всерьез? — наклонил голову Лизогуб. — Кто вас уважает, безразличные к себе люди? Правильно сказал Ходзька: мы вас терпим как форпост против варваров. Все вам оказывают милость, опекая да присоединяя. Просто жаль, что пропадете. И напрасно, потому что только лишние хлопоты с вами. Руководи, по-отечески опекай, корми…
— Сволочь! — Алесевы губы побелели. — Грабили, жрали, да еще…
— Что у вас грабить? — издевался Лизогуб.
Лицо Алеся сделалось неузнаваемым. Приступ страшного дедовского бешенства подступил откуда-то изнутри.
— Оставь, — испугался фон дер Флит, — они опасны.
Но Игнаций не обращал внимания:
— Милость! Милость вам оказывают! Чем бы вы были без нас?
Чувствуя, что теперь он не сдержится, Алесь размахнулся и, вложив всю свою силу, треснул ему по щеке левой рукой, поддав под челюсть снизу правой.
Лизогуб взвизгнул, отлетая.
Весь вид Алеся был так страшен, что компания медлила наброситься на него. Один только Корвид мелькнул где-то в стороне, собираясь, очевидно, нанести один из своих грозных незаметных ударов.
Метил в голову.
Но у Загорского реакция против шпаги, против кулака была мгновенная.
Алесь дернул головой, и кулак Ольгерда с маху налетел на медную острую задвижку вьюшки.
Корвид отскочил, согнувшись. Из ладони ручьем лилась на пол кровь.
Отбросив ногой Язэпа Телковского, Алесь стал в угол и приготовился. Налетел фон дер Флит — по морде, по морде сушеной треске. Ногой в пах Гальяшу Телковскому… Приближается Лизогуб… Опять в челюсть.
Все же его вырвали из угла, окружили. Кто-то, — наверное, фон дер Флит, — ударил сзади по голове. Лизогуб двинул в грудь…
И вдруг все утихло. Дверь уборной открылась, и оттуда вышел учитель гимнастики, отставной офицер из молодых, подобранный и широкогрудый, с удивительной фамилией Крест. Креста большинство гимназистов даже любило, потому что он не кичился, не корчил из себя учителя, а поскольку спорт едва-едва начал входить в моду и никто не считал его серьезной дисциплиной, а преподавателя полноценным, Крест держался с гимназистами просто и ровно, скорее не как с учениками, а как с младшими товарищами. Это проявлялось во многом. Между прочим, и в том, что он никогда не пользовался уборной для учителей.
Все отскочили. Крест стоял, вытирая влажные руки платочком, и белозубая улыбка лежала на его розовом лице.
— Курите в уборной, балбесы? — обратился он к Телковским. — Все курят, халдеи вы… Будете иметь куриную грудь, вот что.
Все, кто нападал, опустили головы. Только Алесь смотрел прямо в глаза Кресту. Видел, как плавала на красивом лице учителя добродушная улыбка.
— Извините, джентльмены, — сказал Крест, — я случайно слышал все. Я не хотел бы мешать вам. В таком случае мне пришлось бы просидеть в уборной до конца рекреации. Не обращайте внимания.
Пошел прочь. Потом остановился возле Лизогуба. Доброжелательно посоветовал:
— Разве так бьют? Если бьешь, бей в живот.
Крест завернул за угол, и вокруг Алеся опять забурлило. Он раскидывал тех, кто цеплялся за него, как мог, получая за каждый удар четыре. В груди свистело. И вдруг мелькнул перед глазами Лизогуб, а потом в глазах вспыхнул острый мрак…
Игнаций воспользовался советом.
Держась за солнечное сплетение, Алесь качался на ногах и не мог вздохнуть. Все вокруг то темнело, то прояснялось.
Лизогуб стоял перед ним и цедил сквозь зубы слова, которые тоже то исчезали, то долетали откуда-то издали, то вдруг жужжали в самом ухе:
— Слушай, ты, дерьмо… ты, мужицкая кукушка… ты, грязное белорусское быдло… Мы тебя для твоей же пользы немного потопчем ногами, поучим… А перед этим ты запомни мои слова…
Загорского наконец отпустило. Еще мгновение — и он задохнулся б. Невероятно сладкий воздух ворвался в грудь. Начало светлеть перед глазами.
— Иуда! — со всхлипами хватал воздух Алесь. — Мразь!
И тут Влесь увидел за спиной Лизогуба, в дверях уборной, светлоглазого Сашку Волгина. Волгин стоял, поправляя ремень, и смотрел на то, что происходило, с недоумением.
— Ты слушай, — тявкал Лизогуб, — запоминай. Ты запомнишь, потому что потом мы тебя… для памяти…
— Зап-омню, — впервые выдохнул Алесь. — За-помню.
— Запомнишь… Не вякай про это свое «крепостничество». Не вякай про эту свою «Беларусь»… Знай, кто тебя терпит… Знай, кому ты раб… Великой Польше, а не Москве…
Ярость взорвалась вдруг пламенем, что у Алеся побелело в глазах. Она пришла как будто с воздухом, который вдохнул он.
— Сашка! — крикнул он. — Что же ты смотришь?! Бей сволоту!
Но не успел он окончить фразу, как Сашка неожиданно поднял ногу, как страус, и сильно лягнул в поясницу Лизогуба. Словно переломившись, Игнаций подался животом вперед, и тут Алесь, окончательно придя в себя, ударил Лизогуба под нижнюю челюсть.
В ладони Гальяша Телковского блеснул большой медный кружок: оболтус натягивал на руку каучуковый тяж накладки. Не давая ему опомниться, Алесь дал Гальяшу правой рукой в висок, и тот покатился по полу.
И тогда остальные с воплями ринулись на них. Молотили, хрипели, стремились пробраться ближе.
Было совсем плохо, хотя Алесь и Волгин стояли спиной к стене. Алесь увидел, как Корвид дубасит Сашку. Увидел, что глаза у всех бешеные и что в пылу драки могут кого-то и убить.
И тогда он схватил плевательницу и, размахнувшись, запустил ею в окно. Стекло со звоном посыпалось во двор. Сашка подскочил ближе к окну и в два пальца свистнул разбойничьим четверным посвистом.
Над двором, над площадкой для игры в лапту резко, как нож, пролетел гимназический клич о помощи.
Внизу, во дворе, а потом на лестнице раздался и стал нарастать грохот десятков ног. Ближе. Ближе.
…Первым ворвалось в гулкий коридор, побежало к месту драки «Братство шиповника и чертополоха». Летел, словно одержимый, Мстислав.
— Алесь! Браток! Сашка! Держитесь!
За ним рука к руке мчались Петрок Ясюкевич и Матей Бискупович, тяжело сопел мешковатый Всеслав Грима.
С маху ударили сзади. Алесь увидел рядом ясные глаза Мстислава. Мстислав расшвыривал «аристократов лакейской». Грима наскочил на Дэмбовецкого, дал ему по шее.
— На одного?! На двоих?!
Коридор уже грохотал бегом сотен ног, гулко взрывался голосами. Прибежали «мазунчики», друзья Лизогуба из седьмого и шестого. Их было много.
Братство стало стенкой. Бежали и бежали новые гимназисты. В коридоре стало тесновато, и драка на миг утихла, как пламя, в которое положили слишком много дров.
— Друзья, что случилось?
— Панове, цо?
— Кто кого?
Сашка сбросил с себя Корвида и сразу же получил по зубам от Лизогуба. Крикнул:
— Били белоруса за то, что белорус!!
Толпу просверлил худым, жилистым телом шестиклассник Рафал Ржешевский. Выбился из месива. Стал, взглянул на Алеся безумно-спокойными синими глазами.
— Тебя?
— И я тоже, — улыбнулся распухшими губами Алесь. — Потерпел за идею великой Польши.
Щеки Рафала словно высохли. Он обвел глазами стоящих рядом. Синие глаза встретились с табачными Лизогуба.
— Этот, — словно подтвердил Рафал. — Конечно. Кто же еще?
И приблизился к графу.
— Что же ты наделал, вонючка! — сказал Рафал. — Холуй! Сволочь! Предатель!
…Драка вспыхнула в разных местах коридора, который дрожал, как будто в нем гремела канонада. Учителя и надсмотрщики суетились где-то в конце и не могли прорваться к дерущимся. Крест пытался что-то делать, ловко разбрасывая задних, но поток гимназистов с лестницы и верхнего этажа плыл и плыл.
Перед глазами Алеся мелькали лица. Он, словно в калейдоскопе, видел, как замахнулся на него накладкой Гальяш и как Мстислав перехватил руку Телковского и ею вместе с накладкой смазал врага по носу… Потом странный звук поразил Алеся. Он оглянулся. Плакал одной глоткой Петрок Ясюкевич. Кадык судорожно подергивался. И Алесь всем сердцем понял, что они присутствуют при величайшем чуде, когда тебе казалось, что ты и друг твой одинокие, а обнаружилось, что большинство думало так, как и ты, но молчало, потому что каждый считал, что он одинок со своими смешными мыслями.
И тут Рафал вдруг поднял кулак и опустил его на голову Дэмбовецкого.
— Учись, осел! — срывающимся от восторга голосом кричал Ржешевский. — Учись, слепец! Учись, чурбан!
— Литвины! Белорусы! Во имя Конарского!
Крики взорвались со всех сторон. Стенка бросилась на стенку.
…Через пять минут дралась уже вся гимназия. Все этажи здания ревели, стонали, топали ногами.
Пришло время свести счеты за все былые обиды. За высокомерие. За издевательские слова. За все.
Еще через каких-то пять минут «мазунчики» дрогнули и отступили назад по лестнице…
Загорский тяжело вздохнул и словно сквозь туман увидел, что по лестнице спускаются директор, Гедимин и Крест.
— Что это? — спросил директор.
Худой перст указал на неподвижного Лизогуба.
— Дикари, — сказал директор. — Папуасы… Это, кажется, с вас началось?
Начальственный гнев вот-вот должен был прорваться в его голосе.
— Да, — просто ответил Алесь, — учитель Крест был этому свидетелем.
Директор промямлил:
— Я знаю.
— Так вы, вероятно, знаете и то, что драки не было б, если б господин Крест пресек ее еще тогда?
— Не ваше дело заниматься критиканством, молодой человек, — сказал Гедимин.
— Я знаю это. Однако, наверно, учитель Крест не откажется подтвердить, что напал не я? Что они напали на меня. Семеро на одного. Я вынужден был защищаться.
Крест немного растерянно развел руками.
— Это так, — признал он.
— Вы знаете, что это пахнет исключением, мой юный друг? — спросил Гедимин.
— Знаю. Для всей гимназии. И, во всяком случае, я попрошу родителей: пусть они проследят за тем, чтоб меня исключили восьмым. Сразу за этим вот, что лежит здесь.
Директор с досадой взглянул на Креста. Действительно, восьмым. Действительно, родители с их связями проследят за этим. Драка! Какой год проходит без драки, общей драки в гимназии. Ох, это надо замять! Самих погонят, если узнают!
— Вы слышали, за что они хотели его избить? — спросил директор Креста.
— К сожалению, нет, — ответил Крест.
— За что вы его? И за что они?
Алесь поднял на директора прямой взгляд.
— Я не могу сказать вам этого.
Он вспомнил, что если за «крепостничество» не похвалят его, то за ругань Лизогуба в адрес правительства и другие милые штучки не похвалят не только Лизогуба. Попечитель, а за ним и все другие определенно прицепятся к словам дурака, чтоб еще сильнее прищемить хвост полякам.
— Я не могу сказать вам этого, — повторил Алесь. — Но поверьте слову дворянина — стоило.
Директор пожал плечами. Кто в самом деле разберется в сведении счетов этих юных вандалов? Он покосился на Креста.
Но Крест тоже молчал. Утопить Загорского ему ничего не стоило, но тогда до попечителя дошло б, что в гимназии осуждают крепостное право и правительство, что сегодня смяли и выбросили из стен здания добрую половину тех, кто стоял за все это. И первым будет отвечать он, Крест, потому что это благодаря его попустительству вспыхнула драка. Вот тебе и «дал возможность проучить»!
Поэтому Крест молчал.
Обращаясь к «волчонку», директор указал на Лизогуба:
— Вы считаете, что избить до полусмерти — достойный поступок? Бить дворянина?
— Еще раз говорю, — сказал Алесь, — стоило.
— Вы не раскаиваетесь? — спросил Гедимин.
— Я сделал бы это завтра. И послезавтра.
— Гм… — только и сказал директор.
* * *
…Алесь сидел в кресле, закутанный в одеяло и три пледа. Лицо у него было красное, глаза блестели.
Напротив, у тонконогого столика, сидел старый Вежа.
Дед думал. Он не смотрел ни на внука, ни на Халимона Кирдуна, что стоял у стенки. Халимон, тоже переодетый в сухое, был красный, словно из бани, — выпил три рюмки водки. Спасался домашним методом.
Воспитанник и дядька сегодня чуть не утонули. Ехали из Вильни как будто навстречу весне — разводьями, весенним льдом. А во всех оврагах уже кипела вода не вода, а снеговая каша, набухшая, предательская.
Овраги ревели так, что даже издали страшно было слышать их рев. Первый овраг проехали. И второй проехали. А третьим чуть не сплыли в Днепр. Чуть не засосала их прозрачная ледяная вода, что струйками просачивалась сквозь снеговую солодуху, ревела, крутила, перемешивала сама себя, тянула все на трехсаженную глубину.
С трудом вытащили их дреговичанские крестьяне…
— Та-ак, — сухо сказал дед. — Заплатил ты, стало быть, первую дань своему сумасшествию. Окончили, их высочество, курс наук.
— Я уже рассказывал вам, дедуня.
— Хвалю. Достойно. И по-рыцарски. Однако мне не легче. Родителям тоже. Да еще в овраги полез. Со страха? Чтоб быстрее навстречу опасности?
— Нет.
— Что же делать?
— Ничего, — сказал Алесь. — Я не понимаю, зачем вы напали. Никто, кроме меня, не потерпел. Ну хорошо, ну, я неделю считал, что исключили. А затем просто, «учитывая опасность», не дали мне возможности возвратиться к друзьям, заставили сидеть под домашним надзором. Разрешением попечителя заставили сдать экзамены и вытолкали из Вильни. Дали же окончить.
— Не они дали, — сказал дед, — имя твое дало.
— Не имя, — возразил Алесь. — Боязнь. Боялись комиссии. Боялись, что Лизогубовы слова всплывут.
На губах Вежи появилась ироническая улыбка.
— Ну и что? Ну вытолкнули б Лизогуба в Пензу, а тебя в Арзамас. Его — за ненависть к русским, тебя — за ненависть к империи, к рабству. Лучше б это было?
Глаза внука лихорадочно блестели.
— А вы хотели бы, чтоб меня семеро били за то, что я — это я, а я бы не отбивался, а дал бы себя бить?
Вежа смотрел на Кирдуна.
Мрачный, добрый Кирдун стоял у стены и краснел все больше. То ли от водки, то ли от стыда.
И вдруг Кирдун, а по кличке «Халява», вместо того чтобы оправдываться, объяснять, — словом, делать все то, что было освящено традицией, — зарычал во весь голос, перешел в наступление:
— В гимназию анахфемскую отдали! А там всемером панича бить хотели… Слава богу, не дали добрые люди…
Дед собирался было прикрикнуть, но остановить Халимона было невозможно.
— Карахтеристику поганую дали… — ревел Кирдун. — Из-за чего? Из-за смердючки той. Гляди-ка, будущий злодей, царский преступник нашелся. Неведомо еще, кто из них злодей, панич или царь.
— Иди, Кирдун, — неожиданно мягко сказал Вежа. — Иди выпей еще. За любовь будешь иметь от меня.
Кирдун, всхлипнув, двинулся к двери.
Алесь смотрел, как Вежа невидящими глазами уставился на черный, мокрый парк, на голые деревья, на лапинки снега и на синий, вздувшийся Днепр.
Тревожно кричали в ветвях грачи.
И вдруг дед грубо выругался. Впервые за все время, как его знал Алесь:
— Мать их так… мать их этак и разэтак… Не пустят в университет — в Оксфорд отвезу. Загорский, видите ли, потенциальный царский преступник… Плевал я на них…
XXXI
Майка-май, Майка-май, — звенели за окнами капли. И Майка Раубич, рассмеявшись от счастья и предчувствия, приникла к окну. Зеленоватые, как морская вода, глаза девушки жадно смотрели на мокрые деревья, на белоснежный сад, на черные куртины, по краям которых уже цвели бархатные анютины глазки.
Сумерки надвигались на сад. Мягкие, влажные, майские.
Только что отгремела первая гроза. Нестрашная, грохотливо-радостная, майская гроза. И теперь под окнами старого теплого дома буйствовала лиловая сирень.
Мокрый и сладкий ветер летел в окна.
Весь этот день большой дом в Раубичах бурлил от сумятицы и кутерьмы. Готовились ехать на бал в Загорщину. Подшивали, гладили, мылись. Нитки свистели в руках швей. Шум утих всего лишь час назад.
Михалина стояла у окна, положив руки на подоконник, словно подставив их нежным поцелуям свежего воздуха.
Это все же было счастье. Счастье первого взрослого бала, счастье первого взрослого бального платья, белого, в почти белом, лишь чуточку голубоватом кружевном чехле.
Самые противоречивые чувства — стыда и гордости — обуревали ее, когда она смотрела на свои оголенные плечи и руки, еще тонкие, но уже не детские, на бледно-розовый цветок розы в пепельных, с неуловимым золотистым оттенком волосах.
Она не знала, красиво ли все это: матово-белое, с прозрачным глубинным румянцем лицо, рот, одним краешком немного приподнятый вверх, брови, длинные, с причудливым изломом и потому чуть высокомерные.
Но она видела себя как бы новой, чужой, и эта чужая шестнадцатилетняя девушка нравилась ей.
Огромные глаза смотрели на нее из зеркала настороженно, вопросительно и счастливо.
И это было такое счастье, что она рассмеялась.
А в соседней комнате глупая нянька Тэкля будила Наталку. Не могла подождать, пока уедут.
— Вставай, встань, ласочка. Уснула, не помолившись… Нельзя спать без молитвы.
Наталка бормотала что-то и отталкивала руки старухи. Господи, ну зачем это. Вот глупая нянька. Для молитвы будит ребенка. Ничего не скажешь, резон.
— Нужно «ати»[97] боженьке сказать… А не то волчок за бочок ухватит.
А что б тебя… Такая уж нужда одолела.
— Да я не хочу-у-у, — хныкала Наталка. — Я… спать.
— Читай-читай.
Майка прислушалась. Сонный голосок читал в соседней комнате:
Среди ужасного тумана
Скиталась дева по скалам. Кляня жестокого тирана, Хотела жизнь предать волнам. — Так-так, — хвалила ее Тэкля. И опять шелестел сонный голосок: Теперь куда я покажуся, Родные прочь меня бегут. Нет, лучше в море погружуся, Пускай оно меня пожрет.Майка прыснула.
— Все, — со вздохом сказала Наталка.
И вдруг добрая жалость охватила Майкино сердце. Она быстро прошла в комнату сестры. Наталка, заспанная и розовая от сна, умащивалась в кроватке.
Девушка, ощущая какую-то очень непонятную, совсем не сестринскую жалость к Наталке, подошла к ней и взяла на руки, нисколько не заботясь, что изомнет платье. Наталка раскрыла черные глаза, обхватила Майку за шею горячими, тоненькими ручками.
— Майка, — сказала за спиной пани Эвелина. — Сейчас же положи. Изомнешь платье.
Наталка прижалась сильнее, словно ища спасения. У Майки сжалось сердце:
— Мамуленька, возьми Наталку, возьми Стася… Загорские обижаются, когда не берем.
Темно-голубые глаза пани Эвелины смотрели на сестер. Потом улыбка тронула ее губы:
— Н-ну…
— Едем, едем, Наталочка, едем… — И Майка запрыгала вокруг матери.
…Выехали все вместе в дедовской огромной карете, которую держали специально для таких случаев.
Майка чувствовала себя чудесно. Сердце сжималось от ожидания. Чего она ждала, она не знала и сама. Скорее всего — беспричинного, молодого, такого большого, что сердце останавливается, счастья.
С Алесем они мало виделись все эти годы. Она была в институте — он в гимназии. А летом, когда он жил в Загорщине, отец возил ее то на воды, то в гости к теткам. За годы невольно выросла какая-то непонятная отчужденность. Чужим и почему-то моложе ее казался ей соседский сын, которому она когда-то подарила свой железный медальон.
И все же она ждала.
У нее был такой счастливый вид, что Ярош Раубич наклонился к ней. Глаза без райка виновато улыбнулись.
— Что с тобой, дочушка?
— Ничего, — смущенно сказала она. — Мне кажется, должно что-то случиться.
— У тебя всегда непременно что-то должно случиться, — сказал солидно Франс.
А пан Раубич смотрел на детей и думал, что Франс взрослый хлопец, да и Майка уже почти взрослая паненка… Он думал и со страдальческой улыбкой, как каторжник свою цепь, вертел железный браслет с трилистником, всадником и шиповником на кургане.
…Итальянские аркады белого дворца, перечеркнутые черными факелами тополей, открылись в конце аллеи. Полыхали огромные окна. По кругу медленно подъезжали к террасе кареты и брички. Плыла по ступенькам вверх пестрая толпа.
Майка вышла из кареты и, рядом с Франсом, двинулась навстречу музыке, свету, благоухающему теплу. Музыка пела что-то весеннее, такое мягкое и страстное, что слезы просились на глаза.
На верхней ступеньке стоял Вежа с паном Юрием и пани Антонидой.
— Раубич, — тихо сказал он, — радость, радость мне… А ты слышал, что царек сказал на приеме московских предводителей дворянства?
Поднял палец:
— «Существующий порядок владения душами не может остаться неизменным…» О! Как думаешь, радость?
Широковатое лицо Раубича заиграло жесткими мускулами. Тень легла под глазами.
— Если б это от чистого сердца, радость была бы. А так это, по-моему, что-то вроде предложения Браниборского. Говорит о радости, а у самого челюсти, как у голавля, жадные, двигаются.
— И я думаю, — иронично улыбнулся дед. — В либерализм играет. Как его дядька. Ну, и окончит тоже… соответственно… Игры все…
Узкая, до смешного маленькая ручка пани Антониды тронула Вежу за локоть:
— Отец, здесь дети.
Дед замолчал. Потом взглянул на сноху и добродушно улыбнулся. Он стал заметно мягче относиться к ней — был благодарен за внука.
— Пани Эвелина, — улыбнулся пан Юрий, — радость беспредельная, что приехали… Франс, да вы важный, как магистр масонов… А Стах… Нет, смотрите вы, каков наш Стах… А ты, Наталочка, все молодеешь. Что же с тобой дальше будет, олененочек?
Смеялись его белоснежные зубы.
— И Майка, — неожиданно серьезно сказал он. — Вы сегодня удивительны, Майка… Алесь сейчас придет. Он ушел размещать хлопцев.
Вежа смотрел на Майку.
— Ты? — спросил он. — Сколько же это?
— Шестнадцать, — сказала пани Эвелина.
— Та-ак. Пожалуй, теперь уже тебя не назовешь чертиком…
— Что удивительного? — сказал Раубич. — Окончила институт.
Детей отвели в их зал, в тот самый, где когда-то они разбили вазу. Майка вспомнила: черепок с хвостом синей рыбки до сих пор лежит в шкатулочке.
В зале слуги скребли восковые свечи. «Стружки» сыпались на дубовые кирпичи пола. Дети потом, танцуя, разнесут все ногами. Будет лучше, чем специально натереть.
Майке сразу подумалось: «А нам теперь сюда, в эту комнату, уже нельзя. Мы теперь взрослые».
На миг пришло сожаление. А потом снова вернулась радость.
Она вступала в зал с прежним чувством. Видела, как от двери на нее смотрят глаза пана Юрия и пани Антониды. Смотрят с каким-то настороженным ожиданием. И в сердце родился неосмысленный протест: «Почему они так смотрят на меня?»
Мысль сразу же исчезла, потому что пестрая группа окружила ее.
— Это кто? Бог мой? Ядзя! Ядзенька!
Ядзенька стояла все такая же, все так же похожая на куклу. Но она была… она была ростом почти с Майку. Тоненькая, изящная…
— Маюнька! Малюнька! — смеются синие глаза.
А потом пошло. Черный улыбающийся Янка и его руки, сильно сжимающие ее ладошки.
— Майка! Майка! — смотрит в глаза, словно не верит. — Как мы рады! Как обрадуется Алесь!
— Тебе хорошо, Янка?
— Мне хорошо. Я теперь сын, реченный Ян Клейна.
…Куда это смотрит мимо нее длинный, сразу посерьезневший Янка?
Михалина посмотрела туда, в тот самый миг на хорах запели скрипки. Словно нарочно. И от их задумчивого пения снова упало сердце.
Шагах в пяти от нее стоял Алесь и странно, как будто испуганно, как будто не узнал, смотрел ей в глаза.
Она тоже не сразу узнала его. Совсем взрослый. Вытянулся, почти как пан Юрий, и, наверно, будет выше. И такой же загорелый. Лицо почти оливковое, и на нем особенно светлые — аж светятся — темно-серые большие глаза.
Но почему он так растерялся, словно увидел чудо? И что это в нем такое новое? Ага, глаза стали не такие мягкие. И в фигуре нет ничего от медвежонка, стройный, гибкий.
Алесь поклонился и поцеловал ей руку.
— Я очень рад. — Голос почему-то осекся. — Мы так давно не виделись.
— Очень давно. И хотя б… одно письмо.
— Это вы, Ма…Михалина, не ответили мне.
— Я по-прежнему Майка.
Пауза.
— Сходим к Вацлаву. Я из Вежы. Едва успел переодеться.
В «зале разбитой вазы» Стась, Вацлав и Наталка играли в жмурки. Водил Вацак, и Алесь нарочно «поймался» ему.
— Поймал!
— Нет, брат, это я тебя поймал, — сказал Алесь и поднял Вацака высоко-высоко.
— Алеська! Братец! — крикнул Вацак, болтая ногами в воздухе.
— А показать тебе, как барсук детей гладит? — спросил Алесь, прижимая брата к груди.
— Не-а! — Малыш закрыл голову руками. — Против шерсти гладить будешь.
— Ты у меня умный, — засмеялся Алесь.
Майка засмотрелась на него. Высокий, широкий в плечах, он стоял, держа брата, как перышко.
Наталка тихо подошла к Майке и потерлась щекой о ее ладонь.
Алесь, подхватив на руки еще и Стася, взглянул на девушку. Какая-то растерянность снова мелькнула в его зрачках.
— Ну, мальчики, хватит уже, — глуховато сказал он. — Хватит.
— Алесь, — взвизгнул спущенный на пол Вацак, — а Наталка хорошая. А Наталка говорила, что ее не брали, а потом Майка взяла. Она понимает, что мне без Стася и Наталки скучно. Она хорошая.
— Очень хорошая, — сказал Алесь. — Играйте.
Подвел, подтолкнул их к Наталке, обнял всех троих. И тут его рука случайно коснулась руки Майки.
Майка вдруг почувствовала: случилось что-то неведомое до сих пор. Взглянула на Алеся и убедилась, что он тоже почувствовал, задержал на ее плечах и руках какой-то чужой взгляд.
Случилось непоправимое.
А в зале нежно звенела музыка, зовя их к друзьям.
…Они танцевали вальс, и это было страданием. Приходилось держаться как можно дальше друг от друга. И он стал чужим. И они стали чужими. И невозможно было больше танцевать вместе. Потому что все смотрели и все-все видели.
Поэтому Михалина даже обрадовалась, когда перед мазуркой увидела возле колонны двух друзей. Она не любила Ходанского, но теперь он показался ей домашним, дурашливым. Стоял себе, поглаживая золотистый чуб.
Вот заметил ее, наклонился к Мишке Якубовичу и что-то шепнул ему на ухо. Гусар засмеялся, показывая белые зубы. И видно, что дурак, но приятный дурак, тоже домашний. И нет в нем того, что так пугает ее в глазах Алеся. Просто ухарь в блестящей форме. Белозубый и дерзкий, щедрый пьянчужка.
Когда Ходанский пригласил ее на мазурку, она пошла танцевать, даже не взглянув на Алеся. И еще раз с Ходанским. А потом с Якубовичем. А затем еще с Ходанским.
Нарочно не смотрела на Алеся. Только раз случайно столкнулась с ним взглядом и увидела суровые глаза и несчастное, глубоко печальное лицо.
Наконец Алесь увидел, что она незаметно выскользнула на террасу, и решительно пошел за ней.
Над вершинами темного парка трепетали далекие зарницы. В свежем от дождя воздухе стоял влажный аромат сирени.
Алесь прошел в самый конец террасы, куда не падал свет из окна, и там у перил увидел тонкую Майкину фигурку. Майка не обернулась на шаги, а когда он позвал ее, искоса взглянула на него диковатыми и даже разгневанными глазами.
— Что с тобой?
— Так, — опустила она ресницы.
— Ты делаешь мне больно. А я помню тебя.
— Разве?
В ответ он развязал галстук и показал на стройной загорелой шее цепочку:
— Вот твой медальон.
Вместе с железной цепочкой потянулась и золотая. Когда Загорский взял Майкин медальон на ладонь, золотой закачался в воздухе, свисая между большим и указательным пальцами. Тускло сверкающий амулет из старого дутого золота. А на нем всадник с детским припухшим лицом защищает Овцу от Льва, Змия, Орла.
— Все как прежде, — сказал Алесь. — Благородное железо, а в нем прядь твоих волос и надпись по-белорусски… Твой… Первый… Ты помнишь вербу?
— Нет, — ответила она каким-то жестким, словно не своим, голосом. — Не все как прежде.
В первый миг она, пожалуй, обрадовалась, а потом в радость прокралась боль. Она сама не знала, что с ней.
— А у тебя еще один, — сказала она. — Чистое наше железо сменял на золото.
Ей почему-то хотелось еще раз уязвить его. Она не могла иначе, так с ним было теперь непросто.
— Конечно, — продолжала она, — кто же будет ценить простое железо? Кому оно теперь нужно?
— Я…
— Не надо мне твоих оправданий. Защищай свою Овцу, которая первому попавшемуся дарит трехсотлетние фамильные медальоны.
Повернулась. Пошла террасой. Все быстрее и быстрее. Ночь и свет из окон, чередуясь, бежали по тоненькой фигурке.
И началось измывательство.
…Играли в загадки. Тот, кто отгадает, имел право поцеловать ту паненку, которая загадывала. Франс Раубич и чрезмерно оживленный Мстислав так и следили за губами Ядзеньки, когда приходила ее очередь.
— Ядзенька спрашивает: что растет без корня, а люди не видят?
Молчание.
— А главные враги — слизняк и порох, — добавила Михалина.
Франс и Мстислав лезли из кожи вон. Алесь давно догадался, но не хотел мешать им.
Майка залилась смехом. Он звучал весело и немного издевательски, особенно после того, как она взглянула на Алеся.
— Господа, — сказала Майка, — что же вы, господа? Некоторые почти окончили гимназию.
Глядя ей в глаза, Алесь безразлично бросил:
— Камень. Камень растет без корня. Порох разбивает его извне, а каменный слизняк точит изнутри.
Ядзенька протянула ему губы. Молодым людям накрыли головы вуалью. Заиграла на хорах скрипка. И в снежном полумраке Алесь увидел, как опустились ресницы прежней куклы, и понял, что он не безразличен ей.
Когда вуаль с шорохом сползла с их голов, Алесь заметил настороженные глаза Франса, грустно-улыбчивый взгляд Мстислава.
Алесь посмотрел на Мстислава и медленно прикрыл глаза в знак того, что он все понял.
— Загадка про человека, — холодно произнесла Майка.
Загорский видел суженные, чем-то недобрые глаза девушки.
— Боженькин ленок,[98] - сказала Майка, на ходу плетя словесную вязь, — свил с ланцужком ланцужок.[99] Сменял железо на золото. Золотой саблей хочет неведомо какую овечку защищать.
Это была глупость. Нескладная, злая. Никто, конечно, ничего не понял и не мог отгадать.
— Гм, — ввернул Мишка Якубович, смеясь черными глазами, — боженькин ленок — это, конечно же, я.
Захохотал:
— И железо на золото я сменял, взяв на год отпуск. И овец от меня защищать надо.
Алесь смотрел прямо в Майкины глаза.
— Я, — бросил он. — Объяснять не буду, но я. Надеюсь, панна Раубич не откажется, если в сердцах девушек земных осталась хоть капля искренности?
На их головы набросили вуаль. Алесевы глаза смотрели в глаза Михалины. Между ними легко мог бы встать третий — так отчужденно держался Алесь.
— Благодарю вас, Михалина Ярославна, — тихо сказал Алесь. — Я просто использовал последнюю возможность остаться вдвоем. И потом я ведь должен был отгадать. Просто чтоб вы знали, что я ничего не боюсь и ни о чем не жалею.
— За что благодарите? — тихо спросила она.
— За честность. За то, что никого не впустили в нашу детскую тайну. Так, намекнули только всем.
Увидел растерянные глаза и сбросил с головы вуаль. Все, наверно, смотрели с недоумением на две фигуры, которые так и не шевельнулись под вуалью. Ну и пусть.
Вуаль сползла на пол. Алесь подошел к Мнишковой Анеле и пригласил на танец. И, словно в знак одобрения, склонил голову старый Вежа.
Остаток вечера Майка и Алесь танцевали порознь.
Вначале Майку душили гнев и глубокая обида. Но потом она вспомнила, что сама добивалась этого, вспомнила тот страх, который чувствовала, когда Загорский был рядом, вспомнила, с какой радостью, как избавление от смерти, приняла она приглашение Якубовича. И она повеселела.
Вечер показался очень коротким. Она сто раз до этого видела его во сне. Видела этот бал, и музыку, и зарницы за окнами, и немыслимое счастье от танцев и собственной молодости.
Всему этому нельзя, невозможно было возводить границы. А Загорский был такой границей. Пусть привлекательной, но и страшной в своей беспрекословности.
Она танцевала, и ей хотелось танцевать, как иногда хочется спать во сне. И потому, когда вдруг танцы окончились, когда пригласили на ужин, на глазах у Майки появились слезы. Так не хотелось этого ненужного ужина, так не хотелось тратить время.
За ужином опьянение от танцев прошло. Она заметила, что Алесь так и не пришел, не сел за стол.
К концу ужина исчезла из-за стола Ядзенька. А потом незаметно сумели удрать Мстислав и Франс.
Мишка Якубович сидел напротив, шутил, скалил белые зубы. Черные глаза нахально и дерзко смеялись. И вдруг Майка почувствовала, как рождается в душе тревога. Она не знала, откуда она, эта тревога. Казалось только, что теряешь что-то очень важное. Наконец она не выдержала и под умоляющим взглядом молодого Ходанского поднялась с места и оставила застолье.
Вышла на террасу — никого. Обложенный тучами, словно в мешке глухо высился загорщинский парк. Зарницы стали ярче. Они полыхали и полыхали. Это, видимо, от них делалась нестерпимой тревога.
Майка обогнула дворец. Слегка хрустела под ногами галька.
От площадки с качелями долетел голос Ядзеньки:
— Алеська! Куда это ты исчез? Иди к нам.
— Что это вы, как маленькие, с бала да на качели? Платье изомнешь, — сказал Алесь.
— Алесик, дорогой, смотри, какая ночь! Какие зарницы! Только и качаться.
Заскрипели в тишине канаты, — видимо, Алесь сильно нажал ногами на доску качелей.
Майка подошла совсем близко. В этот момент вспыхнула зарница, и девушка увидела Алеся, который возносился головой прямо во вспышку.
Он, казалось, был выше деревьев, выше столбов качелей, выше всего на земле.
— Алесь! Алесь! Ну ты прямо словно архангел! И голова в тучах! — кричала Ядзенька.
— Архангел с рожками и хвостиком! — смеясь, сказал Мстислав.
Зарница рассеяла тьму, и в пугливо-ярком свете Майка увидела, как откуда-то из зарева падал прямо на нее человек с распростертыми руками, угрожающе темными глазницами и волосами, которые стояли дыбом над головой.
— Смотрите, — скрипение качелей вплелось в слова Франса: юноша, видимо, нажал на тормоз, — Майка тут, Майка пришла.
— Сидишь ты здесь, Ядзенька, как цветок в крапиве, — сказала Майка.
— Это кто крапива? Мы? — с угрозой в голосе спросил Франс.
Майка понимала, что Франсу с Мстиславом плохо. Она чувствовала, что Ядзенька дорого дала бы, чтоб быть на качелях вдвоем с Алесем. И это рождало в ее душе неосознанное чувство враждебности и оскорбленности за себя, за брата и за Маевского. Потому что брату было плохо. И Мстиславу было плохо. Ей казалось, что она страдает главным образом за них.
И еще она знала, что Мстислав прощает Алесю непреднамеренную обиду. Просто потому, что любит его нерушимой братской любовью, потому, что им, пострижным братьям, никогда нельзя ссориться, и Алесь ведь не виноват, что кто-то любит его. А Франс не простит этого Алесю никогда. И эта ожесточенная настороженность брата может повредить ей, Майке, как ничто другое.
— Слезай, Франс, — скомандовала она. — Уступи мне, пожалуйста.
— А я куда?
— Перейди к… Мстиславу.
Красный сполох прокатился над площадкой, и она увидела, что Алесь смотрит на нее.
— Я сойду, — бросил он. — Качать будет Франс.
От прыжка под его ногами скрипнула галька.
— Решили удрать? — почти шепотом спросила Майка. — Достойный поступок. Испугались моих острот?
— Нет, Михалина, — тоже шепотом ответил Алесь. — Просто…
И, подсадив ее, ушел прочь.
…Спустя час она стояла в том самом темном углу террасы и смотрела в парк.
Дождь слегка сбрызнул траву и цветы, только краем зацепив Загорщину. Сполохи полосовали небо где-то далеко-далеко.
Пани Антонида заметила Майку возле перил и подошла к ней:
— Ну что? Что с тобой, девочка?
У Майки перехватило горло от неожиданной нежности этой женщины.
— Не знаю… Но мне что-то очень тяжело! Я такая несчастная!
— Я понимаю… Понимаю… — И ласковая тонкая рука ее легла на Майкину руку. — Этого не надо делать, девочка. Того, что ты сегодня… весь вечер… В этом нет правды… И ты ничего, ничего не поделаешь…
— Почему не поделаю? — с ноткой протеста спросила Майка.
— Так… Такой уж закон. — И, виновато улыбнувшись, ушла.
…Майка шла через зал, сама не зная, куда она идет. У самого выхода в зимнюю лоджию встретились ей отец и пан Юрий.
— Молитва девы, — весело сказал пан Юрий. — Выше голову, пани Михалина!
Отец отстал от него и, дождавшись, пока Загорский пройдет вперед, тихо сказал дочери:
— Мы с ним немного выпили в буфетной. Ему неприятно… хотя он и не говорит.
— Ах, отец, что мне до этого? — неожиданно страстно вырвалось у нее.
— Не мучай хлопца, — жестко сказал пан Ярош, — не играй людьми в этом доме. Веди себя, как надлежит девчине. Не нравится, так молчи. Будто обрадовалась, что можешь все делать… А душа человека не в человечьей, она — в божьей руце.
Впервые в жизни она видела разгневанного отца.
— Больше ты сюда ни ногой. Хватит мне стыда. И если еще увижу эти твои игры-гули, поедешь на Пинщину, в Боево, управлять приданым матери. Под присмотром Тэкли.
Круто повернулся. Пошел догонять пана Юрия.
Михалина вышла в лоджию. Небо очистилось, и за непомерно высокими окнами мигали неисчислимые звезды.
— Ах, да что они все привязались? — вырвалось из груди.
Вырвалось вместе с плачем. И она, опершись на подоконник, заплакала.
Что они знали? Что они знали о ней, о медальоне и о хлопце, который возносился головой в зарницы? Что они знали о том чувстве, которое весь вечер владело ею?
Словно и бороться нельзя. Как будто все давно решено за нее на небе, а она просто беспомощный котенок, с которым судьба делает все, что ей заблагорассудится.
Никто не думает, что она человек. Ни бог, ни взрослые, ни Алесь, ни… она сама. Но никогда не скажет этого. Никогда.
Она знала, что и дальше будет язвительной и недоброй. Просто потому, что нельзя, чтобы предопределенность ломала и крутила тебе руки. Однако пусть ее простят все, она не хотела терять юношу, который летел среди зарниц.
Почти потеряла его. И она боялась и знала, что за волной высокомерия хлынет волна покорности и, возможно, унижения. И так будет всегда. Бейся в когтях судьбы, как пойманная птица.
«Я не хочу! Не хочу! Господи, как я хочу этого!»
Вместе со слезами словно исчезало что-то в душе. На место решимости приходила безнадежная покорность. Звезды за окном радужно расплывались в ее глазах. Среди них, где-то возле Волчьего Ока, были их звезды. Где они сейчас — звезда Майка и звезда Алесь?
И вдруг жалость и неутолимая, острая, никогда еще в жизни не испытанная нежность овладели ею.
Она уже ничего не боялась, ни о чем не думала, ничего не собиралась утверждать. Она просто прошла лоджией и спустилась по ступенькам в парк.
Звезды сияли над головой. Она шла и шла аллеями, словно во сне, не в состоянии дать себе ответ на вопрос, куда и зачем идет.
Звезды сияли над головой. Вдруг словно кто-то сыпнул их и в траву. Слабые, зеленоватые, они мигали в ней, почти под ногами.
Это были светлячки. Неосознанно она брала холодные огоньки в руку. Наконец рука засияла, словно в ней горел зеленый огонь.
Выдернув из шарфа несколько серебряных нитей, она ловко плела их пальцами. Потом подняла готовую диадему и повязала ее вокруг головы. Во тьме над ее челом вспыхнул нимб из зеленоватых холодных звезд.
…Аллея за аллеей. Майку почему-то тянуло к озерцу, где стояла хрупкая старая верба. Но она не успела дойти до нее. Когда до озерца осталось совсем немного и оттуда дохнуло влагой, она увидела тень, которая двигалась ей навстречу.
— Ты? — спросила тень.
— Я.
Никогда еще не было так необходимо для него быть с нею. И никогда еще он так не сердился.
— Возьми свой медальон, — сказал он. — Я не думал, что это будет так. Однако, видимо, правда, что на земле нет ничего вечного.
Звезды сияли над ее головой. И звезды сияли в ее волосах.
— И ты отдаешь его мне? — глухо спросила она.
— Ничего, у меня останется еще один. Это теткин медальон. Он, как она говорила, трижды три раза меня спасет, — протянул ей цепочку: — Возьми.
Она вдруг сделала еще один шаг. Безвольно и покорно упала головой на его грудь. Он стоял, вытянув руки вдоль тела.
— Алесь, — сказала она. — Алесь…
Была ночь и верба. Был восход. А потом было солнце.
И когда оно поднялось над деревьями, от круглых листьев водяных кувшинок легли на дно тени.
И тени белых водяных лилий на дне пруда были почему-то не круглые, а напоминали разорванные листья пальм.
XXXII
Лето было летом счастья. Не понимая еще до конца, что такое любовь, Алесь знал, что его любят и он сам любит. Майка часто бывала в Загорщине и была такая ласковая, такая добрая с ним, каким добрым было это лето.
Бывал и он в Раубичах. И там тоже все любили его. Даже Франс успокоился. Особенно после того, как убедился, что Алесь ни в чем ему не угрожает, а Ядзенька хотя и грустит, все же мирится со своим положением и относится к Франсу снисходительно и мягко, потому что он хороший парень и ей хорошо с ним.
Мстислав месяца полтора жил у Алеся. Ездили всей компанией и к Когутам, и к Клейнам, и к Мнишкам.
Бывали и у старого Вежи. И там было приятнее, чем везде. Вежа не мешал им ни в чем. Разве что малость иронизировал над молодыми людьми. И удивлялся сам себе. Как это он, старый нелюдим, которому присутствие людей причиняло страдание, не ощущает никаких неудобств из-за того, что дом полон молодежи, что повсюду звучат голоса, песни, смех, что нельзя сесть в любимое кресло, не сев при этом на портсигар Франса, нельзя зайти в галерею, чтоб не помешать гостям, которые организовали там танцы… Удивительно, но это никак ему не мешало.
Наоборот, даже нравилось.
Страдал вначале один Мстислав. Этому даже при его легкомыслии приходилось худо. Нравится тебе девушка, а ей нравится твой лучший друг. Это еще ладно! С другом, тем более с пострижным братом, драться не полезешь. Но пострижной брат отступился. Так чтоб вы думали? Нашла второго друга. Кого угодно, только не его.
Мстислав был легкий человек, однако это даже для него было слишком. И юноша попытался изменить свою жизнь. Вместо веселья и танцев брал собаку и шел с ней в поля. Блуждал, полный меланхолии, читал сентиментальные романы, которые ему совсем не нравились. Попробовал даже писать стихи, полные тоски и сердечных воздыханий. Воздыханий было много, рифм малость меньше, слога и благозвучия совсем мало. Плюнул.
Окончилось это совсем неожиданно.
Друзья приехали навестить Когутов. Маевский пошел к огромному сеновалу, где они с Алесем в детстве играли. Пришел и увидел там девок, которые как раз топтали сено. Они заметили парня и обрадовались возможности пошалить:
— Панич пришел. Ах, да какой же хорошенький!
Девки поймали его, начали катать по сену и кончили тем, что напихали ему за ворот и в штаны сена. Позор был ужасный. Девки! Мужчину!.. Когда они отпустили его, у Мстислава был такой вид, словно его надули воздухом.
Защищала его лишь девятилетняя Янька Когут. Кричала на девок, расталкивала их, как могла.
Мстислав освободился от сена, а потом стал сам нападать на девок. Однако вскоре убедился, что одному с ними не справиться, и вместе с Янькой удрал домой. С того времени ходил с ней и на рыбалку, и за малиной, и «смотреть лосей». Шутя называл «невестой».
— А что? На восемь лет моложе. Вот окончу университет — женюсь. Я дворянин из небогатых, она вольная крестьянка. Романтика! Карамзин!
Разыгрывал сцену, делал вид, что подходит к хатенке. Снимал шапку.
— Здравствуй, добрая старушка! Чувствительное сердце твое не может отказать стрелку. Ибо и старые поселянки любить умеют, под сению дерев пляша. Не можешь ли ты дать мне стакан горячего молока?
Все хохотали. А он с того времени оставил игру в разочарованного влюбленного.
В августе Алеся и Вацлава пригласили Раубичи.
Пан Ярош встретил их приветливо и тепло, но Алесю все же показалось, что Раубич не очень рад их приезду. Что-то такое было в его улыбке, в излишней гостеприимности, в том, что он, казалось, не знал, куда девать глаза.
Поэтому Загорский сразу попросил разрешения оставить Вацака с Наталкой и Стасем, а самому с Майкой поехать верхом на прогулку. До вечера. Он говорил это, не отрывая взгляда от глаз пана Яроша. И убедился, что пан Ярош отпускает их с радостью.
— Возможно, мы заедем к Басак-Яроцкому, — не отводя глаз, сказал Алесь. — Тогда он, конечно, оставит нас.
Пан Ярош первый отвел глаза. Ему на миг стало страшно от такой проницательности юноши.
— Хорошо, я скажу Майке, чтоб собиралась, а мы пока обождем на конюшне, — произнес он.
В те времена на Приднепровье у богатых помещиков всегда имелись при конюшнях, манежах и беговых дорожках, — словом, при всем, что составляло конный завод, — несколько комнат, что-то наподобие мужского клуба.
Там была мягкая мебель, чтоб гости могли отдохнуть. Гости оценивали коней, спорили, меняли и покупали, заключали сделки, пили кофе, закусывали.
В комнате, куда Раубич привел Алеся, стояла огромная турецкая софа, стол с бутылками, закуской и несколько кресел.
Алесь зашел и страшно удивился: в кресле за столом сидел человек, которого ему меньше всего хотелось бы видеть и которого он меньше всего надеялся встретить здесь. Слегка загоревший, с прозрачно-розовым румянцем на тугих щеках, господин Мусатов попивал ледяную воду с лимонным соком.
Узкие, зеленоватые, как у рыси, глаза пристально и весело смотрели на княжича. Уцепистые, скрыто-нервные руки сжимали сплюснутыми на концах, как долото, пальцами узкий стакан, весь дымчато запотевший, в бисеринках капель.
— Что, пан Александр, вы не ожидали встретить меня здесь? — спросил Мусатов.
— Почему? — сказал Алесь. — Каждый мужчина может приехать на конюшню к пану Раубичу.
Это прозвучало как пощечина, и Алесь пожалел об этом, увидев глаза Раубича.
— Они, по-видимому, тоже не ожидали, — улыбнулся розовыми губами жандарм.
Алесь оглянулся и увидел пана Мнишека и Юлиана Раткевича, того самого представителя младшего поколения, который когда-то на дворянском собрании подал записку о необходимости освобождения крестьян. Нервное желтоватое лицо Раткевича было сдержанно-злым.
— Я просил бы вас не шутить так, — спокойно сказал Раубич. — Я, наконец, сам пригласил вас к себе.
— Извините, — ответил Мусатов, — я приехал не вчера и не завтра, как вы меня приглашали, а сегодня. Сами понимаете, дела… Но я от всей души благодарю вас за лояльность и за постоянную готовность помогать властям.
— Не стоит благодарности. В конце концов кому, как не нам, заботиться о порядке в округе.
Алесь уже ничего не слушал, потому что за спинами Мнишека и Раткевича он вдруг увидел моложавое и наивное лицо… пана Выбицкого, загорщинского эконома. Выбицкий прятал виноватые глаза и чувствовал себя неловко, словно был пойман с поличным. И это было понятно, потому что он не должен был здесь быть: еще вчера пан Адам Выбицкий на день отпросился у пана Юрия, чтоб съездить за покупками в Суходол.
Недалеко же он отъехал от Загорщины.
Стало б удивиться этому, однако, в конце концов, это было его дело…
К тому же тут сидел холуй, сыщик, которого нельзя было допускать в дела своих людей. Для какой-то цели Раубич пригласил Мусатова сюда, освободив для себя один день. Плохо же Раубич его знал. Такой всегда явится тогда, когда его не ждут.
Алеся не интересовали дела пана Раубича. Но он видел, что Мусатов с любопытством наблюдает за встречей эконома и молодого хозяина. Зоркие зеленоватые глаза смотрели иронически-вопросительно.
Загорский достал из кармана бумажник и начал рыться в нем.
— Здравствуйте, пан Адам, — неохотно, как будто сердясь на эконома, сказал он и достал из бумажника сто рублей.
— Добрый день, пан Алесь, — ответил Выбицкий.
— Отец очень недоволен вами, — сказал Алесь и увидел, как испуганно вздрогнули ресницы у эконома. — Он считает, что вы могли б закончить дело быстрее… Возьмите вот.
Рука Выбицкого нерешительно взяла деньги.
— Вы задержались на лишний день и за это время не могли добиться даже маленькой скидки. Вы знали, что без Шаха нашему заводу гибель, и ничего не добились. По вашей милости мы переплачиваем пану Раубичу сто рублей за этого жеребца.
Выбицкий наконец понял. Настолько понял, что даже «возмутился»:
— Вы еще слишком молоды, князь, чтоб читать мне нотации.
— Молод я или нет, не вам судить. Я хозяин и вместе с отцом плачу вам деньги… Думаю, напрасно плачу.
— Извините, князь, — испуганно сказал эконом.
Мусатов отвернулся, очевидно потеряв всякий интерес к собранию.
Алесь взглянул на Раубича и решил подколоть немного и его за то, что приходится ехать на прогулку черт знает куда:
— А вы, пан Ярош, поступаете совсем не по-соседски — пользуетесь нашей острой нуждой и торгуетесь, как будто мы чужие. Не уступить какой-то там сотни!
— Себе дороже, — растерялся Раубич.
— Тут дело в принципе. Отношения не могут быть добрососедскими, если сосед не уступает соседу.
Глаза Раубича смеялись.
— Ну, довольно уже, довольно, — сказал он. — Мы тут без вас столковались с паном Выбицким. Шах отправится в Загорщину сегодня же. Я отказался от прибавки. И… простите своего эконома.
— Да я и сам не хотел бы сердиться, — сказал Алесь. — Я ведь знаю его неподкупную честность. Знаю, что он не станет заниматься ничем, кроме хозяйских дел. Просто обидно было.
Жандарм теперь уже совсем не слушал. Наоборот, сам завел спор с Раткевичем. Нес что-то такое, о чем можно было прочесть в любой правой газете.
Алесь чувствовал, что само присутствие этого человека здесь, у Раубича, оскорбляет его чувство к Майке и даже воздух любимого дома.
— Я просил пана Мусатова о помощи, — сказал Раубич. — Просто черт знает что. В моей Хадановской пуще какие-то подозрительные люди. Имеются вырубки. На днях объездчик видел у костра вооруженных людей.
— Сделаем, — сказал Мусатов. — Надо связаться с земской полицией. Ну, и конечно, вы сами должны помочь людьми.
Жандарм окончательно успокоился. А Загорский смотрел на Раубича и сам почему-то чувствовал, что тот говорит неправду.
«Просто пригласил этого голубого сыщика, — думал Алесь, — пригласил, чтоб отвлечь внимание от чего-то. Не ожидал, что приедет именно сегодня. Перестарался, пан Ярош. Этак играя, можно и голову свернуть».
И вдруг озорная мысль пришла ему в голову. Собственно говоря, ничего не стоило вытурить отсюда Мусатова, причем так, что он ничего и не заподозрит. «Не выпендзам, але бардзо прошэ». Пускай побегает. А между тем воздух в Раубичах сразу станет чище.
— По-моему, вы не туда смотрите, пан Раубич.
— Что-нибудь знаете? — спросил Мусатов.
— Ничего не знаю, — сказал Алесь. — Но страху сегодня натерпелся. Счастье, что пистолет был с собой, так я вынул его из кармана, чтоб рукоять торчала. Полагаю, только потому и обошлось. А иначе мог бы и головой поплатиться. Во всяком случае деньги отдал бы не Выбицкому, а кому-то другому…
— Кому другому?
— Еду сюда, только миновал камень Выдриной гребли, — ну, еще там, где лес у самой дороги, — пересекает дорогу человек на вороном коне. Стал на обочине и смотрит. Да внимательно так, недобро. Глаза синие, беспощадные. Из переметных сум пистолеты торчат. Постоял, улыбнулся моему демаршу с пистолетом, погрозил пальцем и исчез в направлении Днепра… Ушел, видимо, на Кортовский лесной остров.
— Почему так думаете?
— А потому. Возле Кортова единственный на всю ту излучину Днепра брод. Удобно. Если переправляться да в Янову пущу идти, то только там. А днем переправиться не рискнет, так и на Кортовском острове пересидеть можно.
— Лица не запомнили?
— Почему же нет? — Алесь бил на то, что Мусатов ничего не знает о двух встречах его с Войной. — Нос с горбинкой. Лицо загоревшее такое, цвета горчицы. Я почему и подумал, что подозрительно: нельзя обыкновенному человеку, который сидит под крышей, ну вот хоть бы вам, пан Мусатов, так загореть. Сразу видно, что не сидит, а целыми днями под солнцем скачет… Что еще? А, волосы черные, и как будто кто в них паутиной сыпнул. Все сединой перевиты…
Мусатов побледнел.
— Вот какие дела. Если уж искать, то не в Хадановской пуще, а в Яновой. Да и Кортовский остров прощупать не мешало б.
Алесь поднялся и вышел из комнаты. Раубич, немного обождав, вышел за ним.
— Здорово это у тебя получается, — сказал он. — Выручил… Зарезал ты меня без ножа! Шаха теперь отсылай… И врешь-то ты все в свою пользу.
— А кто это в чужую пользу врет? — спросил Алесь.
— Т-так.
— Ничего, за коня вам заплатим.
Глаза пана Яроша с нежностью взглянули на юношу.
— Хочешь — оставайся, — с неожиданным порывом сказал он. — Не езди.
— Нет, — ответил Алесь, — с Михалиной беседовать приятнее, чем с собственным экономом.
— Гордый, — сказал Раубич. — Так и не простишь?
— За что? У вас свои дела, у меня — свои.
Когда Майка и Алесь вышли на конный двор, до их ушей долетел громкий цокот копыт. Аполлон Мусатов не выдержал Алесевой вести, а юноша на это и рассчитывал.
Жандарм выехал со двора умышленно медленным шагом, не роняя достоинства, как будто бы его нисколько не взволновала весть о появлении Войны. Однако на длительное время выдержки у него не хватило, и он пришпорил так, что только пыль закурилась под копытами коня.
* * *
Они ехали опустевшими раубичевскими ржищами, и Алесь учил Михалину ездить «по-настоящему».
— Ты сиди в седле только в то время, когда конь идет шагом. А когда переходит на рысь или галоп, ты становись в стременах и наклоняйся вперед. Галоп будет ровный, и ты не будешь прыгать в седле. Красота такого полета чудесная, удобство необыкновенное. Ну, погнали.
Решили ехать к руинам загорского замка, а оттуда в лес. Майка настояла, хотя Алесь и считал, что это далеко. Но ей хотелось туда, потому что это была дорога счастья, и руины, и дно той криницы, в которую они, дети, заглянули когда-то.
— Кастусь тебе ничего не пишет?
— Прислал недавно письмо… Оно со мной.
— Кастусь понравился мне, — сказала Майка, — он хороший и очень честный. Лучшее твое приобретение за всю жизнь, если не считать Мстислава.
— Ну, и тебя, конечно, — засмеялся Алесь.
— Секретов в письме нет?
— Нет.
Алесь достал из бумажника лист, исписанный ровным мелким почерком друга.
— Красиво пишет, — сказала Майка.
— Главное, умно. Вот, послушай…
«Дорогой Алесь! Представь себе, что я пишу уже не из Москвы, а из Петербурга, которого когда-то так не любил и в котором не хотел жить. Однако ничего нельзя было поделать. Брат Виктор из Московского университета уволился, а мы вынуждены держаться друг за друга. Он слабее физически, я — беднее. Без взаимной поддержки пропадем ни за понюшку табака.
Словом, я «связал колбасу», обошел и назад возвратился и столько лишней дороги сделал. Но я не жалею. Не жалею и Москвы, потому что она — чудесная. Не жалею теперь и о том, что оказался в Петербурге, потому что здесь жизнь как водоворот и намного больше интересных и наших людей. Конечно, надзор строже и к «воротам под архангелом» слишком близко, а начальство часто кричит «ашкир», как на овец, но люди — чудо. И город — чудо! Весь синий и золотой. Красота неописуемая. Мог бы полюбить его самой горячей любовью, если б не исходило отсюда столько скверного и тяжелого. Однако, если вдуматься, люди не виновны. Виновны выродки… Видел, между прочим, нашего правителя. Ехал по Невскому. В облике самое интересное прическа, а подбородка совсем нет. Едет себе в ландо этакий денди, свиной батя, смотрит на мир свысока. Встретились взглядами, и я даже испугался: а что, если вдруг догадается о чувствах одного из тех муравьев, что ползают у ног? Понял: ненавижу. Изверг, людоед, палач родной нашей земли».
— Как это он не боится? — остановила Алеся Майка.
— Он ничего не боится. А письмо пришло с верным человеком…
«Если б глаза могли испепелять, один пепел от него остался бы. Подумать только, сколько зла может наделать один человек!
Так вот, двенадцатого июля Виктор уволился из университета, и мы сразу поехали «железным змием» в Петербург. Сняли комнатку на Васильевском острове. Первого августа подал ректору прошение, чтоб милостиво разрешил сдавать приемные экзамены. Фамилия ректора Плетнев. Друг Пушкина, но человек, кажется, довольно старомодный и к особенным новшествам не склонен. Проситься буду на юридический, по разряду камеральных наук. Вначале решил было податься в медики, как Виктор, но раздумал. Здоровье людей — это, конечно, чрезвычайно важно. Но плоха та медицина, которая начинает с лечения болезни. Прежде всего болезнь надо предупредить. Создать людям человеческие условия. Чтоб жили сытно, чтоб одеты были хорошо, чтоб жили в ладной хате, чтоб не таскались по судам и правильно вели хозяйство, чтоб были свободными. Из камералов выходят самые лучшие хозяева и администраторы. А это главное. Потому что нельзя позволить, чтоб народ вымирал. Вон у нас на Гродненщине неурожаи несколько лет подряд, свирепствует холера, тиф косит людей, горячка.
А они, собаки, на нас жмут. На всю страну одно учебное заведение: Горецкая академия (это если не считать сморгонской, где медведей учили). Конечно, так им легче в когтях нас держать. Что с белоруса возьмешь? Темнота. Виленский университет закрыли, гимназии в Гродно и Белостоке закрыли. Из нашей, Свислочской, сделали училище на сорок учеников. А было же когда-то четыреста! Ну ладно! Учиться буду без устали. Не знаю, как будет с платой за обучение. Пятьдесят рублей серебром в год — это для меня слишком много. Может, освободят по бедности. И еще если б стипендию какую-то получить. Но это раньше, чем на втором-третьем курсе не получится, так что нечего и думать. Буду давать уроки».
— Ты б предложил ему помощь, — прервала опять Майка.
— Не возьмет. Да еще и обругает. Он гордый.
— Так что же делать?
— Попросил деда, чтоб Исленьев потряс связями.
— Они у него есть?
— А что? Он русский, петербуржец. В карьере ему никакие связи не помогут, а в такой чепухе найдутся. Дед под секретом отправил деньги за обучение на весь срок. А там скажут — освободили. Только ты никому не говори.
— Не скажу.
— Стипендию со временем получит. А не получит, сделаем, как с платой. Ну и уроки. Я посчитал. За неплохую комнату — десять рублей. Есть хотя бы два раза — восемь. Книги — пятнадцать. Форма с двумя сменами — двадцать. Значит, за еду и крышу в год двести шестнадцать. А вместе с одеждой и книгами — всего двести пятьдесят один рубль.
— Я не думала, что ты так практичен.
— Я — всякий… Так слушай дальше… «Дунина-Марцинкевича, о котором ты пишешь, не знать стыд. Первый наш настоящий поэт. В сорок шестом году напечатал в Вильне свою «Идиллию» (кажется, так), а в прошлом, в Минске «Гапона» да «Вечерницы». «Гапона» с «Вечерницами» высылаю, «Идиллию» достань сам. Здесь, конечно, слишком много всего на розовой водичке с панскими («Извини, Майка», — сказал Алесь) соплями замешенного, но он может быть и злым. Ничего, что он пока что Кроеров в нашей жизни не заметил. Будет и это. Главное, наш человек. Талантливый. Главное — дoхла наша письменность, со времен общей панской измены забитая, загнанная. Сиротина наша с тобой первый голос подала. А чистый! А звонкий! Золото на хрустале. Васильки в жите! Серебряные капельки! Если б ты знал, Алеська, как хочется стихи писать! Но судьба развернуться не дает. И хватаешь сам себя за руку. И Марцинкевич молодчина! Я завидую тебе, что ты его видел.
Над твоей гимназической историей и посмеялись мы, и задумались потом. Но мне стало немного грустно, что ты в этом году не будешь поступать в университет и станешь, благодаря дедовым усилиям, приучаться к хозяйству. Если поедешь, то теперь, конечно, в Петербург, а не в Москву. Будем вместе. А пока я тебе подробно о своих делах писать не буду. Так, немножко. Бумага, сам знаешь».
— Жаль, — сказала Майка.
— «Ты знаешь, — читал Алесь, — я здесь полюбил русских людей. Благородный, хороший народ. И такой же несчастный, как и мы. Я раньше их знал по худшим образцам, по жандармам, что к нам понаслали. Сам знаешь, хороший человек на такое не пойдет, честных и искренних в такой среде искать напрасно. А тут присмотрелся — чепуху это на них наши панки, вроде твоего Лизогуба, мелют. И то правда, что нет плохого народа. Конечно, это не они нас в клочья рвут, в петлю толкают, выдавливая дух. Это государство палачей, омерзительное, страшное, гнилое. Тюрьма людей, тюрьма племен. Жандармы, аллилуйщики, продажная мразь! Из тюрьмы, из тюрьмы этой надо вырваться, если хочешь жить. Надо понять, что дело в жонде,[100] а не в народе. И что если отсоединяться, так от него, а не от людей, которые сами ищут дружбы с нами. Много хороших хлопцев. И среди наших, и среди поляков, и среди русских.
«Современник» читаю довольно регулярно. И, знаешь, в августовской книжке новое имя. Попомни мое слово, если мы не дождались нового светила. Он русский. Фамилия Добролюбов. Человек, по всему видно, страшно доброжелательный, страстный и чистый. Наши хлопцы гордятся. Учится он в педагогическом. Это в здании университета. Под одной крышей. Помнишь, у Грибоедова (по твоему списку цитирую):
Есть в Петербурге институт
Пе-да-го-гический — так, кажется, зовут?…
Там упражняются в расколах и в безверье
Профессоры!
Профессоры «доупражнялись». Теперь подняли голос воспитанники. Вот оно как!
В следующем письме напишу обо всем подробнее. Передавай привет родителям, деду, Мстиславу. И конечно, Майке. Я люблю ее. Передай:
Где она сидела,
Там лавка золотела.
Золотые подножки,
Где стоят ее ножки».
Майка порозовела. Шевельнула губами.
— Вот это кавалер! Не то что ты.
Алесь, как будто не слушая, читал дальше:
— «Она настоящая белорусская девчина. И потому, извини, брат, я не хотел бы для тебя опасности».
Майкины щеки вспыхнули.
— Что ты написал?
— Написал, что мне дорог мир и ты. Но родина мне дороже всего. И если родине моей плохо, мне тоже ничего не мило, кроме родины. Не болит ничья беда, кроме ее беды. Я здесь не для того, чтоб шаркнуть ногой и сказать: je suis de passage.[101] Я здесь родился и здесь надеюсь умереть.
Она взглянула на него с уважением.
Урга и Косюнька мчали по миру. Снежно-белый и мышастая. А мир вокруг был желтый от ржищ и хрустально-синий от неба. Кое-где на последних лапинках поля женщины еще воевали с колосьями. Желтые бороды колосьев содрогались и безвольно ложились под серпом. И тонко-тонко, высоко, далеко дрожали в чистом воздухе прозрачные роднички голосов.
Перапёлка, пераляці поле і сіняе мора, перапёлка. Нясі звесьці ад ліхой свякроўкі ды да роднай маткі нясі звесьці. Пра што, за што свякроў мяне біла асінавым кіем, пра што, за што? А ці ёй пасцелькі не слала, ці не разувала, а ці я ёй? Пасцель слала: кулачок пад бачок, камень пад галоўку, пасцель слала. Разувала ў цемным куточку альховым пруточкам, разувала.— Бедная моя! — глухим голосом сказал Алесь. — Бедная моя земля!
Жалость охватила Майкино сердце. Она пристроила Косюньку к рыси Урги и нежно погладила каштановые волосы юноши.
Она никогда не знала, чего можно от него ожидать. «Неожиданный, как прадед Аким», — говорил Вежа. Действительно, неожиданный, как удар молнии. И потому страшно привлекательный.
— Я теперь знаю, — сказал он. — Ты думаешь, ты напрасно была багровой в той белой комнате? Нет, ты такая и есть.
Он смотрел на нее странными, совсем новыми, огромными серыми глазами. И ей вдруг стало страшно.
— И волосы лиловые… Все в мире так сложно. А мы ничего не знаем. У розы, например, голубой вечерний запах. Он звучит, как струна виолончели, когда ее тронешь в пустой комнате. А у чертополоха запах пестрый, шмелиный, и он совсем как басовое «до».
Непонятные глаза, казалось, видели ее до самого дна.
— А твои волосы пахнут дурманом и потому, конечно, лиловые.
Кони глотали широкий, добрый и страшный простор.
* * *
Толпа дворян шла подземным ходом. Пан Ярош шагал впереди с канделябром в руке. Шаги глухо звучали под серыми, словно запыленными, сводами. Вычурные темные тени бросались во все стороны на каждом повороте.
Шли в молчании, которое даже угнетало. Пятнадцать человек не хотели обмолвиться и словом.
Наконец пан Ярош сказал глухим голосом:
— Ступеньки, господа.
Начали подниматься. Потом Раубич открыл железную дверь, и все вышли на дневной свет, что падал через зарешеченное окно в огромное подземелье с каменным полом и сводчатым потолком.
Остро шибануло в лицо сладковатым серным смрадом. На столах стояли колбы, реторты, пылал в чугунах огонь. Легкий дымок тянулся под вытяжной колпак.
Четыре человека поднялись со своих мест, когда толпа вошла в подземелье. Смотрели, как будто ожидая, настороженно, недобро. Суконные плащи. Бледные, словно фарфоровые, лица людей, которые редко видят солнце. Бледные, как картофельные ростки в погребе.
— Спокойно, панове, — сказал им Раубич, — это свои.
Обратился к гостям:
— Надеюсь, фамилий вы не спросите. Но они тоже свои. И им никак нельзя отсюда выйти. Все уже десять лет думают, что они за границей. А им туда ненависть не позволяет. И потому сознательно жертвуют собой.
— Группа Зенкевича?[102] — спросил Мнишек.
— Да. Эти два друга химики. Бились столько лет и все же изобрели такой закал стали, что она надежнее златоустовской. Не ломается от удара молотом. Рассекает подброшенный платок. Имеем таких сабель уже триста сорок и две.
— Маловато, — сказал Раткевич.
— Сразу ничего не бывает. — Раубич открыл низкую дверцу. — Там еще ход. В другое подземелье. И в нем что-то около пятисот пудов пороха. Самодельного, но не хуже фабричного.
— Порох и огонь? — спросил Мнишек.
— Ничего, это надежно. Ход тянется на тридцать саженей. А в конце концов, в жизни и смерти наш властелин — бог. Я позвал вас потому, что все это держать в подземелье стало опасно. На меня могут склеить и второй донос. «Голубые» активизировались… Вам придется хорошо поработать в эту ночь, господа. Горбом.
— Они не могут, — улыбнулся бархатными глазами колкий Януш Бискупович, тот самый поэт, Матеев отец, с которым Алесь и пан Юрий ездили к Кроеру. — Они панством больны. Как это горбом? У них нет горба.
Посмеялись. Янушу все прощали. Боялись языка.
Раубич обратился к «химикам»:
— Сразу же старательно загасите огонь. Железные предметы заверните в ткань и положите в кладовую. Пол застелите коврами.
Один из бледнолицых склонил голову.
— А вы ближе к вечеру снимете туфли, — я тут наготовил для вас обуви: мягкие такие ботинки из овчины, наподобие индейских мокасин, сдадите мне все портсигары, ключи, огнива, кошельки с серебряными деньгами. И за одну ночь, как простые фурманы, завезем все это в мой Крыжицкий лес, в тайник. Там надежно. Люди в лесничевках одной веревкой со мной связаны. Спрячем, и все.
Паны склонили головы в знак согласия.
— Вас пятнадцать, да я, да их четверо… двадцать человек. По двадцать пять пудов на человека и на коня. По одной ездке.
Из очага, куда «химик» вылил ведро воды, рвануло, зашипел пар.
— Ничего себе баня, — сказал Бискупович. — А где веники?
— Веники тебе Мусатов подарит, — желчно улыбнулся Раубич.
— Раубич бяка, — сказал пан Януш. — Раубич колдун. У Раубича из подземелья серой пахнет. К Раубичу нечистая сила по ночам через трубу летает.
Помолчал.
— А и молодчина Раубич! Я знал, но не думал, что такой жох!
— Идемте наверх, — сказал Раубич. — Поговорим.
Они поднимались по винтовой лестнице довольно долго, пока не достигли верхнего этажа здания — большой комнаты с камином, в котором еще остались гнезда от вертелов и две древние кулеврины[103] у окошка.
Кулеврины смотрели жерлами в огромный парк. На чашеподобную лощину, на строения, на подкову озера, на две вытянутые колокольни раубичской церкви, на далекое серое пятно бани в чаще.
Посредине комнаты стоял стол, накрытый тяжелой парчовой скатертью, и кресла. На столе лежали желтоватые, пергаментные, и белые, бумажные, свитки карт, стальные и гусиные перья, стояли чернильницы.
— Садитесь.
Все сели. Януш Бискупович, пан Мнишек, Выбицкий, Юлиан Раткевич.
Желчное, обессиленное неотвязной думой лицо пана Яроша, его глаза-провалы добреют, когда он смотрит на этих людей. Надежные, свои люди. Даже на эшафоте останутся такими. И тот не плох, и еще вот этот. И тот. Восемь человек, на которых можно положиться, как на себя. Шестерых знает хуже, но им тоже надо верить. Представители дальних уездов. Двоих рекомендовал Бискупович, двоих — Юлиан Раткевич. По одному — Мнишек и Выбицкий. И лишь одного с удовольствием не видел бы — Миколу Браниборского. Нет, давать волю своим чувствам нельзя. Крепостничество ненавидит, крестьян тогда освободить сам предложил, обеими руками подписывался тогда под запиской Раткевича. Надо верить.
— Вот, господа, — сказал Раубич, — Мусатов шныряет в округе. С помощью молодого Загорского спихнули его в Янову пущу, пока вывезем порох и оружие. Полагаю, все согласны со мной?
Бискупович наклонил голову.
— Тогда приступим к очередному собранию тайной рады. Здесь все.
Тяжелый взгляд Раубича обвел присутствующих.
— Все вы знаете, что сказал в своей речи перед депутатами польского сената, дворянства и духовенства десятого мая этого года император Александр. Motto его речи в Лазенках была — никаких мечтаний.
— Zadnych mavzen, — тихо перевел Мнишек.
— «Никаких мечтаний, господа. Сумею усмирить тех, кто сохранил бы мечты… Благосостояние Польши зависит от полного слияния ее с другими народами моего царства». Любельского маршалка Езерского не допустили отвечать царю. Запретил наместник, Горчаков. Это насилие, это денационализация, это навязыванье монархической системы. «Никакой автономии, даже финской», «Никакой самодеятельности, даже ограниченной». Вот что недвусмысленно сказал император. Если такое насилие царское правительство учиняет в Польше, чего можно ожидать от него нам? Что оно может дать нам, кроме еще большего рабства? Общее возмущение господствует на наших, на польских, на литовских землях. Трон Романовых изжил себя повсюду. Они сами расписались в своей неспособности дать счастье и свободу подданным и народам. И потому я спрашиваю у представителей тайной рады: положим мы конец нашим колебаниям — будем терпеть дальше или поставим перед собой ясную цель, скажем самим себе, что мы живем для восстания, для большого заговора, для народной войны со всем, что оскорбляет, унижает и позорит нас?
Наступило молчание.
— Так как же?
— Когда восставать? — спросил Бискупович.
— Восстать, чтоб только пролить кровь, глупо, — сказал Раубич. — Восставать надо с надеждой на победу. Жаль, что во время войны нас было мало, чтоб ударить с тыла… Но за три года войны число наших сподвижников утроилось. Я подсчитал рост наших организаций. Мы будем иметь необходимое количество людей через шесть лет. Значит, приблизительно шестьдесят второй год.
Браниборский присвистнул:
— Мы восстаем или играем в улиток?
Все молчали. Потом Раткевич сказал:
— Долго.
— Зато верно, — ответил Раубич. — Ты думаешь, Юлиан, мне не больно быть каждый день в неволе? Душа запеклась! С утра первая мысль об этом. Не могу уже жить… Все чаще приходит безумное желание — начать. Начать. Начать сразу, с теми людьми, которые есть. Ничего и никого не ожидая. Даже не боясь погибнуть.
Помолчал.
— Но мысль эту гонишь прочь. Ну, начнешь неподготовленным. Ну, погибнешь и друзей погубишь. Землю виселицами уставят. Мы не имеем права рисковать. Ну, а если гибнуть, то так, чтоб эта гибель принесла какие-то плоды.
Они помолчали. Потом непривычно серьезный Бискупович сказал:
— Резонно…
— Пан Ярош подготовил какой-то план? — спросил Мнишек.
Вместо ответа Раубич захрустел большим пергаментом, разворачивая его на столе. Положил на один конец тяжелую саблю в ножнах. Два других угла прижали серебряной чернильницей и куском мрамора.
— Я замечаю, паны не курят, — с улыбкой сказал Раубич. — Курите.
Все растерянно посмотрели друг на друга. В самом деле, почему не курят?
И вдруг хохот взорвал тишину. Все смеялись, поняв, что подсознательно у каждого в голове гвоздем сидела мысль о пятистах пудах гороха.
— Чепуха, — успокоил Раубич. — Это совсем не под башней.
— Бросьте, хлопцы, — сказал Бискупович. — Тут и без пороха как в омут очертя голову бросаешься.
— Это они боятся, что от их трубок вспыхнет гнев, — сказал Раткевич. — Не бойтесь, не такой уж он огнеопасный, наш народ. И каждый из нас не такое уж хорошее огниво, чтоб искры сыпались.
Потянуло табачным дымком. Задымили чубуки хозяйских длинных трубок, захлипали трубки гостей, зарделись кончики сигар.
Все молчали, глядя на карту. Приднепровье, изрезанное синими лентами рек, зелеными пятнами лесов, темными точками сел и городов, лежало перед ними.
И потому у всех перехватило дыхание, словно перед первым отчаянным шагом в ледяную воду Днепра.
— Полагаю, паны не изменили своего решения главой тайной рады и воеводой назначить меня? — спросил Раубич.
— Не изменили.
— Тогда слушайте. Основой моего плана было ваше происхождение, панове, — сказал Раубич. — Те места, где вы начали собирать свои группы. Свои будущие загоны. Знание местности и людей — вот ваше неоценимое преимущество. Потому я и склонился к диспозиции, которую предлагаю вашему вниманию. Отклонения от принципа происхождения незначительные, и те люди будут руководить внутренними отрядами, наводить порядок, приходить на помощь тем, кому будет тяжело. Держать осевую линию Днепра от Лоева до Дубровны, сто семьдесят — сто восемьдесят верст по птичьему полету. Если же учесть все излучины Днепра, так вдвое больше. Следить зорко, чтоб не пролетел песчаник-кулик. Держать крепко, как держат собственное дитя.
Паны слушали внимательно и угрюмо.
— Так вот, — сказал Раубич. — Суходол — это форпост. Это узел. Отсюда начинается осевая линия Суходол — Загорщина — Вежа — Дощица. Ее нужно держать, если прорвутся с запада или с востока. Оставлять за собой любой ценой. Если она падет — это клин, это меч в тело восстания. А Суходол — рукоять этого меча. И потому я оставляю его за собой. Второе, что нам необходимо сразу сделать, — это отбиться от возможных сикурсов, от подкреплений, которые обязательно пойдут на помощь правительственным войскам… в ту западню, которую я с вашей помощью предполагаю им устроить.
— Каким образом? — спросил Мнишек.
— Смотрите. Пан Бискупович из окрестностей Еленца. Южный край моего участка доходит до вас. Я держу эту линию, и часть осевой линии Днепра, и участок на Друти. Вы видите?
— Вижу, — сказал Бискупович.
— Пан Вирский из Долголесья. Вы держите Днепр на двадцать верст дальше на северо-запад, где мост на тракте Гомель — Глинная Слобода (очень важно), и на юго-восток, приблизительно до Холмечи и Стародубки.
— Помню, — сказал Вирский.
— Пан Якуб Ваневич.
— Слушаю вас. — Грузный, пышущий здоровьем Ваневич положил руку на уголок между Днепром и Сожем.
— У вас второй по важности узел. Треть всей операции зависит от вас. Овладеть своим уголком, держать его железной рукой, для чего получите едва ли не самое большое подкрепление людьми и оружием, и не допускать сикурсов с юга.
Раубич вел линию вдоль реки…
— Прошу панов учесть: вы все находитесь на левом, преимущественно низменном берегу Днепра. Поэтому всем нам придется заблаговременно овладеть всеми ключевыми высотами этого берега. Я должен позаботиться об укреплениях Длинной Кручи, Городища, Красной Горы, Спаровских высот, Луцких горбов и так далее. Вы, Бискупович, овладеете Выбовскими и Смыцкими. От Речицы до Лоева особенно трудно, потому что там пятидесятисаженный обрыв гряды подходит с вражеской стороны почти к реке, а у нас местность низкая и заболоченная. Дополнительная трудность для вас, Ваневич, но вы бывший офицер, да еще из способных. На первых порах вам будут подмогой заболоченная местность и дебри. Поскольку начнем весной, а разлив в то время достигает шести верст вширь, это даст вам необходимый покой на то время, пока мы будем наводить порядок. Позаботьтесь лишь о том, чтоб сосредоточить в своих руках, на всех высотах, которые в то время будут островами, все возможные плавучие средства. Чтоб вы имели полную свободу для маневрирования, а враг ее не имел… Я понимаю, не все на войне получается так, как на бумаге. Однако у нас должен быть план и большое желание сделать все, что от нас зависит и что в наших силах, чтоб приблизить его к действительности.
— Понимаю, — сказал Ваневич.
— Ваш левый фланг, Ваневич, смыкается с правым флангом соседа возле Гомеля. Так как раз край шестидесятисаженного плато подходит к самой реке. Там пересечение дорог, которое нужно удержать даже ценой жизни… Пан Яновский из-под Радуги.
Яновский, который нервно и горячо обводил всех темно-синими глазами, едва не вскочил с места, услышав свою фамилию. Он был самый молодой среди всех. Ему было двадцать лет.
— Знаю, — заторопился он. — Это легче. Высокий край плато. И труднее. Пересечение дорог на Студеную Гуту — Яриловичи — Чернигов, Улуковье — Корму над Харапутью, на Узу — Кораблище и на Борщевку — Речицу — Пересвятое.
— На последнем пути вам поможет Вирский. На Студеногутском — Ваневич, на Кораблищенском — лишь минимум предосторожностей. Он будет лежать целиком в нашей зоне… Но вам и без того будет трудно.
— Знаю, — сказал Яновский. — Умрем, но не отступим. — И густо покраснел. Пожалел, что сказал последние слова.
— Пан Витахмович, вы держите участок Чечерск — Корма — Гайшин — Пропойск. Он удобен высотами, но неудобен лесами.
— Сожжем, — спокойно сказал Витахмович. — Летом, в засуху, пустим красного петуха.
Паны смотрели на карту и начинали понимать планы Раубича.
Раубич называл и называл участки и фамилии, и наконец, кольцо замкнулось. Очерченный красным карандашом, шире вверху и yже книзу, лежал на карте кусок земли: неровный кремневый нож, направленный острием на юг.
Все молча смотрели на изъезженный, сто раз виденный, но теперь такой необычный кусок земли. В синих лентах рек, в зеленых пятнах пущ, в точках городов и сел. Родной край.
Раубич вздохнул.
— Ну вот. О деталях потом. Помните лишь: на той территории, которую мы собираемся поднять, проживает что-то около девятисот тысяч человек. Ни один из этих жителей не должен быть обижен. Если мещанин начнет сводить счеты с военным, раскольник с католиком, а поляк с протестантом, — все кончится гибелью. Поэтому я предлагаю раде сегодня же договориться о том, чтоб ни в коем случае не допускать несправедливости. Все люди, сколько их ни есть, дети Адама. Я требую от рады одного — строгого наказания за междоусобицы. Мы не должны повторять империю. Мне кажется, эта земля должна стать землей справедливости для всех. Вот что я хотел сказать.
Люди молчали. Приднепровье лежало перед ними на столе, а над ним плыл густой дым…
* * *
Алесь сам не понимал, как они могли заблудиться. Однако ночь уже давно опустилась на пущу, а они все еще кружили потайными стежками среди огромных, казалось, до самого неба, деревьев.
По звездам узнать дорогу было нельзя — небо густо обложило черными тучами. Так глухо и густо, что в пуще стало тепло, как под одеялом.
Синяя молния полыхнула совсем низко, над деревьями. Собиралась гроза. Урга и Косюнька мягко ступали по иглице. Майка сидела на мышастой кобылке, уставшая, почти безразличная. Ей хотелось спать.
— Заблудились, — сказал Алесь.
— Окончательно?
— До утра.
— Где пристроимся?
Доверимся лошадям. В пущу они не пойдут, будут выбираться на прогалины.
Он спешился, ощупывал стволы деревьев. Северную сторону находил, но что это могло дать, если даже руки не было видно. Проедешь шагов десять — и опять начинаешь кружить. Да и коня в пуще «прямо на север» или «прямо на юг» не погонишь. Это тебе не поле. Вокруг дебри. Поэтому, выбравшись на первую стежку, он дал Урге свободу.
Молнии рвали небо все чаще, но в их свете глаза видели одно и то же — черно-синие стволы деревьев, голубую твердь стежки, тяжелые кроны над головой.
Так они ехали около часа.
Надо было где-то укрыться. Под какой-нибудь раскидистой елью. Он так бы и сделал, но следующая молния высекла из тьмы маленькую прогалинку, а на ней — низкую приземистую постройку с грибом стрехи, ссунутой чуть не до земли, с широко разинутой пастью темных дверей. Судя по всему — лесной сарай для сена.
— Майка! Быстрее! Пристанище!
Он погнал коня к сараю. Соскочил с Урги, взял на руки легкое тело Майки.
— Беги туда.
Дождь надвинулся такой стеной, что, пока он заводил коней в сарай, промок насквозь. Стены сеновала были из довольно тонких, редко прибитых жердей. По небу стегануло словно огромным огненным кнутом. Алесь увидел коней, «ложе» из березовых ветвей, какое кладут «под ноги сену», само сено, что занимало половину сарая, а возле него Майку.
— Лезь туда, на сено. Накройся им. Здесь продувает.
Подсадил ее. Бросил коням по охапке сена и привязал, чтоб не перевели много. Потом полез сам.
Сквозь щели веял влажный ветерок. Мир ежеминутно окрашивался в синее и черное, полосами. И Майкина фируга тоже делалась полосатой.
— Холодно тебе?
— Немного.
Он выругал себя. Она ведь девушка, могла простыть.
Алесь вырыл в теплом сене длинное углубление.
— Ложись.
— Колется.
— Тогда встань на минутку на ноги.
Когда она поднялась, он укутал ее плащом с ног до головы и, подняв на руки, осторожно положил в углубление. Потом начал накрывать ее сеном. Вначале ноги. Затем грудь, плечи.
Наконец осталась видна только голова. Волосы, и узкое, голубое в свете молний лицо, и блестящие глаза, которые внимательно и таинственно смотрели на него.
— Тебе холодно, — сказала она. — Ложись тоже сюда.
Он лег и ощутил ее рядом. Ее дыхание иногда словно гладило его щеку, а рядом, совсем близко, блестели во мраке ее глаза. Это было приятно. И одновременно страшно.
— Ты тоже укройся сеном. А то, может, я дам тебе часть плаща?
— Нет, не надо, — сказал он.
Она ничего не понимала. Но ее шепот казался ему иным, не таким, как при солнечном свете, а предложение испугало так, что еще несколько минут ледяные волны страха поднимались откуда-то от ног, заливая сердце.
Это было невозможно: лечь с ней рядом, под одним плащом. Плащ был как граница. И неизвестно было, что тогда делать, как разговаривать, как завтра смотреть в глаза?!
Да и будет ли еще оно, то завтра, после такого ни с чем не сравнимого в мире кощунства?
Конечно, не будет.
Ветер веял в щели. Свежий и холодный, он уже пробирал насквозь.
— Ты недобрый, — сказала она. — И самому холодно, и мне. Сердишься на меня?
— Нет.
— Так почему же?
Алесь лег рядом с ней.
— Видишь, так теплее.
Он прижался к ней боком, ощущая запах ее кожи и запах пижмы, конюшины и медуницы. Он чувствовал ее тепло и тепло сена, а ветер теперь лишь изредка гладил его лицо.
Это было как испытание судьбы, за которым следовала тьма и все самое страшное, что могло быть на земле.
— Ну вот, теперь хорошо. Я усну теперь, — сказала она.
Промурлыкала и затихла. Оставила его одного.
Когда он придвинулся ближе, она что-то снова промурлыкала и доверчиво прижалась к нему.
И тут он понял, что он не может, не должен отдаться во власть этого неизвестного, темного чувства, за которым конец всему. Он чувствовал, что навсегда перестал бы уважать себя, что обманул бы и растоптал самое лучшее, что было дано кем-то ему и ей.
Но от этого ему не становилось легче.
— Боже, спаси меня… Спаси меня… Спаси…
Наваждение угасало и возвращалось. И он терзался в пытке, но что, что было делать…
За щелистыми стенами сарая возник непонятный шум, и одновременно с ним голоса.
«Откуда?»
Он осторожно подполз к стене и посмотрел в щель.
Очередная синяя молния вырвала из тьмы небольшое озерцо, плотину и голубую стреху мельницы. Совсем недалеко. Саженей за пятьдесят. Значит, шум мельничного колеса заглушила стена дождя.
Тропинка, по которой они ехали к сараю, разветвлялась. Один ее конец бежал к мельнице, второй исчезал в лесу. А на скрещении — он заметил это при всплеске молнии — стояли два человека. Высокая женщина в черном платке и старик в белом, по всему видно — нищий. Он стоял, прикрыв полой свитки лиру. Длинные усы свисали ниже бороды.
Вода заливала все пространство меж стволами, и когда следующая молния рассекла тьму, все вокруг вспыхнуло. Словно землю залили расплавленным серебром.
«Где это мы? — подумал Алесь. — Не иначе, как возле Покивачевой мельницы».
— Пойдешь этой стежкой, — сказала женщина властно. — Берегом Папороти сейчас нельзя. Там две кладки низкие. Их залило. Да тут и ближе. Через час выйдешь к Днепру, — и показала рукой в дебри.
— Прощай и прости. Дело срочное. Лопаты тебя и согреют, и накормят, и отплатят за все. Да и я не забуду. Не первый раз, слава богу, помогаем.
— Ды уж так.
— Баркалабовским, если будешь там, передай: ходить пока не надо. Скажи: волчьи крaсы в августе… А Лопатам скажи: на некоторой хоромине скоро красный Будимир заскачет, серенького Варгана к кучерявым божьим овечкам пустит.
— Добре.
— Потому что, передай, тот, кто надо, убёг. Из того места убёг, где люди шишки едят, а в бочке плавают… Ну, иди
Женщина трижды поцеловалась с нищим.
Алесь возвратился на свое место и, прижавшись к Майке, начал думать. Куда-то исчезли и страх, и наваждение. Он просто ощущал девушку рядом с собой, слушал ее тихое дыхание и боялся за нее, потому что чувствовал: вокруг царит опасность, в этом лесу и в этой мельнице властвует, живет и крадется к сеновалу что-то недоброе и угрожающее. А она стала ему после этой ночи ужаса и наваждения безгранично дорогой. Но ехать сразу тоже было нельзя. Они нагонят нищего на лесной тропинке, спугнут его и этих людей, которые готовили какое-то свое темное дело. И за стенами дождь. Хочешь не хочешь — надо было лежать.
И он лежал, не ощущая ничего, кроме безграничной нежности и теплоты, которые не вмещались в сердце.
А на дворе раскалывался, трепетал во вспышках, возникал и снова умирал во тьме, рушился мир.
…Дождь, кажется, успокоился. Алесь разбудил Майку и, закутанную, подсадил на Косюньку.
Свернул коней на стежку, на которой исчез баркалабовский нищий.
Они ехали долго, потому что Алесь все время сдерживал коней. Но всякой дороге бывает конец. Выехали из леса. Налево журчала Папороть, а перед ними, далеко, трепетали молнии в черных глубинах Днепра.
И тут, когда они уже считали, что спаслись, удар неимоверной силы расколол небо над их головой. Оглушенные, залитые слепящим светом, они не понимали, где они и что с ними. А когда раскрыли глаза — увидели, что перун метнул свой раскаленный молот прямо в огромный сухой дуб, что стоял у дороги, за каких-то двадцать шагов от них.
Сухостоина раскололась от вершины и почти до корня, расщепилась, но осталась стоять. По трещине пополз вверх поток огня. Красный, плоский, спрятанный в черной трещине, он напоминал водопад, что бежит с подножья на вершину скалы…
Ревело и тянуло к тучам пламя. Плыла в небо раскаленная огненная река.
Книга вторая. Секира при древе
Уже и секира при корне дерев лежит,
всякое древо, не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь.
Евангелие от Луки, 3, 9.I
Пришло рождество. Сочельник. Накануне подвалило мокрого снегу, но за ночь подморозило, а наутро снова выпал снег — глубокий, пушистый, сухой. На сугробах перед окнами загорщинского дома лежали оранжевые пятна света. Ели стояли тепло укутанные, густо, почти без просветов, засыпанные мягким белым снегом — напоминали ночных сторожей.
Перад крыльцом Мстислав вылепил снежного болвана. Он был выше человеческого роста, и у него было самое смешное выражение, какое только бывает у снежных болванов.
Мстислав вылепил ему и груди, но пришел герр Фельдбаух, неодобрительно посмотрел на эту вольность, покачал головой и собственноручно его отредактировал.
Не знал болван, что со временем ледяное небо станет синим и по нему поплывут другие болваны, белоснежные кучевые облака. Они будут ослепительно белые, аж горячие. И его вдруг нестерпимо потянет к ним.
А потом от него останется только кучка грязного снега, прутик и два уголька.
Алесь стоял без шубы и шапки и смотрел на болвана. Болван взирал на Алеся с оттенком высокомерия, и Алесь рассмеялся, — так это было хорошо: снег, оранжевые окна, ели… И конечно же, огоньки елки в окне зала. И Майка здесь.
Он стоял долго и уже немного озяб, когда услышал скрип снега.
— Имя? — спросил голос.
— Алесь.
— Я шучу, — подходя, сказала Майка. — Гадать рано.
Она ничего даже не набросила на себя. Так и была в туфельках, с голыми руками и шеей.
— Глупая! — ахнул он. — Простудишься.
— Ничего не сделается, — засмеялась она.
Не зная, что делать, он обнял ее и попробовал прикрыть ее голые руки своими.
— В дом! — сказал он. — Быстрее в дом!
— Погоди, — попросила она. — Погоди. Здесь так хорошо.
Ближе прижалась к нему.
— Взбалмошная девчонка, в дом! — повторил он.
— Нет, — улыбнулась она. — Ей же не холодно.
— Он — снежный болван. Весной пойдет к небесным болванам. А зимой снова выпадет снегом, и из него опять слепят болвана. Так он и будет век ходить в болванах… А ты человек. Мой человек.
Майка вздохнула и склонила голову ему на плечо Алеся. Он смотрел на ее лицо, бледное в синем свете звезд, и ему ничего не хотелось видеть, кроме этого лица, холодного от мороза, но теплого глубокой внутренней теплотой.
Он почувствовал это, припав губами к ее губам.
Не видел он ни дома, ни того, что дверь на террасу открылась и кто-то подошел к перилам, постоял там немного, а затем поспешно вернулся в дом. Ему не было до этого дела.
Когда он на миг оторвал уста от ее уст, он увидел лишь резкую искру низко над землей, почти сразу за ее плечом.
Сиял над горизонтом ледяной, яростно голубой Сириус.
…Когда они вернулись в дом, молодежь уже надевала шубы, шапки и капоры, а те из юношей, кто должен был ехать за кучера, — высокие белые валяные сапоги или унты из волчьей шкуры.
Алесь обвел глазами веселую компанию и вдруг заметил, что две пары глаз смотрят на него очень сухо. У двери в гардеробную стояли, уже одетые, Франс Раубич и Илья Ходанский.
Ядзенька Клейна отвернулась от всех и смотрела в окно. Свет жирандолей мерцал на ее пепельных волосах, собранных в высокую прическу. Личико было грустное.
И тогда Алесь как бы сквозь сон вспомнил, как открылась дверь на балюстраду, когда он и Михалина стояли возле болвана. Стало ясно, кто выходил.
Ядвиня, значит, сердилась на него. А эти двое тоже. Илья — за Майку, Франс — за Ядвиню.
…Сыпанули на веранду, а потом вниз по ступенькам к саням, уже стоявшим перед крыльцом длинным полукругом. Мстислав с Анелей и Янкой наперегонки с другими бросились к первой тройке. Бежали как одержимые.
— Хватай, кто что может! — кричал Маевский.
Он взлетел на козлы, и в следующий миг резкий всплеск колокольчиков разорвал тишину. Отдаляясь, они пели все более неистово. Первая тройка исчезла в аллее.
Алесь не спешил. Он усадил Майку в четвертые сани, укрыл ее ноги медвежьим пологом и протянул было вожжи на свободное место рядом с ней — собирался ехать без возницы. И тут он увидел, что Франс подошел к саням Ядвиньки, где сидел на козлах далекий гость Всеслав Грима, особенно неуклюжий в волчьей шубе, и что-то сказал. Уста кукольного, наивного ротика Ядвини сжались. Она отрицательно покачала головой.
Франс резко повернулся и пошел вдоль цепочки саней.
— Франс, к нам! — крикнул ему Алесь.
Франс не ответил, даже не взглянул на них. Прошел, уминая снег, к саням в хвосте. Он держался, как всегда, с достоинством, и только матовое лицо его побледнело больше обычного.
Зазвенели колокольчики. Майка сидела под пологом плечо к плечу с Алесем. Посмотрела сквозь прикрытые веки. Сидит. Крепко держит вожжи. Прядь пушистых каштановых волос выбилась из-под шапки и уже успела заиндеветь, словно юноша поседел. Серые строгие глаза смотрят на дорогу. Вот повернул голову, взглянул на нее. Надо сомкнуть глаза еще сильнее, но не совсем, а только чтоб не видеть его.
Поплыли, сплелись в глазах радужные нити. А из нитей его голос:
— Ну, не притворяйся, пожалуйста. Вижу, ведь ресницы дрожат. Не смей закрывать глаз. Смотри на меня.
Рассмеялась. И, словно в ответ, смех колокольчиков.
А вчера Тэкля шептала такое странное, запретное. Лился, застывал в воде перекрученный, перевитой воск, вставали в миске города и удивительные звери.
А в зеркале, посреди двух огней, она видела бесконечно повторенные, как будто в длинном сворачивающем влево коридоре, свое бледное лицо и возбужденные, тревожные глаза.
— Только он такой, тот, о ком думаешь, — шептала Тэкля. — Только с ним. Не отказывайся, все равно не получится, а век дли-инный…
— Годами длинный? — шепотом спрашивала она.
— Не знаю. Но на сто жизней, ясочка, хватит. Все тут — и горе со счастьицем полон мех, и лапотная почта до распри, и все-все.
— А кто раньше умрет?
— Кто? — Голос Тэкли немного сел. — Это все равно. Все равно один без другого не сможет.
Пели бубенцы. Плыла перед полузакрытыми глазами равнина.
Мстислав гнал переднюю тройку и вспоминал, как накануне ездили к Когутам в Озерище, как в просторной новой хате «женили Терешку» и Янька надела на него, вопреки всем обычаям, отцову шапку. Заметила, чертушка, что он не намерен надеть ей на голову свою. И выбрала его сама.
А перед хатой, на улице, ярко пылал смолистый бадняк — пень огромной сосны, обложенный дровами. И хороводы свивались возле огня, что шугал в черное небо. В багровом зареве казались розовыми белые свитки и магерки[104] хлопцев. Намитки[105] женщин, когда хоровод сужался, вдруг наливались мерцающим багрянцем. У всех в глазах дрожало пламя, и это было необыкновенно и страшновато.
За кругом стояли хлопцы. Кондрат подошел к Алесю, помедлил, а потом, поняв, что Мстислав не собирается оставлять друга, видимо, решился и тихо сказал Загорскому:
— Новость слыхал?
— Нет.
— Кроер решил учинить сгон. Обмолотить все прошлогодние скирды.
— Подумаешь, новость… Денег, видать, на кутежи не хватило…
— Вот ему и устроили пиршество, — сказал Кондрат.
— Что такое?
— Вы же знаете, хлопцы, — зашептал Кондрат, — мужики на Кроера еще со времен пивощинской войнишки озлобились. Ну, так вот. Явились они на сгон, человек около сотни. Работают — как мокрое горит. И вдруг из лесу — шасть человек. В кожухе шерстью вверх, сам заросший. В руке медвежья фузея. «Робите?» — спрашивает. «Робим». — «Помогаете?» — «Ага». — «Чтоб людожор вас снова татарами угостил?» Мужики молчат… А тут к ним надсмотрщик прется: «Что кешкаетесь, мямли? А ну, за цепы, лодыри!» Увидел человека — и аж побелел. Человек к нему: «Прочь, свинья несмаленая!» Надсмотрщик задом, задом. А тот ему: «Не трясись, убивать пока не буду. Мне твоя душа не нужна. Свою имею. Только чтоб — эч — эч! — ноги твоей тут не было». Надсмотрщик удирать. А человек к мужикам: «Что, мужики? Врагу помогаете? А ваш хлеб где? А слезы сиротские вам на сердце не пали?» Те молчат. Потом дед Груша осмелился: «Да сдохнет же он скоро. Про волю слухи ходят. Кому это охота на драку нарываться? Чтоб снова железными бобами угостили? Не всей же хатой три дня панщину отроблять. Одной душой». Гэх, как взвился человек. «Какой, — спрашивает, — душой? Твоей? А есть ли она у тебя, старая ты порховка, или на панщине сгнила?!» Мужики в глаза ему не глядят. А он тогда: «Боитесь? Вали все на меня. Мне терять нечего». Да с огнивом под скирды. И тогда хлопцы — за ним. Чтоб уже одним махом панщину закончить.
Кондрат улыбнулся.
— Так за час какой-то и пошабашили.
Алесь молчал. Смотрел на пеструю людскую цепочку.
— Тебе что, неинтересно? — спросил Кондрат.
— Почему, интересно.
— А кто человек — даже и не спросишь.
— Я знаю, — спокойно сказал Алесь, — зачем мне спрашивать? Корчак убежал с каторги. Помните, как я вам рассказывал про Покивачев сеновал? — спросил Алесь. — Ну, еще дуб сухой почти над нашей головой развалило. Вот тогда и слышал.
— И никому не сказал? — удивился Мстислав. — Такого страху натерпевшись?
На лице Алеся плясало красное зарево от костра. Загорский подумал, вздохнул и рассказал хлопцам про подслушанный разговор.
— Потом, уже в пути, я догадался, какого Будимира они на чью-то стреху пускать хотели. Этот дуб меня и навел на мысль. Будимир тот, кто мир, свет будит. Петух.
— А Варган? — спросил Мстислав.
— Кот Варган. Дым. В каждую щелку пролезет. Мягкий такой, ласковый. Огонь его выпустит, вот он и поползет к божьим овцам, к облакам… Я подумал: кто из округи еще в Сибири шишки ел с голода? Один Корчак. Значит, он и убежал.
Загорский грустно улыбнулся.
— Я мужик, — тихо сказал он. — Я князь, но я и мужик. Возможно, меня этим дядькованьем несчастным сделали. Но я этого несчастья никому не отдам. В нем мое счастье. Оно меня сделало зрячим. Возвратило моему народу. Гонимому, облаянному каждой собакой. И я теперь с ним, что б ни случилось.
Хоровод плыл около них, темный с одной стороны, ближе к ним; багровый по ту сторону костра.
Кто-то подбросил в костер большую охапку хвороста. Пламя потускнело.
— Удивляешься моему поступку с Корчаком, — продолжал Алесь. — Ты не видел, а я своими глазами видел, как Кроер его убивал. Однако не Кроер его добил, даже не кат на суходольской площади. Добила его ваша, мужики, неправда.
— Еще что сплети…
— А то нет? Что, не свалили пивощинцы на Корчака всю вину? Свалили. Ну ладно, случилось так. Так имейте же совесть. Обеспечьте жену с малыми детьми. А пивощинцы, собравшись на сход, вместо того чтоб подумать о них, вроде как обрадовались, что вдова одна не сможет землю обработать, обрезали тот загон несчастный наполовину. Куска той земли вашим сквалыгам, серым князьям, не хватало. Не нажрались. Что, неправду я говорю?
Кондрат опустил глаза.
— Я понимаю, от нищеты такая жадность. Но за счет братской крови да слез не разбогатеешь. Его землей мизерной — не налижешься. Значит, и ваша великая правда замарана. И потом Кроер…
Ревущий огонь взвился выше стрех. Кожу стягивало от жары. Алесь завернул рукав и сильно потер запястье. На нем выступил едва заметный шрам.
— Первый раз в жизни меня ударили. Я таких вещей не забываю. Пускай себе Корчак ходит. Его обидели, не он. Настоящим людям это только на руку. Пусть знают: не у всех еще душа сгнила.
Разговор прервал шум у костра. В круг вошел босоногий, с голой грудью и в длинном белом кожухе бог холода — Зюзя. Льняные усы закинуты на плечи, льняная грива волос свисает ниже лопаток. Зюзя грозно рычал, грозился на людей пальцем, плевал на огонь, босыми ногами вскидывал в воздух снег, словно хотел сделать пургу. Глаза Зюзи смеялись. Это был переодетый озерищенский пастух Данька. Чтоб ноги не чувствовали холода, хватил три чарки горелки. Играть так уж играть. Всем ведь известно, что Зюзя босой. От выпитого Даньке было весело.
— Заморожу, — рыкал он. — Как медведь навалюсь.
За ним волосатая стража несла соломенное чучело Коляды. Коляда повернулась спиной к костру, смотрела во тьму плоскими, нарисованными глазами. Хлопцы и девки кидались на стражу, чтоб повернуть Коляду лицом к огню, и летели в снег, отброшенные стражей. Гремел над кутерьмой и свалкой оркестр деревенских музыкантов. Гудели две скрипки, певуче охал бас, медведем ревела волынка, нежно сопела жалейка, звонко ударяли цимбалы, и выше всего хаоса звуков взлетал, заливался и вздыхал бубен. В Озерище были лучшие музыканты.
И музыка взвивалась выше хат, казалось — прямо под самые звезды.
Данька притопывал босыми ногами, хватал визжавших девок, целовал и запихивал каждой за воротник горсть снега.
— Подходи — из каждого снежного болвана сделаю. Из каждой хаты — волчью яму. Хоть волков морозь.
Но тут молодежь набросилась на стражу, вырвала Коляду из рук и повернула-таки ее лицом к пламени. А девки повалили Даньку в снег, начали щекотать.
— А девоньки, а таечки, — медвежьим голосом ревел Данька, мелькая в воздухе красными пятками, — ей- богу, не буду. Нехай уж весна, нехай…
Хлопцы отбили его, понесли вместе с Колядой в хату. Даньку — поить водкой, Коляду — спрятать, чтоб потом, на масленицу, когда зима не только повернется к солнцу, но и отступит, сжечь ее на этом же месте.
…Мстислав улыбался воспоминаниям, не обращая внимания на то, о чем беседуют Мнишкова Анеля и Янка.
— Клейна меня усыновила. Теперь я брат Ядзеньки и всем, казалось бы, ровня. А только меня не покидает беспокойство. То счастлив, а то как вспомню, какой я черный, — ну хоть ты плачь.
— Конечно, — мягким голоском соглашалась Анеля, — на родине тебе легче было б, там все такие. Но что же поделаешь, если уж сюда попал! Ты ведь даже сам не знаешь, где твоя родина.
— Здесь, — сказал арап. — Мне теперь там все было б чужое. Я и языка своего не помню. Может, несколько слов. Здесь мой язык и моя земля.
— А ты ни капельки не посветлел с того времени? — поинтересовалась Анеля.
— Нет. Это уж навсегда. Такая въедливая штука.
— Ну и не печалься, — утешала Анеля. — Ну и что, что черный? Ты ведь добрый. И теперь дворянин.
Она умела успокоить и утешить. От матери передалась ей женственность и особенная мягкость. И еще было в ней то милое кокетство, которое так умеет возвысить собеседника в собственных глазах. Возвысить простым — и непростым — признанием его достоинств.
— Ты хороший… Вон Ходанский. Белый, а глаза б на него не глядели.
— А девичий круг?
— Да ведь ты красивый. Бесцветные, по-моему, хуже. О рыжих я уж и не говорю. А они веселые и в ус не дуют. И ты будь весел.
Мчались кони. Низко над землей светил Сириус.
… В санях тихо беседовали Грима и Ядзенька Клейна.
— И Янке будет счастье, — растерянно говорила девушка. — Одна я… Одна я, словно в самом деле клеймом помечена. Даже фамилия пророческая. Где уж тут добра ожидать.
— Брось. Не убивайся так. Подумаешь, свет клином сошелся. Радостей много.
— Какие?
— Наука. Книги. Чтоб все на свете помнить и быть мудрым.
— Это для мужчин.
— Что ты женщин порочишь, — приглушенно басил Всеслав. — Для всех, думаешь, мужчин мудрость?
Жалобно, по-бабьи, вздыхал, косился на грустную, синеокую и такую уже большую куклу.
— А ты Франса зачем обидела? Он хороший.
— Знаю. Но не могу я пока… Франса видеть. Может, месяца два-три пройдет, тогда…
— Натравишь ты их друг на друга, — ворчал Грима. — Франс из-за тебя на Алеся сердится. Илья из-за Майки на него волком смотрит. Натравишь.
— Дурачок ты, — грустно сказала она. — Алесь ведь ни в чем не виноват. Франс не может этого не видеть. А Илья вообще… Никого он, кроме себя, не любит. Гонор. Он ведь старше, он добровольно в Севастополе был. У него солдатский крест. А здесь отдают предпочтение почти мальчишке.
Кони зацепили край сугроба. Мягкой пыльцой осел на лица снег.
…В третьих санях дурачился Загорский-младший. Волтузился со Стасем и Наталкой. Фельдбаух на козлах уже несколько раз угрожал оставить их в снегу.
Вацлав со Стасем спустили ноги с саней и бороновали ими снег. Снежная пыль летела прямо в глаза коням задней тройки. Наталка, смеясь, хлопала в ладоши и пела:
… Поморозил лапки,
Влез на полатки.
Стали лапки греться -
Негде котке деться!
При последних словах мальчишки поднимали ноги, и снег с их валенок сыпался прямо в сани, под полог.
…Франс и Илья ехали молча. Сдержанное, приветливо-безразличное ко всему лицо младшего Раубича окаменело. Илья, сняв шапку, подставлял рыжеватую голову снежным брызгам.
Где-то далеко впереди заливались детские голоса…
— Радуются… — мрачно сказал Илья. — Не надо было нам с тобой, брат, сюда ехать.
Франс молчал. Лишь уголок губ дернулся на матово-бледном лице.
— Я его не терплю, — сказал Илья. — Подумаешь, любимец богов. Не знаю, трогает ли его что-нибудь в этом мире.
Младший Раубич шевельнул губами, но ничего не сказал. Знал, что сосед неправ, но не мог возразить. Он долго молчал и вдруг, ощутив странный, колючий холодок в корнях волос, с удивлением подумал, что он, кажется, начинает ненавидеть молодого Загорского. И, чтоб не дать чувству прорваться, Франс спросил тоном благовоспитанного молодого придворного:
— Что вы думаете об императоре? Я имею в виду его слова о том, что нынешний порядок владения душами не может остаться неизменным.
— Вы помните, когда он выступил? — спросил Ходанский. — Прошло двенадцать дней после подписания Парижского мира. Он произнес эту речь на костях ветеранов. На солдатской крови.
Ему казалось, что он сам ветеран, что это на его, Ильи Ходанского, крови царь впервые подумал о крестьянской реформе. Ему казалось также, что он высказывает свои мысли, в то время как это были мысли Михала Якубовича и старого графа Никиты…
— Вы понимаете… я любил его, — с чувством произнес Илья. — Очень любил… Готов был отдать за него жизнь. Да я и отдавал. Пускай его не было рядом. Все равно… За империю… Рядом со мной Мельгунову оторвало ноги… В другой раз ядро пробило крышу нашей мазанки и попало в ломберный стол…
Он побледнел, снова вспомнив этот случай.
— Прямо в стол… между мной и поручиком Ветерном. Вот как между вами, Франс, и мной.
Ядро, конечно, не могло попасть между Франсом и им, потому что они сидели плечом к плечу, но Ходанский не подумал об этом.
— Как между вами и мной… Если б мы только знали, какой подарок он нам готовит! Стоило воевать за такое?… На крови ветеранов — такое предательство. Я его любил. Я ненавижу его теперь. Если он только вздумает осуществить это на деле — пусть не надеется ни на что, кроме мятежа и бунта. И я сам первый пойду на бунт. Мне к крови не привыкать.
Франс безразлично, словно это не он разговаривал с Ильей, смотрел в сторону.
Кони мчались равниной. Илья не знал, как ему относится к поведению соседа.
— И, однако, он либерал, — в который уже раз сказал Франс.
— Чепуха, — сказал Илья.
— А манифест двадцать шестого августа? — спросил Франс.
— Что? Возвращение декабристов? Полоумные старые шептуны. Их там и следовало оставить. Ничего не умели, даже ударить.
Франс молчал. Обескураженный этим, Илья тоже умолк.
Сиял над горизонтом ледяной, яростно голубой Сириус.
И только подъезжая уже к Загорщине, Франс сказал, словно подумал вслух:
— Я, кажется, начну его ненавидеть.
— Правильно! — горячо поддержал Илья и осекся, потому что никак не мог связать в голове, почему Франс, который все время защищал царя, теперь собирается его ненавидеть. Он не знал, что Франс весь вечер думал о другом.
* * *
Они бежали заснеженной аллейкой. Майка в легкой шубейке, наброшенной на оголенные плечи, и Алесь. Мохнатые, синие стояли вокруг деревья. Молчали. Парк и весь мир вокруг были недвижимы. И в этом незыблемом, словно извечном покое удивительно было видеть под сенью деревьев мерцающие, живые искорки звезд.
Майка толкала стволы молодых елочек, выскальзывала из-под них и мчалась дальше. А за ней с шелестом осыпалась с ветвей искристо-синяя и сухая, как порох, снежная пыль. Осыпалась прямо на Алеся, на голову, на плечи, на поднятое кверху лицо.
Мертвенно-синий, безразличный к жизни и теплу стоял парк. А эти двое, не обращая внимания ни на что, нарушали этот сон. Молодо, дерзко и нахально разбивали этот покой.
Срывали саваны с омертвевших деревьев.
Сыпалась и сыпалась искристая пыль. И Алесь бежал и бежал за ней со снегом в волосах, с тревожным восторгом в сердце.
Он почти догнал ее, но она метнулась в сторону, на боковую тропку, к белой зимней беседке-павильону. Пока он повернул за нею, она взбежала по ступенькам и, потянув на себя дверь, скрылась за ней.
И он почувствовал робость перед этими снежными стенами и снежным величием деревьев, невольно замедлил шаги.
В беседке было холодновато и темно. Бледноватые, неопределенного цвета пятна от окон лежали на стенах и на полу. Красное казалось розоватым, синее — серым.
Алесь стал посреди павильона. Оглянулся вокруг. Майка, по-видимому, никуда не отходила, потому что оказалась за его спиной и теперь стояла в дверях, готовая выскочить из беседки и снова бежать. Он сделал к ней шаг, второй, третий.
Она колебалась.
Еще, еще один. Майка как будто шевельнулась, но осталась на месте. Алесь подошел совсем близко и взял ее руку в свою. Попыталась освободить.
— Тихо, — шепнул он. — Тихо.
Издали, из тишины заснеженных деревьев, из синей тишины, начали долетать голоса. Видимо, из деревни пришли славильщики.
Святой ночью, Святой ночью тихой На мурожном сене В божьем Бетлеме, Тихой ночью…Снег лежал густым белым покрывалом. Пели далеко, у дворца, и казалось, что звенят снежные шмели.
— Что это? — одними губами спросила Майка. — Откуда?
Алесь сделал еще шаг и положил ладони на ее плечи, притянул ее к себе, прижался щекой, спрятал лицо в ее теплых волосах.
Припав головой к его плечу, она молчала. И его руки обняли под шубейкой ее узкие плечи, ощутили их тепло, их покорно мягкое сопротивление, а затем беспомощность.
Синие деревья, сугробы, пронзительно синие искры звезд. Неопределенного цвета пятна на полу и белых стенах. Из снегов, из отяжелевших, как белые медведи, деревьев долетали и звенели голоса:
Лабыри-ягнятки, Белые козлятки Сенца не ели, На хлопца глядели.
Кто-то медленно приблизил к его глазам ее глаза. Губы ласково и жалобно шевельнулись под его губами, притихли.
— Мама… — тихо, жалобно и словно растерянно сказала она.
Снова приблизились глаза. А сквозь снега, сквозь синие ели взвивались ввысь голоса, и ледяной Сириус сиял над горизонтом.
Запылала Зорька, запылала, Трех царей к младенцу Провожала. В шапках персидских, Свитках бурмитских, Серебряном табине, Золотом сапьяне.Ее уста дрожали. А в снегах под синим Сириусом ликовали голоса:
С лубком меда, Свепетом.[106] Мед — это правда. Пчелки — то люди.Он гладил невесомыми руками ее плечи.
Звезды в разноцветных окнах вдруг закружились и поплыли. Быстрее и быстрее. Чтоб не упасть, он крепко прижимал ее к себе. Целовал ее глаза, брови, виски.
— Милый, дорогой мой, — шептала она. — Что ты? Что?
Ее голос заставил звезды застыть на своих прежних местах.
И вдруг сыпанули, взлетели яркие, как елочные игрушки, малиновые, золотые, синие, желтые огни. Это пускали ракеты, но казалось, что сами звезды, обезумевшие от счастья и желанной ласки, пустились в пляс над ветвями деревьев.
Деревья и тени от них шарахались в разные стороны. Лицо Майки меняло цвета и оттенки. Голубое, золотое, розовое, серебряное.
Над разноцветными снегами в безумии и буйстве огня потускнели настоящие звезды.
Но звезды были вечными.
Ракеты угасли. Рассыпая золотые искры, устремилась вниз последняя.
Все стало на свое место. Голубые снега, темные тени, черное небо и на нем острые синие звезды. И тень под глазами, и милый рот, из которого он не слухом, а скорее нежным прикосновением дыхания к его устам ловил слова:
— Милый мой, милый, что ты?
Она пряталась в его руках, и он с невыразимой радостью ощущал, какая она: невесомая, слабая, сильная. Вся как сама свежесть и сила. Грустная и нежная, холодная и живая, как подснежник.
И скорее по тому, как он смотрел на нее, как дрожали его руки, она поняла, что она любит этого юношу.
Она не знала, она никогда бы не поверила, что на смену этому дню придут другие, когда она не будет верить в этот день и захочет забыть его.
II
Началось с уездных дворянских собраний в Суходоле.
Дворяне съехались поговорить об изменениях, которые скоро должны были произойти. В неизбежности этих изменений уже никто не сомневался, и спорили только о том, когда и какими они будут, а также о том, как всем себя вести. Все знали, что с третьего января в Петербурге, под председательством самого императора, заседает новый секретный комитет по крестьянским делам и что этот комитет готовит «постепенное, без крутых и резких изменений, освобождение крестьян».
Все было еще впереди, но сам слух словно бы надломил что-то.
Старый Никита Ходанский с единомышленниками призывал: если уж ничего не поделаешь и придется освободить, добиваться освобождения душ без земли. Хоть сегодня. Сейчас.
Алесь впервые приехал с отцом на собрание и совсем был сбит с толку, слушая споры. А отец приходил каждый вечер в гостиницу злой, как черт, бледный. Ругался:
— Ах, поют! Ах, поют певцы! Нищим задумали народ сделать. У нищих палку отнять. Ну, я им в этом грязном деле не помощник…
Маленький чистенький городок кипел.
В здании театра, в доме дворянского собрания, в городском саду, где находился ресторан, на погостах трех церквей и католического монастыря и просто на деревянных тротуарах бурлили страсти. Пили и ели до одури, спорили, словно речь шла об их собственных душах.
В замке Боны Сфорца, двухэтажном каменном строении с мощными контрфорсами и узкими, как бойницы, окнами, в подземелье, где был тир, собирались самые крикуны.
Спорили и ругались. А потом стреляли в мишень со злостью, будто в голову врага.
И вообще все как в омут кануло: покой, дружба, привычные человеческие отношения. Тихое Приднепровье от Суходола до Дощицы словно вдруг ошалело, словно болезненный микроб раздражения поразил людей: прахом шли привязанности и симпатии, возникла вражда. Тревога висела в воздухе.
Это и Алеся привело в состояние наивысшего в его жизни потрясения. Привело неизвестно по какой причине, привело бессмысленно, нелепо.
Началось с отвратительного случая, подобный которому трудно было вспомнить за последние пятьдесят лет. Приднепровье всегда отличалось относительно мягким характером крепостничества. Причина этого была в том, что местное обычное право говорило лишь о владении землей и через нее человеком, а не так, как велось в центральных губерниях, — телом и душой подданных, владеющих землей. Принципа, который орловский крестьянин выражал словами: «Мы — ваши, а земля — наша», здесь не существовало. После польского раздела люди словно молчаливо договорились оставить в обычном праве все как было. Прибывших новых панов вскоре переучила сама жизнь: опасно было выглядеть не таким, как соседи, белой вороной и первым кандидатом на неожиданный поджог, после которого и концов не найдешь.
И вот графиня Альжбета Ходанская выкинула такое, что у людей волосы встали дыбом. Горничная одевала пани и, пришпиливая ей току, случайно уколола. Вечно раздраженные нервы злобной истерички не выдержали, и она всадила огромную булавку ей в грудь. Девка закричала, выбежала из комнаты, а спустя какой-то час об этом уже знал весь город.
Пан Юрий, услыхав, бросился искать Ходанского. Граф играл в ломберном зале с друзьями в вист.
— Пан граф играет в вист?
— А почему бы мне не играть в вист?
— Ты сошел с ума, — сказал князь. — Если у тебя нет жалости, вспомни, что теперь надо сидеть тише воды и ниже травы. Пугачевщины захотел? Васька Ващила по твоему дому не ходил?
— Князь…
— Что, тиром обходиться надоело? Н-ну, хорошо… Так вот, если не хочешь, чтоб твою жену вилами запороли, скажи ей, что в опеку возьму.
— Это не от одних вас зависит, — произнес Илья Ходанский.
— Я с тобой поросят крестил, что ты в разговор взрослых лезешь?
С молодежью никто так не разговаривал, но князь уже не мог сдержаться.
— Вот что, — процедил Загорский, — вот что, граф. Может, я этот случай и замну. Но девке сейчас же волю с землей, да и то простит ли еще? Сейчас же! Иначе как бы вы потом не пожалели.
— Вздор! — сказал старый граф.
— Вы пожалеете потому, что этим займусь лично я. Вы понимаете? Лично я.
Ходанский испугался. Все было сделано, как приказал пан Юрий.
На том бы, казалось, все могло и кончиться. Но словно черт втянул в это дело младшего Загорского.
Алесь пришел в собрание. Хотел найти Мстислава. За дверью курительной услыхал хохот, голоса Ильи Ходанского и Мишки Якубовича. Он решил было уйти, но что-то заставило его остановиться. Нахальный голос Мишки Якубовича весело врал:
— И вот якобы встал наш князь перед Михалиной на колени и признался в любви. А та смотрит на него недоуменно и ниц не кумекает. Он ей: «Люблю». А она ему: «Что ты, Алесик, я не могу тебя любить. Я Наташу люблю… И Ядзеньку».
— Не может быть? — с притворной наивностью спросил Илья.
— Я вам говорю.
Компания хохотала. Тон этих будто бы Майкиных слов был такой наивный, что становилось ясно — дура дурой.
Загорский толкнул дверь и вошел. Компания замолчала.
— Пан Якубович, — сказал Алесь, — кто вам позволил разносить лапотную почту? Кто вам позволил трепать по грязным кабакам девичье имя? Лгать?
Черные глаза гусара нахально и дерзко смотрели на Алеся.
— Это что же, наше благородное собрание корчма, да еще и грязная? — спросил, еле владея собой, Илья Ходанский.
— Погоди, — властно прервал Михаил, — тут мое дело.
Поднялся и приблизил к Алесю бешеные глаза.
— Кто требует у меня ответа? Восемнадцатилетний щенок? Ты грудь сосал, когда я уже носил оружие. Сопляк, ты в пеленки делал, когда я на бастионе под пулями стоял.
Алесь размахнулся и влепил ему оплеуху. Михаил ухватился за саблю.
— Убью! Штафирка, шпак дохлый!
Компания выкатилась на улицу. Друзья держали Якубовича за руки. У него изо рта валила пена. Он кричал что-то яростное высоким, тонким голосом.
— Если вы вели себя так на бастионе, это было во всех отношениях достойное зрелище, — сказал Алесь.
Конец мог быть один — дуэль. И неизвестно, чем бы все это окончилось, но, прослышав о дуэли, многочисленные кредиторы Якубовича подали к неотложному взысканию свои векселя на сумму что-то около пятидесяти тысяч. Угрожали еще до дуэли пустить его имение с молотка.
Веткинский меняла Скитов и могилевские банкиры-евреи сделали так, что Якубович вынужден был пойти на мировую.
Вежа считал, что в отложенной, несостоявшейся дуэли есть что-то подозрительное, унизительное для чести. Алесь с согласия старого Вежи предложил Мишке уплатить по его векселям, чтоб дуэль все же состоялась. Мишка поблагодарил и отказался, даже выглядел пристыженным и сказал, что жалеет о случившемся. Особенно после предложения.
Вроде бы все улеглось. Но беда, словно на миг притаившись, потом как с цепи сорвалась.
Злоба Ходанских толкнула их на поступок, который не мог не нарушить отношений между Майкой и Алесем.
Никто не знал про сцену в беседке. Просто, очевидно, кто-то подсмотрел, что молодые люди были там в ту рождественскую ночь. Но умышленно пущенной сплетне многие поверили хотя бы потому, что в Приднепровье, да еще в этом кругу, сплетни вообще были редкостью.
Сплетня сводилась к тому, что Алесь Загорский как будто убедился в полной ограниченности Михалины Раубич и поэтому занялся приключениями в других местах.
— Молодой, а такой уже распутный, — шелестела сплетня. — Связался с этой ихней актрисой, и у них там чуть не каждую ночь попойки и все, что к этому…
— Так, господи… Она… Ведь жениться надо. Разве можно марать женское целомудрие?
— И она не лучше его. Венчанье под плотом, а свадьба потом.
Находились люди, которые не верили. И тогда со стороны имения Ходанских поползло подкрепление сплетне.
— А думаете, почему старый Вежа ей свободу дал? Сам, видимо, до какого-то времени… А почему теперь ей все время жалованье увеличивают, увеличивают, языкам учат, наряды шьют… То-то же… Даром не станут…
Слухи эти дошли до семьи Раубичей. Пан Ярош не поверил и только жалел, что жена не говорила, от кого слышала, — держала слово.
— Ну, бабы! — горячился Ярош. — Если б мужика, то к барьеру бы…
От Майки это решили скрыть. И, может, так бы оно все и обошлось, ели б однажды возле церкви не услышала она за спиной шепот:
— Обрученная того… развратника… А актерка та беременная…
Возможно, она и не обратила бы внимания, если б вечером то же дня старуха Ходанская «исключительно из любви к ней» не повторила Михалине то же самое:
— Вы должны смотреть, милая. В наше время пошли такие молодые люди… Как бы не пришлось узнать, что у ваших детей есть братья…
Майка оборвала ее. Сказала, что не желает слышать.
— Я не понимаю вас, милая. Я ведь не со зла. Наш святой долг — предупреждать неопытных.
Майка умолкла.
— Поверьте, милая, с девушками о таком не говорят, но она вот уже четыре месяца не играет и никуда не ездит.
Заметила, что Майкины брови вздрогнули.
— Только для вас я достала у купца этот счет. Видите?
«Доставить пани… Ну и вот. Кружева, бархат, шелк… кулон… серьги».
Майка не знала, как заботятся о Гелене старый Вежа и Алесь, не знала, как они считают необходимым, чтоб у актрисы были, как и у столичных актрис, свои наряды и драгоценности. Она просто увидела под счетом подпись Алеся и вдруг вспомнила, как недавно заметила в галерее Вежи отсутствие одной картины, «Хаты» Адама Шэмеша, как спросила у Алеся, где она, и как он вроде бы смутился, а потом ответил: «Подарил… Гелене. А что, она и тебе нравится?»
— Это глупости, пани, — спокойно сказала Майка Ходанской.
А в душе поверила.
Потом поползла еще более гнусная сплетня. Будто молодой Загорский, не добившись взаимности, намеревается взять Михалину Раубич силой и уже хвастал об этом в ресторане в пьяной компании.
Алесь не мог понять, что случилось. Он попытался поговорить с Майкой, но встретил почти враждебный взгляд.
— Вы окажете мне большую услугу, если не подойдете больше ко мне, — сказала она. — Никогда!
И ушла. А в уборной разрыдалась перед зеркалом от горестного недоумения и обиды. В таком состоянии ее и застала старая Клейна, которая тоже «слыхала обо всем».
— Что такое?
— Он. Не знаю, зачем ему…
— Так и до тебя дошло?
Михалина поняла это так, что старуха тоже всему верит.
А Клейна между тем, зная человеческую натуру, верила лишь тому, что Алесь, может, и ляпнул что-нибудь такое, видя, как измывается над ним нареченная.
— Доигралась, — сказала Клейна. — Хлопец тебя, по всему видно, любил, а ты, вертихвостка, измывалась над ним, словно у него не сердце, а камень.
— Но ведь я его тоже…
— Что «тоже»? Что? Видимо, уже совсем его измотала, если на такое решился.
У доброй Клейны сердце болело и за дочь, и за Майку, и за Алеся. Испортила жизнь троим, да и сама ничего не добилась, гадкая девчонка. Вот к чему ведут издевательства и капризы.
Клейна молчала, накапливая невольное раздражение против молодых. И потому, когда кто-то завел в ее присутствии разговор о мерзком случае и опять употребил слова «взять силой», старуха не сдержалась.
— Ну и взял бы, — сказала она. — Подумаешь, беда большая!
Майка после встречи с Клейной поверила во все до конца. На следующий день она попросила отца, чтоб Загорским отказали от дома. Пан Ярош остолбенел и растерянно спросил:
— И ты слышала? Ты погоди, дочка, — может, это ложь?
— Это правда, — отрезала та. — Я прошу тебя, никогда… ноги его здесь…
Ярош уважал дочь, знал, что она человек и ее нельзя мучить расспросами. Если она говорит, то, наверно, знает и все обдумала.
— Как хочешь, — сказал он.
И потому, когда Алесь пошел вечером в городской дом, снятый Раубичами, с ним разговаривал сам пан Ярош. При разговоре он смотрел в сторону, и, видимо, ему было и жаль Алеся, и больно за него, однако гонор вынуждал держаться именно так, а не иначе. Он сказал, будто весьма сожалеет о том, что молодой человек так забылся, и, несмотря на заверения Алеся, добавил, что дело со сплетней зашло далеко и он вынужден защищать честь фамилии. Поэтому il faut que vous, Загорский, debarrassiez la maison de votre prеzence.[107]
Когда Алесь вышел из дома, он увидел Франса, гуляющего с Наталкой, и устремился к нему.
— Франс, даю тебе слово… Клянусь…
— Я, кажется, ничего не требую от вас, даже объяснений, — сухо сказал Франс. — Я полагаю, это не лучший способ дружить с домом — позорить в этом доме одну из дочерей.
Алесь побледнел.
— Франс… Брат… И ты тоже?
И тут Франс дал волю накопившемуся в нем раздражению, неосмысленной ненависти к этому человеку, которого после отказа Ядзеньки Клейны начал избегать. Франс был зол на него за это, но ему казалось, что он, Франс, сердится за Майку. Молодой Раубич сам бы удивился и перестал уважать себя, если б ему сказали, что главная причина его ненависти — Ядвися.
Кто хочет убить собаку, обвиняет ее в бешенстве. И потому Франс не чувствовал своей несправедливости. Наоборот, ему казалось, что его поведение самое достойное, справедливое и искреннее.
— Я не брат вам, — ответил Франс. — Даже если б вы были мне родным братом, я после этого поступка хотел бы, чтоб такого брата у меня не было, чтоб он умер.
Наталка с удивлением переводила глаза с Алеся, которого она любила, на не менее любимого ею брата, бледного от гнева.
— Франс, — с укором сказал Алесь, — я люблю вас всех. Я не могу без вас. Без тебя. Без Наталки. Без Майки.
Раубич-младший не хотел ничего слушать. У него раздувались ноздри.
— Кто вам позволил произносить имя моей сестры?! Я запрещаю вам это! Я запрещаю вам встречаться с ней. Запрещаю подходить к ней.
Он сорвался и делал невозможной всякую попытку примирения.
— Не смейте, князь! Даже одним своим присутствием вы способны запятнать чистых и невинных девушек.
Это было слишком.
— Вы забылись, сударь, — сказал Алесь. — Не переступайте границы, не вынуждайте меня забыть о своей любви.
Франс смерил его презрительным взглядом, взял Наталку за руку и повел домой.
А в доме Наталка закатила Майке и Франсу скандал. Топала ногами, плакала и кричала.
— Гадкая, злая! — плакала Наталка. — И ты гадкий, злой, нехороший!
Ее наказали, отправив спать. Но девочка не просила прощения, а топала ногами и пронзительно вопила:
— Он хороший, хороший! Я знаю, что он хороший!
Этот умоляющий крик был последней попыткой защитить Алеся в доме Раубичей.
Пан Юрий перестал здороваться с Ярошем. Вчерашние соседи, друзья, почти родственники стали врагами.
…На Алеся накатило. В один из мартовских дней его принимали в дворянский клуб, а значит, он должен был выступить с традиционной речью. Тема речи была свободная, и он выбрал: «Значение клуба для членов общества, и как я мыслю себя в нем». Это удивило многих, но против темы не возражают.
Речь была почти подготовлена, когда произошла история с Майкой. И Алесь отверг уже готовую речь, такой она показалась пресной от беспредельного гнева, который душил его. Он решил сказать просто то, что думает.
…Зал был полон. Панство сидело за столами, которые ломились от вина и кушаний (старый Вежа никогда не скупился). Алесь обводил глазами собрание: в конце огромного зала он видел Ходанского, Бискуповичей, Раткевича, Браниборского, Мнишека — весь этот свет, который он знал и перед которым сейчас должен был говорить.
В черном фраке, с бокалом в руке, Алесь ожидал, когда утихнет шум. Наконец стало тихо.
— С некоторой опрометчивостью я выбрал своей теме название «Значение клуба для членов общества». Однако чем больше я обдумывал эту тему, готовя свой speech,[108] тем больше возрастало мое недоумение. Дело в том, что у нас нет клубов в общепринятом западном, английском смысле этого слова. У них клуб — это собрание мужчин, объединенных общим происхождением, общими взглядами на политику. Это, наконец, собрание мужчин, объединенных патриотизмом, твердым пониманием того, кто они такие. Возможно, я идеализирую, даже, наверно так, потому что люди везде люди, но цель существования клубов там именно такая.
Он видел настороженные и заинтересованные лица. Потому что само звучание произносимых им слов было необычным для вступительной речи. Это не были французские, польские или какие другие слова. Это был язык, на котором все эти люди разговаривали со слугами в доме, с мелкой шляхтой — при встрече, с крестьянами — в поле и которым, однако, никто, за исключением единиц, считавшихся чудаками, не пользовался при спичах.
Под потолком огромного зала звучал мягкий, как ручей, певучий, как голос птицы, гибкий и твердый одновременно, лаконичный язык. Звучал впервые за много лет.
На этом языке и за этим столом говорили сейчас жесткие слова.
— Клубы существуют у нас не для политики, не для мечтаний о счастье, потому что эти два понятия редкие гости под нашими крышами. Они существуют у нас для карточной игры, для разговоров об охоте, о том, чей рысак быстроходнее, чей выжлец более чуток. И еще для пьянок, где спорят о танцовщицах, вине и о тех же собаках.
Вежа, как обычно, прикрыл ладонью лицо. Меж раздвинутыми пальцами блестел хитрый глаз. Наивное и дерзкое лицо деда как будто просило: «Дай им, дай». Вежа очень страдал за внука.
— Я знаю, большинство из нас глубоко скорбит, видя это падение. Но что из этого, если мы не противодействуем ему?!
Алесь увидел ироническую улыбку старика Ходанского, глаза Ильи и понял, что не простит себе, если в самом деле не «даст».
— Есть, наверно, и такие, кому все это по душе. Их беспринципность близка к всеядности, их молчание — к подлости. Примером тому могут быть сплетни. Обижаться на них нельзя. Просто потому, что на мелких людишек не обижаются, ими пренебрегают. Но остается чувство глубокого недоумения, как такие слизняки могут существовать в обществе, как оно их терпит и как они сами могут жить, такие. Так вот — для чего им клубы. И если клуб — собрание мужчин, то мужчины ли они?
Илья сжал губы. И по едва уловимому движению этих губ, по тому, что стрела, по-видимому, попала в цель, Алесь почти убедился: он.
— Так вот, клуб — собрание мужчин, почти одинаковых по происхождению, объединенных общими взглядами на политику, на счастье всех людей, на то, какими методами нужно добиваться этого счастья. Происхождение у нас одно — приднепровское. Но одни из нас приспособились, другие молчат. Что толку в общем происхождении?
Мнишек улыбнулся и подумал, что Раубич олух.
— Политика, — говорил дальше Алесь, — есть ли она у нас? Мы умышленно отвернулись от нее, пользуясь гордым изречением: «Грязь не для нас».
Однако разве величие и благородство в том, чтоб мириться с грязью, позволяя ей марать старших братьев? Не напоминаем ли мы Касьяна из легенды? Того, который считал: чтоб попасть на небо, нужно иметь чистую одежду…
Во взгляде Раткевича была горечь. Бискупович прикрыл глаза.
— И какими средствами мы пользуемся, чтоб достичь цели, того, что мы понимаем под счастьем? Сплетни, слухи, дуэли и ярость, драки на губернских собраниях, борьба перед выборами. Диффамация доходит до того, что я удивляюсь, как к нам во время выборов приезжают актеры и торговцы. Наверно, до них не доходят наши слова, иначе они знали бы, что попали в разбойничий вертеп! Утратившие все на свете, вплоть до человеческого облика! Эти паны… бродяги без родины, мужчины без мужества, люди без совести! Я не могу смотреть на них! Когда я думаю, что мы одной крови, мне хочется выпустить из себя эту кровь. Ces messeurs sont un tas de gredins et le seul sentiment gu'ils m'inspirent est la haine de leur cаuse et le mepris pour mon pays».[109]
Бискупович Януш улыбался темными бархатными глазами. Страстность молодого Загорского нравилась ему. Этот не стал бы и Мишке Муравьеву[110] давать спуску. А уж как перед Мишкой на задних лапах ходили маршалки Крушевский да Абданк в те три страшных года. А пан Юрий не дал обидеть людей. Трем губернаторам не дал. Сережке Энгельгардту не дал, Михаилу Гамалею не дал, Николаю Скалону не дал. И четвертому не даст, потому что ходят слухи — Скалон скоро загремит, успел-таки навредить за три года. И ходит молва — будет на его месте Алексашка Беклемишев, человек рода старого, на сварливый и трудный.
И как оно будет, одному богу известно. Да еще старому Веже. Тот восемнадцать губернаторов пережил, а тех, кого не хотел, ни разу не пустил на порог. Те потом самыми худшими были. Как будто он их заранее насквозь видел. А внук его вон как говорит. Молодчина! А Раубич дурень.
— И в чем мы видим счастье, которое нам необходимо, как воздух? Ждем ли мы его для себя или добиваемся для всех? К сожалению, чаще всего для себя. «Счастья» экипажей, рабов, величия, денег, роскошных фонтанов на мраморных виллах. И чтоб достичь этого, убиваем в себе Человека. А Человеком является тот, кто борется за равное право на счастье для всех людей. И я скорблю, печалюсь по такому Человеку. Раньше мне казалось: я нашел таких людей. Но теперь вижу, что я один.
Бискупович склонил голову и подумал еще раз, что Раубич поддался дурному, узкому, кастовому пониманию чести. А Браниборский, как ни странно, был прав. Не монархом, конечно, потому что все это вздор и маразм, а «знаменем восстания» юноша мог бы стать. Тем, кого во время ракованья[111] спрашивают последним, а после победы сажают за стол на самое высокое место.
— Тогда, может, наши собрания — это собрания патриотов? Людей, объединенных служением отечеству? Не думаю. Князь Витень мог за родину взойти на костер. Михаил Кричевский мог разбить за нее свою голову, Дубина — сесть на кол, а Мурашка — на раскаленный трон. Огнем и железом они доказали свою любовь. Я спрашиваю у вас: сможет ли кто из нас положить за нее руку… хотя бы на язычок свечи? Вы говорите — мягкость нравов. А по-моему — отсутствие понимания того, кто мы такие.
Вежа вскинул голову.
— У нас одно происхождение, но воспитание разное. Мы могли б жить в разных концах земли… Галломаны, полонофилы, англоманы и другие. Я спрашиваю у англомана: почему он ест за завтраком овсяную кашу и считает это английским обычаем и одобряет его? Почему он не замечал этого обычая, когда наши мужики ели и едят овсянку сотни лет? Я думаю, потому, что пока этот обычай был своим, до него никому не было дела, им брезговали. Как же, мы ведь не кони, чтоб есть овес! Но пришла англомания — и такой может есть даже овсяную солому. «Ах, как это оригинально! Ее едят кони лорда Норфолька…» Он не замечает, что его край, наподобие несчастной Ирландии, живет среди болотных туманов, питается бульбой и преданиями и несет золотые яйца тиранам. Мало бульбы и слишком много фантазии… И так во всем. Наш край, моя земля. Богатая, прекрасная, мягкая душами людей — она чужая нам… Спросят: чем? Я скажу — языком.
Алесь уже не замечал почти ничего. Голос звенел от волнения, цветами радуги расплывались огни свечей.
— Язык у нас какой хотите, только не свой. Свой он — для средней части шляхты да еще для немногочисленных представителей крупной, перед которыми я низко склоняю голову. И потому нам или не нужны собрания, или их надо сделать другими. Настоящим вечем, настоящей копою.[112] Местом, где каждый отдавал бы душу и способности народу.
Алесь поднял бокал.
— Я пью, чтоб рыцари стали рыцарями и мужи мужами.
Он выпил. Минуту стояла тишина. Потом — вначале несмело — Бискупович и Мнишек, а потом громче и громче — другие — зазвучали аплодисменты.
…Речь понравилась. По-молодому горячая, но ничего. Молодой есть молодой. Алеся приняли единогласно, хотя некоторые долго раздумывали. И все же отдали шары и они. Побоялись общественного мнения. Речь была крамольная, и если б слухи о ней дошли до посторонних, до администрации, прежде всего заподозрили б тех, кто не опустил шара. А это было опасно.
Общее осуждение было беспредельным, и потому даже самый подлый, самый разгневанный не рисковал идти на донос. Только этим и можно было объяснить, что за десять лет, предшествовавших восстанию, из многих тысяч участников заговора не был арестован никто.
В беседах после приема многие не скрывали своего раздражения молодым Загорским. Были споры, перебранка.
Среди наиболее правых твердо укоренилась мысль:
«А Загорского сынок… Слыхали?… Якоби-инец».
«Якобинец» тем временем меньше всего думал о своей речи. Сразу после приема (присутствовать в тот день на заседании вновь принятому не разрешалось, чтоб не слышал споров о себе) два брата Таркайлы перехватили его и почему-то стали приглашать к себе. Он бы с большей охотой поехал к кому-нибудь из друзей, но никто не решился нарушить «право первого». Алесь вспомнил о Майке и с отчаянием махнул рукой:
— Поехали!
Братья начали хлопать его по плечам, реветь медвежьими голосами, что смел был, как лев, что так и надо.
Закутали в шубы, потащили раба божьего к огромным саням, что очень смахивали на иконостас: по металлическим частям травленные «под мороз», по деревянным — разрисованные крылатыми головками амуров.
— Лыцаря напоить надо, — рокотал пышноусый, круглый Иван. — Нашей тминной, нашего крупничка[113]… А полынная…
…Кони домчали в имение быстро. И кони были сытые, овсяные, и имение, видать, богатое. Огромный, из дубовых бревен, дом под крышей из щепы. А за ним, сразу за садом, чуть не на полверсты хозяйственные постройки, скирды хлеба, мельница над речушкой, ветряная мельница, штабеля бревен под навесом.
— Сохнут, — сказал Тодар. — Некоторые по шесть — восемь лет. Хоть ты скрипки делай… Конкуренция только портит дело, княжич.
— Брось! — грохотал Иван. — Нечего бога гневить!
Сани остановились. Лакей Петро раздел панов, повесил шубы возле лежанки в большой передней, открыл дверь в гостиную.
Пол застлан тонкими соломенными циновками, натертыми воском. Мебель у стен похожа на сборище медведей.
Следующая комната — столовая. Помимо обычных стекол вставлены еще и другие, разноцветные. Полумрак. И лишь сквозь одно окно неожиданно радостно и чисто смотрит снежный день.
Сели за стол.
— Попробуй, княже, калганной да чесночком закуси. Вот он, раб божий, маринованный. Запаха никакого, а вкус втрое лучше. А как насчет терновочки?… Ты ее грибками, подлую, грибками, рыжичками… Глянь, какие, — с копеечку каждый. И не больше…
Алесю интересно было слушать и думать о том, зачем все же его пригласили.
Наконец все наелись.
— Я думаю, сейчас начнется главный разговор, — сказал Алесь.
И увидел настороженный взгляд двух пар серых глаз. В них не было добродушия. И вообще в своих добротных, на сто лет, сюртуках серого цвета братья напоминали нахохлившихся серых цапель, что на отмели зорко следят за мальками.
— Я предполагаю, — сказал Алесь, — вам надо посоветоваться со мной о чем-то. Предупреждаю: разговор начистую. Только тогда я передам все отцу. — И объяснил: — Я ведь только младший хозяин, господа.
Тодар кисловато улыбнулся и достал из пузатого бюро лист бумаги.
— У нас есть племянница, — густым басом сказал Иван. — Сирота. Круглая. Мы опекуны. В этом году она достигла совершеннолетия.
Алесь увидел развернутый лист заверенной нотариусом копии завещания, прочел фамилию совершеннолетней: «Сабина, дочь Антона из рода Маричей, дворянка, восемнадцати лет». Увидел сумму — что-то около ста тысяч без процентов.
— Ясно, — сказал он. — Что зависит от меня?
— Мы хотим арендовать у пана Юрия ту большую пустошь, что рядом с нами. Деньги целиком, пусть не беспокоится, грех обижать бедную сироту.
— Но?…
— Но и нам порядком надоело опекунствовать. Ей время хозяйствовать самой. Мы купили те клинья, что возле пустоши. У Браниборского. Учтите — за свои деньги.
— Знаю, — сказал Алесь. — Земля плохая. Дешевая.
Братья переглянулись. Орешек был тверже, чем надеялись.
— Полагаю, пустошь нужно вам под какую-то застройку?
— Под винокурню, — сказал кислый Тодар.
— И земля вам нужна как гарантийный фонд? Под рожь, под бульбу. Пока винокурня не заимеет постоянных, солидных поставщиков сырья?
— Да, — немного смущенно промямлил Тодар.
Алесь думал. Братья с некоторым нетерпением смотрели на него.
— Земля та пустует, — сказал наконец юноша. — Я думаю, что привезу отцу выгодную сделку. О сумме и сроке ее составите договор с паном Юрием.
Братья вздохнули. Но радоваться было рановато. Алесь вдруг сказал:
— Как будущий хозяин, я со своей стороны добьюсь у отца, чтоб в договор внесли лишь один пункт.
— Какой? — спросил настороженный Тодар.
— Скажем, вся пустошь в аренду на десять лет.
— Достаточно, — пробасил Иван.
— Но две десятины, возле самых клиньев Браниборского, идут в аренду бессрочно и за самую мизерную плату. Зато на этой площади размещаются все хранилища сырья для винокурни.
Братья посмотрели друг на друга: нет ли подвоха?
— А зачем так? — спросил Иван. — Это чтоб можно было в любой момент упразднить аренду?
— Нет, — сказал Алесь. — Аренда упраздняется лишь в одном, заблаговременно обсужденном пункте… извините, при нарушении его.
— Какое условие? — мрачно спросил Иван.
— Продукция винокурни не идет на нужды округи.
— Так мы же и думали… — начал было Иван.
Но Тодар остановил его:
— Погоди, Иван. Почему?
По лицу Алеся ни о чем нельзя было догадаться.
— Во-первых, потому, что торговля спиртом, скажем, с Ригой наиболее выгодна для вас. Сразу представляется возможность поставить дело на широкую ногу…
Таркайло Иван смотрел на него вопросительно:
— Пусть Рига. Мы и сами так думали. Выгоднее. Но… зачем это тебе?
Лицо Алеся сделалось жестким.
— Я не хочу, чтоб ваша винокурня подтачивала достояние наших людей. Не хочу, чтоб она обогащала одних корчмарей.
Таркайлы внимательно слушали молодого Загорского.
— Сами знаете, что даже мелкий чиновник после работы идет за пять верст от города, чтоб выпить в корчме возле частной винокурни чарку и вернуться обедать. Потому что водка здесь дешевле. Так что уж говорить о крестьянине!
Удивленные ходом его мысли, они смотрели на него все еще непонимающе и настороженно.
— Слушай, князь, — наконец промолвил Иван, — я тебе все еще не верю. Не могу поверить. И знаешь почему?
— Почему?
— Мне все кажется: какую-то западню ты нам готовишь. Потому что какая же тогда тебе выгода давать нам в аренду землю?
— Выгода? — спросил Алесь. — А вот и выгода. Кому на эту винокурню ближе всех будет идти? Моим. Это промышленность. Занятие для рук и хлеб. И еще… купленные излишки хлеба… И потом — выжимки вы, наверно, в Ригу не повезете, на чужое лукоморье. Ко мне же придете, к нашим же мужикам… Значит, сыт скот. Значит, это навоз и мужицкий урожай… Думаю, достаточно?
— Ты, князь, случайно в шахматы не играешь? — спросил Иван.
— Даже не люблю.
— А напрасно.
Иван долго думал, потом хлопнул ладонью по столу.
— Согласен! — отрезал он. — Передай пану Юрию… Одного не знаю: долго ли ты останешься таким?
Помолчали.
— А ну, крупничку! — сказал Иван. — Пей, князь. Предки пили — сто лет жили. Острый, сладкий без слащавости той, прозрачный! Слезы божьи!
Выпили. Затем Иван, наклонившись к Алесю и понизив голос, произнес:
— А теперь, князь, взгляни на сироту, которую осчастливишь, твердый кусок хлеба дашь.
Он вышел, крикнул что-то Петру, возвратился, сел и снова налил рюмки.
Настойка действительно была чудесная. Алесь выпил очень мало, но почувствовал, какая она душистая и мягкая.
— А вот и она, — сказал Иван. — Дочь троюродного брата.
Перед Алесем стояла девушка. Тонкая и гибкая талия, широкие бедра, высокая небольшая грудь.
Алесь поднял глаза и увидел длинную шею, каштаново-золотистые волосы, а под ними, под невысоким лбом, удлиненные глаза зеленого цвета. Холодноватые, слишком спокойные и прозрачные глаза. А носик был немного вздернутый и остренький.
— Вы звали меня? — Голос тоже холодноватый, как струйка.
— Да. Познакомьтесь, — буркнул Иван.
Сделала реверанс, и словно заструилось малахитовое платье.
— Сабина, — сказал Тодар, — князь пообещал, что мы получим в аренду ту пустошь.
— Я вам благодарна, князь. Мне приятно, что вы сдесь.
Таркайлы смотрели на нее с гордостью, Алесь — с каким-то неясным чувством восхищения и холода.
— Я рад, что смогу сделать для вас эту мелочь, и хотел бы еще сегодня вечером поговорить с отцом, — сказал Алесь.
Уступая ей дорогу, он попал в пятно снежного света из единственного нецветного окна. Вспыхнули искристые глаза. Сабина села в кресло и подняла взгляд на Алеся. Все такие же холодные и слишком спокойные глаза. Веки вдруг, совсем незаметно, вздрогнули: увидела. Пухловатые губы шевельнулись.
— Но я действительно рада, это вы здесь, — с детской, немного капризной ноткой в голосе сказала она.
Алесь увидел глаза. Теперь в них жило любопытство.
— Я тоже. И утешаюсь тем, что теперь, став совсем близкими соседями, мы будем видеться.
Она смотрела на него, словно запоминая. В этих глазах вместе с холодом жила какая-то удивительная улыбка, как будто девушка сама знала, какое двойственное впечатление она производит на людей. И Алесь понял это и сразу простил ей внутренний холод — за ум.
— Благодарю вас, — улыбнулась она. — До встречи, князь.
…Он скакал в Загорщину и все обдумывал эту удивительную встречу.
Сабине не надо было смотреть так. Майка никогда не смотрела так. Эх, да не все ли равно, как смотрела на него Майка! Этого больше никогда не будет. Нет даже Майки. Есть Михалина, дочь Ярослава Раубича, сестра Франса Раубича, дочь и сестра врагов.
Он пустил коня вскачь. Вокруг синели предвечерним светом снега. На перепутье, на дороге, которая вела в Раубичи, у огромного деревянного распятия, Алесь еще издали увидел силуэт маленького всадника.
Сомнений быть не могло — юный Вацлав Загорский выезжал на большак с поворота на Раубичи.
— Кто вы такой, рыцарь? — шутливо крикнул Алесь.
— Я не знаю, кто вы, — ответил Вацлав, — однако защищайтесь.
Кони пошли рядом.
— Ты откуда это? — спросил Алесь.
— Выгуливаю коня.
— Один?
— Отец разрешил.
— Так далеко?
Вацлав растерялся:
— Я вон до того поворота.
— Не надо тебе даже смотреть в ту сторону, — с горечью сказал Алесь. — Знаешь, мы стали врагами. Ты не грусти, милый.
Они молча ехали домой. Стремя к стремени. Оба думали о чем-то своей.
Алесь мысленно прощался с Майкой, вспоминал ракеты за стеклом беседки, деревья, сеновал, что полыхал синими и черными полосами.
Он не знал, что всего час назад Вацлав, напрямик пробившись лесом к Раубичам, стал у ограды и дождался ежедневной прогулки Стася и Наталки. Не знал, что они час простояли, разделенные оградой, и пожимали друг другу руки. Наталка плакала, а мальчики молча вздыхали.
— Словно взбесились, — сказал Вацлав.
— Взрослые.
Опять молчание.
— Не верю я, что Алесь плохой, — говорит Стах.
— А думаешь, Майка плохая?
Белка обрушивает на них целый голубой снегопад, и Наталка забывает о слезах.
— Это просто их взрослая дурость, — заключает Вацлав.
— О нас так и не подумали.
Когда приходит время прощания, Наталка опять начинает плакать.
— Ну, вот что, — сурово произносит Вацлав. — Слезами горю не поможешь. Я считаю, что нам надо встречаться вот так. Скажем, каждый четверг. Они там себе как хотят, а я их причудам потакать не собираюсь.
— И я, — всхлипывает Наталка.
— Они пусть ссорятся, это еще не причина, чтоб нам ругаться, — говорит Стась, и у него дрожат губы.
Руки детей просовываются сквозь настывшую бронзу ограды, ложатся одна на другую. Три теплых комочка среди холодных огромных деревьев…
III
Последней зимней дорогой Таркайлы завезли на арендованную землю лес, кирпич и дикий камень. Начали строить хранилища, а напротив, на бывших клиньях Браниборского, — винокурню, бараки и домики для винокура и механика.
Алесь теперь часто ездил туда: вначале на санях, а потом, когда испортилась дорога, верхом. Почти каждый день приезжала туда и Сабина.
Загорский наблюдал за выполнением всех правил, предусмотренных в контракте, пикировался с остроумным чехом механиком, а она с седла слушала их. Алесь не знал, как обостряется находчивость, когда двое мужчин острословят не на живот, а на смерть в присутствии девушки. Он лишь начинал становиться мужчиной, и это был канун его первой весны.
Поэтому он не знал, почему холодные глаза Сабины теплеют, когда она смотрит на него, и в такие минуты чувствовал себя неловко.
С Майкой все было покончено, и он вдалбливал себе, что не желает прежнего, что оно не нужно ему, что он больше не любит. Обманывал себя и заставлял все забыть.
И все равно в такие мгновения он, даже провожая Сабину к дому Таркайлов, вдруг умолкал и смотрел невидящим широким взглядом на безграничные ноздреватые снега — и сквозь них.
Ей хотелось спросить: «Где ты?» — но она только внутренне сжималась, с болью понимая, что он рядом и не рядом и рядом никогда не будет. И тогда, думая, что разлука поможет лучше всего, она отпросилась у родственников, пока не окончат в новом поселке дом для нее, уехать отсюда. В Петербург. Те вынуждены были разрешить. И Сабина на какое-то время исчезла с глаз Алеся. Неожиданно, как и появилась.
За день до отъезда Сабины в Загорщину явился Мстислав Маевский, крайне расстроенный: до него дошли слухи о прогулках Алеся.
Пострижные братья сидели на длинной тахте. Мстислав с плохо скрываемой гримасой отвращения курил сигару. Голос, обычно такой приятный, прозвучал грубо, когда он наконец бросил первое слово:
— Утешился?
— А почему бы и нет, — холодно ответил Алесь.
— Поздравляю. Память кошачья… Если ты и с друзьями так…
— С друзьями не так.
Сердце Алеся разрывалось от жалости, но сделать ничего было нельзя.
— Связался с Таркайлами, — продолжал Мстислав. — А ты знаешь, что о них говорят? Ты знаешь, кто они? Эти старосветские святые да божьи старозаветные шляхтюки — они горло за свои деньги перегрызть готовы. У них вместо сердца калита, вместо мозга калита. Они из тех страшненьких, что добрые-добрые к человеку, прямо хоть ты их к ране прикладывай… до того времени, пока дело не коснется их интересов. И тут они убьют вчерашнего друга.
— Если «связался» значит — «один раз побывал в доме», то я действительно связался.
— Угу, — буркнул Мстислав. — И каждый раз вас верхом на лошади видят. Вдвоем. От бывших клиньев Браниборского до поворота к Таркайлам. Черт полмира обегал, пока вас не нашел да друг к другу не толкнул.
Алесь улыбнулся.
— Надо же и черта уважать, если уж ему столько бегать довелось.
— Что ж, — сказал Мстислав, — как хочешь. Однако знай, что и эти слухи дошли до Раубичей.
— Ну и что? Разве там еще кто-нибудь интересуется мной?
— Я думаю, до этого вас еще можно было помирить. Раубич тоже остыл немного. Понял, видимо, что все это не больше, как грязные сплетни.
— Почему это он вдруг таким умным стал?
— С ним Бискупович беседовал. Серьезно. После твоей речи. А тут ты с Сабиной. Вел себя просто как мальчишка. Слухи дошли до Михалины. Все, видимо, из того самого источника знают…
— Что?
— Что будто ты отдал пустошь так дешево потому, что надеешься в скором времени породниться с Таркайлами… И будто с паном Юрием давно договорено и его согласие есть, потому что он слова не сказал насчет арендной платы, предложенной тебе.
— Как?
— «На вечные времена, — сказал Мстислав. — С условием строительства хранилищ…» Теперь даже те, кто верил, что ты и Гелена невиновны, молчат.
У Загорского перехватило дыхание. Удар был рассчитан и страшен. Он вскочил с места.
— Я же ничего… Она завтра…
И осекся. Все равно ничего нельзя было объяснить людям, которые не верили ему, а верили грязному поклепу.
— Пускай, — теперь гнев душил и его. — Черт с ней, если так. Медальон вернуть?
— Нет.
— И то хорошо… Сплетням обо мне поверила. Не хочу я таких! Не хочу!.. Не было у меня ничего с Сабиной… Но если уж они так, я на самой бедной девушке во всем Приднепровье женюсь…
Мстислав сидел серьезный: поверил Алесю.
— Ты погоди, — глухим голосом сказал он, — ты вначале дождись Майкиной свадьбы.
Алесь скрипнул зубами и сел.
— С кем?
— С Ильей Ходанским.
— Как с Ходанским?
— Так. — Мстислав говорил, словно его кто-то душил. — Когда дошли до нее слухи об этой пустоши, она словно деревянная ходила с неделю… Позавчера этот… явился… Признался в любви.
— И что?
— Дала согласие. Через месяц помолвка.
Кровь прилила к лицу Алеся. Он почувствовал, что какой-то жаркий туман разлился по всему телу. На миг показалось, что он сходит с ума.
— Ну, — сказал он, — ну… ну… этого я и ожидал. Несправедливости. Самой мерзкой… У них это всегда так…
— Не смей ее!
— А то что?
— Что… хочешь… Кого хочешь… Завтра же… Но ее… не смей! Убью!
Мстислав вдруг осекся. Увидел лицо Алеся. Он еще никогда не видел, как люди плачут без слез.
— Мстислав, братка! Ты так любишь ее?!
С минуту висело молчание. Потом Алесь положил руки на плечи Мстислава.
— Прости. Ты иди к ней. Иди. Разрушь там все. Отбей от Ходанского. Иди.
— Никогда, — сказал Мстислав.
* * *
Назавтра Мстислав попытался рассказать Михалине Раубич о том, что на самом деле творилось с Алесем, о рассчитанном оскорблении, которое наносил ему неизвестный враг, о том, что лучше бы помириться, разорвать ненужную помолвку, но встретил обиду, спрятанную за внешним безразличием. Помолвку разрывать было вроде бы «поздно». Разговор окончился ничем.
* * *
Утешал дед. Когда внук возвращался вечером в Вежу (в Загорщине больше не мог), утомленный, посиневший от дневной скачки по полям и лесам, голодный, иногда мокрый выше колен, пан Данила подсаживался к нему в библиотеке и, глядя в огонь, говорил:
— Я знаю, тебе сейчас кажется, что все прошло, все кончено.
Алесь никогда не позволил бы такого разговора родителям. А деда не надо было стыдиться, от него ничего не надо было скрывать. Дед знал: здесь ничем не поможешь, и каждый должен сам пройти это, стать мужчиной, сам найти выход. Он только выжидал, чтоб как раз в этот единственно нужный момент — не раньше и не позже — дать совет. Кризис — он понимал это — еще не наступил.
— А между тем ничего и не кончено.
— Они скоро обручатся.
— Скоро? — Уставшие глаза деда смотрели в глаза внука. — Помолвка — это не свадьба. И даже свадьба еще не конец. Понимаешь, на земле существует единственная непоправимость, невозвратимость. Это смерть. Пока она не пришла, все может измениться твоей волей или капризом судьбы.
— Но зачем же тогда так страдать?
В глубоких глазах рождались хитрые искорки.
— А ты что, легкости хотел? Она ведь ненавистна настоящей любви, эта легкость.
Улыбка, словно бы не в силах сдержаться, появлялась на губах.
— Овидий не дурак был, когда давал совет.
— Какой?
— Заходи через окно, даже если ничто не мешает заходить через дверь. Quod datum ex, — скандировал он, — facili longum male nutrit amorem: та любовь, которую легко дарят, не продолжается долго.
И, стройный, гордый и сильный, пан Данила наклонялся к огню.
— Вот огонь. Иногда он бывает далеко. Но все равно, идя по сугробам, радуйся, что видишь его. Пусть пока что далеко. Со временем придешь… И я тебе говорю: чем больше замерзнешь, тем больше будет счастье протянуть к нему руки.
— А если совсем замерзнешь?
— Глупости! Иди! Мужественные не гибнут…
Дед все понимал. И Алесю становилось легче.
* * *
Тучи, которые день и ночь плыли над равнинами и оврагами, постепенно съедали снега. На самых высоких курганах с солнечной стороны сошел снег, и на проталинах обнажились пряди сухой травы да курилась влажная земля.
Темнели бока курганов. Предки дохнули теплом из могил.
От полудня и до первой звезды звенели над землей голоса: у скирд и на курганах девки и хлопцы «звали весну». Стояли лицами на юг и бросали в простор страстные кличи.
В душу Алеся закрадывалась странная истома и тоска.
Алесь словно ошалел за эти дни. С самого утра ища облегчения, часто не завтракая, садился на коня и объезжал окрестные поля, луга, леса. Охрипший от ветра, с тяжелой от солнца головой, он рыскал от пущи к пуще, избегая деревень и больших дорог, словно очумевший от первой настоящей весны волчонок-переярок, сам не зная, куда его тянет и что ему нужно.
Вокруг было солнце, таяли под ним серые, ноздреватые сугробы, белели дали. Казалось, дороги поднимались выше полей. И в этом большом мире лишь ему не было места.
Первый жаворонок захлебывался под снегами, и ему было хорошо, потому что он только что принес и подарил нивам солнце.
Тревожно кричат грачи, словно дразнят чем-то неведомым.
Вот на витахмовской конюшне ржет жеребец. Диким, не таким, как всегда ржанием. Такое ржание, что недаром, видимо, поверила глупая баба из сказки словам мужика: «А это, любая, нашего пана черти дерут, вот он и ревет дурным голосом».
Котики вербы. Котики, котики, котики вербы. Зеленая на изломе веточка вишни, которую, едучи верхом, можно держать во рту, закрыв глаза, ощущая влажный аромат, свежую горечь и еще что-то непонятное.
И вдруг испуганно вскинуть ресницы от трубного, горластого клича:
— А ужо, дев-ки, весна идет!!
…Первая звезда в высоте. Прозрачно-серое небо над густо-синей землей. Но мягкая свежесть воздуха не приносит покоя. Даль тревожит, волнует, зовет. И, куда бы ты ни повернул коня, на встречу тебе с курганов летят и летят тревожные голоса:
— Дай, Ма-ришка, клю-у-чи!
И опять полет коня. Но издали, с другого кургана, отзывается другой голос:
— Дай, Вла-дак, клю-у-чи!
Болит голова и не исчезает истома, и ожидание наполняет грудь, и ветер свищет в ушах, но скакать некуда.
Вот с третьего кургана:
— Ото-мкнуть земли-и-цу!
И еще откуда-то, совсем издали:
— Вы-пустить трави-и-цу!
Куда убегать, когда весенними вечерами, в жажде неизвестного, вопит с курганов о великом солнце вся родная земля?!
IV
Над березами, что обступали церковь, висели холодноватые и прозрачные звезды. Из окон и широко открытых дверей лился на погост и толпу оранжевый свет. Изредка, когда голоса певчих взлетали особенно высоко, в кронах берез, в гнездах сонно вскрикивали грачи.
В церкви деревни Мокрая Дубрава, самой близкой к Раубичам и Озерищу, шла всенощная по великой субботе. Большая толпа тех, кто не попал в храм, стояла на погосте, слушала пение. Кое-кто временами поднимался на носки и, вытянув шею, заглядывал в огненную пещеру. Видел открытые царские врата, светлые ризы священников и снова опускался, покачивая головой и всем видом показывая, что все как надо, как заведено: знаем, видели, а значит, можно постоять и на погосте, и нет особенной причины тесниться в храме.
Кое-где разговаривали: о весне, о том, как очнулись, поправились озимые, и том, в чем благолепие литургии великой субботы и в чем ее отличие от благолепия литургии пасхальной.
Алесь привязал коня к забору и медленно пошел сквозь толпу по главной аллее.
Воспитанный старым Вежей, Алесь никогда не задумывался о сущности обрядов. В гимназии приходилось исполнять. Можно с ними, а можно и без них. И теперь его трогало скорее не то, для чего люди собрались здесь, а сами люди и то, что они собрались.
Вот один тихо выводит «лица ангельскии», вытягивая шею и сладчайше закатывая глаза. Остальные стоят и смотрят ему в рот… Вот перекошенный рот бабуси… Русоголовый мужик стоит на коленях, словно перед плахой, безнадежно свесив голову…
Плачет, горькими слезами заливается баба в повойнике.
— Чего ты?
— Да як же не плакать… Пла-ащаницу зараз в алтарь понесут. Сорок дзён она, батюхна, по земле ходить будет… Видеть будет всех, все наше видеть…
Стайка девчат и хлопцев. Явно ждут христосованья.
А вот девушка в синем с золотом старинном платке. Стоит, скрестив руки. Личико поднято вверх, рот приоткрыт. Слушает, а в огромных глазах слезы… Бьется, побивается головой о землю какой-то шляхтич. Встал на колени, и такое, видимо, невыносимое, неутешное горе, что дрожат плечи.
— Не убивайся так. Не надо!
Алесь шел, и словно все люди проплывали, вставали перед ним. И от возникшей вдруг любви к ним, умиления и великой жалости у него задрожало внутри.
Бледный, с осунувшимся лицом и бескровными губами, он продвигался все ближе к раскрытой двери, к сводчатому оранжевому пятну, откуда доносилось пение.
Кто-то осторожно взял его за плечо. Оглянулся — Кондрат Когут.
— Юж по вшисткем, — иронически сказал Кондрат, — по мши и по казаню.[114]
— Здорово, братец! — обрадовался Алесь.
— Здорово. Идем со мной. Наши там.
Когуты-младшие пристроились немного в стороне от аллеи, не стали пробиваться за родителями и дедом Данилой в церковь. Но еще до того, как Алесь и Кондрат подошли к ним, из-за деревьев выступила тонкая фигура Андрея Когута.
— Ты с кем, Кондрат? — спросил, словно пропел.
— Вот, — сказал Кондрат, — Загорский. Грядет, как жених в полунощи.
— Что я, Страшный суд? — ответил шуткой Алесь.
Слова Кондрата задели его. Он действительно пришел как жених в полночь, хотел видеть Майку.
— Ну, не совсем страшный, — сказал Андрей. — А трохи есть. — Робко улыбнулся, скромно прикрыл длинными ресницами глаза. Алесь не понравился ему.
И почти сразу Алесь попал в объятия. Вокруг золотистые патлатые волосы, диковатые синие глаза, прямые носы, белозубые улыбки. Ага, вот Марта, Стафанова жена. А вот и сам Стафан — тихий, воды не замутит, Стафан.
— С пасхальной ночкой вас.
Один Стафан из всех Когутов перешел на «вы», когда Алесь окончил гимназию.
— Ты что, позже не мог?
Батюшки, Павлюк, иногда горячий, но чаще всего такой солидный Павлюк! Павелка, ровесник, деревенский дружище! И этот за какой-то месяц стал таким, что не узнаешь: свитка на одно плечо, словно готовится драться на кулаках; магерка ухарски заломлена на затылок.
— Эй, а меня? — голос сзади.
Кто-то дергает за рукав. Юрась.
— Юраська-Юраська, — смеется Алесь, — а кто был голыш мужеска пола?
— Да ну тебя, — с укором говорит пятнадцатилетний ладный хлопец.
Хохот.
— Тихо вы, — степенно говорит Марта. — Хватит ужо. Грех какой. Похристосуемся загодя, Алесь Юрьевич.
Глаза молодицы смеются. Она вытирает платочком рот.
— А христосоваться заблаговременно не грех? — спрашивает Стафан.
Алесь стоит посреди них и чувствует, как что-то сжало горло. Ему было так плохо все последние дни, что он, попав вдруг в свое, родное окружение, держится из последних сил.
— Кого-то еще нет, — глухим голосом говорит Алесь.
— Меня. — И из полутьмы вышла Янька Когут в беленьких черевичках и синенькой шнуровочке.
Алесь шутя поднял ее — ого!
Янька смотрела на него серьезно и строго! Удалась она не совсем в Когутов: рот маленький, огромные глаза. Уже теперь у нее толстая коса, едва не с руку толщиной.
— Кто это тут мою невесту трогает? — прозвучал рядом юношеский приятный голос.
— Мстислав! — бросилась Янька к нему.
Алесь и Маевский встретились взглядами и опустили глаза, как будто каждый застиг другого в не совсем подходящем месте, но отлично понимает, почему он здесь.
Мстислав взглянул на Алеся, и на губах его появилась улыбка:
— Великая ночь?
— Великая ночь, друже.
И это звучало как: «По-прежнему?» — «Давай по-прежнему, друг».
И сразу, словно бы воспользовавшись этой возможностью и желая укрепить ее, Мстислав сказал с иронией:
— Так почему это пан Загорский приехал в церковь Мокрой Дубравы?
— Потому что здесь Когуты.
— Вот счастье какое, — наивно сказала Янька. — А мы как раз хотели в Милое ехать, чтоб тебя повидать, Алеська.
Кондрат легонько толкнул ее в бок. Янька не поняла и ответила брату толчком так, что все заметили.
Янька смотрела на Мстислава синими глазами, блестящими, как мокрые камешки, ловила слова.
Мстислав стоял и смеялся.
— Я это почему, — с притворной наивностью сказал он. — Я тебя хотел найти. Я в Загорщину — нет. Я в Милое — нет. Куда, думаю, теперь?
В этот момент удар колокола прокатился над голыми еще, но живыми деревьями, поплыл под свежие и прозрачные звезды.
— Начинается, — сказал Андрей.
Они двинулись ближе к церкви. Толпа текла туда же и вскоре оттерла Кондрата с Андреем и Мстислава с Алесем от их группы.
— Ты молодчина, — сказал Мстислав на ухо Алесю. — Значит, решил — мир. Хорошо, помирим… Она здесь. Я нарочно протиснулся в церковь и посмотрел.
И тут Алесь почувствовал, что он действительно больше всего на свете желает мира и согласия.
— Сейчас все колокола ударят, — сказал Кондрат. — Осторожно, хлопцы. Я слыхал, что от этого с деревьев на погосте черти падают.
— Бред какой! — пожал плечами Мстислав.
— Я и не настаиваю, что правда.
— Люди верят, — сказал Андрей. — Говорят, если кто в чистый четверг свечи домой донесет и копотью от них на всех дверях кресты поставит, то нечистики из хат удирают. Куда им деться? На деревья. Сидят голодные, холодные, потому что слезть боятся. Ну, а как бомкнут пасхальные колокола, сыплются они с деревьев, как груши. Шмяк-шмяк! Некоторые даже ноги ломают.
— Ты смотри, — пригрозил Мстислав, — за этакие суеверия получите вы от попа!
Глаза его смеялись, и в тон ему Андрей ответил:
— И пусть. Все равно падают. Следи, Алесь, может, которого за хвост ухватишь.
— А у него ходанская морда, — улыбнулся Мстислав.
У Кондрата заходили желваки на щеках.
— Тогда мы уже тебе, Алеська, поможем. Ты его только в кусты заволоки… чтоб начальство нас не видело. А мы его там освятим.
Звезды висели над головой. Притихли деревья. С погоста спускалась разноцветная лента людей. Словно из расплавленного метала, текли, и мерцали, и переливались ризы священников. Сияло на золоте крестов красное зарево от сотен свечей. И над всем этим густо плыл бас дьякона:
— «Воскресение твое, Христе-спасе, ангели поют на небесех, и на земле сподоби чистым сердцем тебя славити».
Под звездами, среди снежных берез, которые стали теперь оранжевыми снизу, плыло, огибая церковь, шествие — словно кто-то медленно рассыпал красные мигающие угли.
Алесь снова увидел девушку в синем с золотом платке. Она как будто стремилась к огням, как синий и золотой грустный махаон. И вдруг у него отлегло от сердца: не могло случиться ничего плохого, пока на земле жила надежда.
— Раубичи, — прошептал Мстислав.
…Пан Ярош с Эвелиной, Франсом и Юлианом Раткевичем шли впереди. Сильная рука Яроша сжимала свечу, мрачные глаза смотрели поверх голов: он, видимо, думал о другом. И такой он был сильный среди этой толпы, что Алесь вдруг содрогнулся от нахлынувшего чувства любви к Ярошу и ко всей его семье.
Приближалась Майка. Свеча в тонкой руке слегка наклонена — оплывает желтоватый воск. Глаза, как у отца, смотрят поверх голов — то ли на белые, как ее руки, ветви берез, то ли на звезды. Маленький рот сейчас совсем не надменный, а добрый и ласковый.
«Майка. Майка. Майка…»
Проходят мимо. Сейчас остановить неудобно. Рядом с нею Стах (Алесь не знал, что Стах обрадовался б). Переливается тронутое кое-где серебром белое кашемировое платье.
— Шествие жен-мироносиц, — сказал тихо Кондрат.
И, забывшись, поддержал богохульство Мстислав. Сложил в трубочку губы и сказал тоном старой девки-ханжи:
— Лидуша надела порфирное платье и пошла в церковь… Меланхолия!
Но, встретив глаза Алеся, вдруг смутился:
— О… прости, милый!
Андрей сильно взял Кондрата за плечо и повел вперед.
— Болван! — глаза Андрея сузились. — Ты что, не видишь?
Они остановились невдалеке. Кондрат под взглядом брата опустил голову.
— Вижу, — неожиданно серьезно, с горечью ответил он. — Не нравится мне это. Влюбился, как черт в сухую грушу.
— Не твое дело, — тихо прошептал Андрей.
И вдруг Кондрат ударил ногой березовый ствол:
— Черт. Ну, будет она еще издеваться — сожгу Раубичи… Корчака найду, и вместе сожжем.
— Тьфу! — плюнул Андрей. — Глупый ты!
— А что?
— Кабы все хаты девкам жгли, когда те издеваются… Это ведь страшно подумать, что было б… По всей земле пепел с ветром гулял бы.
…Шествие тем временем в третий раз обходило церковь. Желтели бесконечные огоньки, струилась парча, звенели голоса.
Идет пан Ярош. Идут другие. Но зачем смотреть на них, когда вот плывет за ними… Немного отстала от всех. Идет. Пепельные, с неуловимым золотистым оттенком волосы. Под матовой кожей на щеках глубинный прозрачный румянец. Добрый рот и глаза, что смотрят на березы, на шапки грачиных гнезд, на теплые льдинки звезд.
Мстислав заставил Алеся отступить от стежки, а сам сделал шаг вперед.
— Михалина, идите сюда.
Рука в руке, несколько растерянных шагов по стежке… И вот она уже здесь, а Мстислав исчез в толпе.
Они стояли и смотрели друг на друга. Причудливо изогнутые брови Майки на миг виновато опустились.
И еще — он мог бы поклясться — в этих огромных глазах на миг промелькнула радость, та, которую не спрячешь, которую не подделаешь.
— Майка, — прошептал он, — Майка… — И добавил почти властно: — Если можешь, верь мне.
Она взглянула на него — на помертвевшее лицо и глубокие глаза. Эти глаза смотрели так, что в душе возникло сомнение, которое сразу переросло в уверенность: не виноват. Неужели не виноват? Конечно же, не виноват. Мстислав был прав. Как она могла даже подумать, что он мог быть виноват?! Самый лучший, чистый, настоящий, тот, кого всегда хотелось видеть, кому всегда хотелось положить на грудь свою голову, забыться, почувствовать себя слабой.
В это время от притвора долетел возглас:
— Христос воскресе из мертвых!..
И еще. И еще.
Они не слышали. И только когда взлетели вверх голоса хора — под кроны голых берез, под звезды, — она сделала шаг к нему.
Звенели голоса.
Шаг, шаг. Еще шаг.
И он тихо сказал:
— Христос воскресе, Майка.
Их лица вдруг залил багрянец. Это вокруг церкви и погоста одновременно запылали факелы и бочки со смолой и где-то вдали от церкви начали стрелять из ружей — старый, языческий еще обычай.
Зарево трепетало на их лицах.
Он стоял перед ней и протягивал руки.
У нее упало сердце. Если б сердился, если б даже грубо, по-мужицки, ударил ее, было б легче.
Значит, виновата была она. Без оправдания.
Она была не из тех, что прощают себе. Такого ударить! Что наделала?!
И вдруг ее словно озарило страшным сполохом.
«Ну, хорошо, были первые слухи. Их надо было проверить. Но та, последняя сплетня… Что же было в ней? Почему я так разгневалась, если я сама тайно желала этого и мечтала об этом, боясь даже самой себе сознаться в этом?
Дрянь! И из-за этого чуть не толкнула на дуэль, запретила встречи, отдала его на поругание, сделала его врагами брата и отца.
Лгала сама себе и испугалась, когда… И потом еще смела требовать от него чего-то.
И обрадовалась, когда новая ложь как будто оправдывала меня, такую, какая я есть… «Сдал в аренду…», «Ездил с другой…» Но та уехала отсюда… А я разве не разорвала его сердце согласием на позорную помолвку?
Убить себя мало было за все это. Но разве убьешь? Значит, покарать так, чтобы потом мучиться и убиваться всю жизнь».
Она не думала, что это будет мучительно и для него. Жестокая, углубленная в себя молодость, которая только себе не прощает ничего, руководила ею.
«Убить. Казнить себя. Как? Отдать себя самому нелюбимому, рожать ему нелюбимых детей. Тому, кого презираешь. Тому, кто, — а наверно, наверно, он, она теперь чувствовала это, — из враждебности к пану Юрию, к Алесю и слепил ту грязь, ту мерзость. Что же это я натворила?!»
Все эти мысли пробежали в ее голове за какой-то миг. Он протягивал руки:
— Майка…
Она смотрела в его глаза и чувствовала, что у нее подгибаются колени. Сделать еще шаг и…
Это был бы поцелуй. Простое «христосованье» для других. Но она знала, чем это будет для нее.
«Плен. Остаться вечно. Навеки признать для себя (потому что он не будет знать) свою подлость. Знать, что в шкуре счастливой пани сидит развратная (так, развратная, потому что такой отдать себя за такого — это разврат), расчетливая гадина…»
Она могла жестоко осуждать. Он протягивал руки. Она не могла… Она знала — не выдержит.
— Нет, сказала она. — Нет. — И окончила почти беззвучно: — Этого не будет.
И бросилась в толпу.
Он опустил руки и медленно пошел к выходу. Мстислав, проходя мимо братьев, которые разговаривали с Галинкой Кахно, положил руку на плечо Кондрата:
— Кондрат… А ну, быстрее…
Они сверлили толпу за Алесем.
Загорский остановился и бросил последний взгляд на людей перед притвором.
Вот они стоят: Ярош, постриженный в скобку и с железным браслетом, Франс, Майка. У нее такое лицо, что на миг становится жаль.
Ему пришла в голову дурная мысль.
Перед ними пылали факелы и бочки со смолой. У Раубича были плотно сжаты губы. Рука с железным браслетом сжимала свечу. И от зарева падал кровавый отблеск на тяжелый, изнеможденный какой-то неотвязной мыслью, изнуренный облик.
Все стояли тесно вокруг него. Дурная мысль… Стоят… Скачет зарево… Как те паны, что после заговора Глинского шли на плаху вместе с семьями, чтоб не осталось и рода.
…Франс оглянулся на сестру и испугался:
— Что с тобой?
Он обвел глазами толпу, и ему показалось, что за факелами мелькнуло лицо Алеся Загорского. А может, показалось?
И вдруг он с удивление подумал, что рядом с ненавистью в нем все время жило какое-то теплое чувство к Алесю.
Откуда?
…Алесь, встретившись на мгновение со взглядом Франса, вздохнул и опустил глаза. Надо было идти.
Он пошел напрямик от света в темноту аллей.
Отказать в примирении. Пусть, если не верит. С этим можно смириться. Хотя и тяжело, но можно. Не любит — пусть. Пусть даже то, что вся семья обидела и продолжает обижать. Но отказать великой ночью в поцелуе?! Так поступали, только когда между людьми лежала кровь родственника, близкого родственника или самого лучшего друга. Так поступали только с доносчиком на своих или с отцеубийцей.
Отказать в поцелуе в великую ночь — такого не бывало. И он решил молчать. Она, конечно, была в безопасности. И именно поэтому расплачиваться пришлось бы двоим — Раубичу и Франсу.
…Его догнали Мстислав и Кондрат. Пошли рядом.
Кондрат про себя радовался, что он один стоял лицом к Михалине и Алесю, что Галинка и Андрей ничего не видели. Мстислав же думал, что один он видел всю эту тяжелую сцену. И каждый из них стремился держать себя естественно.
Алесь шел и видел людей. Мужика, что стоял как перед плахой, девчину в синем с золотом платке, бабу в повойнике — все это бедных людей море, которое называлось его народом.
…Друзья сели на коней. Мстислав кинул Кондрату поводья сменного коня.
Кондрат взвился в седло последним, и, когда посмотрел на слишком прямую фигуру дядькованого брата, руки у него сами сжались на поводьях: «Х-хорошо…»
С места взяли в галоп. Прямо в ночь, под звезды…
…Они не видели сумятицы, что вдруг возникла в толпе, когда люди стали заходить в церковь: Михалина Раубич упала в обморок.
Пылала смола. И прямо под высокие звезды поднимались голоса. Пели канон Дамаскина «Воскресения день».
…В эту ночь друзья очень сильно выпили в самой захудалой придорожной корчме… А утром пан Ярош, расспросив дочь, что послужило причиной обморока, похолодел от мысли, что на роду теперь можно ставить крест.
— Ты понимаешь, что ты натворила? Даже врагу… Это ведь только обряд, девчонка!
Она не сказала больше ни слова. Два дня Раубичи ожидали. Посыльный из Загорщины так и не появился. Вызова на дуэль не последовало.
И тогда пан Ярош и Франс расценили это как «месть презрением» со стороны Загорских и то, что Алесь действительно был виновен. Его вина их не пугала. Месть презрением — очень. Им надо было молчать об этом. Лишь им двоим, кто знал.
Примирение уже было невозможно. На землях, что лежали рядом, на водах, что текли рядом, жили теперь смертельные, непримиримые враги.
* * *
На радуницу пришло известие, что Михалина Раубич обручилась с графом Ильей Ходанским.
V
Никто не знал, что, решив до конца унижать себя, Михалина нарочно позволяет себе не очень благовидные выходки, находя даже в этом какое-то мстительное удовольствие. Все только удивлялись ее странным поступкам, которых нельзя было ни понять, ни объяснить.
Она, например, пригласила Мстислава на обручение.
— Будете держать корд жениха, — ласково склонила она голову. — Или мой шлейф. И в этом и в другом случае — друг дома… Навсегда… И потом — я знаю, что лучшего свидетеля такого важного для меня события найти трудно. Он повсюду будет рассказывать о нем правдиво…
Мстислав смотрел в эти невинные глаза, и ему делалось страшно, что он мог быть влюблен в такую.
Он, однако, не дал разгадать своих чувств.
— Я в таких делах вам не товарищ, Михалина Ярославна.
Назвал по отчеству, чего Приднепровье, пожалуй, и не знало. И в голосе было такое глубоко скрытое осуждение, что Майка опустила ресницы. А тоже был влюблен…
— Принято хотя бы то, что у вас сохранились кое-какие остатки стыда за содеянное, — сказал Мстислав. — Полагаю, они вам еще понадобятся. Как и остатки мук совести.
После этого разговора Михалина вдруг, впервые за последнее время, подумала про Алеся. До этого она карала и мучила себя, не думая о других.
И только теперь она впервые подумала, как жить ему.
* * *
Алесь жил. Иным казалось — даже спокойно. Во всяком случае, вместо предчувствия чего-то страшного пришло спокойствие.
Спокойно распоряжался в зерновых магазинах деда, готовил коней на бусловичский «бессенный»[115] базар. Приходилось много забраковывать, потому что экономы старались спихнуть на продажу разную дохлятину.
Внук трудился до изнеможения, и пан Данила радовался: меньше дурных мыслей полезет в голову. И все же спокойствие Алеся пугало его. А тот приезжал покрасневший от раннего загара, такой грязный, что в ванне трижды приходилось менять воду, ел, что попадется, и потом весь вечер сидел у огня, перебрасываясь с дедом незначительными фразами.
Ефросинья Глебовна видела кривую улыбку, которая появлялась на его губах, когда смотрел на женщин. Больше молчала, но тайком освободила от всякой работы двух хлопцев, чтоб ночами дежурили у Алесевой спальни: «А вдруг что сделает с собой, голубчик…»
Вставал он в три часа ночи, принимал ледяную ванну, ел с людьми густо посоленную бульбу с кислым молоком и, не ожидая каши с бараниной, выезжал на Косюньке со двора.
Веже нравился цепкий, хозяйский и во всем добрый ум внука. А если б и не нравился, он бы согласился со всем, что б тот ни предложил, со всяким даже самым бездумным поступком.
Все б раздал, лишь бы он стал здоровым и спокойным.
Пан Данила удивлялся самому себе. Тридцать восемь лет жил в одиночестве, ничего не требуя от жизни. Так, снисходительный от величия и понимания людей старый циник.
И вдруг появился комочек плоти, заполнил всего, заставил полюбить сноху, интересоваться делами сына, встречаться с людьми, лезть в шумную, утомительную жизнь, страдать и радоваться.
«Кто он? Что мне в нем, когда мне вот-вот ляг и подохни, а за черной чертой — яма?
Однако вырос, стал красивым и сильным и неудачно полюбил. И так болит за него сердце, как никогда не болело за себя.
Да этого мало. Ну, вырос, ну, конечно ж, совсем иной, чем люди моего поколения. Ну и оставь ты меня в покое, каков я есть. Нет, учит. С землей не так, с людьми не так, с родиной не так.
Мало ему, что я по врожденной лени говорю по-мужицки. Нет, подавай ему осознание того, кто я такой и кто он такой, какова причина общего безразличия, и почему нам в Крыму морду набили, и почему того хохла, что стихи писал, загнали туда, где бабы белье на радугу сушить вешают».
Теперь Вежа дрожал за внука. Кажется, хозяйничает, носится, спорит, а глаза пустые.
— Да в чем же дело, пане?
— Он что вам подсунул? И где ваши глаза были? Они толстые, но ведь это же семенники, переспевшие. Они как вата. Набухнет водой, подгниет. Он кого обмануть надумал? Какие бревна нужны, а?
Эконом мнется. Мужики, ухмыляясь, наблюдают за головомойкой.
— С зимы…
— Что с зимы?
— Что?
— Перетягивают живое дерево тросом туго, чтоб за лето оно… крепче…
— Почему?
— Смолой набрякнет… А зимой сечь.
— Вот. Смолой набрякнет. Желтое, аж звенит. Не гниет… Вот какие бревна подай. А у Мухи спроси, сколько он на этих семенниках куртажа в карман положил? Не спросишь — сам спрошу.
Голос словно неживой. Эконому от этого голоса делается страшно. А Веже еще страшнее.
И все же Вежа никому не выдал бы своего страха и своих мыслей. Глебовна попыталась было упрекнуть его в черствости — оборвал.
Не знал об этом и сам Алесь, не знали и сын со снохой, не знали соседи. Вежа охранял свою тайну, молчал о ней, как молчат о позорной болезни.
Если кто-нибудь из доброжелателей спрашивал, как дела у внука, пан Данила отвечал с обычной холодной, иронической улыбкой:
— Думал жениться, да очухался.
Иногда и при внуке.
Лишь однажды они поссорились.
Был май. Деревья оделись уже в молодую, клейкую листву, и столетний каштан у террасы выбросил к небу тысячи белых конусов-свечей. Словно кадил небу и благодарил его за теплые дни. Однако ночи были еще холодноватые, а вода в озерах совсем ледяная. Озера почти не зарастали: сильные ключи били со дна.
Дед и внук сидели на террасе. Из пущи веяло бальзамическим ароматом молодой листвы, влагой с озер и Днепра, чисто прибранной, уже одетой в траву земли.
Соловьи барабанили, звенели и щелкали так, что казалось, на земле существуют только они.
— Ягайло, — вдруг сказал дед.
Внук встрепенулся:
— Что Ягайло?
— Ягайло любил слушать соловьев. Женился он на Ядвиге, продал Беларусь с Литвой, право первородства за бабу. Те, при женском дворе, были намного тоньше, цивилизованнее. Посмеивались над ним втихую: варвар, на коне ему носиться да медвежий окорок руками жрать. А этот варвар, что коня останавливал на всем скаку, пойдет в сад да соловушек слушает, а у самого слезы на глазах… Так кто, я спрашиваю, здесь варвар?
Звенели соловьи.
— И что такое вообще женщина, брак без равенства, без дружбы? Так, баба.
С саксонским герцогом в карете золотой
Промчалась Помпадур, блистая красотой.
Фелон сказал, чету окинув взглядом:
«Вот королевский меч, а вот ножны с ним рядом».
Стоит ли ради такого тратить хоть малую толику жизни? Нет, не стоит.
— Стихами заговорили, дедуля, — процедил Алесь. — Это что, намек?
Вежа удивился. И в самом деле получился намек.
— Я не хотел. Но если так уж вышло… Не выношу я в мужчинах бабства… Когда у них свадьба?
— Не интересовался. Разве я дал какой-то повод жалеть меня? Просил сочувствия?
— Нет, — бросил дед. — Но вид у тебя иногда такой.
— За вид не отвечают.
— А мне вспоминается Халимон Кирдун. Ему б жинку побить хорошенько, чтоб хвостом перед чужими не крутила. А он все жалеет. Она же его за это святым да добрым считает, а уважения ни на грош. Бежит гайня[116] - побегу и я. А назавтра идет коров доить, а Кирдун за ней — держать коровий хвост, чтоб случаем не стегнула…
— Что мне прикажете делать? — начал сердиться Алесь.
— Женился б на Ядзеньке Клейне. Любит тебя. Красивая. И рода хорошего.
— Я пойду, — сказал Алесь.
Пошел в сад.
От соловьиных трелей пробирал мягкий холодок восхищения. Мокрый орешник тянул широкие лапы не стежку. Деревья стояли не шелохнувшись, роскошествовали.
Из таинственных дебрей, словно нежная острая струйка, временами долетал горьковатый запах ландышей.
И, укрывшись еще надежнее ландышей, кричал откуда-то из оврагов и зарослей кустарника никогда никем не виданный, таинственный, как хохлик,[117] козодой. Кричал гортанно, страстно, захлебываясь:
— Ма-уа, ма-уа, люа-ля, люа-ля!
Иногда он с непонятных слов переходил на четкое:
— Лиу-блю-лиу-блю!
Но все заглушал, заполнял соловьиный гром. Соловьи были здесь, у озер. И даже из-за Днепра, не меньше как за две версты отсюда, доносилось их яростное пение.
Он выбрался к озеру, мокрый, оглушенный. Озеро тускло сверкало, как чешуя. Над ним свисала одной стороной огромная близкая туча — древний, не меньше, чем лет на шестьсот, дуб.
Юноша прислонился к шершавому стволу и задумался. Вокруг было так хорошо, что никакой волшебник не придумал бы лучше. И еще — даже самый злой колдун не придумал бы ничего хуже этого. Такое во всем этом было нечеловеческое издевательство над самой сутью жизни.
Не было ее. Если б она была, издевательства не было б. Была б тогда земля, и озеро, и соловьиный гром.
Какая же нелепость разрушила все это?! Как можно было лгать когда на свете есть соловьи?! Как можно было лгать и, главное, верить лжи, когда они здесь, рядом?!
Он начал вспоминать ее лицо. Она обрадовалась вначале там, у церкви, в этом не могло быть сомнения. Но почему она потом испугалась? Так испугалась, что даже лицо стало серым? И зачем она так сделала, что вот он теперь ощущает всю эту удивительную красоту как насмешку?
Откуда-то из глубины души наплыла, затопила все ярость. Он ненавидел теперь сами воспоминания.
Напрасно он простил оскорбление.
Место встречи можно было б назначить на озерищенских лугах, немного дальше того места, где они в ночном встретились с Войной… Утро… Роса… Не больше пятнадцати шагов.
Раубич стоит на барьере. Секунданты… В руке с браслетом пистолет… Надо поднять свой… Ага, он прикрылся рукой… Чудесно. Целиться надо немного ниже браслета. Если отдача будет меньше, чем обычно, — рана в солнечное сплетение.
А потом Франс. Этот из-за фатовства закрываться не будет. Здесь проще. Прямо в этот высокий бледный лоб. Прямо туда. И тогда уже, когда упадет и будешь знать, что его повезут, а через водомоины понесут на руках, тогда пистолет себе к сердцу и одним нажатием, с наслаждением…
Алесь пришел в себя и испугался. Что это было? Начиналось сумасшествие? В восемнадцать? Нечего сказать… Он поспешно сбросил куртку, ботинки, брюки, сорочку, подпрыгнул и, ухватившись за сук, подбросил на него тело.
Толстенный сук тянулся над самой водой. Дуб как будто вытянул одну руку, чтоб вечно ловить ею лунный и солнечный свет.
Алесь шел, крепко ставя ноги. Сук вскоре стал меньше и начал пружинить. Приходилось балансировать. Он остановился почти на самом конце ветви, остывая под ветерком.
Ему показалось, что он услышал шорох на берегу. Оглянулся — темнота. Никого.
И тогда он застыл, прижав руки к телу и подняв вверх лицо. Под ногами покачикалась ветвь. Прямо в глаза светили звезды.
Он опустил глаза — под ногами тоже ничего не было, кроме звезд. Глубокая синяя чаша, плная звезд.
Как будто висишь в центре бесконечного синего шара. Звезды под ногами. Звезды над головой.
Закинув за голову руки, он долго стоял так, покачиваясь в звездной бездне.
Потом он разбил синюю чашу под ногами. Испуганные звезды побежали к берегам.
Он плыл в студеной воде, пока хватало воздуха. Видел в глубоком полумраке кусты, пряди молодых водорослей и еще что-то, что стояло неподвижно в бездне, словно бревнышко, которое утонуло, но так и не достигло дна.
Одно… А вон второе… А там дальше третье.
Это спали, тоже между своими «небом и землей», щуки.
…Одевшись, лег на спину и стал смотреть на темную тучу дуба и еще на звезды.
Чья-то рука легла на его плечо. Ему не хотелось поворачивать головы, и тогда та самая рука, удивительно прохладная, взяла его за подбородок и отвела его глаза от звезд.
Он увидел темное платье, кружевную мантилью, наброшенную на голову.
В темноте неясно белело лицо. Оно склонилось над ним.
— Что с вами?
Пожалуй, только по голосу Алесь узнал Гелену Корицкую.
— Вы?
— Да, — улыбнулась она. — А вы как здесь очутились?
Вместо ответа он пожал плечами.
— А ночь идет, и катятся созвездья, — тихо сказал он.
Она смотрела на него пристально. Во тьме белело ее лицо.
— Встаньте.
— Идите, — почти попросил он. — Я еще немного побуду здесь.
— Пожалуйста, — настаивала она. — И мне, и вам будет не так одиноко идти к дворцу.
Он вздохнул и поднялся.
Пошли по аллее. На неровном склоне она покачнулась, видимо наступив на камень.
— Я могу предложить вам руку?
Они редко встречались в последнее время. Как-то вначале гимназия, а потом хозяйственные хлопоты отдалили Алеся. Да и она держалась поодаль, даже когда Алесь устраивал для актеров пирушки, не приходила. Вежа прибавил ей жалованья, чтоб не переманили в губернский театр.
Вот разве что скучновато было. Правда, теперь съезжались на спектакли со всей губернии, но сами спектакли были реже. Дед нанял по просьбе Алеся балетмейстера, учителя пения и еще постановщика, он же учитель французского и итальянского. Она однажды спросила у Алеся при встрече:
— Как вы этого добились?
— Гм, — хмыкнул Алесь. — Просто сказал, что никого не удивит театр-каторга, как у Юсупова. И что если уж театр, то надо сделать лучше, чем у Шереметьева.
Иногда они встречались на репетициях или на разборах постановок. Не очень часто. Алесь был занят другим.
…Они шли аллеей и молчали. Если б кто-то посмотрел на них со стороны, то подумал бы, что это удивительно хорошая пара.
— Вам не очень скучно здесь? — наконец спросил он.
— Да особенно некогда скучать. Вы знаете, я уже неплохо говорю по-французски и по-итальянски…
— Мне казалось, вы всегда владели ими, — сказал он.
— А кроме всего, меня как будто что-то удерживает здесь, не дает уйти. Что-то незавершенное.
Вокруг звенели кусты. Каждый по-своему. Дальнее и близкое соловьиное пение сливалось в одну мощную и высокую, аж до неба, симфонию.
— Почему вы подошли ко мне?
— Разве можно оставить другого в таком холодном мире?
Мокрые лапы орешника. Горьковатый запах ландышей.
— Знаете, о чем я думал? Я думал, что нет в мире более одинокого существа, чем человек.
— Как рано это пришло вам в голову…
Теперь молчала она. Потому что все о нем знала.
С самого начала она с тревогой следила из аллеи, как он шел по ветви, слегка покачиваясь над водой.
Ночь оставила вместо его фигуры только тень, вознесенную в небо. И во всем этом было такое одиночество, такая бесконечная отчужденность прекрасного, что она поняла все. И мелкими и ничтожными были перед этим все правила.
Возможно, Гелена и не подошла б, если он не лег на траву. Но это обычное человеческое движение напомнило ей, что он юноша, моложе ее на семь лет, и что она должна о нем заботиться.
…Когда они подошли к дворцу, было поздно. Нигде ни огонька. Каскады выключены, кроме «Побежденного Левиафана», и полную тишину нарушал лишь шелест его струй да еще соловьиный хорал.
— Прощайте, — сказал он, как другу, протянув руку, и осекся. Он был, пожалуй, испуган своей вольностью… Как будто бы той, другой, подал руку.
Но она спокойна протянула ему свою, и он ощутил прикосновение ее пальцев.
— Бог мой, — прошептала она, — какие холодные руки!
Она смотрела на него.
— Что, мир как издевательство?
— Похоже на то.
— А кто сказал мне, что чудеса должны всегда сбываться?
— Ну, — невесело рассмеялся он — не я. Кто-то другой. Какой-то одиннадцатилетний мальчик.
— Вы помните, когда это было?
— Помню.
— Ну вот…
Молчание.
— Знаете что, — тихо сказала она, — не идите никуда. Если вам не будет скучно со мной, зайдите. Я зажгу огонь… Нельзя одному блуждать в такую ночь.
Сказав эти слова, она сама испугалась их. Но он ответил «хорошо» так естественно, ни о чем не думая, кроме своего согласия, что она умолкла. У него было такое лицо! Темное, исхудавшее, похожее на живую трагическую маску.
И с чувством, подобным падению в ледяную воду, поняла, что пришел ее час. Тот единственный.
Она протянула ему руку, потому что за дверью, на лестнице, было темно.
— Идите.
…Загорелась свеча.
Он не был в этой комнате давно. Минуло семь лет. Но за это время, казалось, здесь не изменилось ничего.
Простой туалетный столик. Стол побольше, возле которого глубокое кресло и козетка. Камин, в котором заранее приготовлены дрова и береста. Полка с книгами. За полукруглым окном ночь.
Изменилось лишь одно: дверь в соседнюю комнату была открыта, потому что теперь и вторая комната принадлежала ей. Да еще на стене висела картина. Его, Алесев, подарок после постановки «Медеи» — «Хата» Адама Шемеша. Обычная белорусская хата под корявой, в цвету грушей и старые, очень старые дед и бабка в белом, которые сидят на завалинке и с ожиданием смотрят на дорогу. А на всем этом последний отсвет заката. Тысячу лет им ожидать и не дождаться.
— Садитесь в кресло, — тихо сказала она.
Он сел.
— Снимите ботинки. Роса… Вот вам туфли. Сомните задники — иначе не влезут.
Она встала на колени и пламенем от свечи подожгла бересту в камине. Пополз вверх дымок, затем желтоватый огонек. Яркий сине-красный огонь вырвался из плена и охватил дрова. Пламя заплясало на ее лице. По стенам тоже скользили красные блики. Она села напротив.
— Ну вот, давайте будем смотреть в огонь.
Он вдруг увидел, что ее туфельки тоже потемнели от росы. Протянул руку — это казалось естественным — и дотронулся пальцами до стопы.
— И вы еще смеете давать мне советы? Возьмите обратно свои туфли.
— Я к огню.
Алесь поискал глазами и увидел на ковре черно-красный плед.
— Приподнимите ноги… Вот так… И так…
Он поднял глаза, и их взгляды встретились. Ее глаза, — а они были больше, чем у всех людей на земле, — пристально, словно впервые видели, смотрели на него.
Румянец разлился по его щекам. Он подумал, что сделал что-то такое, после чего ни ему, ни ей нельзя будет даже издали взглянуть друг на друга, а не то что разговаривать как все остальные люди.
Она взяла его руку.
— Что с вами случилось? Что?
Ей дорого стоили эти слова и это движение. Но она видела этот страдальческий румянец и то, как он потом побледнел.
— Не знаю, — сказал он.
Его в самом деле лихорадило.
Приложила неподвижные уста к его лбу.
— Ничего. Это просто из меня выходит холод.
Рука юноши лежала в руке женщины. Он осмелился и протянул вторую руку, взял ладошку и спрятал ее в своих ладонях.
— Глупость, — сказал он. — У меня в деревне была белка. Когда, бывало, сделаешь из ладоней «хатку» с круглым входом, то она залезет туда, накроется хвостом и спит. Вот так и сейчас.
— Конечно, глупость.
Прыгал огонь. Красные отблески бегали по ее лицу. Оно было бледное, с нежной и удивительно красивой кожей.
— Хорошо? — спросила она.
— Хорошо, — ответил он.
— Так зачем было идти в ночь? Человеку нельзя быть одному.
— Человеку, который ненавидит, нельзя быть с людьми. Его надо сторониться, как заразного. И я не имею права на снисхождение людей.
— Почему?
— Я сегодня убил двух человек… То есть я не убил… Но я представил себе, как я это буду делать.
— Такое преступление есть у каждого.
— Разве? И у вас?
— Конечно. Помните, как мы на масленой организовали пирушку в «диком замке»? Актеры и вы. Помните, крылья были вокруг, и лики, и жесты покорности и гнева?
— Помню, — сказал Алесь.
— И песни помните?
Звуки «Любимого» возникли в ушах у Алеся. Звали и словно обещали что-то голоса. И он снова плакал у ног гранитной фиванской обезьяны: «Боже, отдали от меня…»
— Помню, — побледнел он.
— Но вот. Я поняла тогда. Они тоже совершили что-то вроде убийства.
— Вы не пели, — улыбнулся он.
— Я не пела.
— Я не могу ненавидеть, — произнес он. — Не могу убивать. Не могу, чтоб мир был как издевательство. Не могу, чтоб холод. Я хочу, чтоб между людьми всегда было… вот так.
— Так будет, — сказала она.
— Когда?
— Разве я знаю, когда? Наверно, тогда, когда вот эти старики дождутся детей. Всех. Тех, что забыли и изменили, и тех, что в кандалах, и убитых. И, главное, тех, что каждый день совершали для другого хотя бы маленькое чудо. Если человек, каждый человек очень захочет сделать для другого хотя бы маленькое чудо, мир сделается миром чудес.
Он наклонился и припал головой к ее рукам.
Она тихо поднялась, подошла к окну и раскрыла его. В комнату ворвалось соловьиное щелканье.
Потом она вернулась на свое место. С птичьей песней как бы властно вошло сюда, в тихую комнату, то, что он оставил на берегу озера: гортанный крик козодоя, опьянение зарослей и красота, похожая на издевательство.
Он поднял на нее глаза и все понял.
— Не уходи, — шепнула она глухо. — Останься… Пожалуйста, быстрее, быстрее поцелуй меня.
Нестерпимо дрожало сердце. Его удары были подобны грозным ударам молота. Распростертый на спине, словно низринутый чем-то могучим и угрожающим, он видел сквозь открытую дверь яркое пламя камина, и это было похоже на то, как будто его собираются пытать огнем.
Пламя. Пламя. Угольки в камине как бы меняются местами. Из окна плывет синяя, холодноватая ночь. В ней аромат листвы и влажный запах озер, вода которых настояна на вербовой коре, кустах и водорослях.
Но все это глушит неистовый соловьиный гром. Словно одна, последняя ночь осталась им для песен и жизни. Расплывается, отходит куда-то слепая ненависть. С каждым ударом сердца растет и заполняет все существо нежность, чистота и боль. И еще огромное, до самого края земли, и слитное, будто из одного сердца, щелканье маленьких птичек во влажных кустах.
Золотая головешка упала в камине, блеснув пламенем и рассыпав искры. В ее свете он увидел глаза, которые смотрели на него, как бы прося пощады и одновременно отказываясь от нее.
Они лежали рядом, он — на спине, она — прижавшись к нему, на боку, и смотрели в ночь.
— Чувствуешь? Это кора вербы, — сказал он. — А вот ландыш… А там, видимо, с самого глубокого яра, где тает лапинка снега… потому что ледяные ключи… слышишь?
— Нет. Корой пахнет, ландышами тоже… А что?
— Последняя анемона… А вот побеги вампир-травы.
— Чего?
— Ну, еще называют «гадючье зелье»… Снова ландыши… А вот «лесной мед».
Молчание.
— Не слышу. Ничего больше не слышу.
Соловьи заливались, как перед погибелью. И от этой песни, и от прикосновения руки холодело у Алеся в груди и темнело в глазах…
…У своих глаз он видел ее глаза. Они были больше, чем у всех, кто есть на земле.
…И в плену жарких, невыносимо слитных объятий он с удивлением, трепетом и болью, не веря себе, всем существом своим, от бронзового замка рук до глаз, что смотрели в ее глаза, и до похолодевших от внезапной догадки пальцев ног, почувствовал, как испуганно бьется ее сердце, отданное неизбежному — и небу, и соловьиному грому, и ему, — сердце невинной.
В этой догадке вдруг слились трели соловьев, горьковато холодный запах ландышей, крик козодоя, звезды над головой и под ногами.
А потом все исчезло. Был мир и в нем человек.
…
Голова женщины лежала на груди мужчины. Оба молчали, словно боялись расплескать то, что несли в себе.
Алесь осторожно обнимал ее, сам не понимая, что с ним. Иной стала ночь. Иными стали соловьи и запах вербовой коры. Исчезла куда-то неистовая, страшная ярость. Разрушенный мир, что еще час назад лежал в развалинах, начал собираться в одно и как будто сам по себе выстраиваться во что-то слаженное. И само ощущение этой гармонии после дымных развалин было счастливым и огромным.
Он никого не ненавидел. Для этого нового, для стыда и гордости, для величия и безграничной глубины нового были доброжелательно-безразличными все враги на земле.
Она тоже лежала неподвижно. И в ее сердце сливались гордость и одновременно твердое понимание того, что она сделала.
Все началось с благодарности. В тот миг, когда одиннадцатилетний мальчик в бесполезном — разве в бесполезном? — протесте, который ничего не мог изменить, крикнул Щуру гневные слова. Это было трогательно и смешно. Она уже знала: чудес на земле не бывает.
И вдруг эти руки сломали шею судьбе. Такие еще тогда слабые, а теперь такие сильные руки.
Началось с этого. И он, младший, вдруг стал всесильным и словно бы старше ее и дороже родных, потому что они дали только жизнь, а вместе с ней рабство, а этот — свободу.
А потом пришло иное. Года три, как пришло. Началось с этой вот картины. Играли «Медею». После первого же спектакля приезжая труппа отказалась играть с нею. «Извините, это просто унизительно для нас», — сказал директор. Она обрадовалась. Все эти римляне, греки, испанцы давным-давно опостылели ей. Почему в пьесах нет обычных людей, какие вокруг? Мужиков в хате, вечеринок на покровa, свадеб, ссор, похорон? Почему нет мещан, панов, корчмы? Почему на сцене двигаются квазииспанцы и на каждом шагу гремит гром? Разве так беден трагическим и смешным наш край? В чем причина?
Он, тот, что рядом, встретил ее у каскада: видимо, ожидал.
— Вот. Это вам.
В комнате она развернула бумагу и увидела хату с корявой белой грушей и багрянец заката на лицах стариков. Старики ожидали. Как тысячи таких на ее земле. Как ее старики, к которым она не вернется, потому что они умерли.
Проревела всю ночь, глядя на цветень, завалинку и ожидание в глазах стариков. А потом поняла, что любит. Потому что никто так не понимал ее… Она знала о разнице в возрасте, в происхождении, во всем… Но она не могла смотреть ни на кого, кроме этого юноши, хотя и понимала всю неестественность того, что она бережет себя для человека, который никогда к ней не придет… Надо было бежать, но она не шла отсюда, ожидая какой-то неведомой отплаты, какого-то служения ему.
Сердце болело из-за того, что с ним сделали. А может, это опять была судьба? Иначе она не могла…
А он лежал и думал, что ему теперь нет иного выхода, как жениться на ней, потому что девушка доверилась ему.
Пускай вопит округа — он им быстро заткнет рты.
На миг в его сердце шевельнулась почти физическая боль и нестерпимая жалость, но он отогнал их. Понимание между ним и той, что была рядом, благодарность за возвращенный мир, где все было в нем и он был всем, благодарность за жертву как будто смелu прошлое. Они были сильнее.
У него будет самая лучшая и самая красивая в мире жена.
— Я, наверное, очень плохая…
— Почему? — спросил он.
— Так не делают, так нельзя… я знаю. Но ты все же обними меня.
— Я хотел сказать тебе то же самое… Но я тоже думал, что так нельзя.
Их улыбки были рядом.
…Опершись на локоть, она смотрела на него.
Не по возрасту мощные плечи, широкая, как у греческих статуй, гладкая грудь. Безупречная форма откинутой головы.
Он тоже смотрел. Руки нежные и тонкие. Волосы искрятся. Глаза во тьме большие-большие.
Гелена перебирала пряди его волос.
— «В багрянопером шлеме и крылатом…»
— Ты помнишь? — спросила она.
— Конечно.
— А тебя я вначале и не видела. Сидит кто-то рядом со старым паном. И вдруг крик. Бог ты мой, какой! Стыдно стало, что кто-то так верит. Я забылась и глянула… Вежа почему то потом ничего мне не сказал.
— Еще бы, — улыбнулся Алесь. — Я даже не заметил тогда, что этот семинарист, автор, подвел к Могилеву… море.
— Нет, не то… Я взглянула и увидела хлопчика — я и сама была дитя. А потом ты пришел и сказал, что чудеса должны всегда сбываться. А я улыбалась, а потом перестала улыбаться.
Он поцеловал ее руки.
— Я очень жалел тебя. И эта жалость была как любовь. И еще было что-то более высокое. Я от него и теперь не могу избавиться… Не верю, что ты здесь, что моя… Это как самое большое чудо.
— Глупенький, я самая обычная.
— Не верю. Мне и теперь кажется, будто ты пришла ко мне, а потом запылает заря и ты поднимешься туда.
— Так и будет. Только не туда, а в дебри. Где даже в полдень тень.
— Что такое? — недоуменно спросил он.
— Потом… И вот ты пришел… Я поняла это как предначертание судьбы.
Улыбнулась.
— Для других довольно банальная история — бывший пан и его бывшая актриса. Но ты никогда не был паном. Ни одной минуты. Послушай, — продолжала она, и он не заметил за ее внешне спокойным тоном чего-то глубоко скрытого. — Ты чудесно читаешь. Помнишь, ты читал нам однажды, когда мы попросили, английские стихи? Лучшее из того, что я когда-нибудь слышала.
— А, помню… «Эннабел Ли» Эдгара По.
И северный ветер дохнул и отнял
У меня Эннабел Ли.
Но ангелы неба и духи земли
До конца не могли, не могли
Оторвать мою душу и разлучить
С душой Эннабел Ли.
Он обнимал ее, а где-то за окном тянулась к звездам вампир-трава.
В могиле, где край земли,
Там, у моря, где край земли.
— Спасибо тебе, — странным голосом сказала она.
Она почти успокоилась. Она все же услышала от него слова любви, хотя и обращенные к другой.
…В этом голосе был легкий акцент, с которым говорят в Драговичах. Акцент, который рождал мягкую жалость, стремление защитить ее.
…Алесь лежал на спине, чувствуя, что какая-то неведомая сила вот-вот, вот сейчас поднимет его, и он, не шелохнувшись, так и поплывет над кронами деревьев, над кручами Днепра. И вдруг что-то толкнуло его, словно оборвав полет.
— Почему ты говорила о дебрях, где даже в полдень тень?
Она почувствовала: пришло время, больше молчать было нельзя. С каждой минутой они все больше привязывались друг к другу. Особенно он.
— Ты не должен. Не должен.
— Я хочу, я люблю тебя.
— Не меня, — сказала она. — Тебе нужна другая. Ты любишь ее. Ты еще не понимаешь этого, но ты любишь ее.
— Нет, — возразил он. — Нет.
— Да, — сказала она. — Эта ненависть — просто ваша молодость. Неуравновешенность.
— Так как же тогда?!
— Ты хочешь спросить — зачем? — Она горько рассмеялась. — Тебе нужны были вера и сила… Большое мужество и уверенность. Твердость. Мальчик мой дорогой, — она гладила его волосы, — ты дай мне слово… Тебе не надо больше никогда быть со мной.
— И ты могла?…
— Бог мой. Это так мало.
— А изуродованная жизнь?
— Я не собираясь ее предлагать кому-нибудь еще… И потом — кто мне ее дал?
Он поверил: переубедить ее нельзя.
— Будь мужчиной, — тихо сказала она. — Рядом или далеко — я всегда буду помнить тебя. Если тебе будет тяжело, как теперь, и никого не будет рядом, я приду. Я даю тебе слово, первый мой и последний.
Он сел, опираясь на одну руку, и начал смотреть в ночь за окном. Он молчал, хотя ему было плохо. Но он стал иным за эти несколько часов. Он теперь ни за что не согласился бы страдать на виду у других. Он понял, что никогда в жизни уже не заплачет, только при невозвратимой потере, которая есть смерть.
Алесь смотрел в ночной парк, где замирали последние соловьи.
Была боль, и было мужественное примирение. Все равно звезды стали звездами, мир миром, а человек человеком.
VI
На Днепре стоял мощный паводок. Выше Суходола великая река разлилась на двенадцать верст. Солнце играло в ней, и рядом с этим могучим сиянием казалось мизерным поблескиванье монастырских куполов на том берегу.
На вспаханных огородах земля была черная, лоснящаяся на отвалах, и ослепительно белые яблони красовались, как невесты. Вот-вот должна была зацвести сирень.
Золотыми подкрыльями трепетали на коньках крыш и возле скворечен прошлогодние скворцы. Это была их первая настоящая весна.
И городок, и деревни вокруг, если посмотреть с высокой крыши, казались букетами снежных цветов.
И лишь опытный глаз видел серый цвет в этом белом разливе. Потому что это была цветень.
Грязновато-белая от тычинок цветень яблоневых садов.
На разливе, среди могучих дубов, что стояли по пояс в воде, приткнулись друг к другу несколько челнов. На вершине одного из дубов шевелился головастый Левон Кахно.
Его старшие братья — широколицый добродушный Петрок, белый до седины Иван, тонкий и ловкий, как вьюн, Цыпрук и ворчливый увалень Макар — сидели в одном из челнов. Разные и подобные: большие глаза, носы с легкой горбинкой, розовые губы. Другой челн — другие люди. На руле сидел Цыпрук Лопата из Озерища, глава большого рода. Огромный, как медведь, хмурый, глазки маленькие, сонные. В его челне, посреди мокрых сетей и рыбы, на ядовито-зеленом от воды сене сидели три сына — смотрели на отца, ожидая указаний.
Старший, Юлиан, держал на коленях, как отец весло, кремневое ружье с граненым стволом и темным пудовым прикладом. По прикладу вилась врезанная в древесину и расплющенная молотком медная проволока. Для красоты… Широкоскулое лицо Юлиана с очень широким, но красивым ртом и сильными челюстями было бледно.
Перед ним сидел второй сын, Автух. В чистенькой белой рубашке. На ней кожух без рукавов, овчиной кверху. Белые длинные волосы спутались, падают прядями чуть не до плеч и прикрывают лоб. От этого за версту несет буйной неторопливой силой. Выпуклая, как бочонок, грудь, толстые руки. А лицо худое, хотя и широконосое, и все в мускулах у челюстей, рта и щек.
На носу челна лежал, опершись локтями на влажную сеть, младший из Лопат — Янук. Волосы тоже спутанные, рот тоже большой и жесткий. А глаза больше, чем у всех братьев, задумчивые.
Андрей и Кондрат Когуты с третьего челна смотрели на Янука настороженно. Помнили, что это из-за него Галинка Кахнова вынуждена была когда-то проситься в челн к Андрею. И еще знали, что рано или поздно, а им с Януком доведется столкнуться.
В четвертом челне, что приткнулся к самому дубу, сидели мельник Гринь Покивач и возмужавший за эти годы, весь словно битый сивером и солнцем Корчак. Русые волосы выцвели, дремучие черные глаза смотрели пронзительно. Под грязноватой белой свиткой, за красным поясом, были два пистолета и длинный, дюйма на четыре длиннее, чем у всех, корд.
Покивач в корме держал весло, не сводя глаз с хлопцев на вершине дуба. Пронзительных, желто-янтарных, словно у пойманного коршуна, глаз. Сухое, почти безбородое лицо с редкими усами как будто еще больше подсохло от настороженности и ожидания. У его ног лежали два ружья, прикрытые свиткой.
— Тот, что от вас отъехал, это кто? — спросил Корчак.
— Молодой Загорский, — ответил Андрей.
— Гм. — Корчак прижмурил глаза. — А с ним?
— Кирдун Халява.
— Жаль, — сказал Корчак. — Это почему они здесь?
— А что, Днепр только для тебя? — спросил Кондрат. — Он уже третий день у нас. Вот мы нарочно вчера сетку возле трех верб поставили, а сегодня погнали Алеся снимать. Время есть… Ты не горячись, Корчак, он человек хороший.
— Значит, поспешаем, — сказал Корчак. — А ты, Кондрат, смотри. Не пожалеть бы тебе…
Кондрат улыбнулся одним ртом.
— Ты еще не пануй. Ты мужиков не знаешь, Если кто-то и пойдет к тебе, ты не задавайся, атаман. Ты с ними как с братьями. Они натерпелись. Им нового пана, да еще из хамов, не надо.
— Чего плетешь? — спросил мрачный Юлиан.
— А то, что твоя спина, видать, по новому седлу плачет, Юлиан. Не дай бог из хама пана, а из дерьма пирог.
Покивач неожиданно согласился:
— Я тебе это, Корчак, семь лет назад говорил.
Корчак сдержался:
— Хорошо. Погорячился я.
— И я говорю, — сказал Кондрат. — А станешь горячиться — дела не будет. Не по себе тебе — никто не держит. Поворачивай. А хочешь остаться, нас уважай. Мы тебе товарищи, а не батраки. Пригон с панством — они на всех лежат. Потому и решили бунтовать.
Корчак засмеялся.
— Ну, хватит, хватит. Сам разумею. Мужики-и. Одна мы кровь На одной воде замешены. — И он показал на безграничный разлив: — На нем вот.
— Рассказывай, — бросил Кондрат.
— Я некоторым панкам под Дощицей учинил-таки веселье, — сказал Корчак. — В ночь на чистую пятницу два имения спалили хлопцы…
— Вместо божьих свечек да факелов, — с мрачной веселостью сказал Цыпрук Лопата. — Да что из того? Это сто верст Днепром. До нас и дымком не потянуло.
— Теперь вас тут ожидают, — буркнул мрачный Юлиан Лопата. — Чего вас туда понесло, когда вороги тут? Кроер тут. Мусатов тут. Таркайлы тут.
Отец иронически смотрел на сына:
— Не думал я, что ты такой. Знал, что дурень, но что тако-ой…
— Отец говорит правду, Юлиан, — сказал Корчак. — Отсюда начинать — концы были б. Кроер прослышал. Он с осени сотню черкесов в имении держит. Без крови не обошлось бы… Да еще в округу «голубых» нагнали — солдат, жандармов. Получается, ты меня на смерть приглашаешь, а морда такая, вроде зовешь на чарку.
— Осел, — сказал Янук.
И осекся. Автух положил ему на плечо ладонь, встал.
— Не вякай… Наше дело маленькое. Слушай… вот.
Неприятные люди были Лопаты. Андрей и Кондрат, переглянувшись, поняли, что подумали одно и то же.
— Они нас тут ожидают, — сказал Корчак. — А я иду в другое место. Куда — услышите. Вы остаетесь. Передавайте мне вести. Людей готовьте, кто захочет. Ты, Автух, сразу, как только узнаешь, что солдатни убавилось, — кто мне. И я приду! Ну, кто из вас тогда со мной пойдет? Лопаты — это ясно. А кто из Кахнов?
— Я, — неожиданно ответил с верхушки дуба головастый Левон. — Вы там тише, по воде далеко слышно.
— Хорошо, — притих Корчак. — Еще. Смелее, хлопцы! Помогать-то вы тут все помогали. И жратву собирали… и порох… и прятали, когда нужно. А вот когда вернусь, пойдете со мной? Когда наших «благодетелей» трясти будем?
— Пожалуй, я, — буркнул Иван.
Кондрат и Андрей переглянулись. Иван был любимый брат Галинки.
— И я, — сказал Петрок Кахно. — Я с Левоном.
— А вы?
— Мы — нет, — ответил за себя и Цыпрука Макар. — Не выпадает. Землю кому пахать?
— Как хотите, — сказал Корчак. — Проспите только царство небесное.
Глаза Корчака встретились с глазами Когутов:
— А вы?
Кондрат взглянул на Ивана, и тот ухарски подморгнул ему.
— Что ж, — вздохнул Кондрат, — пожалуй, что и мы. Чего уж тут. Бунт так бунт. Каждый год бунты.
Приднепровье действительно бунтовало часто.
— Хорошо, — кивнул Корчак.
— Ты не сердись, — сказал Цыпрук Кахно, — мы не доносчики. Будем помогать.
— И на том спасибо, — склонил голову Покивач. — Вольному воля.
— Ты обещал Даньку-пастуха привести, — сказал Кондрату Корчак. — Что там?
— Не соблазняется, говорит: чепуха все. Что мне, говорит, девок мало или еды? Кормят, говорит, люди и в торбу кладут, и на зиму дают.
Кондрат так передразнил Данькину интонацию, что все захохотали.
— Теперь, хлопцы, казаки, говорите, кого тут прежде всех палить будем, когда приду, — сказал Корчак.
Все примолкли. Одно — бунтовать «где-то там», и совсем иное — в округе, где все друг друга знают. Одно дело — пускать красного Будимира где-то под Дощицей, а другое — обрекать на «огонь и поток» людей, которых знали.
— Земли Загорских нам не по зубам, — подтолкнул людей Корчак. — Эти хоть и спокойные, но отчаянные. Так будут защищаться — пыль от нас полетит.
Добродушный Петрок Кахно вдруг рассердился:
— На таких нападать мы тебе, Корчак, не товарищи, вот что.
— Что, телята?
— Телята не телята, а против таких идти — душу загубить. На злых тaк пойдем, что нас еще на сворке держать надо будет. А добрых не трожь.
— А панщина?
— Не они ее завели.
— Панщина…
— Тьфу! Ты иди глянь, как в Могилеве лупаловские кожемяки живут! Как гребенщики в Подуспенье! Кровью харкают, а вольные люди.
— Чего спорим? — упрямо сказал Корчак. — Я не согласен. Но я ведь говорю — не по зубам, — так с кого?
— С Кроера, — подал голос с дуба Левон Кахно.
— С него, — поддержал Петрок, — с него, собаки.
— И то правда, — сказал Корчак. — Я сам говорить не хотел. Подумали б: из-за себя. Согласен. Кроер. Еще кто?
— Браниборский, — подсказал Юлиан Лопата.
Автух запыхтел, как еж.
— Зачем? Он, говорят, волю дать хотел.
— А ты спросил мужиков? — Глаза Покивача блеснули. — Не хотят они такой поганой воли без земли.
— Нам, хлопцы, вообще трудно будет, — вдруг сказал Иван. — Время малость не то. — Он стыдливо улыбнулся. — Я не боюсь, но просто… слухи эти, что вот-вот волю дадут. С землей. Кому охота, ожидая такого, голову свернуть? Каждая община как каменная глыба. Не сдвинешь. Лежит на своем клочке поля и молчит.
Иван словно бы высказал мысли каждого. Потому что все боялись и подсознательно чувствовали: народ теперь не поднять. Но и ожидание было хуже смерти.
А Корчак знал все лучше других: не поднять народ. Все ждут. Не поднять. Разве что потом, когда воля выйдет какая-то не такая, как ожидали.
Но ему было невмоготу ожидать. Еще и еще ожидать. Как ожидал уже семь лет. Молчать. Бесконечно менять убежища. Возможно, еще три-четыре, семь лет.
Однако мыслей своих им высказать он не мог. И поэтому с деланной решимостью сказал:
— Поднимем не поднимем… это тогда ясно будет. Не поднимем, так подождем. Под нами не горит. А попытаться надо. Быдло уже мы, а не люди — вот до чего довели. Кроер грабит, Мусатов стреляет в людей… Защиты темному человеку нет. Придешь в суд — что докажешь, когда языка их не понимаешь?… Волки. А с волками по-волчьи… — И прервал сам себя: — Значит, решили — Браниборского… Еще кого?
Воцарилось молчание.
— Раубича, — сказал вдруг Кондрат.
— Ты что? — попытался было остановить брата Андрей.
Но Кондрат повернулся к нему и одними губами бросил:
— Молчи!
Лицо было такое резкое и гневное, что Андрей умолк.
— Раубича, — повторил Кондрат.
— Зачем? — спросил кто-то.
Над челнами повисло неловкое молчание. Никто, кроме Андрея, не понимал, почему Кондрат отдает на растерзание будущему разгрому и огню внешне сурового, но справедливого пана Яроша.
Андрей сидел и только молился про себя, чтобы никто не догадался о причине — о позоре Загорских. Но никто, видимо, ничего не знал.
— У Раубича можно разжиться оружием, — сказал Кондрат. — Можно и у других богатых родов, но те стерегутся.
— Нечестно, — сказал Петрок.
— А дочь куда отдает? — вдруг вступил в разговор сонный Автух. — С кем породниться хочет?
Андрей мучительно покраснел. Разговор все время вертелся вокруг опасного: Ходанский — Раубичи — предложение дядькованого брата… Вот-вот…
— Волка к волку тянет, — мрачно сказал Корчак. — Согласен, пускаем огонь.
Лицо Кондрата сияло гневной радостью.
— Раубича, — словно не мог оторваться от этого имени, повторил он. — Ужей гонять собрались, а про гадюку никто не вспомнил. Ходанских палить надо.
— Хиба только палить? — с вершины дуба спросил улыбчивый Левон.
— Зничтожить, — сказал старый Лопата.
— Значит, так, — подвел итог Корчак. — Как только здесь успокоятся — пускай даже через год, — собираемся и идем. Вначале делимся на две группы. Одна — на Кроера. Вторая — на Ходанских. Оттуда…
— На Рубича, — сказал Кондрат.
— …на Раубича, потом подпустим петуха Браниборскому и на помощь тем, кто в Кроеровщине.
— Почему так неровно? — спросил Янук.
— Очень просто, хлопче, — сказал Корчак. — Ты там не был, а я имел счастье. У него этих собутыльников, загоновых пропойц, сотня, да и черкесов вряд ли он отпустит. Знает. Малой кровью не обойдется. Так что одни обложат, чтоб сорока не пролетела, подмогу не позвала. А другие дела свои сделают, да и придут.
Синее море половодья лежало вокруг. Плясала по нему золотая рябь. С верхушки дуба вдруг послышался голос Левона:
— Човен с этими двумя.
Люди начали собираться, отвязывать челны. Левон ловка, как куница, спускался с дерева.
— Поговорили, — сказал Корчак. — Ах, жаль, нельзя… Мужик рядом. Подплыть бы да отправить этого кувшинки растить.
И тут Андрей увидел, как страшно изменился в лице брат.
Кондрат ловко, как кошка, вскочил на ноги — душегубка почти не качнулась.
— Ты пожалеешь, коли тронешь его или кого-то из Загорских.
Корчак покраснел, и сразу на его загоревшем лице выступили два, крест-накрест, шрама — следы плети Кроера.
— Ого! — сказал Корчак. — А ну!
Под свиткой, у ног Покивача, шевельнулось дуло ружья. Андрей взял в руки острогу.
Корчак обвел нахохлившихся противников глазами и сдержался:
— Объясняй.
— Он мой брат. И этого достаточно.
— Оно и видно, что панские лизунчики, — сказал Янук. — Панскую землю панскими лошадьми пашете. На панские деньги Павлюк с Юрасем школу кончили…
Он умолк. Широкий, белый от работы трезубец остроги висел на уровне его глаз.
— Лизунчики… — сказал Кондрат. — Мы, Янучок, не лизунчики, а дурни, когда с таким сбродом, как ты, вместе головы сложить собираемся. Не стоило б. А ты же, наверно, слышал, по чьей воле та девка Ходанских землю да свободу получила? Не по твоей. И по чьей воле панщины на этом клочке земли почти нет, тоже слышал. И что сам ты ни насилья, ни сгона не знаешь… И на кого поэтому соседи зубы точат.
Бросил острогу. Андрей, зная брата, только вздохнул: пронесло.
— Да тебе этого, губа ненасытная, мало. Ты не обо всех думаешь. Ты сам бы только все, что вокруг, под зад сгреб, да и сидел бы, пока… аж до сердца не сгнил бы. Серый князь, морда твоя паскудная… — Задохнулся. — А тот простой. С нами, со всеми сермяжниками, как равный. Если б тебе его силу, мы через неделю взвыли б. Кровью сплыли б.
Повернулся к Корчаку:
— Погибать с тобой согласны. Но если что-то этому роду будет, Озерище тебе враг, Витахмо — враг, Студеный Яр — враг.
Андрей тоже поднялся:
— Святое враг… И другие, все сорок деревень, — враги.
Кондрат криво улыбнулся.
— Хватать да выдавать мы не будем, — сказал он, — упаси господь. Просто не будет тебе ни хлеба, ни крыши. Через неделю сам к Мусатову приползешь, если не возьмут. Потому что ими, простыми, держится каждый лесной брат… Ими, Корчак.
Корчак поднял руку:
— Хорошо. Ты успокойся. Веры во мне нет. Но, уважая тебя, спорить не буду. Что б ни было, эти люди и, конечно, твой брат останутся в живых. Даже в темном лесу. Даже когда на наш табор из леса вылезут… Ну? Теперь мир?
— Мир, — остыл Кондрат.
— Друзья?
— Друзья.
— Тогда прощайте. Оставим их, хлопцы, да и сами распрощаемся.
Зажурчала под веслами вода. Три челна начали поспешно удаляться. Спустя несколько минут они скрылись за шапками кустарников. Когуты остались одни.
— Ты, брат, гляжу я, горя-ячий, — сказал Андрей.
— Бывает.
— А почему ты не сказал, что это Алесь плеть из рук Кроера вырвал?
— Повредило б. Корчак заносчивый. До сих пор всем говорит, что выжил после смертных побоев Кроера только благодаря своей выносливости. И вдруг нa тебе, панская милость!
Кондрат засмеялся:
— И так слово выдрали… Поплывем навстречу, что ли?
Вместо ответа Андрей резко повернул челн. Кондрата сильно качнуло, но он успел сесть.
— Сдурел? Ты что?!
— Просто хотел поглядеть, как ты пляснешься в воду.
Челн медленно плыл посреди редких дубов. Слепящее солнце с высоты глядело в воду.
— Кондрат, — тихо сказал Андрей, — зачем ты это сделал… с Раубичами?
— Ты у церкви на Галинку глядел, — подкусил Кондрат, — и лица Алеся потом, в корчме, не видел… Ненавижу я это подлое племя, что они с ним сделали… Не имеет права никто так поступать и на милость надеяться. Оплевали, а потом… та… на пасху.
— Она мне казалась хорошей девкой.
— Мне тоже… казалась.
— Он простил.
Кондрат вспыхнул:
— Ну, знаешь!.. Молчит пан бог, да не молчат люди.
— Тс-с… — сказал Андрей.
Показался челн с Алесем и Кирдуном.
— Гей! — крикнул Алесь. — Видите? — И, напрягшись, приподнял из челна большого лиловатого сома; голова рыбины была на уровне груди Алеся, а хвост изгибался на дне челна. — Атаман, — сказал Алесь.
— Тиной будет пахнуть, — заметил Андрей.
— Вымочим, — сказал Алесь. — Вот атаман — так атаман.
— Что-то ты, Кирдун, все время из хаты убегаешь? — подкусил Халимона Кондрат. — Что, жена не греет?
Кирдун с доброй, мягкой улыбкой пожал плечами.
— Да что… Здесь живешь как вольный казак. Плывешь себе, солнце вокруг. А дома… Бабы эти. Жалко их бить, слабые… Ругаться — себе дороже. Но и хвалить не за что. — И ляпнул: — Женщины эти — ну их к дьяволу! Вот и панич Алесь со мной согласен.
Андрей заморгал глазами.
Кондрат, словно только теперь заметил сома, торопливо заговорил:
— Правда твоя, Алесь, сом-атаман… Сколько лет ему может быть?
— А черт его знает. Много.
Челны скользили рядом по течению, среди зеленых деревьев.
— С рыбами этими беда, — заливался Кондрат. — С большими. Деда Бельского знаешь, Алесь?
— Ну, заику?
— Ага. И у порток штанины разноцветные. Плыву однажды, а он большущую щуку поймал. И нанизывает ее на прутик, хочет к лозовому кусту в воде привязать, чтоб жила. И так ла-асково говорит: «Р-р-рябуша м-моя, р-ряб-уша, завтра евреям тебя продам». А та вдруг бултых! И ушла. Так Бельский как завелся: «А туды т-т-т-т…» И так до самого Суходола.
Челны выплыли на синий простор. Ровный на многие версты, стремительный и спокойный, Днепр мчал к далекому морю и весь сверкал под золотым солнцем.
* * *
Жизнь текла спокойно, но ничего не обещала. И потому Алесь обрадовался, получив «с верной оказией» письмо от Кастуся. Его письма всегда будоражили мысль, волновали.
Кастусь писал:
«Все в мире течет быстро. Мне казалось, недавно писал тебе. А минуло почти семь месяцев. Не оправдываюсь. Закрутился я здесь. Да и ты, видимо, потому что ответил на одной странице… Что у тебя? Паненка Михалина?… И, наверно, уже и свадьба скоро?
В октябре я стал студентом императорского Санкт-Петербургского университета, а спустя одиннадцать дней меня освободили от оплаты за учебу. Видал ты? Чудеса! Во всяком случае, спасибо им. Могу жить… Я вообще «счастья баловень безродный». Получил урок, который дает около трехсот рублей в год. Можно было бы жить. И все же я, наверно, отдам предпочтение голоду, потому что не хочу бывать в этом доме… Представь себе существо наподобие вашего господина Мусатова, только разбогатевшего и с кое-какими титулами. Это страшно — человек без убеждений, то есть с теми «убеждениями», каких сегодня придерживается Государственный совет. И сына, неплохого мальчика, успел испортить и развратить. Иногда хозяин приходит, садится в рекреационной и часами доказывает, что наш край православный и что я, например, католик ошибочно. Пусть даже так. Я знаю, что и предки Мицкевича были православными, но во всех этих рассуждениях столько сытого свинства, они вызывают такое отвращение, что я в сектанты пошел бы, шамана слушал бы — только не его. Потому что тех преследуют, а за этим тупая сила, которая спорит только для хорошей работы желудка и вообще считает за лучшее душить.
Алесь, я знаю, это глупость — отказываться от возможности не жить в нужде. Скажут: «Ведет себя как ребенок, дурак. Ну, послушай какой-то час, зато остальное время живи как хочешь». Но это не блажь. Я не могу уступать даже в мелочах. Мне кажется, если я стерплю, если я сделаю вид, что не слышу, я стерплю и большее, не услышу, когда народ начнет вопить от боли. Стерплю, когда будут плевать на меня и на него. Каждый подлец когда-нибудь делал первый шаг к подлости.
Я не хочу его делать. Я не уступлю ни на йоту. Меня не затем родили.
И потом — мы и так слишком терпеливы, и так идем на компромиссы, да еще каждый из них объясняем необходимостью. Я не хочу.
Настоящим людям власть жить не дает. Дает лишь таким, как мой генерал, тем, что «взялись за ум», то бишь жрут, пьют, спят с законной женой или с рабынями, когда жена не знает, и не думают ни о чем, кроме продвижения по службе да собственного кармана.
И они живут, верноподданные: плодят выродков, подличают, крадут и лижут зад начальству и молятся за «царствующую фамилию».
Этим, и только этим, дают жить.
Сидит, павлин, и ругает современную литературу»: «Какая это изящная литература? Где же здесь утонченность? Чему все это учит народ?»
Словом, можно воровать и убивать, лишь бы только проповедовал при этом высокую мораль. Можешь каждый день ходить к Фринам на Лиговку, лишь бы проповедовал законную любовь к богу, императору и жене.
Никто не хочет правды. Никто даже не подумает, что все это — колосс на глиняных ногах, который вот-вот рухнет.
И такая погань руководит нами, да еще и кричит всюду, что будущее за православьем (братская любовь с кнутом в руке), народностью (право сморкаться в руку, ругать иноверцев и получать подзатыльники) и самодержавием (равенство всех честных и чистых перед плахой).
И такая погань ругает тех молодых, что идут за Чернышевским. Они вроде бы западники, социалисты, распутные желторотые, волосатые бомбисты. У них не брак, половое распутство. Их стриженые девки требушат покойников, вместо того чтоб честно торговать собой на брачном ложе. Их литература, вместо того чтоб показывать честных дворян и заботы императора о народном благосостоянии, рисует лохмотья, да голь перекатную, да таких же якобинцев, как они… а что им изображать?… Благородство доносчика Фаддея Булгарина? Фаддеев хватает и не в книгах… Благородство императора, который перебирает пепиньерок из Смольного, а потом дает им приданое и спихивает замуж за своих холуев?
Действительно благородно: мог бы потом просто выгнать на улицу… Или восхищаться высоким образованием общества, которое все еще не может расхлебать наследства Николая-душителя да Сергия-затемнителя по фамилии Уваров?
Нет, та молодежь чистая. Она знает сердцем, что лучше пусть не будет никакого государства, чем такая империя. Лучше никакого величия, чем величие на костях народов.
Но ей тяжело. Ей почти невозможно дышать.
Недавно в связи с общим оживлением надежд, в связи со слухами об освобождении (не очень ясными) и слухами о судебной реформе (еще более неясными), а главным образом в связи с деятельностью «Современника» правые подняли немыслимый визг и лай. Оживление литературы им ненавистно. Они бы всю жизнь писателей в рекреационной держали, угощали за доносы конфетами. Ранний Тургенев — скандал, дискредитация барства в глазах народа! Некрасов — ужас, опасность, пороховой заряд под мощные бастионы государства.
Молодой Толстой, которого ты, наверно, читал, и тот им не по вкусу. А он пока что ничего особенного им не сделал. Правда, по почерку видно, что насолит еще. Не был врагом, так будет. Сделают.
И главное — по собственной глупости они не могут даже доказать, чем для них враждебен тот или иной. Видят чистоту, совесть, доброту к людям, — значит, готово. Потенциальный враг.
Это, знаешь, что мне напоминает? Тот случай, когда я был у вас, а Когуты где-то нашли позднего волчонка и принесли тебе. И мы решили, что сука его выкормит вместе со щенками. Суку замкнули, а волчонка положили среди сосунков, чтоб пропитался их запахом. Помнишь, как они? Слепые, глупые, а как они начали визжать да подпрыгивать.
Так и эти. Ничего не понимают, а чувствуют.
А поскольку они вроде моего генерала и думают готовыми категориями, то главное их доказательство в споре с настоящими писателями то, что их творчество позорит родину (как будто мы не обязаны родине прежде всего истиной), что они подрывают устои родины, что они не любят ее, потому что, когда пишут свои сатиры и полные страдания элегии, они дискредитируют отечество в глазах иностранцев.
И хочется ответить им словами Гоголя:
«Спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других; но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, — они выбегут из всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутине муха, и подымут вдруг крик: «Да хорошо ли выводить это на свет, возглашать об этом? Ведь все, что ни описано здесь, это все наше — хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе?»
Тактика воров! Кричат на других: «Держи его!» — чтоб меньше обращали внимания на их грязные делишки, на то, что первые враги отечества — они.
…Я больше не могу среди них. Даже минуты. Пусть голод. Кто-то сказал, что лучше недоесть, как ястреб, чем переесть, как свинья.
Никаких компромиссов!
Мой здешний приятель, один из самых умных людей, каких мне приходилось видеть, однажды сказал, что мы, белорусы, слишком любим храбрых дядей. Мол, лучше пусть дядя поругается с сильным или хотя бы фигу ему покажет, а мы будем из-за его спины в ладоши хлопать, а то и просто тихо радоваться.
Пожалуй, он прав. Что-то такое есть. Но если мы ненавидим это рабство в крови нашего народа, мы сами должны стать «храбрыми дядями», а не тихо радоваться из-за чужой спины… Кровь — из капель. И, чтоб не загнить от соседства с нечистыми, здоровые капли должны двигаться и нападать на заразу, выбрасывать ее из организма, даже рискуя собственной жизнью. В противном случае — гангрена и смерть.
Друже! Письмо это передаст тебе надежный человек. Провезти, передать, уничтожить в случае обыска — этого лучше него не сделает никто. Потому я и доверился. Но это будет последнее такое письмо. Осенью мы встретимся. Во-вторых, конспирация есть конспирация, а у нас, кажется, кончается детская игра и начитается серьезное. Поэтому это письмо — по прочтении — сразу сожги. Надеюсь на твою честность. В дальнейшем будем надеяться только на память.
Пишу тебе затем, чтоб ты возобновил связь с хлопцами из «Чертополоха и шиповника», проверил, кто из этих романтиков не разжирел, и сколотил из них ядро, которое потом могло б обрасти новыми людьми. Можешь сказать наиболее надежным, что это не игра и не напрасный риск, что нас много и число своих людей неуклонно растет. Надеюсь, что за это время ты не изменился. Если это так — напиши мне обычное письмо, хотя бы про свое здоровье, про Мстислава и добрую Майку и запечатай его не обычной, а своей печаткой. Я буду знать, что ты согласен со мной и начал готовить друзей.
Постарайся также вспомнить, кто из хлопцев, которые во время знаменитой гимназической баталии встали на вашу сторону, живут в Приднепровье, неподалеку от Суходола. С ними тоже нужно поговорить, хотя и более осторожно, потому что их поступок, возможно, идет не от широкого демократизма, а лишь от чувства оскорбленной национальной гордости, от аффекта, вызванного им.
Действуй, друже. Действуй, друг мой.
P. S. От генерала ушел. Буду бегать по грошовым урокам у честных людей. Виктор нашел работу в Публичной библиотеке. Как-то проживем. Благодаря своей работе и связям он познакомился со многими приличными людьми. Ну, а через него и я. Один из них — фигура самая удивительная, какую только можно представить. Это поляк, нашего поля ягода. Много отсидел и отмаршировал в тех краях, где вместо пригородов все форштадты и где над землей парит невидимый дух Емельки Пугача. Там он, между прочим, близко подружился с твоим любимым Тарасом, который все еще, бедняга, томится среди бурбонов, пьянчуг да Иванов Непомнящих. Зовут поляка Зигмунт (а по-нашему Цикмун) Сераковский. Представь себе тонкую, сильную фигуру, умное лицо, твердую походку. Блондин. И на лице сияют синие, самой святой чистоты и твердости глаза. Познакомился я с ним недавно, но уже очарован и логикой его, и патриотизмом, и волей, и мужеством, и той высшей душевной красотой, которая всегда сопутствует скромному величию настоящего человека. Вы должны были б понравиться друг другу… Бросай ты скорее все. Приезжай сюда. И мне будет веселее, и тебе не так будет лезть в голову всякая чепуха».
Письмо было сожжено. Был послан ответ с личной печаткой.
Алесь очень обрадовался письму Калиновского. Приятно было знать, что надо дотерпеть только до осени, а осенью он поедет в Петербург, свяжется с Кастусем и друзьями. Будет все, что зовется жизнью.
И, если понадобится, он отдаст эту жизнь братьям.
Все хорошо. Хоть кто-то есть на свете, кому она нужна.
Родина.
Родная земля.
Беларусь.
…Майскими утрами, до восхода солнца, плясали в житах девчата.
Хлопцы ночью, пробираясь на кладбище, жгли там небольшие, укрытые от постороннего взгляда костры и потом пугали девушек.
— А вон русалки. Ты гляди не ходи без меня. Защекочет.
И девушки слушали их.
Яростно цвел у дорог желтый купальник. Знал, что век у него короткий и скоро его начтут вплетать в венки.
Приближалось время, когда русалки особенно вредят людям, и надо выкроить хотя бы день-два, чтоб утихомирить их, а заодно посмеяться, попеть у костров и вдосталь нацеловаться где-нибудь в зеленом до синевы жите.
За троицей пришла русальная неделя.
Озерищенские девки плели венки и вешали их на березы. А хлопцы несли на зеленых носилках в березовую рощу избранную всеми русалку: самую красивую девочку, какая нашлась в Озерище, тринадцатилетнюю Яньку Когут.
В белой длинной рубашке до икр, с длинными, едва не до колен, распущенными волосами, она покачивалась в синем небе, выше всех. И свежее, нежное личико девочки улыбалось солнцу, нивам и зеленым рощам.
А за нею шла в венках ее красивая свита.
…Жгли огни. Бросали в них венки. Девушки удирали от Яньки, а она ловила их, щекотала. Хлопцы помогали Яньке.
Не обошлось и без драки. Столкнулись за Галинку Янук Лопата и Когутовы близнецы. Медвежеватый Автух заступился за брата и начал валять Кондрата с Андреем. В драку влез Алесь и, к общему удивлению, так взгрел Автуха, что тот пустился наутек. Убежать ему Алесь не дал.
Наконец их помирили, хотя Янук и смотрел волком… Пили пиво и плясали у костров.
И все это было весело, но веселье было окрашено легким налетом грусти.
Приближался день Ивана Купалы, и, хотя лето было еще едва не в самом начале, всем было ясно: солнце вот-вот пойдет на убыль.
Сожгут собранные со всех дворов старые бороны, разбитые сани, колеса, оглобли. И, как солнце, скатится с высокой горы охваченное огнем колесо. Будет катиться ниже и ниже и затем канет в Днепр и погаснет.
Почти неуловимая грусть жила во всем, и прежде всего в травах, которые знали, что после Иванова дня им не спрятать в своих недрах Ивановых фонариков, что пришла их пора и их срежут острой косой.
Неистовство цветения, песен и поцелуев окончилось. На его место пришло задумчивое ожидание плодов.
И потому на цветах, на вербных косах, на дорогах, что заблудились в полях, царствовал покой и легкая грусть.
Все было отдано. Все было исполнено на земле.
…Алесь и Гелена стояли у храма бога вод. Солнечные зеленоватые пятна скользили по их лицам, и прямо от ног шел в мшистый, как медведь, темно-зеленый мрак длинный откос, который весь сочился водой.
От густой зелени живое серебро струек казалось зеленоватым. Журчащим, звонким холодком веяло в яру.
Родная земля — это криницы. И здесь было одно из неисчислимых мест их рождения.
Исход криниц. Вoды. Вoды. Струйки, ручейки, река, море. Зеленый звон под ногами.
— Почему ты избегаешь меня, Гелена? — спросил Алесь.
— Я не избегаю.
Глаза смотрели в сторону, где зеленоватая от тени струйка выбивалась из земли.
У нее было похудевшее и какое-то просветленное лицо. Новое, ничем не похожее на все ее другие обличья.
— Садись. — Он усадил ее на каменную скамью. — Ты… не надо так. Ты знаешь, я жалею тебя, как никого. И я не хочу быть ни с кем, кроме тебя.
Она отрицательно покачала головой. Струйки звонко прыгали в яр.
— У меня будет ребенок, Алесь.
Он мочал — так вдруг упало сердце от неожиданности и страшного предчувствия беды. Этого не могло быть. Он — и ребенок…
Бледный от растерянности, он смотрел на нее. Эти глаза, и волосы, и тонкая фигура — это теперь не просто она. Это уже и он, и тот, о ком еще никто ничего не знает. Трое в одной.
— Правда?
Совсем неожиданно родилась где-то глубоко под сердцем, начала расти и расти, увеличиваться, затопила наконец все на свете, все существо и все, что вокруг, глупая, дикая радость. Ощущение счастья и собственной значимости было таким большим, что он дрожал, захлебываясь воздухом.
— Не может быть… Гелена, правда? Гелена, милая… милая…
Голосом, полным нежности, она спросила:
— Ты на самом деле обрадован?
— Я не знаю. Это похоже… Нет, это не радость. — Он виновато улыбнулся. — Я ведь еще не знаю, как… И еще — я люблю тебя… как воду и небо… как жизнь.
….
Когда они выходили из парка, Алесь, уже немного успокоенный, но с той самой глупой улыбкой на губах, вдруг затряс головой:
— Не верю.
— Фома неверующий.
Он вел ее так осторожно, словно до родов оставались считанные дни.
— Вот и все, — сказал он. — Сейчас пойдем к деду, скажем обо всем. Потом к родителям. Свадьба в первый же дозволенный день. И уедем. Куда-нибудь далеко-далеко. Чтоб море. Очень буду жалеть тебя.
— Алесь, — вдруг сказала она, — а ты задумался на минутку о том, что ты не сказал «люблю» мне, а сказал ему? Говори откровенно.
Загорский, протестуя, поднял руки. Но она остановила слова, готовые сорваться с его губ. Сказала с нежностью:
— И хорошо. Очень хорошо. Значит, здесь ты отец, защитник. Так и надо.
Почувствовав вдруг, что до желанного конца, который отсек бы прошлое, еще далеко, он сказал:
— Венчаемся в Загорщине.
И увидел, как она, словно с силой отрывая что-то от себя, покачала головой.
— Нет, Алесь, на это я никогда не пойду!
— Почему? — упрямо спросил он.
— Да поймите же вы, — словно чужому, сказала она, — все хорошо как есть.
— Кому хорошо? — Голос звучал жестко.
— Вам.
— Мне плохо. Без тебя и без него. Вдвойне.
Она всплеснула руками:
— Милый, милый вы мой! Поверьте мне, вы себе лжете. Вы не видите, а я хорошо вижу, как вы загнали свое чувство в каменный мешок, замкнули. Вы не чувствуете этого, вам кажется, что вы спокойны, но вы все время слушаете, как оно рвется на свободу, стучит в дверь.
— Нет!
— Да, — сказала она. — И в этом для меня нет ничего обидного. Вы думаете, я не знала с самого начала? Зна-ала.
Никогда еще он не видел ее такой красивой. И чужой. Лихорадочные, нежные глаза, на устах теплая и горькая усмешка.
— Ты страшный человек, — сказал он. — Лишаешь его отца, меня радости. Мне никто не нужен. — Голос его звучал глухо.
— Обман, — сказала женщина.
Он подумал о том, что и он, и все, кто вокруг, и Майка — все они ничто по сравнению с этой женщиной. Было в ней что-то, чего не было в них, обычных.
Она смотрела на него и понимала его мысли.
— Алесь, — сказала она, — это неправда, что ты думаешь. Неужели ты думаешь, я сделала б такое, если б не любила тебя? Я потому и делаю так, что люблю тебя.
Он смотрел ей в лицо и верил ей, верил все больше, больше.
— Очень. Потому и убегаю.
— А ребенок? — почти умоляюще сказал он. — Его имя?
— Пусть. Он будет честным человеком.
— Но зачем?
В ее глазах были слезы. И глаза сквозь слезы сияли, как солнце сквозь дождь, о котором крестьяне говорили: «Царевна плачет».
— Получилось бы, что я ничем не пожертвовала, — сказала она. — Наоборот, приобрела. И дешевой ценой. Ты не думай о нем. Просто бог не желает моей жертвы. О н будет. Это такое счастье. Думала отплатить — и вот снова в долгу.
— Это все? — спросил он.
— Все. Ты не уговаривай меня больше. — Она утерла слезы и улыбнулась. — Это напрасно, милый. Через два дня я еду в Суходол, а оттуда в губернию.
— Это окончательно?
— Да. Могилами родителей клянусь.
Такими словами не бросались, и у Алеся сжалось сердце.
Он смотрел и смотрел не нее, и жесткий взгляд постепенно теплел.
— Оставайтесь здесь, — сказал он. — Вам не надо в Суходол. Я клянусь вам не вспоминать ничего, не напоминать ни о чем, пока он не родится. А потом… Потом вы сами увидите, как я стану любить его.
— Я знаю. Все знаю. И потому ухожу.
На миг он пожалел, что она свободная, что в тот далекий вечер он сам принес ей… И сразу подумал, что если б не тот вечер, ничего не было б… А потом жгучий стыд за самого себя обжег лицо и словно лишил права чего-то требовать. Вот она, господская кость, господская кровь, господский дух. Друг Кастуся, рыдалец над более слабым братом, рьяный патриот, с мужиками кумится… Сволочь! Ничтожная дрянь! Кроер!
— Хорошо, — глухо сказал он. — Будет так, как пожелаешь.
* * *
В комнату сквозь тростниковые плетеные циновки едва пробивались полоски солнечного света. Редкие пылинки плыли в них.
— Выйди, говорю тебе, — сказала Тэкля. — Выйди, глупая.
Нянька, сама немного глуповатая, считала, однако, что мозги всех остальных людей в сравление не могут идти с ее, Тэклиными, мозгами.
— Я никого не принимаю, — сказала Майка.
— Так ты бы лучше взяла да Ильюка не приняла, — посоветовала Тэкля. — Так бы ему, шаркуну, и сказала: «Не выгaнем, але прошэ вон».
Тэкля утверждала себя, между прочим, еще и тем, что знала десятка два польских и русских выражений и иногда так строила разговор, чтоб использовать кое-что из этого запаса.
Бледное лицо Майки сморщилось.
— Ты же знаешь, что я никого не принимаю из Вежи и Загорщины.
— Ы-ы, ы-ы! — сказала Тэкля. — Что это ты, девка, крутишь? Думаешь, одну такую цацу бог создал?
— Тэкля!
— Ну конечно. Тогда мамка была мила, как сзади мыла.
— Не надо, няня…
— И что ты с собой такое рoбишь? Иссохла вся. Третий месяц только к этому кряхтуну выходишь — солнца не видишь. В темноте сидишь. Что здесь тебе, монастырь? Август не дворе стоит, дурница. Девки в поле так песни кричат — зависть берет, сама б опять девкой стала…
— Я прошу, прошу тебя.
— Какие грехи замаливаешь? Один грех имеешь — панича соседского с домом рассорила. Чем он тебе не показался?
— Я и без тебя знаю…
— Так поэтому и сидишь? — испугалась Тэкля.
— Потому и сижу, — впервые за все время призналась Михалина.
— Ду-урочка! — Тэклино лицо скривилось от недоумения и жалости. — Так зачем же?
— Я очень плохо поступила с ним. Я сама знаю, что не стою его.
У Тэкли появились на глазах слезы.
— И так себя мучить? Ах-х ты! Взять скребок, которым коней чистят, да кожу со спины твоей содрать, чтоб ни лечь, ни сесть.
— Тэкля, — попросила Майка, — мне очень плохо…
— Горемы-ы-чная ты моя! Да как же это ты?
— Никак. Выйду за Ходанского.
Няня схватила Михалину за плечи.
— За него? Да плюнь ты, нехай он утопится! Зачем тебе в тую пачкотню лезть? За Выбицкого и то лучше, пускай себе он и самодельные носки носит.
И поцеловала девушку.
— Девка, кинь! Девка, нехай он лопнет! Ой, поплачешь! Какого хлопца на кого меняешь? Вот бы и я с ним ожила. Маечка, деточка, не иди ты за него! Люди Христом-богом молят, чтоб ты ему не досталась! Подумай про них…
Майка удивилась. Тэкля говорила сейчас, как женщина здравого ума. Возможно, не свои слова.
— Такой уж крюк, — им только ведра из колодца вытаскивать. Если даже пойдешь — оставь, деточка, людей за собой. Пусть отдельная от мужа добрoта у тебя будет.
Тэкля заплакала.
— А лучше у-бе-гай ты от него. Иди к загорщинскому паничу, повинись. На коленях приползи да повинись. Небось не съест. Ну, даст, может, в ухо раз-другой, как, не сравнивая, мне за дурость покойник Михал. Ну, по спине разок перетянет, ад и простит. Я тебе говорю — простит. Зато век горя знать не будешь. А хорошо как с ним будет! Что в костеле, что в постели. Да я б, молодой, на край света за ним побежала, чтоб минуту на меня поглядел. Он, знаешь, как в песне: «Як он меня поцелует, три дня в губе сахар чую».
Старуха гладила Майкины плечи и чувствовала, как они дрожат под ее рукой.
— Попроси прощения. Ты не думай, это не страшно. Наоборот, сладко и легко, ясочка ты моя. Ничего ж не зробишь, доля наша такая. Я и то иногда Михалку просила: «Побей же ты меня, миленький, может, я тогда меньше тебя, змея, любить буду».
И под эти путаные успокаивающие слова Майка заплакала. Впервые за восемь месяцев.
— Ничего… ничего не поделаешь, Тэкля, поздно.
— Из гроба только поздно… Ты просто отдай себя на его милость… под его защиту. Ты иди. Прими, если пришел человек. Поговори, ничего не сделается.
* * *
Держась слишком прямо, она вышла на террасу и увидела у балюстрады высокую женщину в золотистом платье.
Глаза невольно отметили стройность фигуры, простую элегантность одежды, шляпку из тонкой золотистой соломки.
Лицо гостьи скрывала темная, с мушками, очень густая вуаль.
— Извините, я заставила вас ожидать, — по-французски сказала Майка.
Гостья ответила тоже по-французски. И хотя ошибок в произношении не было, чрезмерная правильность речи лучше ошибок говорила о скованности говорившего.
— Что вы, — сказала гостья. — Я просто не обратила внимания. Засмотрелась на эту красоту.
Терраса висела над крутым обрывом. Внизу был склон с деревьями и озеро. Слева — две белоснежные колокольни. Еще дальше — лента Днепра, а за ней желтые от жита пригорки. Далеко-далеко.
Какую-то тревогу вызывала в Майке эта женщина. Она не видела пока ее лица, но тревога возрастала.
Они сидели друг против друга и молчали. Долго. Гостья, казалось, слушала. И не просто слушала, а заслушалась.
Из-за крон деревьев, из-за Днепра, тонко-тонко, высоко-высоко звучала «Жатва». Словно по стеклу серебряным молоточком, словно в тонкую стеклянную посуду, на границе слышимости звенели голоса. А может, это звенела дрожащая стеклянная дымка расплавленного воздуха над нивами?
Закурыўся дробненькі дожджык
Па чысценькім полі, закурыўся.
Зажурыўся мой татуленька у доме,
Па мне, маладзенькай, зажурыўся.
С извечной песенной тоской, с перепадами и взлетами, когда кажется, что вот сейчас человек весь до последнего выльется в песню, звенели голоса.
Это не была жалоба. Это пела сама земля.
Не курыся, дробненькі дожджык,
На чысценькім полі, не курыся.
Не журыся, мой татуленька, ў доме,
Па мне, маладзенькай, не журыся.
Майка вдруг увидела, что глаза незнакомки, огромные, как озера, смотрят сквозь вуаль уже на нее и сквозь нее, не разглядывают, а просто видят насквозь.
А в стеклянных далях, словно в небе, звенели, пели голоса:
Не ты мне даў долечку ліхую,
Ліхое замужжа, не ты мне даў.
Бог жа мне даў долечку ліхую,
Ліхое замужжа, бог жа мне даў.
— Чуете? — спросила вдруг женщина.
Майка вздрогнула. Потому что неизвестная сказала это по-мужицки. Естественно, словно иначе и быть не могло, напевным приднепровским говором, который еще больше оттеняло какое-то удивительное, немного детское произношение.
«Алесь говорил всегда по-мужицки. С женщинами и мужчинами, на поле и в собрании. И потому все те, кто употреблял мужицкий язык там, где его не принято было употреблять, имели причастность и к нему».
— Слышите? Женская доля. Одинаковая и у госпожи, и у крепостной.
Майка ответила тоже по-мужицки — приняла вызов:
— Это что, обо всех женщинах или только обо мне?
Женщина улыбнулась.
— Все равно. — Пластичным жестом женщина приподняла и закрепила на шляпке вуаль. — Я бывшая крепостная актриса пана Вежи — Гелена, а по новой фамилии Корицкая.
Михалина узнала ее… Так… что же случилось?
Майкины глаза пробежали по всей фигуре актрисы — с головы до ног. «Ложь, — невольно подумала Михалина. — То, что говорили о них, тоже была ложь. Кто-то сказал подлость, совершил подлость, а я пошла у него не поводу».
Словно поняв ее, Гелена улыбнулась. Улыбка была такой, что Майка поняла: только снисходительностью и мягкостью этой женщины можно объяснить сам факт ее прихода. Она делала одолжение, и никто другой не посмел бы сделать одолжение ей.
Михалина смотрела во все глаза.
Солнце на лице. Вьющиеся на террасе граммофончики вьюнков бросают на платье и лицо сиреневые и розовые отражения. Огромные глаза.
А плечи тонкие, но, сразу видно, выдержат все.
Необычная, пугающая красота. Захочет — отнимет.
И, словно только в желании этой женщины было дело, девушка вся нахохлилась, как перепелка, защищающая гнездо.
Она не знала, что Гелена примерно на это и рассчитывала, когда ехала сюда, и потому удивилась, увидев на ее устах улыбку.
Корицкая тоже оценивала собеседницу от пепельных волос, настороженной улыбки до острого носка туфельки, что виднелся из-под платья. И оценила: «Красивая. Даже слишком красивая и женственная. Оботрется немного, избавившись от строптивости, — будет женщиной. — Значит, вот кого… Что ж, разве она лучше меня?…»
Нет. Не лучше. Просто другая. И вот такую, другую, он и полюбил.
На миг в ее сердце пробудилась ревнивая женская злость, но она сразу подавила ее.
Просто по сравнению с тем, на что она, Гелена, решилась, этот маленький воробышек ничего не значил. Алесь, конечно, будет любить ее. И только. А ее, Гелену, о н н е з а б у д е т.
От воробышка ничего не зависело, и потому с ним надо быть доброжелательной.
Гелена улыбнулась.
Михалина смотрела на нее строго и настороженно.
— Вы знаете, что я прекратила все связи с этими домами? Зачем вы пришли?
— Узнать, окончательно ли это решение, — спокойно сказала Гелена.
— Извините, пожалуйста, но я не знаю, почему это интересует вас?
С полей снова долетело далекое:
Бог жа мне даў долечку ліхую,
Ліхое замужжа, бог жа мне даў.
— Разве только меня? — спокойно сказала Гелена.
Майка не понимала ее. Но спокойствие актрисы, ее уверенность рождали беспокойство, боязнь и тревогу.
«Отнимет. Захочет — и отнимет. Эта сумеет. Все. Конец. Доигралась. За кого себя считала? Ходанская врала. Но ложь может стать правдой».
Корицкая смотрела на барышню и понимала все.
— Хотите, чтоб я сказала, о чем вы думаете?
— Вы можете угадывать мысли? — испуганно спросила Михалина.
— Могу.
— Не надо.
— Но не надо и вам так думать. Не волнуйтесь. Я пришла сюда не для этого. — И немного поспешно добавила: — Вы знаете, что по настоянию этого человека, тогда еще совсем ребенка, я получила свободу и некоторые независимые средства, которые мне кажутся богатством.
Тон этот был безобразен, но Гелена знала: лишь деловитостью и внешней сухостью можно не испортить дела, не насторожить, убедить в том, в чем хочешь… И еще — немножко — уверенностью в себе. Чтоб чувствовала, что никто его не отнимал и не отнимает, но е с т ь такой человек, который… может отнять каждую минуту.
— Поздравляю вас.
— Как вы думаете, какие я могу питать чувства к человеку, который бескорыстно дал мне все это?
— Полагаю… благодарность.
— Конечно, благодарность. И самое глубокое уважение. И… любовь, потому что человека такой чистой души мне еще не приходилось видеть.
Сердце Михалины сжималось от мысли, что собеседница тоже может любить его. Тоже? А кто еще? Разве она? Разве ей не все равно? И она сказала нарочито сухо:
— Ему еще не было, где утратить стыд.
— Мы не говорим о будущем, — сказала Гелена, словно не замечая, что румянец залил Майкино лицо. — Как вы думаете, должна я, в свою очередь, в меру моих сил помочь ему?
— Вероятно.
— Не знаю, возможно, я помешаю, но иначе не могу. Несколько последних месяцев я замечала, что он страдает. Я не знала причины, но наконец догадалась, что причина — вы.
— Извините, но об этом я не хочу говорить.
Тон у Майки был резкий, но Гелена видела прояснившиеся глаза девушки и понимала, что та вдруг перешла от безнадежности и отчаяния, которые владели ею, к самой высокой, трепетной радости. Гелена знала, что Михалина теперь простит ей даже слова, которые она намеревалась произнести, поступится девичьей брезгливостью перед теми словами, что она, Гелена, собиралась сказать, освободится от ревности и, возможно, будет даже любить ее, Гелену, за то, что она принесла ей эту искринку света. Гелена знала, что лучшее средство возвысить человека, который находится в подобном положении, — это внушить сознание того, что, несмотря ни на что, кто-то все же любит его.
— У меня будет ребенок, — сказала Гелена. — От кого — надеюсь, не важно. Этот человек связан с другой, и рассечь этот узел может только бог.
Майка и в самом деле не чувствовала брезгливости. Наоборот, щемящую жалость.
— Смерть? — спросила она.
— Бог. Надеюсь, вы не осудите меня, если узнаете, что я любила, люблю и всегда буду любить его?
— Это было бы лицемерием… Что же делать, если земные законы против?
— Божьи.
— И пусть… пусть… Все равно. Все равно счастье.
— Что же тогда сказать о тех, кто своим капризом разрушает счастье?…
Майка опустила ресницы.
— Каким-то образом болтовня челяди о том, что я скоро стану матерью, дошла до пана Алеся. Он всегда относился ко мне хорошо. Я думаю, ему стало не под силу жить. Вы знаете, эти мерзкие сплетни… Одна из них, самая лживая, несколько недель тому назад дошла до него. Только этим да его добротой я могу объяснить то, что он мне предложил. — Гелена сделала паузу.
Звенела за рекой «Жатва».
— А предложил он мне ни более ни менее как прикрыть мой «грех». Я прощаю его, он ведь ничего не знал, а потом ему уже было все равно… И вот поэтому я и пришла к вам.
Гелена прижала ладонь к груди.
— Сегодня он сделал это. Завтра подставит себя под пулю. И вот я спрашиваю у вас, — в голосе была нескрываемая угроза, — действительно ли вы решили навсегда порвать все связи с этой фамилией?
— Я… не знаю.
— Решайте.
Майка действительно не знала, что ей делать.
— Он умрет, Михалина Ярославна, — отчужденно сказала Гелена и прибавила, умоляя: — Нельзя так жестоко.
И этот почти умоляющий тон вернул Михалине уверенность.
— Я все же не до конца понимаю вас. Мне кажется, женщина способна на благородные поступки лишь во имя личного расположения.
Корицкая поняла: девчонка занеслась… Надо было сразу же поставить ее на место.
— Вы считаете, что во имя л и ч н о г о расположения женщина может пойти и на т а к о й благородный поступок? Мне кажется, до такой степени женская любовь не доходит.
Майка не смотрела на нее. Ее лихорадило от противоречивых чувств — обиды на эту женщину и восхищения ею. И еще она подумала о том, что она нужна ему и хорошая и скверная, всякая. Иначе бы это не было любовью.
Гелена поднялась и опустила на лицо вуаль.
— Вот и все, что я хотела сказать. Во всяком случае, советую поторопиться, если вы не хотите потерять его навсегда.
Майка смотрела не нее, и, словно отвечая на ее мысли, женщина сказала:
— Откуда я знаю? Может случиться все. И потом — завтра утром он уезжает в Петербург. Возможно, на несколько лет…
Склонила голову.
— Прощайте.
Майка смотрела, как гостья спускается по ступенькам, и неведомая тревога росла в ее душе.
«Как идет… Какая красивая… Во сто крат красивей меня».
Она не знала, что делать.
— Зачем она приходила? — спросила Тэкля.
— Так. Прикажи, чтоб запрягли лошадей.
Когда Тэкля возвратилась, Майка сидела у балюстрады и сжимала пальцами голову.
— Прическу испортишь, — подбавила углей в огонь Тэкля. — Поезжай ужо.
— Хорошо.
— А Илья?
— Скажи ему, что я не приму его сегодня. Ни завтра, ни послезавтра.
…Кони, запряженные в легкую коляску, мчали к большаку.
Налево Загорщина. И завтра он уезжает. На годы… Она сидела, немного подавшись вперед. Лицо было бледным.
На перекрестке она помедлила немного. Боль росла, но росло и чувство унижения. И, однако, надо ехать.
Она вдруг хлестнула коней и неожиданно сильным рывком вожжей свернула направо.
И, чтоб уже ни о чем не думать, ни на что не обращать внимания, забыться, она погнала коней по большаку. Прочь от Загорщины! Дальше! Дальше!
* * *
Все было кончено для Алеся и в Загорщине, и в Веже. Ждала дорога. Ждали Петербург, Кастусь, университет. Последний вечер, собственно говоря, Алесю нечем было заняться. Разве что проститься с окрестностями.
Алесь зашел к пану Юрию и напомнил, чтоб тот устроил в Горецкий земледельческий институт Павлюка и Юрася. Оба любили землю и имели хорошие головы.
Глаза у пана Юрия были грустные. Он невесело улыбался и поддакивал сыну:
— Да. Конечно. Не обеднеем. Но оговорим, чтоб возвращались сюда. Два своих агронома. Один — в Вежу, второй — к нам. И соседям помогут. Я знаю. Агрикультура!
…Алесь шел берегом Днепра. Стремился, нес куда-то свои воды мощный поток. Синие угрожающие тучи стояли, не двигались, за великой рекой. Каплями пролитой крови алели татарники.
Он миновал курганы, — их было здесь десятка три, разных, по-видимому, какое-то древнее племенное захоронение, — и начал подниматься вверх по пологому склону. И на курганах, и здесь, но реже и реже могуче и сочно топорщил свои пики боец-чертополох. Алесь знал, что все это он никогда не сможет забыть.
Представил себе, как завтра утром мать будет держаться изо всех сил, отец — грустно шутить, а дед с неизменной иронической улыбкой скажет, копируя семинарский латино-русский жаргон:
— Иди, ритор, там уже за тобой sub aqua[118] приехала.
Сто лет так дразнили самоуверенных балбесов, что учились неизвестно зачем, не имея и наперстка мозгу. Сжало горло. Не хотелось оставлять всего этого.
Простор, и величественное течение, и березовая роща, в которую он зашел, успокоили его. На свете еще могло быть счастье.
Роща была белая-белая. Зеленая трава, зеленые кроны, а все остальное белое, как мрамор, как сахар, как снег.
Матовые стволы берез были покрыты черной вязью. Медовый свист неизвестной птицы — для иволги было поздно — доносился откуда-то из солнечной листвы.
Солнце склонялось и мягко заглядывало под листву. Словно хотело проверить, что там могло случиться за день.
Было тихо. Был мир.
…Он шел домой, а над ним в высоте плыли зеленые, пурпурно-красные и синие облака, что светились каким-то особенным, своим, внутренним светом.
Во дворе, возле уложенных повозок, Халимон Кирдун ругался с Фельдбаухом. Кирдун с женой должны были ехать вместе с Алесем, и потому Халява был полон самой невыносимой для всех гордости.
— Однако же такой плед панич оценит, — говорил Фельдбаух. — Плед этот есть практичен. Не грязнится он. Nuch?
— Понюхай ты знаешь что… — злился Халимон. — Этой онучей только покойников укрывать. — Халимон смело валил через пень-колоду, потому что знал, что немец плохо понимает быстрый разговор. — А ему нужен яркий, веселый. К нам с паничом, возможно, бабы ходить будут. Глянет которая на эту постилку да еще, упаси боже, поседеет… Хватит уже твоей власти над хлопцем!
— Хам Халимон, — грустно сказал Фельдбаух. — Деревянная голова Халимон. Хвастун Халимон.
И отвернулся.
— Нет уже ни твоя, ни моя власть, — сказал он после паузы. — Водка нам с тобой только всласть хлебать. Пей один. Нагбом?[119] Залпом? Вайсрусише свин-нья!
Кирдун вдруг с силой хлопнул шапкой о землю.
— Да что ты ко мне привязался, перечница немецкая? Мало мы с тобой, ты, неженатый, да я при жене холостой, той горилки попили да в дурня поиграли?! — Глаза Кирдуна влажно заблестели. — Мне, думаешь, легко? Буду там черт знает с кем ту водку хлебать.
— Я тоже есть басурман.
— Ты свой басурман, — горячился Халява. — Наш, белорусский. Ах, да пошел ты!.. Клади ужо свою онучу. Понадобится. Идем лучше выпьем.
Алесь улыбнулся. Ну вот и окончены сборы. Скоро в дорогу. Что еще? Ага, надо проститься с самим собой, с юным. Потому что когда он возвратится, — возможно, не скоро, — он будет уже совсем другой, непохожий на нынешнего, а Урга может состариться или даже подохнуть.
Он миновал дом, прошел под серебряными фонтанами итальянских тополей и направился к картинному павильону, купол которого темнел над кронами деревьев.
…Молча, словно запоминая навсегда, он сидел перед картиной в потемневшей от времени раме.
Снова, как в детстве, она сияла своим особым светом. И под ветвями яблони, темная зелень которой скрывала горизонт, юноша вел за уздечку белого коня. Словно сотни золотых солнц, сияли в листве плоды. И белый конь, трепетный и спокойный, будто в сказке, был Урга. А юноша в круглой шапочке — он, Алесь.
В павильоне было темно. Горела лишь одна свеча перед картиной. Он так задумался, что не сразу услышал, что его кто-то зовет.
Алесь увидел во мраке, как на картинах Рембрандта, оранжевое лицо и кисти рук. Располневшая и добрая Анежка, жена сурового Карпа, стояла перед ним.
— Панич! — сказала она. — А бог ты мой! И не дозовешься.
— Что, Анежка? Надо идти, что ли?
— Нет, — сказала Анежка. — Вот.
Он не заметил, как она исчезла. Теперь в темноте на том месте, где была она, стояла другая.
— Ты? — спросил он.
Легкий звон, словно вода лилась в узкогорлый кувшин, наполнил уши Алеся. Усилием воли он сумел сдержаться. Но в тот же миг он понял, что Гелена была права, не соглашаясь на брак с ним. Ничто не забыто. Самогипнозом была ненависть, глупостью было презренье, ложью — безразличие. И все обиды, и слухи о Ходанском, об оскорблении Франса, и встреча у церкви — все это было вздором.
И спокойствие, и преклонение перед Геленой, и глубокая, беспредельная благодарность ей словно бы поблекли перед простым фактом появления Майки. Гелена была мудрее. Она знала и видела все.
— Почему ты здесь? — спросил он.
Он чувствовал, что любит ее до неистового умиления, но уже не мог, как раньше, сделать вид, что ничего не было.
— Сегодня ко мне приходила Гелена.
Сбиваясь, захлебываясь словами, она рассказала об их разговоре, и Алесь понял, что Гелена добилась своего, сделала невозможным любой его шаг к ней самой. Все было кончено. Даже если б он решил пожертвовать любовью во имя чести и благородства, как он думал.
Нельзя было, чтоб Гелену, мать его будущего ребенка, считали лживой. Да и она сама добивалась одного — его молчания.
Случилось.
Этого уже нельзя было исправить.
Поняв вдруг пропасть между благородством одной и привередливой блажью другой, он смотрел Майке в лицо.
— Может, ты объяснишь мне, как это случилось?
Она начала рассказывать. И о сплетне, и о том, как она уверилась в ее лживости, и как поняла у церкви, что будет презирать себя, если она, такая, станет рядом с ним, и как решила сама себя растоптать за свою ошибку. И как не подумала тогда о нем, и как нарочно совершала самые дикие поступки, чтоб даже самой не сомневаться в своей подлости.
Он молчал.
— Я знаю… знаю, как я виновата. С самого начала знала, потому и не шла. И запутывалась все больше, больше… Я знаю, меня нельзя простить и мы не можем быть прежними друг к другу… Я пришла только сказать и уйти. Но мне будет тяжело… тяжело оставить тебя, не зная, что ты хоть немножко понял и немножечко простил меня.
И вдруг она упала перед ним, как будто присела боком на согнутые ноги, и спрятала лицо в его коленях.
Он мягко погладил ее по голове.
— Как же ты измордовала себя, глупая девчонка!
Сел рядом на пол.
— А ну, брось реветь! Подумаем, что делать, если уж так запутались.
Она разрыдалась еще горестнее и безутешнее.
— Ну вот, — сказал он, — много соленой воды. А все из-за этих мерзавцев.
— Алесь… Алесь… — дрожала она.
— Я люблю тебя, — сказал он. — Но я не знаю еще, как нам разорвать сеть этих глупых предрассудков… Ну что будем делать, поссорив два рода? Новый Шекспир? Ромео и Джульетта для бедных?
— Я знаю… что… Я… пой-ду… Только ты прости. Когда я подумаю, как я… те-бя… я не мо-гу-у. Если это можно… если это только может тебя успокоить и ты хоть немножко простишь меня, я могу сказать, что я всегда, всегда… любила тебя… что никого со мной рядом не было б… что никого… никогда со мной рядом не будет — вот так я покараю себя.
— Ты любишь меня?
Она молча кивнула.
— Пойдешь со мной?
Всхлипнув, Майка отрицательно покачала головой.
— Почему?
— Я такая… такая!.. Алесь, Алесь, прости меня. Я так любила тебя. И люблю. Одного. Если ты простишь, я никогда больше не буду делать так. Я даю тебе слово. Я всегда буду доброй.
— Считай, что пачала, — сказал он и погладил ее по голове. — Будешь меня ждать?
— Да… даже когда скажут, что ты мертв. Даже когда сама увижу, что ты мертв. Не поверю.
— Ну вот и все.
— Правда? Правда? — И в полумраке было видно, какими лучистыми стали ее глаза.
— Правда, — сурово сказал он. — Брось плакать. Уже нет причины.
Но она плакала. Только слезы теперь были иными.
VII
Дорога… Дорога…
Звенят колокольчики. Поет ямщик. Ехать еще долго-долго. Кони будут отдыхать ночью, а днем люди остановят их на трехчасовой отдых, поить и задавать корм. Везут припасы на всю зиму, ковры, книги. Обоз приедет в столицу, а потом, разместив все, двинет обратно.
Можно было б, конечно, доехать иначе, быстрее. Ну хотя б до Динабурга лошадьми, а там поездом. Но он не хочет сам. Что увидишь из окна вагона? Даже с повозки видишь мало, и лучше бы идти пешком.
Ему очень хочется жить. Видеть, слушать, пить воздух, улыбаться на ямских станциях красивым девушкам.
Ах, как хочется жить!
Чепуха все. Он простил всем, даже Ходанскому. Бедный дурак! Что он знает о жизни?
…Вот Павлюк на коне провожал его… А потом он свернул с дороги, заехал в рощу и возвратился оттуда с Михалиной.
…Майка словно боялась дотронуться до него и, лишь прощаясь, видимо, не выдержала. Закрыла глаза.
— Embrassez-moi, — глухо сказала она. — Et ne doutez jamais de moi.[120]
Он обнял ее и почувствовал, что она совсем неподвижна, а из-под опущенных ресниц падают слезы.
И он поцеловал ее в глаза. Он понимал, что ей просто было стыдно сказать это на родном языке. По-французски легче.
Он наклонился и поцеловал ее в неподвижные теплые губы.
— Алесь, — на этот раз по-белорусски сказала она, — ты мне верь. Я тебя не обману.
…Простились. Павлюк смотрел мрачно.
— Ну вот. И на несколько лет.
— Нет, — сказал Алесь. — Я должен быть здесь. Где-то в феврале.
— А меня здесь не будет, — погрустнев, сказал Когут.
И вдруг сквозь постоянную — не по возрасту — солидность, неожиданно, как всегда у него, вырвалось:
— Черт знает что! Наука! Едешь неизвестно куда, мучаешься. За кусок «пеку» семь верст квэкай. Своего ума нет, что ли?
Только теперь Алесь болезненно ощутил, что он теряет… «Пек» это было озерищенское, детское. Подгоревшая корка хлеба. Там, куда он едет, так никто не скажет. Дома куда ни пойдешь — повсюду слышишь: «День добрый, господарь». И Когуту это говорят, и Халимону, и ему. А там кто скажет?
— Ничего, — сказал он. — Вернусь.
Расцеловались. Павлюк сидел на коне хмурый:
— Целуй там всех.
— Х-хорошо. И подумать только: когда окончишь, Янька уже невестой будет. А может, и женой.
— Брось, — сказал Алесь. — Дитенок этот глупый? Ты ей передай, знаешь что?
— Что?
— Шуба врара: в лес побежара, волков напугара.
Павлюк грустно улыбнулся.
…Алесь вспоминает это и закрывает глаза.
* * *
Время, когда молодой Загорский собирался и ехал в Петербург, а затем устраивался на новом месте, было сложное и трудное.
Еще в июле 1857 года член государственного совета и министр внутренних дел граф Сергей Ланской подал государю записку об основных началах будущей реформы.
Собственно говоря, сам он об освобождении не думал никак. Как и большинству таких, ему хотелось лишний раз обратить на себя внимание государя, и он взялся за дело, на выполнение которого у него уже не было сил. Даже снисходительно настроенные по отношению к нему говорили, что он хотел «исполнения государевой мысли», но «был не в силах ее осуществить». Постоянная трагедия холуев без воли, без собственной мысли, без гордости.
По недостатку ума он излишне уповал на подначальных. У тех были мозги, неразборчивость в средствах и твердое понимание своей — сословной и личной — выгоды. Земля была дорогая. Рабочие руки без земли — дешевые. А власть денег была крепче других, и они сами, будучи на содержании каждого, кто имел силу и деньги, хорошо это понимали.
Ланской предложил — они отредактировали.
Главным в записке было предоставление крестьянину личной свободы при условии, если он выкупит усадьбу (в рассрочку на десять — пятнадцать лет). При этом учитывалась и награда помещику за утрату власти над личностью.
Власть над личностью! Никто не думал, стоит ли чего-то личность, которая позволяет, чтоб кто-то над ней властвовал, и велика ли эта утрата — утрата власти над такой личностью.
Именно в связи с теми легендами, которые распространяли о нем и правые, и левые, о Ланском стоит поговорить более-менее подробно. Одни называли его добрым гением великой реформы и человеком, который хотел примирить господ и крестьян, бесстыдно нахальную сатрапию Романовых и интересы западных окраин. Другие ругали его и интриговали против него.
А он не стоил ни того, ни другого. Это был просто карьерист, на старости лет выживший из ума. И интриговать против него тоже было напрасно. Интриговать можно против личности, а он давно уже не был ни личностью, ни государственным мужем. Только верный до низкопоклонства слуга.
Он никогда не был ангелом мира. Соглашательство было свойственно ему даже меньше, чем его преемнику Валуеву. И не вследствие ума, как у того, а, наоборот, отсутствия его.
Этот человек был всегда сторонником применения самых крайних мер к Польше, уже столько лет распятой на кресте терзаний и мук, оболганной, залитой кровью своих сыновей.
Положение Польши, Литвы и Белоруссии было таким невыносимым, что даже в высших кругах подумывали о каких-то льготах, даже в кружке великой княгини Елены Павловны рассуждали о каких-то более мягких мерах, о необходимости сменить хотя бы методы правления.
Ланской «всеподданнейше» осмеливался возражать ей, требуя жесткости и жестокости. Один из немногих. Оголтелый монархист, он боролся за абсолют власти более неистово, чем сами властители.
Это был человек, который мог растеряться по самому неожиданному поводу. На известном заседании совета министров 13 марта 1861 года, на котором ставился вопрос о варшавских манифестациях и проекте Велепольского относительно частичной автономии Польши, он молчал и решился выступить только после барона Мейндорфа, который говорил об опасности существования польского верховного совета и вообще национального представительства.
Тогда он смог отделаться несколькими mono-syllabes d'adhesions — односложными междометиями, которые обозначали согласие, окрашенное легким оттенком сомнения.
И такому дали сформулировать основы будущего освобождения!
Нечего удивляться, что из этого не получилось ничего путного. Он просто не мог рассуждать по-новому. Все, что он мог высидеть, — это несколько ненадежных истин, подобных бреду мозга, размягченного старческой фликсеной.
«Записка» была хуже, чем простое грабительство. Это был даже не разбой.
Это был старческий маразм.
И, однако, этот человек служил своему «принципу», который он плохо понял и еще хуже применил, преданно и до конца. Следует отдать ему должное: там, где он видел частичное и временное совпадение интересов крестьянина и государства, он служил этому случайному единению, даже если при этом терпели ущерб интересы дворянства.
Правительство! Правительство! Правительство! Все, что против, — от лукавого.
За это его отблагодарили. Сам того не желая, он своей запиской вызвал недовольство крайних обскурантистов и консерваторов. Интриги особенно пышно расцвели после 19 февраля. Царь, как всегда, держался за «исполнителя» его мысли до того времени, пока личность «исполнителя» была необходима для доведения крестьянского дела до куцего конца, а потом выдал его с головой. Царь сам сказал ему, qu'il desirait que Lanskoi se retirt — что он желает, чтоб Ланской ушел в отставку. И это в то время, когда министр не просил увольнения.
Так окончилась деятельность человека, который выпустил «первую ласточку освобождения».
Все ломали головы над секретной запиской Ланского. По-видимому решив, что все равно дороги обратно нет, первым бухнул в колокол виленский губернатор, генерал-адъютант Назимов. Человек безвольный, который больше всего на свете жаждал покоя (и чинов), он первый припечатал свое имя под историей освобождения, подав царю адрес о необходимости отмены крепостного права. Этому удивлялись все, кто его знал. Никто не ожидал от него такой прыти.
Свалился в «великую реформу», словно пьяный в болото, выскочил вдруг, как Пилип из конопли.
В конце ноября император ответил Назимову рескриптом, и это означало, что решено приступить публично к осуществлению реформы.
После этого остальные губернаторы тоже наперегонки начали «проявлять инициативу». Рескрипт предлагал образовать всюду губернские комитеты под председательством предводителя дворянства губернии и членов, по одному от каждого уезда. К ним в качестве довеска предполагалось приобщить двух «умудренных опытом помещиков», которых назначал губернатор. Их задачей было выработать проект освобождения на следующих основаниях.
Помещику оставалась земля, а мужику — усадьба, которую он должен был выкупить, и минимум земли, необходимый для того, чтобы жить. За этот кусок он по-прежнему платил оброк или отбывал барщину.
Крестьяне распределялись по сельским общинам, и вотчинная полиция, непосредственно подчиненная помещику, следила за порядком в каждой деревне.
Три кита рескрипта — наглый грабеж, тирания, выкачивание денег — как нельзя лучше отвечали той великой идее, которая упрочилась на них. Идее освобождения крестьян.
Рескрипт, собственно говоря, не давал права ни на какую самодеятельность, кроме бoльших и меньших размеров грабежа. И из-за этих размеров почти сразу началась грызня комитетов между собой.
Либеральничали главным образом нечерноземные губернии. Земля стоила дешево, а руки были дорогие. Безземелье, а значит, связанный с ним отхожий промысел могли обезлюдить земли, разорить и деревню, и имение, укрыть поля буйным половодьем сорняков.
Наибольшей левизной среди всех отличались Тверская губерния и Приднепровье.
Проект тверского предводителя Унковского, а главным образом настроение тверских дворян привели позже к тому, что реформу 19 февраля они объявили «враждебной для общества». Оба члена губернского комитета, назначенных правительством, Николай Бакунин и Алексей Толстой, подали в отставку. Тринадцать человек, в том числе и два уездных предводителя, Алексей Бакунин и Сергей Балкашин, да их друг, упомянутый выше Николай Бакунин, несколько посредников и кандидатов собрались вместе и решили действовать. Они подали губернскому учреждению и разослали по уездам объявления, что «Положение» 19 февраля является обманом общества и что они на будущее будут руководствоваться в своих действиях лишь убеждениями этого общества, вплоть до созыва общего земского собрания, о котором просило царя дворянство.
Главных зачинщиков решили арестовать, посадить в петербургскую цитадель и отдать под суд Сената. Схватили и привезли двоих — Николая Бакунина и Максима Лазарева. Губерния настороженно молчала. Поносил арестованных лишь вышневолоцкий дворянский съезд, но от этих зубров, от этого гнезда мракобесия ничего иного и не ожидали…
Петербург начал травить тверских.
Мировые посредники после пяти месяцев Петропавловки были осуждены на заключение в усмирительном доме (и унизить хотели как можно подлее!), и, кроме того, их лишили прав и привилегий.
Генерал-губернатор Петербурга Александр Аркадьевич Суворов, внук полководца и человек добрый и мягкий, схватился за голову, узнав о неслыханном оскорблении. Усмирительный дом! Как для воришек! Безграничная подлость этого приговора так потрясла его, что он стремглав бросился к императору — заступаться.
Суворов сделал невозможное — добился отмены позорного приговора. Попробовать «усмирилки» посредникам не довелось. Но многие из них так и не были восстановлены в правах до конца жизни.
…Деятельность тверского комитета закончилась разгромом и расправой. Деятельность же приднепровских комитетов спустя шесть лет после их организации вылилась в мощный пожар вначале шляхетского, а потом крестьянско-шляхетского восстания. Одни пошли в ссылку, другие — на эшафот и под картечь. Одни не добились ничего, кроме славы благородных мучеников, другие собственной кровью купили своему народу немедленную отмену грабительских временных обязанностей, выкуп земли и увеличение наделов.
Но пока что до этого было далеко.
Пока что губернский комитет, которым руководил пан Юрий и в составе которого был делегатом от Суходольского уезда старый Вежа (впервые за пятьдесят с лишним лет пошел на общественную должность), воевал и толкал дворянскую массу на более и более левый путь. Это удавалось делать потому, что пан Данила с сыном лично расшевеливали мелкую шляхту, которая имела право голоса, но никогда до сих пор им не пользовалась, не имела крепостных и потому могла голосовать за более льготное освобождение чужих крестьян.
Поддерживали Загорских и крупные землевладельцы.
Середина чертыхалась, но, сжатая с двух сторон, ничего не могла поделать.
…На просторах империи шло настоящее сражение. Многие средние и мелкие владельцы душ разъяренно кричали против отмены. Связанные с рынком богачи требовали неотложной отмены рабства.
Полностью в духе рескрипта выступил петербургский комитет. Проект Петра Шувалова подняли на щит самые правые элементы. Оставить мужику только приусадебный участок, принудить его арендовать землю на тех условиях, которые продиктует хозяин. Оставить за собой всю полноту экономической власти и значительную часть юридической.
Проекту Шувалова в определенной мере поддакивали крупные владельцы с Украины и черноземного юга. Полтавский проект требовал, чтоб вся земля по окончании переходного периода подпала под отчуждение от крестьян и снова была отдана в руки помещиков. Если же крестьянин пожелает купить землю у своего бывшего помещика, у другого помещика или у казны, — пусть само правительство даст ему кредит. Знали, что при убожестве казны, опустошенной пенсиями и расточительной роскошью верхов, при многочисленности обездоленных, которые будут просить кредита, сумма займа может быть лишь мизерной.
Значит, крестьянская семья с купленной земли не проживет. К бывшему же господину придет просить работы и хлеба. Нужда заставит пироги есть.
Против этого всеобщего, с севера и с юга, визга прижатых и потому разъяренных собственников, против этого взбаламученного моря надо было бороться.
Пан Юрий понимал: поддаться этому — и конец, крах.
Пан Юрий решил бороться за землю для крестьян, пока будет жив. Поднимать на это людей, тормошить их, нажимать на непокорных деньгами и властью.
Проект Унковского был для него тоже слишком правым.
Унковскому не надо было бороться за общество, которое дышало на ладан. Он мог себе позволить дать крестьянину землю за выкуп, который поможет ему, Унковскому, собрать капитал на новое хозяйство. Он мог кричать о том, что за землю пусть крестьяне платят сами, а за крестьянскую волю помещиков должно вознаградить государство.
Посоветовавшись, Вежа и пан Юрий решили постепенно, но твердо, не поднимая излишнего шума, не брезгуя ничем, добиваться от приднепровского панства поддержки их проекта.
Две трети земли, которой владел до освобождения мужик, переходят к нему без выкупа. Мало, но проживут. Отрезанная треть обеспечит прилив рабочей силы в крупные хозяйства. Выкуп номинальный, лишь бы молчали Шуваловы да Позены, чтоб на переходный период немного поддержать людей и дать им возможность обосноваться.
Это была единственная уступка всему ходанскому сброду, которую они вынуждены были сделать.
Энергично готовили своих людей на все должности в комитетах. Через Исленьева удалось оболванить губернатора Беклемишева до такой степени, что он назначил «своими» членами в комитет Юлиана Раткевича и Януша Бискуповича.
Те сразу выдвинули перед губернатором еще одно предложение: выкуп мужиками остальной, отрезанной трети земли. Губернатор засомневался. «Назначенные» подняли галдеж, что он хочет лишить сахароваренные и стекольные заводы рабочих рук. Беклемишев подумал и подписал.
Когда после этого «двойка» выступила на собрании «от имени губернатора» с этим предложением — приднепровское «болото» аж заходило из стороны в сторону. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но привезенная паном Данилом мелкая шляхта (история с предложением Раткевича немного-таки научила Загорских методам политической борьбы) начала орать, одобряя предложение.
Все возможные позиции были закреплены. Теперь если даже «Положение», отредактированное императором, отбросит всех, кто зарвался, назад, Приднепровье оно отбросит не так далеко, как других.
* * *
Петербург встретил неожиданным теплом и прозрачно-ясным небом. Стремилась к недалекому морю Нева, свежий ветер дышал водными просторами, чистотой.
В прозрачном воздухе мягко сверкало золото куполов и шпилей. Плыл в небе кораблик над Адмиралтейством. Фиванские сфинксы, привыкшие к хамсинам и жгучим пескам, смотрели на стремительное течение.
Свежие от постоянной влаги тополя над Мойкой, все в радужных каплях от недавнего дождика, напоминали чуть распущенные павлиньи хвосты.
В этой северной феерии, в изобилии воды и неба, в щедрости рукотворной красоты не было ничего от города-кровопийцы, города-хищника, который постепенно опутал щупальцами дорог тело своей жертвы — земли. Наоборот, нельзя было не поддаться его очарованию.
Квартира, которую сняли для Алеся, была на Екатерининском канале. Кабинет, спальня и гостиная для панича, комната для Кирдуна с женой, две огромные кладовки, кухня. Все это было в бельэтаже с балконом.
Алесь стыдился этой роскоши. Из писем Кастуся он знал, как тому живется, как бедствует большинство студентов, и боялся, что богатство может отдалить его от друга.
Но Алесь знал и то, что каждый третий студент кончает университет с язвой желудка, знал, сколько больных туберкулезом среди них. И он не мог позволить, чтоб такое было с друзьями и коллегами, теми, кого он еще не видел, но заранее любил.
Придется терпеть эту роскошь, чтоб они могли иногда есть у него, временами получать безымянную помощь, жить, беречь силы, которые им так понадобятся через несколько лет. Он будет равный в дружбе с ними, они не будут чувствовать разницы в положении.
Начали размещаться. Жена Халимона, писаная красавица Аглая, белой лебедью плыла по пустым комнатам, показывала, какие ковры стлать, где ставить часы, как размещать книги. Кажется, откуда такому взяться, а у нее на это был прямо-таки природный талант.
…Аглая увидела, что Алесь смотрит на нее, заулыбалась.
— Одели б вы, панич, что получше, да в город, в город. Раньше, чем часа через четыре, — ни-ни. Нам убирать, нам расставлять, мне ужин готовить, Кирдуну ванную топить…
Всех вещей, казалось, не разобрать и за неделю.
— За четы-ре часа? — удивился Алесь.
— Может, и за три, — весело пообещала Аглая. — Хлопцы, вот этот столик сюда, он вместо туалетного… Куда-куда?! На этом писать! Вон в том сундуке прибор для писанья. Петрок, распаковать! Дед Яначка, это сюда. Бумаги в ящике. Кресла дайте.
Выпроводили. Алесь остановился на мостике с крылатыми львами, глянул на стремительную воду и подумал, что место, где он будет жить, и канал, и этот мостик он уже успел полюбить.
Потом пошел по направлению к Неве, дорогой поймал лихача и приказал ему медленно ехать на Васильевский остров.
Ростральные колонны были окутаны сумерками.
Тишина и ясность царили на душе. И удивительно — ему не хотелось, чтоб лихач ехал быстро, хотелось немного оттянуть встречу с Кастусем. Он знал, что приближается к порогу, за которым не будет ни ясности духа, ни этого высокого покоя, ни даже дороги назад.
…На стук не ответил никто. Алесь толкнул дверь, и она неожиданно поддалась. Комнатка была небольшая. Стена напротив двери как будто падала на того, кто заходил. В нише этой стены светилось последним светом дня полукруглое окно. Большой подоконник заменял стол. На нем стоял кофейник в коричневых потеках и почти пустая пачка немецкого цикорного кофе. На единственной тарелке среди поздних черных вишен лежал ломоть хлеба.
Стул был только один. Другими, видимо, служили пачки книг, крест-накрест перевязанные бечевками.
На кровати, накрывшись с головой домотканой, в клетку, постилкой, спал Кастусь.
— Кастусь!
Спит. Как пшеницу продавши.
— Кастусь!
Дрыхнет.
Алесь снял книги со стула на пол, сел… Спит. Самого можно вынести. Пьян, что ли? Да не похоже на него.
Загорский обвел глазами каморку. Нездоровая. Под самой крышей. Летом, наверно, жарко, зимой холодно. Вспомнил, как шел в этот подъезд через двор, полный детей, белья на веревках, горячего тумана, валившего из окон подвала, как поднимался по страшно крутой лестнице сюда, под крышу. Наверно, в таком месте жил герой «Бедных людей». На темной лестнице пахнет мышами, пеленками, подгоревшим луком.
Нет, так жить Кастусю он не позволит. «Ну, отказался от уроков — твое дело. За такую принципиальность тебя даже уважать можно. Но почему же ты, черт, не хотел год поработать у Вежи? И не мучился бы теперь.
И теперь не возьмешь. Не возьмешь, знаю. Ссуду будешь просить у университетского начальства, а не возьмешь у друга».
Эта комната… Разве так можно? Свечка в подсвечнике стоит на полу. Полосатая, как арестантская штанина. Темная часть — светлая часть, темная — светлая. Верный признак, что у хозяина нет часов. Днем живет по выстрелу пушки да по бою городских курантов. Ночью — по такой вот свече. Полоска одного цвета сгорает за час. «Студенческая» свечка. Немцы придумали.
А на стене единственное украшение — вырванная откуда-то пожелтевшая гравюра «Стычка Ракуты из Зверина и хана Койдана под Крутогорьем».
Алесь зачерпнул вишен из тарелки. Переспелых, тронутых птицами и потому очень сладких. Положил одну в рот, старательно обсосал косточку и, надув щеки, резко дунул. Косточка упала на подушку. Человек крутнул головой и сел.
…Алесь остолбенев, смотрел на незнакомое лицо, розовое от сна. Темно-русые волосы, рот с припухшей нижней губой, изящная рука растопыренными пальцами приглаживает патлы.
— Несколько неожиданно, — сказал человек.
Загорский не знал, что говорить. Неизвестный опустил глаза и увидел вишни в руке Алеся.
— Приятного аппетита.
Тьфу ты черт! Хорошо, что хоть говорит по-мужицки. Земляк.
— Давайте отрекомендуемся.
— Охотно… Алесь Загорский.
— Князь? — Человек заулыбался.
— Да.
— Сразу видно княжеское воспитание, — сказал человек. — Виктор Калиновский.
— Вы?! Кастусь мне столько рассказывал…
— Представьте, мне он тоже о вас рассказывал.
— Лишь теперь Алесь увидел неуловимое сходство Виктора с братом. Один цвет волос, только у Виктора они мягче и не такие блестящие. И нижняя губа. И глаза с золотистыми искорками. Только на красивых запавших щеках неровный румянец.
— Кастусь заждался. Давно здесь?
— Несколько часов. А где он?
— Пошел добывать что-нибудь на ужин. Пришлось почти всю мою месячную пенсию пустить на книги. Если ничего не достанет — разделите с нами вот это.
Алесь посмотрел на вишни в ладони.
— Черт, — сказал он. — Как неловко.
— Ничего. Мы люди свои. Скажите, как там у вас дела? Как с Кастусевой просьбой?
— Какой просьбой? — прикинулся удивленным Алесь.
Виктор посмотрел на него внимательнее.
— Хорошо, — сказал он. — Это хорошо.
Улыбка была добродушная.
«Свой», — еще раз подумал Алесь и спросил:
— Как с вашей работой?
— Продвигается. Сижу над рукописями, как крот, да от пыли чихаю.
— Вы в Публичной библиотеке?
— Да как вам сказать… Кое-что платят.
— Интересно?
— Если б не было интересно, я не оставил бы медицины для занятий историей.
Виктор извлек откуда-то из-за кровати кожаную трубку, похожую на круглый пенал.
— Вот отсыпался, чтоб ночью работать. Тише. А то на моей квартире днем нельзя. А мне надо сделать описание.
Он раскрыл трубку и вытянул оттуда пергаментный свиток.
— Плохо сворачивается пергамент. Но когда свернется, так и не развернешь. Смотрите.
Желтоватая дорожка лежала на его коленях. Черные маленькие буквы и карминные большие.
— Письмо Сапеги, — уважительно сказал Виктор. — Видите печать?
Печать лежала в круглой серебряной коробочке, прикрепленной на шнуре к грамоте. Кружок красного воска с отпечатком.
— Андреевский попросил. Ему нужно по истории философии права. А он нашего языка — ни-ни.
— Наш разве язык?
— А то как же, — Виктор вытянул губы. — Да еще и какой! Слушайте: «Пашто вам, чадзь русінская, занепраўдзівым, але фальшывым ганіці. Чаго таго хочаце, каб слова дзедзіч зберагчы або маетнасць сваю? Слова хочецы сберагчы — мецьмеце вечнасць. Маетнасць адну хоцечы собе прыўлашчыці — морд душы атрымаеце».
Тонкие, длинные пальцы дрожали над документом. Так пальцы слепого иногда дрожат над лицом самого родного человека, не дотрагиваясь до кожи, а просто ощущая его тепло.
— Видите, слова какие?! «Каразн» — это значит утрата, смертная казнь. Забыли слово! — Он как бы взвешивал слова на невидимых весах. — Или вот: «пляснівы конь» — это серый, мышастый. Плесенью пахнет слово, полумраком.
Алесь смотрел на лицо этого чудака и чувствовал, что полюбит его.
— Или «плюта» — это слякоть. А вот «сок» от слова «сачыць» — следить. А мы взяли глупое «розыск». А вот смотри, смотри: «талкавіска» — место, истоптанное конями во время битвы. Или «клявец» — острый молот, чтоб насекать жернова. Забыли!
— Почему? — сказал Алесь. — У нас и теперь клявец. Во время восстания мужики и ими валят.
— Не может быть! — Виктор записывал.
— Да.
— Или вот «лезіва» — веревка, чтоб лезть за бортью… Забыли. Все забыли… Вот так и живем. Выуживаем по словечку из мутного моря.
«Чудак, — подумал Алесь. — Безобидный запыленный чудак. Копается в рукописях, знает, наверно, все до мелочей о Белоруссии и Литве, живет древностью, и плевать он хотел на современность. Архивный юноша».
— Скажите, — спросил он, — вы действительно думаете, что это нужно сегодняшнему дню?
Виктор сухо кашлянул. И вдруг Загорский увидел, что доброе, немного смущенное от тихого умиления лицо как бы подсохло и стало жестким. Кроткие глаза остро сузились. Пухлая нижняя губа подобралась под верхние зубы. Ясно было, откуда это покусывание у Кастуся.
— Что же вы молчите? — спросил Алесь.
— А что говорить? Достоин жалости тот, кто не знает прошедшего дня и потому не может разобраться в сегодняшнем и предвидеть завтрашний… Безразличный к прошлому не имеет никакого интеллектуального преимущества перед животным и потому является первым кандидатом на моральную, а затем и физическую смерть. Все равно, кто это — человек или целый народ.
Виктор неожиданно улыбнулся. Видимо, пришли в голову новые мысли, и он сразу забыл о своем раздражении.
— Вы не заметили, что больше всего врут в истории? И как раз те, кто громче всех кричит о сегодняшнем дне и рекомендует прошлое как альбом с интересными картинками. Ну хоть бы мой непосредственный начальник барон Модест Корф,[121] немецкая колбаса на имперской русской службе. Зачем им врать, когда история — было и быльем поросло?
Он улыбнулся и прилег. Опершись на локоть.
— Страница истории… Знаете, с кем Модинька учился? С Пушкиным. Врагами были. Ссорились. Африканец нашего, случалось, и поколачивал. И получалось так, что скрещивались их пути. Один за книгу — и второй за книгу. Один историю писать — и второй писать. Полагаю, у Модиньки, хотя он и нахватал чинов, все время оставалось чувство ущербности, обделенности, подсознательное желание соперничества. Ну и писали. Один — свои книжечки, азбуковнички для бедных, а второй — «Историю Пугачевского бунта». История — чепуха, история — труха! Так скажите мне, князь Загорский, скажите мне, почему за эту труху одного всю жизнь гоняли, застрелили в конце концов и даже после смерти боятся? И почему другого за эту никому не нужную труху возвысили, степеней надавали?
Закурил и закашлялся.
— Почему б это? Когда господа вопят, что все это чушь… А, да что там!.. А вы не думали, может, это потому, что один делал все, чтоб люди от «ненужного» прошлого отвернулись, нашли там доказательства вечного своего рабства, беспомощности, зависимости от старших, неспособности самим устроить свою судьбу, бедности талантом, слабости и вечной необходимости смотреть на все чужими глазами, а второй делал все, чтоб показать людям их силу, гордую самостоятельность, право на величие собственной мысли… Наконец, гордое право на свою собственную дорогу, по которой ты идешь, не ожидая награды, — просто так, потому что ты человек и ощущаешь и необходимость думать самому и идти самому. Потому что тебе стыдно делать иначе. Потому что ты просто не представляешь, как это так «иначе»? Потому что ты не быдло, чтоб идти туда, куда ведут, а царь природы. Не «царь польский, великий князь финляндский», а царь вселенной… И потому имеешь право сам смотреть на все, сам щупать, сам взвешивать… Вот так… Поэты, если они настоящие поэты, тоже историки. И не могут быть иными. Историки мысли, историки истины. И потому в историков стреляют чаще, чем, скажем, в членов Сената.
Виктор вдруг прервал себя и задумался. Потом хитровато улыбнулся.
— История… Мне кажется, против нее больше всего вопят те, кому невыгодно, чтоб люди разбирались в сегодняшнем дне…
Обаяние этого человека было таким, что Алесь вдруг подумал, не стоит ли ему в университете, кроме филологии, заняться еще и историей. Пожалуй, так и надо будет сделать.
Мысли, мысли…
Алесь думал о своем будущем много. Юридический его не привлекал: какому праву могут научить в стране бесправия? Допустим, на факультете преподают такие величины, как Утин, будут преподавать с этого года люди, о которых много говорят в последнее время, — Кавелин и Спасович. Кавелин будет говорить о гражданском праве в то время, когда в государстве нет граждан, а есть обыватели. Утин будет сравнивать законодательство империи с законодательством других стран. В то время, когда всем известно, что законов от «Перми до Тавриды» нет, а вместо них есть полицейский произвол.
Справедливость человек должен чувствовать сердцем, а не с помощью законов. Статистика и политэкономия были чрезвычайно интересны, но кто позволит честно подсчитывать голодных и раздетых?
— Где вы? — спросил Виктор.
— Думаю о своем пути. Понимаете, люблю словесность, люблю филологию. Охотно пошел бы туда. Но ведь я тоже современный человек. Знаю, людям сейчас нужны физиология, ботаника, химия, медицина. Нужна практическая деятельность…
— Чепуха, — сказал Виктор. — Хороший филолог лучше плохого медика. Зачем же вам переть против наклонностей? Человек должен заниматься своим делом с наслаждением.
— Но польза…
— А что польза? Что, может, у нас есть лишние филологи? Вы какие языки знаете?
— Белорусский, русский, польский (последние два не так хорошо). Ну, еще французский, немецкий — эти почти как свой, родной, значительно хуже английский, итальянский — чтоб читать.
— И он еще думает! Лягушек он будет требушить с таким багажом! Смешно! Да вы понимаете, какую пользу вы можете принести нашему языку?
— Я и сам думал, — сказал Алесь. — У нас нет ни словаря, ни работ по языкознанию, а также по древней и современной литературе. Но у меня, видимо, не будет времени, чтоб изучить все это.
— У всех не будет времени, — сказал Виктор. — И все же начинать надо. Умирать собирайся, а жито сей… — И вдруг перешел на «ты». — Я тебе свой словарь архаизмов отдам. Все, что выписал из грамот. Девять тысяч слов уже есть… Университет тебе даст — плохую или хорошую, не знаю — систему. Постарайся приблизиться к Измаилу Срезневскому, профессору. Исключительный филолог, верь мне. Да он и сам от тебя не отстанет. Много, думаешь, образованных людей, что так по-белорусски шпарят? Единицы. А ты вон просто, как соловей, на нем поешь. Аж зависть берет… Ну, а Измаил Иванович насчет новых знаний просто змей.
Встал.
— Сразу же и берись. Большое дело сделаешь. А то кто наше слово от плевков отмоет, кто докажет, что оно должно жить, кто правдивым словарем форпосты его закрепит, чтоб не забыли внуки? Кто сокровища соберет? Литература для них, видите, чепуха!
— Ты прав, Виктор, — тоже перешел на «ты» Алесь. — Меня и, скажем, испанца может объединять только словесность… Значит, язык, изящная словесность, поэзия, музыка, все такое — это не побрякушки, а средство связи между душами людей. Высшее средство связи.
— И вот еще что, — сказал Виктор. — Ты человек начитанный, знаешь много. Тебе будет легко. Ты попытайся записаться сразу на два факультета и за два года их окончить. Скажем, на филологический и, если так уж хочешь, на какое-нибудь естественное отделение.
— Я думаю, лучше будет так: два-три года я буду заниматься смежными предметами. Скажем, филологией и историей… А потом можно заняться и природоведением.
— А что? И в самом деле. А осилишь?
— Осилю. Надо.
— Ой, братец, как еще надо! Как нам нужны образованные люди! Куда ни посмотри, всюду прореха. А по истории у нас здесь совсем не плохие силы. Благовещенский — по Риму. Павлов — по общей истории. Говорят, по русской истории будет Костомаров. Стасюлевич — по истории средних веков. Ничего, что самое кровавое время. Зато не такое свинское, как наше. Да и Михаил Матвеевич либерал. Беларусью интересуется, потому что происхождение обязывает.
Загорелся:
— Ты человек не бедный, ездить можешь. Это тебе не во времена Радищева. Дорога до Москвы — всего ничего. Можешь ездить туда и Соловьева слушать. Не на каждой же лекции тебе тут сидеть. Фамилии всех, к кому на лекции ходить не стоит, прочтешь в «Северной пчеле». Кого они хвалят, тот, значит, и есть самое дерьмо. Значит, решили. Лягушек пусть другие препарируют. Твое дело — начать борьбу за слово. Словарь. Литература. Язык. Для всех, кто в хате без света. При лучине.
— Страшновато.
— Ничего, выдюжишь.
На лестнице послышались шаги. Лицо Виктора расплылось в плутоватой улыбке. И улыбка эта была такая детская, что он показался Алесю юнцом, которому только дурачиться и озорничать.
— Идут, — сказал Виктор. — Прячься.
Алесь стал за дверь.
Топот приближался. Алесь видел деланно безразличное лицо Виктора.
Вошел Кастусь с друзьями.
— Так, — сказал Кастусь. — Достал пятьдесят копеек, да вот хлопцы голодные.
— Ясно. — Виктор почесал затылок. — Хорошо, сейчас подумаем, что можно на это добыть.
И вдруг как бы вспомнил:
— Кстати, Кастусь, тут к тебе какой-то человек заходил. Франт такой, манерник, фу-ты ну-ты! Поспорили мы тут с ним. Так он вместо ответа использовал последнее в полемике доказательство — плюнул мне в голову вишневыми косточками, да и дверью хлопнул.
— Вечно ты так с людьми, — сказал Кастусь. — Что, правда, плюнул?
— Чтоб мне родины не увидеть!
— Ч-черт! Ты хоть фамилию его запомнил?
— Да этот… Как его?… Ну-у… Заборский? Заморский?… Загорский, вот как! Сказал, что ноги его больше здесь не будет.
Кастусь сел на стопку книг.
— Виктор… Ты что же это наделал, Виктор?
— А что? — сказал Виктор. — Подумаешь!
Алесь вышел из-за двери и стал позади Кастуся.
— Да иди ты к дьяволу! — взорвался Кастусь.
— Сейчас, — сказал Загорский.
Кастусь обернулся и не поверил глазам. Хлопцы хохотали. Калиновского словно подбросило.
— Алеська! Не ушел! Алеська!
Они так колотили друг друга по плечам и спине, что эхо раздавалось.
Хлопцы смотрели на них и улыбались широко и искренне. Лишь у одного, высокого и худощавого шатена, улыбка была какой-то снисходительной. Улыбался, словно делал одолжение.
— Ой, хлопцы, — спохватился Кастусь, — что же это я?! Знакомьтесь. Это по-старому князь, а по-новому гражданин Загорский. Зовут его Алесь. Хороший, свой хлопец. Поэтому все вы к нему должны обращаться на «ты». И ты, Алесь, о «вы» забудь. Французятину эту прочь. Мы здесь все братья.
Первый, протягивая руку, сказал по-мужицки:
— Фелька Зенкович. Из университета. Дразнят Абрикосом, — виновато улыбнулся он. — Конечно, не в глаза.
— Не буду, — сказал Алесь.
— И не советую, — сказал Виктор. — Он у нас горячий.
Второй юноша еще тогда, когда молча смотрел на встречу друзей, обратил на себя внимание Алеся. Чистое, строгое лицо, суровое и мрачноватое с виду.
— Я из Лесного института, — представился он. — Мое имя Валерий Врублевский.
По-русски он говорил с заметным польским акцентом.
— Лесничим будет, — с иронией вставил Виктор. — И знаешь, Алесь, почему?
— Почему? — мягко спросил Валерий.
— Он вследствие ограниченных умственных способностей из всего «Пана Тадеуша» кое-как понял только эти три строки:
Помнікі наше! Іле ж цо рок вас пожэра
Купецка люб жондова москевска секера,[122] -
вот и решил, что наилучший путь к борьбе с правительственным угнетением — охрана лесов.
— Ты прав, — поддержал игру Валерий. — Рубят леса, сдирают шкуру с земли. А Польша, да и твоя Беларусь до того времени и живут, пока есть пущи. Не будет деревьев — и их не будет. — Алесь почувствовал серьезные нотки в тоне парня. — Так что позволяйте, ребятушки, рубить, позволяйте.
Врублевский улыбнулся.
— И потом — чему удивляться? Я ведь поляк. Если восстание, куда я всегда бегу? «До лясу». Иной дороги мне бог не дал. Так чтo мне, разрешать сечь сук, на котором сижу?
— Ты можешь с ним и по-польски разговаривать, если тебе удобнее, — сказал Виктор. — Он немного знает.
— Почему? — возразил Валерий. — Я по-белорусски тоже знаю.
И окончил по-белорусски:
— Гаварыць будзем, як выпадзе. Як будзе зручней. Праўда?[123]
— Правда, — ответил Алесь.
Пожатие руки Валерия было приятным и крепким.
— А теперь я, — подхватил другой парень со строгими глазами. — Дайте я этого дружистого дружка, нашего земляка, за бока подержу… Здорово, малец!
Хлопец говорил, как говорят белорусы из некоторых мест Гродненщины. Не нажимая на «а», выговаривая его как нечто среднее между «а» и «о» — «гэто-го»… И, однако, он не был похож на «грача».[124] Может, из витебской глуши?
— Во, малец, свалился ты в этот мерлог. — Голос у хлопца напевный. — Ничего, тут хлопцы добрые. Буршевать[125] будем… Зовут меня Эдмунд, как, ты скажи, какого-то там рыцаря Этельреда. Виктор считает, что с таким именем мне надо было семьсот лет назад родиться. И правильно: по крайней мере не видел бы его морды… А фамилия моя Верига…
Последний из хлопцев, тот самый высокий шатен, подал Алесю безжизненную руку.
— Юзеф Ямонт, — сказал он по-польски. — Мне очень приятно.
— Мне тоже приятно, — ответил по-польски Алесь. — Ты из днепровских Ямонтов?
— Нет.
— А откуда?
Юзеф замялся:
— Мой отец поверенный и эконом князя Витгенштейна. Имение Самуэлево.
Алесь немного удивился: вид у Юзефа был такой, словно он сам князь Витгенштейн.
— Что-то мне знакомо твое лицо, Юзеф. Где учился?
— Окончил Виленский шляхетский институт.
— Ну вот. Значит, определенно виделись. Я окончил гимназию у святого Яна.
— Почему так? Вы ведь князь?
— Родители решили, что так будет лучше, что мне пойдет на пользу общество более-менее простых и хороших хлопцев.
Загорский увидел, как часто заморгали припухшие веки больных глаз Ямонта.
— Пан совсем пристойно разговаривает по-польски, — поспешил сменить тему разговора Ямонт. — Даже с тем акцентом, что свойствен…
— Преподаватель был из окрестностей Радома, — сказал Алесь. — Из имения Пёнки.
— Мне очень приятно, что пан изучил язык, на котором разговаривали его предки.
Алесь пожал плечами. И тут вмешался в разговор Врублевский.
— Ты снова за свое? — спросил он Ямонта. — Брось ты это! Мало тебе недоразумений?
— Что же мы, хлопцы, будем делать? — выправлял положение Виктор. — Разве Эдмунда послать, чтоб купил в колбасной обрезков? Здесь немочка молодая глазком его пометила. А как же! В северном духе мужчина. Викинг! Аполлон, вылепленный из творога!
Эдмунд засмеялся.
— А что? Разве плох?
— Для нее, видимо, неплох. Розовеет, как пион. Книксен за книксеном: «О, герр Вер-ри-га! Что вы?!» Вот женишься — мы к тебе в гости придем, а ты сидишь, кнастер куришь. Детей вокруг уйма. А под головой подушечка с вышивкой «Morgenstunde hat Gold im Munde» — у раннего, стало быть, часа золото в устах.
— А он все равно до полудня дрыхнет, — поддержал Виктора Валерий.
— Я и говорю. И вот он нас угощает. Одно яблоко разрезано на кусочки и по всей вазочке разложено, чтоб больше казалось.
Верига не обиделся. Потянулся и гулко ударил себя в грудь.
— Скудная у вас, хлопцы, фантазия, чахлая. И юмор такой же. А жизнь ведь богаче. Полнокровная она, хохочет, шутит, жрет. Не с вашими мозгами выше ее подняться. Захожу я туда и важно так говорю: «Фунт колбасных обрезков для моей собаки». А она мне: «Вам завернуть или здесь будете есть?…» Вот как! А вы лезете с постным рылом…
Все захохотали.
— Вот что, хлопцы, — сказал Алесь, — оставьте вы этот полтинник на завтра.
— У меня принцип: ничего не откладывать на завтра, кроме работы, — возразил Верига.
— Нет, серьезно. Идемте ко мне. Поужинаем, посидим, поговорим.
— Неудобно, — сказал Кастусь. — Только приехали — и нa тебе, целая шайка.
— А не есть удобно?
Все смущенно переглядывались.
— Ну, бросьте вы, в самом деле. — Алесь покраснел: началось. — На последней станции Кирдун купил живых раков. «Диво, кума, а не раки. Одним раком полна торба… и клешня вон торчит».
Верига обвел всех глазами и облизнулся.
— Он к тебе теперь всегда ходить будет, — сказал Виктор. — Зайдет — и по-русски: «Есть есть?» А ты ему: «Есть нет».
Хлопцы мялись, но начали сдаваться.
— Так, говоришь, и раки? — спросил Верига.
— И раки.
— А к ракам?
— Как положено. Белое вино.
— Белое?
— Белое.
— Хлопцы, — простонал Верига, — хлопцы, держите меня! Держите меня, потому что я, кажется, не выдер-жу.
— Вот и хорошо, — сказал Алесь. — Идем быстрее.
Они шли невской набережной. Где-то далеко за спиной звучали голоса остальной компании. Все нарочно отстали, чтоб оставить друзей вдвоем.
— Вот и все, что я могу тебе рассказать, — окончил Алесь. — Такие, как Кроер, чтоб меньше земли мужик получил бесплатно, вредят проекту отца. Заранее отнимают у холопа половину надела да ему же за деньги сдают «в аренду». Потери никакой. А после освобождения скажут: «Держи, мужик, половину надела и не вякай…» А отцу: «Маршалок, извините, но последние годы они этой половиной не владели. В аренду брали». Дед на таких понемногу жмет, но все равно трудно.
— Ничего, — сказал Кастусь, — больше людей косы возьмет, когда начнется бунт.
Звонко раздавались шаги. Стремилась к морю могучая река. Над городом лежал светло-синий, почти прозрачный вечер.
— У Мстислава мать умерла, — сказал Алесь. — Болела давно. Вечно на водах. Остался он восемнадцатилетним хозяином. Но сделать пока ничего не может. Немного не хватает до совершеннолетия.
— А что он должен сделать?
— То, что и я, когда хозяином стану. Отпустить на волю людей.
— Думаешь, позволят?
— Могут не позволить. Здесь уж так: сделал и ожидай выстрела.
— Вот то-то оно и есть.
Они шли обнявшись.
— Как с моей просьбой? — спросил Кастусь.
— Я поговорил со всеми хлопцами из «Чертополоха и шиповника». Они думают по-прежнему. Братство не распалось.
— Хорошо!
— Мстислав, Петрок Ясюкевич, Матей Бискупович, Всеслав Грима… ну, и я. Мы впятером взялись за людей, которых знали. Понимаешь, у ребят дело пошло веселее. А у нас с Мстиславом — тяжело. Чувствую: что-то мешает. Знаю — свой человек, с кем разговариваю, а он мнется…
— В чем, думаешь, причина?
— Полагаю, в Приднепровье есть еще одна организация. И большая. Многих людей объединяет… Кто-то бунт готовит.
Помолчал.
— Долго думал, кто имеет к этому отношение. Решил присмотреться, кто из честных людей, из тех, кто видит подлейшую нашу современность, ходит веселый и бодрый. Вижу — Раткевич Юлиан, Бискупович Януш, другие. А это все люди Раубичева круга. Вспомнил одно событие, на которое в то время не обратил внимания. И родилось у меня подозрение, что не обходится там без пана Яроша.
— Поговорил бы.
— Нельзя, Кастусь… Смертельные враги мы с Раубичами.
— Ты что? С паном Ярошем, с Франсом?
— Да.
— Да ты что? А Майка?
— Теперь помирились тайком. Никто ничего не знает.
Кастусь схватил его за плечи и потряс.
— А ты подумал, что вы наделали?! Ах, какая досада! Ах, какая жалость! — Кастусь, волнуясь, как всегда, говорил с трудом, запинаясь, путая слова.
— Хватит об этом, — сказал Алесь. — Попробуем сами потом разобраться. Так вот, говорили мы с хлопцами много. Между прочим, и с теми, что за нас тогда заступились. Выбирали очень осторожно. Рафал Ржешевский согласился. Еще хлопцы… Волгин. Этот долго думал, а потом говорит: «Мне кроме вас, дороги нет».
— Сколько у вас людей? — спросил Калиновский.
Алесь достал из кармана тетрадь без обложки.
— На… Пока что в наше объединение вошло сто шестьдесят четыре человека.
— Надежные?
— До конца, — тихо сказал Алесь. — На жизнь, так на жизнь, а если на смерть, так и на смерть.
— Я верю, что ты — до конца, — после долгого молчания сказал Калиновский. — Ты должен знать все, друже. Только учти: после того, что я тебе сейчас расскажу, дороги назад не будет… У нас есть своя организация, наподобие «землячества». Но это — для конспирации. Название — «Огул». В нее входят поляки со всего запада, наши белорусы, литовцы. Совсем мало украинцев. Студентов в ней что-то около пятисот человек. Люди разные. Одни просто за восстание угнетенных, другие — за национальное движение, третьи — за автономию. Внешне деятельность «землячества» заключается в самообразовании и помощи бедным студентам. Поэтому есть своя касса, взносы, своя библиотека. Деньги в самом деле идут небогатым. С библиотекой сложнее. Там запрещенные произведения Мицкевича, Лелевеля, наши анонимы, русская тайная литература. Герцен, например, почти весь. И «Дилетантизм», и «Письма», и почти все сборники «Полярной звезды», а с этого лета и «Колокол». Ну, а потом Фурье, немцы, другие… Много чего. Те, кто пользуются этой частью библиотеки, являются ядром. Не думай, что в нее так легко попасть. Вообще у нас три ступени. Пять членов организации, хорошо знающие друг друга, рекомендуют в нее человека, за которого могут поручиться. Пять читателей подпольной библиотеки могут рекомендовать в нее того из членов «Огула», которому они доверяют. Я говорил о тебе. Товарищи из верхней рады под мое личное поручительство позволили мне, миную ступень «Огула», ввести тебя непосредственно в состав наиболее доверенных. Я рассказал о тебе как на духу. У нас не хватает людей. Особенно из Приднепровья… О твоем участии в верхней раде почти никто не будет знать.
— Позволь спросить, чем обязан?
— Целиком наш. Не обижайся, я тоже был в таком положении. Еще и теперь меня знают меньше других. Ты и еще несколько человек будете как резерв на случай провала основного ядра. Учти, что тебе очень верят. Я сказал, что ты думал о перевороте и начал предпринимать первые шаги к нему на несколько лет раньше меня…
— Ну, что ты…
— Так вот. Третья ступень — это казначей, библиотекарь общей библиотеки, еще два члена и библиотекарь подпольной библиотеки.
— Это кто?
— Я… А всего, значит, пять. Они составляют верхушку «Огула». Никто не знает о ее существовании. Известны только казначей и библиотекарь общей библиотеки. Как и всюду, они имеют право решающего голоса. Но так во всех «землячествах». На самом же деле наша пятерка рекомендует людей связному. Тот занимается с ними лично и, подготовив, рекомендует дальше.
— Это Виктор, — сказал Алесь.
— Почему так думаешь?
— Кто же еще может лучше руководить чтением, советовать, какую книгу прочесть?
— Ты прав. Не только я, но большинство обязано ему. Отобранные им люди попадают в кружок, который для непосвященных называется «Литературные вечера».
— И в этом кружке ты, Виктор и еще из тех, кого я знаю, пожалуй, Валерий.
— Тьфу ты черт, сказал Кастусь. — Шел бы ты на место Путилина,[126] кучу денег заработал бы.
— Брось, Кастусь, просто я тебя знаю. Да и семь лет прожить со старым Вежей — это, брат, тоже школа. Ну что «Вечера»?
— Ты попадешь туда. Надеюсь, скоро. Люди там исключительные. Во-первых, глава — Зигмунт Сераковский. О нем я тебе писал. Семь лет ссылки, семь пядей во лбу, семь добродетелей. Об остальных пока не надо. Сам увидишь. Да и круг их все время увеличивается.
— Поляки?
— Разные.
— Что думают о нас?
— Часть думает вот как: восставать вместе. Судьба Белоруссии и Литвы решается плебисцитом ее жителей. Значит, или самостоятельная федерация, или автономия в границах Польши, политическая и культурная. Как скажет народ. Врублевский, например, считает, что при нынешнем народном самосознании плебисцит нельзя допустить ни в коем случае. Он так и говорит, что просто Польше надо отказаться от прав на Беларусь и Литву, поскольку в свое время дворянство страшно скомпрометировало самую идею такого союза. Добрые соседи, братья — вот и все.
— Почему ты говоришь «часть»? — спросил Алесь. — Разве есть такие, что думают иначе?
Калиновский помрачнел.
— В том-то и дело, что с самого начала существует угроза раскола. Я говорю: лучше с самого начала от соглашателей, шовинистов, патриотов костела и розги освободиться. Распуститься для вида, а потом верным и чистым ткать стяг заново. По крайней мере единство.
— По-моему, верно.
— Зигмунт протестует, — с огорчением сказал Калиновский. — Излишняя вера в соседа, излишняя доверчивость.
— Кто б винил! — сказал Алесь. — И ты не лучше.
— Что? Разве это так? — испугался Кастусь.
— К сожалению, да.
— Понимаешь, со своей стороны Зигмунт прав. Слишком нас мало. Если отбросить их, нас останется горстка. И потом — до определенного рубежа нам с ними идти одной дорогой. Мы за свободу, они за независимость.
— А потом что, измена?
— Я и говорю. Эдвард Дембовский[127] понимал восстание правильно. Прежде всего свобода и равенство всех людей. Но мы пока вынуждены идти на союз с ними. Мало нас. Ах, черт, как мало!
— Кто они?
— Белые. Так мы их называем. «Ах, родина! Ах, величие! Ах, слава!» Знаешь, зачем им бунт? Чтоб привилегий своих не потерять, чтобы до власти дорваться.
Довольно скверно.
— Спят и во сне видят своего короля, своих отцов церкви, свои приемы, балы, свою полицию, своих палачей на отечественных эшафотах. Хоть паршивое, да свое.
— Песня знакомая, — сказал Алесь. — Лизогубова песня. Да и сегодня ее слыхал.
— Где?
— От Ямонта. Не нравится мне Ямонт, Кастусь.
— Ну, Ямонта с ними не смешивай. Ямонт — идеалист.
— Тебе лучше знать. Но белых я на вашем месте гнал бы.
— Будешь вместе со мной драться?
— А что я, молиться сюда приехал?
— Хорошо, — сказал Кастусь. — Руку.
— А кто еще есть?
— Еще, как и всюду, болото. И политики им хочется, и дипломов, и чтоб царство божье само пришло. Очень уж им не хочется драки. Кричат, что это уже только тогда, когда ничего другого сделать нельзя.
— Этих надо переубеждать.
— Да… Ну, и, наконец, мы, красные.
— Это ясно. Восстание. Социальный переворот. Это по мне.
Кастусь смотрел на него удивленно:
— Выродок ты, Алесь. Тебе по происхождению самый резон к белым. Они богатые, а мы голь. Они либералы, мы якобинцы и социалисты. Они собираются церкви да заводы строить, мы…
— Хватит, — прервал его Алесь. — Распелся. Я белорус. И если уж они о власти над моей землей кричат, то я им не товарищ. Мне своя калита не дорога. Мне моя земля дорога. Она мне нужна. Вы за нее, — значит, и я с вами. А то, что я князь, дело десятое. Никого это не интересует. А меня меньше всех… Давай обождем хлопцев. Вот мы и дома.
…Все сидели за столом и ели, аж за ушами трещало, когда Аглая позвала Алеся за дверь.
Стояла перед ним, красивая, вся словно литая, говорила тихо:
— Хлопцы какие! Ну, Кастусек — этого знаю. Но и остальные! И поляк этот! А ужо Эдмунд… Держитесь за них, панич!
— Собираюсь!
— Вот это хлопцы!
— Что, поцеловала б?
— А что, грех?
Аглая вдруг посерьезнела.
— Я не о том, панич. На это я дозволения спрашивать не буду. Будут они к нам ходить?
— Обязательно.
— Панич… Вы Виктора приглашайте. Чаще всех. Как увидите, так и приглашайте. Даже сами шукайте и приглашайте.
— Что, понравился?
Женщина отрицательно покачала головой.
— Чахотка у него. И давненько уже…
— Ты что? Да он мне сам говорил, что здоров, как конь. А он ведь медик.
— Значит, сам не знает… Кормить треба, кормить. Мед, масло, сало, медвежий жир. Салом залить.
— Не мели. У него, у такого хлопца?
— Смерть что, выбирает? Панич, слушайтесь меня. Он не бачит, все не бачат. А я добре бачу… Думаю я, не поздно ли уже?
Алесь наконец поверил и похолодел.
Из столовой донесся веселый смех Виктора.
* * *
Снег. Снег. Та погода, в которую шляхтич Завальня ставил на окно свечу. Метель. Белые змеи, встав на хвосты и подняв в воздух тело, десятками трепещут и изгибаются над сугробами.
Сквозь слюдяные оконца кибитки видно, как не хочет лежать на месте снег, как он стремится в черные лесные дебри, как заиндевели крупы лошадей.
До Вежи еще далеко.
Клонит ко сну.
Чтоб не уснуть, Алесь думает. О друзьях из «Огула», о встречах у него на квартире (добился-таки этого!), о том, что за эти пять месяцев организация увеличилась на семьдесят два человека. И десятерых хлопцев из «Огула» передали Виктору.
И еще о том, что кружок Сераковского начинает превращаться в настоящую организацию и осенью можно будет уже думать о делах, о планах на будущее.
С улыбкой вспоминался один из последних споров. На тему — что делать, кроме подготовки восстания, тем, кто из помещиков. Ямонт плел что-то о том, что надо переубеждать своих крестьян, что дворяне хороши, а царь плохой. Загорский взглянул на Кастуся, но тот подморгнул ему, пожал плечами. Ничего не поделаешь, идеалист. И тогда Алесь поднялся и сказал, что это типичный белый бред. Никогда не переубедишь словами. Если кто-то хочет, чтоб его считали хорошим, пусть совершает хорошие дела. Рассказал о проекте отца, борьбе вокруг него и добавил, что тем, кто орет о хорошем отношении к мужику, стоило б подарить ему волю прежде, чем это сделает царь, и на более льготных условиях. Тогда никого не надо будет агитировать. За хорошее, за жизненные блага никого долго агитировать не надо. А если уж агитируют паны и днем и ночью, так и знай, что что-то неладно, и хорошо еще, если только обмануть собираются. «Я думаю, пока что к чему, надо хоть этих, хоть своих людей освобождать. И это будет наилучшей агитацией для восстания и лучшим средством для обеспечения его победы».
Поднялся шум. Белые напали. Но неожиданно ополчилась и часть красных: «Розовые очки! Дадут тебе делать добро! Держи карман…»
Сераковский улыбался в усы, видимо, соглашаясь с Алесем.
«Говорите, не дадут, — сказал Алесь. — А вам что, позволят так вот просто восстать и победить? Значит, это явление одного порядка. Ну, не будут давать. Что же, так и сидеть сложа руки? Боишься сопротивления — не поднимайся. А не боишься — каждый миг борись, чтоб приблизить час».
Сераковский склонил голову.
* * *
В воплях метели становился глухим и временами вовсе исчезал рваный голос колокольчиков. Кучер пел песню, далекую и давнюю, как сама обездоленная приднепровская земля:
Ой, косю мой, косю,
Чаму ж ты нявесел,
Чаму ж ты, мой косю,
Галовачку звесіў?
Ці я табе цяжак,
Ці тугі папругі?
«Ой, ты мне не цяжак,
Не тугі папругі».
Алесь слушал и плотнее укутывался медвежьей шубой.
Учиться в университете было легко. Куда легче, чем в гимназии. Там было много чепухи, много немилых дисциплин. Там не было, наконец, даже относительной свободы.
Здесь было все интересно, важно, мило. Здесь человек мог заниматься тем, чем желал. И хотя тоже были мракобесы и дураки, но на их лекции можно было просто не ходить. Можно было много читать и писать, заниматься делами «Огула», собирать материалы для словаря, изучать под руководством Виктора старые грамоты, да еще оставалось немного времени на музыку, театр и собственные, не очень удачные, попытки писать стихи.
Алесь подумал, что стал на правильный путь. Считал себя до сего времени дилетантом и вдруг всего за пять месяцев приобрел благосклонность Срезневского. Как потеплели глаза Измаила Ивановича, когда разбирал первый реферат Алеся «Языковые особенности касательно северо-западного языка в «Слове о полку Игореве».
— Молодчина… Что думаете делать?
— Рассчитываю за полтора года подготовиться и сдать экзамены за словесный и исторический факультеты.
— Ну, а потом?
— Потом, полагаю, надо заняться философией, естественными науками.
— Не боитесь распылиться?
— Наоборот. Хочу попробовать привести в систему все необходимое.
— Помогай бог, — сказал Срезневский.
Алесь трудился неистово.
Следующие две небольшие работы выдвинули Алеся в число тех немногих, с кем Измаил Иванович разговаривал как с равными, потому что действительно уважал в них равный интеллект, хотя и отличающийся от его собственного, взгляд на вещи и явления.
Этими работами были «Язык панцирных бояр»[128] из-под Зверина. Материалы для словаря приднепровского говора» и «Особенности дреговичанско-кривицкого говора в «Слове на первой неделе по пасхе» Кирилла Туровского как первые следы возникновения белорусского языка».
После этих работ Срезневский смотрел на Алеся только с нежностью.
— Мой Вениамин, — говорил учитель коллегам. — Самый молодой и самый талантливый. Бог мой, как подумаешь, сколько успеет сделать!
— Он может ничего не успеть, — мрачно сказал Благовещенский, знаток римской литературы и истории. — Смотрите за своим Вениамином, Измаил Иванович. Чтоб этот Вениамин политикой не заинтересовался. А это у нас знаете чем кончается?
— Откуда такие мысли, Николай Михайлович?
— Случайно слышал, как ваш Вениамин рассказывал такую историю… Будочник услыхал, как на улице человек сказал: «Дурак». Подбежал, схватил его за шиворот и потянул в участок. Тот сопротивляется, кричит: «За что?» А будочник ему: «Знаем мы, кто у нас дурак».
— Ну что вы. Он ведь молод. У талантливых да молодых — это уж всегда! — язык длинный. Против этого и вольтерьянцы ничего не говорят.
— Вольтерьянцы, может, и не говорят, а вот зас…цы обязательно скажут.
Срезневский удивился грубому слову. Николая Михайловича за деликатность и утонченные манеры все называли маркизом де Благовещенским. Видимо, допекло и его.
Срезневский отмахнулся от этих мыслей. Человек либеральный и от доброты умеренно набожный, склонный верить в моральный кодекс всех «добрых религий», человек, влюбленный в свое дело, он не допускал, что такой безгранично талантливый, интересный и въедливый исследователь так вот вдруг возьмет и увлечется политикой.
И он по-прежнему выделял Алеся. А когда тот дал ему следующую, уже довольно большую работу «Приднепровские песни, сказания и легенды о войне, мятеже, религиозной и гражданской справедливости. Опыт исследования цели, средств и языка», этот сорокашестилетний человек пригласил Алеся к себе.
— Вы, надеюсь, позволите мне избежать в отношении к вам обращения «милостивый государь»? — со старомодной галантностью сказал профессор.
— Я надеялся на это давно.
Срезневский листал работу.
— Мальчик мой, — сказал он, — я не люблю чрезмерных похвал. Но вы совершили необычное. Вы открыли «великое Чипанго», как Марко Поло. Открыли новый, неизвестный мир. Открыли, возможно, целый народ. Неужели они были такими?
— Какими, господин профессор?
— Все ведь говорят о крайней забитости, задерганности, вырождении вашего края.
— Есть и такое. Но в этих высказываниях больше политики, чем правды.
— Как?
— Надо было доказать, что народ уничтожали, что только под эгидой Николая Романова, Уварова и Аракчеева он получил возможность дышать.
Профессор немного испугался. Благовещенский в чем-то был прав.
— Лингвистика не знает политики, друг мой.
— Лингвистика — это значительно больше политика, нежели все естествознание. Нет, народ не убили. Он живет и ожидает счастья. И будет жить, как бы трудно ему ни было. А насчет забитости судите сами. Ладымер[129] едет ломать хребты крымчакам, деревенская девка умом побивает князя Ганю, мужик-оборотень пишет на лубе письма к любимой, тоже мужичке, Люба из Копаного рва, что под Кричевом, обычная местная девчина, играет в шахматы с «царем черных и рогатых» Рабедей и выигрывает у него пленных. Или легенда о лебединой келье, или о яворе и белой березе. Помните, на могилах юноши и девушки, разделенных церковью:
Дзесьці мае дзеці ў любові жылі.
Раслі, раслі, пахіліліся,
Цэраз цэркву сушчапіліся.
Почему «Тристан и Изольда» — признак великих сил, а это — примета забитости?
Помолчал.
— Да, было и угнетение. Но угнетение порождает не только рабов. Из слабых — возможно. Но из сильных оно рождает богатырей.
Срезневский задумался. Видимо, хотел было пожурить за опасные мысли, но раздумал. Спрятал лицо в ладонях. Потом опустил ладони.
— Какие гордые, сильные и страшные люди! Какая страстная жажда к справедливости! Как это там у вас?
А вайна была, вайна была, А ніўка зялезнай карой парасла, Зялезнаю, крываваю, Сталёваю, іржаваю.И это — как дуды ревели! И как трижды выстрелил, и на третий выстрел «сэрца стрэльбы разарвалася!». Что же это, мальчик мой?! Или вот это… Нет, это:
А ўжо ж бяроза завіваецца.
Кароль на вайну збіраецца,
А ў каго сыны есць, дык высылайця.
А ў кого няма, дык хоць наймайця.
И как за волю стяг держали. А Левшун играл в рог. А Гришко Пакубятина подскочил и ударил по медному горлу, что пело, кулаком. И воля
…Зубамі падавілася,
Крывёю захлынулася.
А потом рог повезли в перекидных хустах, а он сам играл. А? Как это?
Помолчал.
— Это спрячьте. Вы правы, это нигде не напечатают, а людей насторожите.
— Я этого и хочу.
— А я хочу, чтоб следующей зимой, когда досрочно сдадите экзамены за университетский курс, это стало вашей диссертацией на кандидата. С налета их возьмем. Чтоб не опомнились.
И Алесь увидел молодой озорной огонек в глазах профессора. Нет, просто в глазах кроткого и доброго, честного человека.
Срезневский вдруг сказал:
— Я не хочу, чтоб вам было трудно.
— Почему мне должно быть трудно?
— Ну, вот эти взгляды. Неизбежность борьбы за них.
— Для меня это не бремя.
— И крайняя независимость мысли, и резкость, и то, что вы одни.
Пауза была длительной и тяжелой. Потом профессор спросил:
— Вы не верите в бога?
— Почему вы так думаете?
— Ну, вот эти мысли. Вначале война за волю, мятеж за нее, страшный бунт Оборотня, Вощилы, Машеки, Левшуна, Дубины, Сымона-оршанца.[130] Копья, ружья, бунчуки, страстные, живые люди. И лишь потом религиозное движение, религиозные восстания. Мятеж витеблян, Юрьева ночь и «мост на крови»[131] в Орше. Да и то вы доказываете, что дрались не за бога и религиозную справедливость, а за человека и справедливость общественную. И потом, эти ваши слова, что «религия — дело десятое».
Алесь некоторое время молчал.
— Вы правы, — наконец сказал он, — я не верю. Как сказал кто-то, не ощущал до сих пор необходимости в такой гипотезе. То есть совсем не отрицаю. Но я скорее представляю его себе как что-то, с чем надо вести спор.
— Это и есть бог. В противном случае вы не были б человеком. Помните, как Иаков всю ночь боролся с кем-то, у кого не было облика?
— Когда я думаю, кто я, зачем, откуда мы пришли, куда мы идем, что такое наш мир, не атом ли он какого-то организма, которому сейчас плохо и который тоже часть чего-то большого, и что есть там, за последней чертой, о которой мы не знаем, — я ощущаю потребность в ком-то большем, кто объяснил бы, и верю в то, что он есть. Это от слабости и незнания. Но даже в то время, когда я верю, я знаю, что это не Христос и не Иегова, не Магомет и не Будда. Это просто что-то наивысшее, чего я не могу постичь. А они — попытка постижения разными людьми этого, наивысшего. Доказывал же кто-то из новых, что вселенная вместе с Млечным Путем и другими звездными островами имеет форму большого сердца, которое все время пульсирует. Возможно, это сердце того, неизведанного. Мы так мало знаем! Но, во всяком случае, этот великий властелин сердца человеческого не «всеблагий», если позволяет то, что происходит вокруг… А возможно, от него и не зависит. «Вселенная — сердце». Когда я смотрю на страдания и судороги этого мира, на то, как трепещет и задыхается все живое, мне кажется, что у этого «сердца» вот-вот наступит разрыв.
Улыбнулся.
— Ну, это все бред на крайней границе познания… Я не верю.
Срезневский задумался.
— Вот видите. Я это заметил еще по вашей работе о Кирилле Туровском. Там в его «слове» каждое предложение о природе имеет продолжение. Солнце, которое согревает землю, сравнивается с Христом, который сошел на землю. Зима ушла — вечно живой бог попрал ногой смерть и безверие. Это же двенадцатый век, самое начало нашей литературы. А вы отсекли концы предложений, и получился языческий гимн земле и солнцу.
Алесь молчал.
— Зачем? Хорошо ли это? И зачем усложнять и без того сложную жизнь?
Молодой упрямо продолжал:
— Если б он существовал, он не позволил бы такого издевательства над нами.
— … И, может, потому, что он есть, вы и вынесли девятисотлетнюю войну против в тысячу раз более сильных врагов?… И сложили эти чудные баллады? Возможно, все от него. Даже ваш богом данный талант, который может вдохновлять и спасать.
— Не надо так.
— И, возможно, он умышленно делает такое с людьми, чтоб надеялись только на свои силы. Потому что бог, судьба — как хотите это называйте — любит сильных и стойких людей.
— Так, значит, они сами делают себя стойкими? Сами?
— Юноша, без бога человек не имеет опоры в себе. Это подобно ереси, знаю: бог, на которого нельзя надеяться, которого надо защищать. Но люди держат бога в себе, чтоб быть сильнее… И наилучшее доказательство — это то, что вы выжили, что это — чудо, что не может быть такого величия без бога в душе. — Положил руку на плечо Алеся. — Наилучшее доказательство — бог в вашем сердце.
…Алесь встрепенулся. Что это, задремал? Прерывистый звук колокольчиков. Дебри и снег. И в этой безнадежности человек гордится собой, маленькая мушка в снегах. И вот конь, мудрый конь из песни, отвечает седоку:
Ой, цяжкі мне, цяжкі
Частыя дарожкі,
Частыя дарожкі,
Густыя карчомкі.
Живая песня в мертвых снегах. Маленькое сердце не обращает внимания на то, что большое вот-вот разорвется. Не обращая внимания на вселенную, на то, что будет завтра, на границу познания, на звездные острова, мудро и мужественно льется песня:
Ты ж мяне паставіш
Тыру землю біці,
А сам, молад, пойдзеш
Гарэлачку піці.
И в этом наивысшая мудрость, но также и что-то унизительное.
Он думал об этом великом унижении. И в душе нарастало презрение к своей слабости, злость на свою слепоту и томление.
А в снегах беспощадной зимы мужественно боролся с морозом маленький живой родничок песни:
Ты ж мяне паставіш
У снезе па вушкі,
А сам, молад, пойдзеш
К шынкарцы ў падушкі.
И под эту песню он незаметно задремал… Покачиваясь, летел под звуки прерывистой удивительной музыки куда-то в бездну огромного сердца. Навстречу тому, что ожидало его.
…Ему снился сон, в котором он видел бога. Он был удивителен, потому что его нельзя было видеть, и никто в мире не видел его, и лишь ощущение того, что он рядом, давало уверенность в том, что ты видишь его… Не было пустоты в душе, было понимание всего на земле на одно коротенькое мгновение и ужас, что отдалишься и снова утратишь все.
Бог был не человек, и не животное, и не пульсирующее сердце звездных островов, и не трава, и не колосья на нивах, и не столб света, а весь свет: и белый мокрый конь, и красная цветень груши-дичка? и одновременно — ничто.
…Из глубин, куда летела, падая, душа, нарастал низкий, на грани слышимости звук, который заполнял все. Вселенная кричала.
* * *
Когда Алесь проснулся, кибитка стояла у ступенек вежинского дворца. Он выпрыгнул на снег и через три ступеньки побежал к двери, полный ожидания и тревоги.
…Дед сидел у камина. На столике бутылка вина и бокал. На коленях папка с гравюрами.
Поднял на внука глаза. Синие, немного поблекшие. И… не удивился, увидев румяные щеки, улыбку, капельки воды на волосах. Лишь чуточку вздрогнули черные брови.
— Ты? — сказал Вежа. — Чего это зимой? Такая метель… — И подставил для поцелуя пергаментно-смуглую бритую щеку.
Словно ничего не было. Как будто из Загорщины приехал.
— А говорил… несколько лет.
— Обстоятельства изменились. Буду ездить часто.
— Я ведь говорил. Улетаете из гнезда словно навеки. А в мире ветер.
— Прикажите достать из кибитки. Я там подарки привез.
— Глупости, — растерянно сказал дед. — И не нужно было совсем. Большой город. А молодость — это то же, что мотовство, расточительство. Лучше бы захватил Кастуся да девчат этих ваших… ну, как их?… Новое слово…
Губы деда иронически скривились.
— Ага… нигилисток. Стриженых да в очках, упаси нас от такой напасти, господи.
— И что?
— И поехал бы с ними к Борелю.[132]
— Дедуля, вы откуда знаете?
— Ты что, считаешь, мы здесь топором бреемся? — И заворчал: — В наше время женщины — это же царицы были, королевы. Идет — незрячие за ней головы поворачивают, так сияет. Со смертного ложа человек поднимается, чтоб хоть шаг за такой ступить. А теперь!.. Нигилистки, требушистки, материалистки. Животный магнетизм, рефлексы, половой вопрос…
Алесь смутился.
— Так что ты привез?
— Вам — пару картин. Вот посмотрите. Я там хорошее знакомство с букинистами и антикварами завел. Помогли они мне достать для вас первое издание Боккаччо. Знаете, это, в белой коже, большое…
— Спасибо. Особенно за «белого Боккаччо». Редкая штука. У меня не было. Это книга чистая, человечная. Плевать на все ограничения, на всяческую скованность… Спасибо, сынок. Ну, давай обнимемся.
Алесь не знал, как спросить о том, что его интересовало. Молча сидел у огня. Наконец решился:
— Как тут у вас? Как родители?
— Бьемся понемногу. Отец должен сейчас приехать.
— А Глебовна?
— Все бегает.
— Что с Раубичами?
— Ярош в гордом одиночестве. Не кланяемся.
— А как Гелена?
— Тут, сыне, дело сложнее. Рожает она. Первые схватки были вчера. Мы ее перевели было в главное здание. Отказалась: «Там жила, там и рожать буду».
Дед смотрел в огонь и не видел глаз внука.
— Доктор несколько раз приезжал из «губернского града». А теперь здесь сидит.
Глаза у деда были грустные.
— Глебовна попыталась было узнать, кто отец. Не сказала. «Люблю, говорит, ни о чем не жалею. Но с ним никогда не буду». А роды трудные. Евфросинья людей погнала, чтоб в Милом и в Загорщине по церквам ворота распахнули. И я… смолчал. Так со вчерашнего дня распахнутыми стоят… Жаль страшно… Как покойницу мою святую… Ксени.
Впервые за все время, сколько Алесь помнил деда, тот вымолвил имя бабки. Спустя сорок семь лет молчания явился в комнату, к этому огню и этим книгам, тихо пошевелил пламенем и застыл в тишине призрак, которому один был обязан жизнью, а второй — всей болью жизни.
— Дедусь, — тихо сказал Алесь, — я это только вам. Даже не отцу… Это мой ребенок, дедусь.
Лицо деда стало смугло-оливковым. Что-то как будто шевельнулось и сдвинулось в глазах… Дед склонился к огню и кочергой начал мешать угли. И, может, от жара щеки пана Данилы слегка порозовели.
— Т-так. Поздравляю. Жениться надо. — И, обдумывая что-то, спросил: — Когда?
— Дедусь, — сказал Алесь, — вам еще надо поговорить об этом с ней. Она не желает.
— Как это «не желает»? — рассердился дед.
Он сказал это таким резким голосом, что задребезжала, отозвалась эхом струна гитары на стене.
— Не сердитесь, дедушка… Это, к сожалению, так. Она просто помнила о том вечере, когда я принес ей свободу.
— Рассказывай, — бросил дед.
…Когда внук кончил, пан Данила смотрел в огонь блестящими глазами.
— И с Майкой нарочно помирила?
Алесь наклонил голову.
— Мне не о чем говорить с ней, — наконец сказал дед. — Это надо сделать тебе…
Дед с силой бросил в огонь кочергу. Оба молчали, глядя, как в брызгах желтого пламени наливается краснотой, словно набухает кровью, металл. Железо стало вишневым.
Потом хлопнул руками по коленям.
— Но ты поговори, внуче. Согласится — хорошо. Не согласится — через замужество кого-то из потомков — связать ее с Ракутовичами или с потомственными Юлиана или Тумаша из Зверина. Будут лишь на ступеньку ниже нас… Ничего я для нее, бабы этакой скверной, не пожалею.
И, видимо, решив, что непристойно проявил чувства, вдруг сказал:
— Вот так. Нашкодят, а потом ломай голову…
— Дедусь, — покраснел Алесь, — нет ничьей вины… Жизнь виновата.
— Вина? — Глаза старого Вежи блестели. — Дурак! Это слава жизни!.. Беги туда! Стой под дверью. Баб не пускают в алтарь, а мужиков к роженице. Квиты!..
Как семь лет назад, он шел комнатами, а потом галереей, над аркой. Как семь лет назад, подходил к двери… И — граница. Дальше нельзя.
Он то сидел на подоконнике и смотрел на ее дверь, то ходил взад и вперед.
Глебовна вышла из комнаты, всплеснула руками:
— Как же это вы надумали?
— Так, — сказал он. — Что там?
— Тяжело, княже, — прошептала она. — Боюсь. И дохтур боится. Да она еще и не кричит. Я ее уговариваю: «Легче будет. Дурница… Радость в мир несешь». Молчит. Только когда совсем нестерпимо, стонет. Может, сказать, что вы навестить пришли. Ей легче будет.
— Не знаю.
Женщина исчезла.
Алесь стоял в переходе над аркой и, прижав лоб к холодному стеклу, смотрел на безучастные кроны парка внизу.
Надо уйти отсюда. Хоть на минуту.
Прошел переходом, спустился по лестнице в яшмовую комнату и увидел идущих навстречу Вежу и пана Юрия.
— Сын милый! — сказал отец. — Что? Приехал о проекте разговаривать? Давай садись, поговорим.
Вежа незаметно пожал плечами. Мужчины сели в кресла. Темное лицо пана Юрия было утомленным.
Алесь понял, что совершил ошибку, придя сюда. Все нутро, все существо его тянулось туда, наверх.
— Так как же? — спросил отец. — Согласен на две трети надела без выкупа, а треть на выкуп?
Алесь что-то отвечал, сам не слыша своих слов.
— Что это ты, будто с того света пришел? — спросил отец.
— Устал с дороги, — сказал Вежа. — А ну, подбодрись малость, Алесь.
Но он мог бы и не говорить этого.
«Если только все будет хорошо, надо все отдать», — вспомнил Алесь и стал говорить. Он обдумывал это сто раз, и лишь благодаря этому его слова имели смысл, хотя он бросал их почти машинально.
— По-моему, вы на полдороги. И дед, и ты, отец.
— Пойдем, сыне, — сказал дед. — Потом.
— Нет, пусть скажет. — Глаза пана Юрия искали глаза сына.
— Не надо землевладения, — сказал Алесь. — Надо оставить себе поместную землю, сады, парки да заветные урочища… Ну, еще, может, ту землю, которая обеспечивает конные заводы и слуг. Все остальное отдать им.
Пан Юрий лихорадочно подсчитывал.
— По столько волок! — сказал он. — В Витахмо, скажем, по семьдесят десятин на семью. А где и больше. Запустят!
— Не сразу отдавать. По мере их обогащения. С вечным условием, чтоб на трети земли сахарный бурак и иное, что не продают, никому, кроме нас.
— Пo миру потомков? — вскинулся пан Юрий. — Из ума выжил сту-дент!
— Погоди, — настороженно сказал дед. — Пусть закончит…
— Пускай фермерствуют, — сказал Алесь. — Вы не понимаете того, что у них капиталы не те. Пока они сами могут завести сахарные и поташные заводы, стеклозаводы, плавильни, полотняные заводы и другие, мы успеем на приобретении их продуктов сделаться заводчиками, которым крестьянская конкуренция не страшна.
— Пo миру потомков пустить? — снова гневно спросил пан Юрий.
— Нищими, отец, станем, если так не сделаем. Разве наймит будет так работать, как мужик для себя, на своей земле? Поместьям все равно грозит обнищание при существующей системе, и вопрос лишь в том, сколько времени на это понадобится.
— Сахарные… Стеклозаводы… В купцов превратиться?
— В купцов — не в нищих. Только надел не подушный, а посемейный. Тогда большие семьи вынуждены будут часть людей посылать на сахарные заводы… по вольному найму. Может, так. А может, и этого не надо. Растет нужда в деньгах. Возрастет теснота в наделах. Да еще машины. Тогда надо ввести поощрительные цены на свеклу, лен, коноплю, картофель… Фабрики будут расти, и богатство будет у всех.
А сам думал: «Вздор! Какой вздор! Перед тем, что надвигается, такой вздор! Свекла, конопля, торба муки…»
— Я б на твоем месте подумал, — сказал сыну Вежа. — Что-то во всем этом есть. — И, посмотрев на внука, смилостивился, сказал пану Юрию: — Иди отдыхай. Я вот ему пару слов скажу и тоже погоню спать. А головы у нас дети, а, Юрась?
— Головы. — Шальные и хитрые глаза пана Юрия смеялись. Он дергал волнистый ус, прикрывая улыбку.
Ушел. Дед и внук сидели молча.
— Подожди ты здесь. Не терзайся — не поможешь… Сам придумал?
— Сам. Я пойду.
Дед понимал: надо успокоить, хоть на миг отвлечь мысли.
— Как думаешь Гелену обеспечить?
— Разве все будет хорошо?
Наступила тишина.
— Мямля! — сказал дед. — Первенцу!.. Землю тех двух имений, что за Суходолом. Дом в Ведрычах.
Алесь поднял глаза:
— Дедуля!
— Что «дедуля»? Дам, ничего не поделаешь.
Наклонился к Алесю:
— Идем выпьем с тобой.
* * *
Часом позже Алесь снова ходил взад и вперед по коридору. Вокруг была та же невыносимая тишина.
Показалось? Нет, не показалось. В тишине вдруг прозвучал болезненный стон. Еще стон… Еще… Стоны были тихие, сдержанные, но каждый пронзал сердце.
Не зная, куда деваться, Алесь открыл дверь. Небольшой, почти пустой чулан. Окошко в две ладони.
Он стоял среди пустых банок и мешков с мукой и горохом и ждал. Стоны… стоны… Или это в ушах?
Витахмовцы, говорят, когда-то были чародеями. Перед родами муж долго смотрел жене в глаза, а потом исчезал из хаты, шел в пущу и там кричал и бился о деревья, будто брал часть страданий на себя. И жены рожали легче.
Потом, как всегда, от этого осталась одна оболочка. Никто почти не умел «брать на себя», но в пущу все равно шли… Это называлось «кувадой». Немыслимой древности обычай…
…
Он не знал, как оставил чулан, как очутился снова у двери. Была тишина, и он понял, что стоны ему только казались и, возможно, давно уже произошло худшее.
Открылась дверь. Не заметив его, выскочила и побежала куда-то сиделка.
Сквозь щель он на мгновение увидел лекаря. Лекарь стоял и держал в руках что-то красное.
И вдруг по коридору пролетел крик. Слабенький, но на весь дворец, на весь мир крик.
Суетливо вышла повитуха, прикрывая полотенцем лохань.
Голос в комнате как будто дробился на части, распадался и опять соединялся:
— А-а! А-а-а! Э-э-э! Ге! Гэ! А-а-а!
Потом выкатилась Евфросинья. У нее дрожали губы.
— Двойня! Княже, милый! Хлопчик и девочка.
Всплеснула руками. Умчалась куда-то. Сиделка бегом вернулась в комнату. Началась суета. Никто не обращал на него внимания, и он сел на низкий подоконник.
Густо стемнело за окном, как всегда перед рассветом.
…Опять Глебовна. Аж захлебывается:
— А боже мой! Вырастут детки. Приведет она их под грушку. Будет для них сапежаночки рвать. А те будут есть да улыбаться солнышку.
Сквозь слезы взглянула на Алеся и вдруг широко раскрыла глаза.
— Панич! — И поцеловала в лоб…
Снова заплакала:
— Уж такая мне радость! Не было ведь у меня деток. Ни от мужа-покойника, ни потом…
Вытирала кулаками глаза. Так, как никогда не делала при пане Даниле.
* * *
Два свертка в руках Глебовны. В верхней части каждого свертка было как бы окошко.
В каждом окошке было что-то красное и некрасивое. Каждое некрасивое чмокало губами, чем-то вовсе не похожим на рот.
— Подержите. Так надо.
Он держал это теплое сквозь ткань, а женщина поддерживала. И он боялся, что поломает это или возьмет как-то не так.
И вдруг эти, словно по команде, раскрыли глаза. Глаза были серые и длинные. Или, может, это так показалось? Серые и длинные. Его.
— Глебовна, мне кажется, я их люблю.
Женщина недоверчиво посмотрела на него:
— Иди, иди. Не ври.
…Перед собой на высоких подушках он видел потемневшее, исхудавшее лицо с искусанными губами.
— Приехал? — скорее догадался, чем услышал он.
Он стал на колени и осторожно приник головой к ее руке.
— Прости меня.
Он не слышал ее слов. Только видел неуловимое движение губ.
— Я терпела… сутки… А потом не выдержала и застонала. Не могла уже. — Глаза ее засияли. — И вдруг мне стало легче. Я поняла: появился ты. И почему-то мне стало совсем легко.
Он посмотрел на нее с немым вопросом.
И получил немой ответ: ничего не изменилось и не изменится.
В библиотеке горел свет. Дед не спал. Ему забыли сообщить. И он ожидал.
Вскинул подбородок навстречу внуку. И тот понял, на что дед прежде всего ждет ответа.
— Отказалась.
— Я знал, — сказал дед. — Кто?
— Близнецы.
— Что-о? — Вежа выпрямился.
— Мальчик и девочка. — Алесь сел к камину и налил себе вина.
Наступило молчание.
От вина или, может, еще от чего-то покачивало.
— Отец будет кумом, — сказал дед, — Клейна — кумою. Чтоб не было подозрений на имена.
— Какие имена?
— Юрий и Антонида. Какие же еще?
— Дедуля, — сказал Алесь, — я думаю, есть бог на свете.
Алесь рассказал про дорогу, про разговор с профессором, про то, как звучала песня в снегах, про страшный сон.
— Так иногда у нас бывает, — сказал дед. — Понимаешь, как чего-то забытого клич. Когда-нибудь я постараюсь рассказать тебе о других сокровенных наших знаниях, случаях, чудесах. Этого никто не понимает, но это есть. При чем же здесь бог? Это твоя тревога, желание, единение душ на один миг. Иногда, во время битвы, бешеные приступы ярости у наших людей. Когда силы будто бы возрастают в десять раз. У норвегов — «берсеркерство», у наших — «пaна». Видишь, даже слова отдельные есть. Разность нервной системы или еще что-то? Или, говорят, индусы могут иногда не чувствовать боли. Или наше чувство трясины. Восемь из десяти детей, даже впервые попав, не провалятся. Как будто, скажи ты, охраняет их кто-то. А что уж там бог? Мы сами боги. Сегодня вот — боги. Бываем свиньями, а сегодня боги.
— Но сон…
Дед неожиданно вскипел:
— Сон! Предрассудки это. Не ожидал от тебя. Раковина предрассудков — спрячься и сиди. А все люди тычутся туда-а, сюда-а, не понимая, что прикованы к жизни, в которой все сказано. Боятся — потому и бог. Помнишь слова из родовой клятвы: «Нет ничего, кроме могил…» Одни верят в могилу Христа и ради нее издеваются над живыми. Потому что мертвый говорит и они не могут отказаться, жгут на огне… Другие верят в доктора Гильотена и над его могилой лязгают его же изобретением. Не глупость ли, когда надо верить в живых, в то, что сегодня произошло?
— Но все это…
— Первое, что свидетельствует против религии, так это то, что у людей разные боги.
— Не то, дед, не то. Не о верах. О том, что во мне, о моей цели, о том, что спасло всех нас.
— Мы сами себя спасли, — сказал старик. — А если погибнем, так тоже сами. Никто в этом не будет повинен, кроме нас самих… Землей и людьми движет дух борьбы. Я не знаю, есть ли у этой борьбы какая-нибудь надежда. Но из века в век люди борются. И потому они люди, а не быдло.
Пламя трепетало на лице деда.
— Сегодня — правда, завтра — ложь. Сегодня — Брут, завтра — он же, Нерон. Сегодня — бог, завтра — плесень, а потом другой бог. Учения, все учения — вздор. Есть одно учение, пока человек исповедует правду мыслей, чувств, любви.
* * *
Следующей осенью студент императорского Санкт-Петербургского университета Александр, сын Георгия, Загорский, не дослушав курса наук по словесности и истории, сдал, однако, при хорошем поведении все необходимые экзамены по этим дисциплинам и, подав установленные диссертации на степень кандидата, был заслуженно утвержден в этой степени господами профессорами и попечителем Санкт-Петербургского учебного округа.
Студент, однако, не воспользовался ни одним из прав и привилегий, предоставленных императором тем, кто имеет степень кандидата, а остался при профессоре Срезневском для усовершенствования в науках, одновременно записавшись на слушание лекций по медицине и философии с правом посещать, как и прежде, лекции по словесности, истории и изящным искусствам.
Защита диссертации по истории («Крестьянское восстание XVII столетия на территории белорусского Приднепровья. По материалам родовых архивов местных дворян и приднепровских «Хроник»), для написания которой он все лето просидел в архивах Вежи, Суходольского замка, Раткевичевщины, Кистеней и фондов бывшего Збаровского Костелянства, прошла без препятствий.
Зато на защите «Приднепровских песен, сказаний и легенд» едва не возник скандал. Собралось слишком много народу из «Огула» и просто так земляков. Все в большинстве плохо одетые, в ботинках, которые просили каши, в сюртуках, перешитых едва ли не из домашних чуг и свиток. Некоторые в очках с «оконными» стеклышками. Большинство из-за отсутствия пальто в заношенных пледах, смастеренных из самой дешевой шотландки или даже из домотканых, в шашечку, постилок. Все больше из тех людей, что аплодировали Чернышевскому и о которых ходила шутка:
— Что это ты, хлопче, из половика себе плед сделал?
— Из риз пока что не позволяют.
— Что это у тебя рушник вместо галстука?
— Хорошо, что пока не верёвка.
Юмор был мрачный. Воистину юмор висельника. Но сами хлопцы были веселые, хотя и вечно голодные. Откуда просочилась к ним весть о защите диссертации, не знал никто.
Эта аудитория встречала каждое «опасное» место одобрительным гулом. Оппоненты, возможно побаиваясь неприятностей, пытались было оспаривать слишком «левые» положения работы. Особенно старался профессор Платон Рунин, наиболее рьяный из славянофилов университета. Кричал что-то о «славянской душе», которой чужд мятеж и с самых изначальных времен свойственны кротость и поиски бога в своей душе и душе тех, кто руководит. Наконец договорился до того, что только под эгидой сильного славянин чувствует умиление и раскованность, что духу славянских народов не свойственны все формы парламентаризма и демократии, придуманной безбожными французами, что всегда они будут ощущать духовную потребность в монархии.
Алесь, вспоминая свои недавние размышления, краснел от слов Рунина, как будто его били по щекам. А студенчество гудело:
— Вече! Разин! Копные суды! Вощило!
Срезневский наконец был вынужден остановить их.
А Рунин бубнил дальше. Все что-то о том, что защищающий, тенденциозно подбирая песни, показывает в своей работе самый богобоязненный и кроткий из славянских народов бандой мятежников, грабителей и гуляк, которые жаждут вечного бунта.
Сравнивал работу Алеся с «Песнями шотландской границы» Вальтера Скотта и намекал всем о многочисленных неприятностях и обострениях, которые породил этот безответственный эксперимент, эта гальванизация трупа неукротимой и дьявольской идеи свободы, давно себя скомпрометировавшей.
Студенты устроили обструкцию. Измаил Иванович призывал к порядку и Рунина, и студентов, затем сам перешел в наступление на оппонентов, начал крошить и ломать их доказательства.
А потом, когда диссертацию приняли, расцеловал «двойного кандидата» и согласился пойти вместе с друзьями, которых набралось человек пятьдесят, отпраздновать у Бореля рождение нового «мужа науки».
* * *
За окнами курительной хлестал черный ноябрьский дождь. В доме Сошальских на Литейном проспекте в ожидании, пока сойдутся гости, сидели люди, собравшиеся раньше, чтоб успеть побеседовать. В углу, у чахлого — одно название, что огонь! — петербургского камина, сидели Зигмунт Сераковский, Ямонт, Валерий Врублевский и Фелька Зенкович — все курильщики. Их всеобщим плебисцитом изгнали к огню, чтоб вытягивало дым. Кастусь настоял. Во-первых, Виктора недавно заставили бросить курить. Он уже знал о своей болезни. Алесь все время звал его к себе, потом нашел братьям квартиру в Петербургской части, в доме под номером шестнадцать по Большой Посадской (две теплые и сухие комнаты), и умолял, чтоб Калиновские брали у него деньги.
Положение со здоровьем Виктора было настолько серьезным, что Алесь настоял на своем.
Виктор согласился и иногда принимал помощь. Зато Кастусь с этой самой минуты не соглашался брать ни копейки. Однажды из-за этого друзья поссорились и даже месяц не разговаривали ни о чем, кроме дела.
Алесь предложил Виктору деньги, чтоб тот поехал куда-нибудь лечиться за границу. Виктор отказался, сославшись на срочную работу для Виленской археологической комиссии (он в самом деле работал для Киркора и Малиновского и не считал возможным оставить без помощи и как бы без глаз слепого старика). А еще Виктор был уверен, что эта работа даст ему деньги на поездку. Брать же у друга, не надеясь вернуть, он не мог.
От злости на легкомыслие Виктора Алесь чуть не плакал. Виктор посмотрел на Алеся, вдруг посерьезнел и сказал, что если ближайшие несколько месяцев не принесут облегчения, он попробует воспользоваться помощью друга.
Но легче, очевидно, не становилось, и Алесь сердился на Виктора и на себя, что не сумел сразу сломить сопротивление Калиновского.
Виктор с Эдмундом Веригой и Кастусем сидели у двери, возле теплой голландской печи. Разговаривали очень тихо о неофитах, недавно принятых в «Огул». Количество людей возрастало, и даже на местах, в Литве и Белоруссии, не говоря про Польшу, возникла сеть подчиненных организаций. Недавно на заседании решили, что после окончания университета и институтов большая часть молодежи в целях агитации разъедется на должности учителей, посредников, писарей, воспитателей в дворянских домах. Нельзя уже было ограничиваться работой среди интеллигенции.
— Что у тебя? — спрашивал Кастусь.
— Двадцать пять новых, — отвечал Верига. — Свежеиспеченных. Чудо, а не хлопцы. Все красные.
— Беда покрасила, — кашлянул Виктор. — Как, ты скажи, раков. Так я записываю, Эдмунд… А у тебя, Кастусь?
— Маловато. Десять человек.
— Кто? — писал Виктор. — Записывать их как распорядителей в столовой для бедных?
— Давай так. Пиши: Сапотько Петр — студент, Янус Ахилес — студент, Дымина Тихон — семинарист, Дашкевич Кондрат и Зембровский Стефан — студенты. Зданович Игнацый — студент.
— Вильнянин?
— Ага.
— Семья неплохая… но напуганная. А сын ничего хлопец… Плохо, что отец против. И еще, что в Вильно кое-что о нас знают. Даже лично о нас с тобой, Виктор. Предупреждают детей: безумцы, Робеспьеры, карбонарии…
— Ничего, — сказал Виктор. — Знают и знают. Наши люди не доносчики.
За спиной Сераковского сидели еще два человека. Один, пониже, с довольно невыразительным лицом, умный, если судить по глазам, отгонял дым сигары рукой. Второй, с жестковатым лицом, нервно шептал на ухо Зигмунту: то ли возмущался чем-то, то ли спорил. Это были члены верхней рады организации, участники «литературных вечеров» — Оскар Авейде и Стефан Бобровский.[133]
Алесь знал их хуже остальных и Авейде недолюбливал, сам не зная почему.
А Бобровский почему-то выделял его, Алеся. Улыбался при встрече, сильно жал руку, задерживал побеседовать, — сразу было видно, что разговор с юношей ему приятен. Вот и теперь он то и дело показывал Зигмунту на Алеся. И Зигмунт, встречаясь с глазами Загорского, улыбался белоснежными зубами.
С Сераковским вокруг шахматного столика сидело пять человек. Два делали вид, что играли, хотя партия давно была забыта, остальные будто бы наблюдали за игрой, хотя смотреть было не на что, разве только на то, как один из игроков наклонял фигурки и отпускал, и каждый раз как бы удивлялся, что они поднимаются на «ноги», потому что в донышко каждой был залит свинец. На нем был скромный чиновничий фрак. Этот человек служил на железной дороге и даже с виду был типичный служащий — тихий, скромный, светловолосый, с немного виноватой улыбкой. Никто не мог бы подумать, что взгляды этого человека склоняются иногда едва не к анархизму.
— Брось, Ильдефонс, раздражает этот стук, — сказал ему партнер, человек с властным лицом. — Будем играть или нет?
— Видимо, нет, — смешал фигуры служащий. — Сейчас снова начнется разговор. И опять ты будешь защищать идею шляхетства, величия Польши. И снова мы с тобой будем ругаться, Людвик. И Загорский вон кликнет на помощь филологию, а Виктор — историю, а Кастусь — социализм. И накостыляет тебе эта белорусская троица по десятое, а я помогу.
Алесь улыбнулся. Ильдефонс Милевич и Людвик Звеждовский дружили, но всегда спорили. Звеждовский во многом, даже в белорусском и украинском вопросе, склонялся к белым, и Алесь лишь потому верил этому офицеру в блестящем мундире, что чувствовал его чистоту и полную преданность делу. Была в Людвике искренность ошибочной мысли. Была готовность в любую минуту отдать жизнь.
— Владь, — сказал Людвик, — защищай.
Один из зрителей имел, пожалуй, даже пугающую внешность. Он напоминал Марата: желтый, как у людей с больной печенью, цвет кожи, черные и жесткие, словно лошадиная грива, волосы. Широкое и очень грубое плоское лицо, узенькие щелочки колючих глаз.
Человек этот был инженер-путеец Владислав Малаховский.
— Не буду, — сказал он Людвику. — Вас надо скорее воспитывать, потому что как бы не довелось вас вешать.
Второй офицер, рядом с ним, был тезка Сераковского — Зигмунт Падлевский. Никто тогда еще не мог предвидеть его судьбы. Просто знали, что человек он твердый.
Зато нельзя было не обратить внимания на последнего из зрителей. Сухое и красивое польское лицо, мускулы на худых щеках, острые небольшие усы, сдержанность подобранного, твердого рта. И глаза, как угли. Тлеют суровым и добрым огнем.
Затянутый, как и Сераковский, в мундир офицера Генерального штаба, весь налитый спокойной, но в каждый миг способной к порыву силой, он сидел, словно ничто его не касалось, но слышал все.
Звали офицера Ярослав Домбровский. Его скоро заметили в организации, и он стал одним из ее руководителей.
В небольшой комнатке сидело почти в полном составе руководство нелегальной организации.
— Что ж, — сказал Домбровский, — пожалуй, время начинать… У хозяина вот-вот соберутся гости. Начинай, гражданин Зигмунт.
— Подытожим, — сказал Сераковский. — Сегодняшнее заседание «левицы» и «центра» нашей организации единогласно согласилось с тем, что достичь нашей цели — это значит свободы и демократии — нельзя иначе как через восстание…
Загорский увидел, как Кастусь склонил голову.
— …потому что добиться чего-нибудь лояльными путями в полицейском государстве невозможно. И, кроме того, недовольство народов Польши, Литвы и Белоруссии гнусной политикой императора и его камарильи переходит в ярость. Терпеть дальше ярмо мы не можем. Каждый лишний час рабства развращает слабых и уничтожает сильных… Поэтому с сегодняшнего дня мы должны убеждать всех, что без восстания…
— Без революции, — сказал Виктор.
— …дело не обойдется… Кроме того, «левица», которую поддерживает часть «центра», предлагает, чтоб социальное переустройство общества шло рядом с освободительным восстанием. Основные их тезисы: полное равноправие всех граждан, вся земля — крестьянам, родной язык — народам. Предложение внесла белорусская группа рады в составе граждан братьев Калиновских, Вериги, Зенковича, Малаховского, от имени которых объявил предложение его составитель, секретарь группы гражданин Загорский… Предложение поддержали большинством голосов, хотя, учитывая мнение «правицы» в Петербурге, Вильне и Варшаве, надо думать, что его провалят.
Немного растерянное лицо Виктора передернулось. Алесь перевел глаза на мрачноватое лицо Кастуся. Кастусь пожал плечами, словно сказал: «Ну и что? А придерживаться этого все равно надо».
— Начинаем обсуждать последнюю сегодняшнюю проблему. Проблему о нациях так называемых окраин. Вопрос этот можно сформулировать так: «Свобода окраинам. Самоопределение их народам». Он обсуждается строго секретно, и потому члены рады не должны дискутировать его среди других, чтоб заблаговременно не вызвать распри. Собственно говоря, введение нашего решения в действие осуществится лишь во время восстания и после его победы.
— Так зачем обсуждать? — спросил Звеждовский.
— Вопрос ставят товарищи с окраин, — объяснил Зигмунт. — Чтоб знать заранее, на каких условиях они будут бороться бок о бок с нами.
— На форпосте восстания, — уточнил Верига. — Ибо кто первый и нарвется на свинец, так это мы.
— Какие условия? — спросил Ямонт.
— Полная свобода белорусам и литовцам самим решать свою судьбу, — произнес Алесь.
— Федерация? — поинтересовался Домбровский.
— Возможно.
— Независимость? — уточнил Падлевский.
— Народы решат это сами.
— Какие народы? — словно не понимая, спросил Авейде.
— Гражданин глухой? — в свою очередь спросил Фелька. — Белорусы и литовцы. Две нации, которые живут на земле…
— Какая белорусская нация? — Ямонт прикидывался неосведомленным.
— Никогда не слышал? — спросил Алесь.
— Почему? Я слыхал и о белорусах, и о литовцах, но всегда считал их ветвями польского племени.
— Ты б поспорил об этом с уважаемым господином покойным Уваровым, — иронически заметил Виктор. — А мы тем временем занимались бы своим делом. Нам ваш бред некогда слушать.
Аккуратные, длинные пальцы Виктора достали из кармана небольшую неяркую книжку в бумажной обложке.
— Я всегда считал, что это диалект неграмотных, — сказал Ямонт.
В тот же миг книжка шлепнулась ему на колени.
— Диалект неграмотных! — воскликнул Виктор. — На, понюхай, это «Дудар белорусский» Дунина-Марцинкевича…
— Не вижу в этом особенной опасности.
— А цензор видит. Весной запретил поэму «Халимон на коронации».
— Это еще не доказательство. — Ямонт бросил книгу на софу. — Один поэт — это не нация.
— Во всяком случае, рано еще говорить о какой-то обособленности, — сказал Звеждовский. — И, я полагаю, поскольку начало вашему племени положено издавна, есть в вашем характере какой-то изъян. Ничего не сделать за семьсот лет — это надо уметь. А если неспособны — подчиняйтесь.
Алесь испугался, увидев лицо Виктора. На запавших щеках пятнами нездоровый румянец, дрожат губы, горят из-под черных бровей синие с золотыми искрами глаза.
…В следующую минуту старший Калиновский набросился на оппонентов.
Дрожали губы, подступал откуда-то из горла кашель, мягкие глаза неистово пылали. Нельзя было не засмотреться на него в этот миг.
— А Кирилл Туровский? А предания? А то, что наша печатная Библия появилась раньше, чем у многих в Европе? А то, что законы Статута Литовского сложили мы? А то, что Польша сто лет судилась законами, написанными на нашем языке, а когда перевела их, то оставила все наши термины и отсылала тех, кто не понимает их, к белорусскому оригиналу? А то, что рукопись границ между Польшей и Литвой, которую исследователи считают польской, написана на белорусском языке? А то, что триста лет языком княжества был белорусский язык?…
— В Статуте сказано не так…
— Знаю. Четвертый раздел, первая статья Статута. А какие это, вы считаете, слова: «пісар маець», «лiтарам», «позвы», «не iншым языком i словы»?
— Русские слова, — ответил Ямонт.
— Поздравляю, — сыронизировал Валерий.
— С чем?
— С благоприобретенной глупостью, — ответил Домбровский.
— А что это? — улыбнулся Виктор. — «Заказала яму пад горлам, абы таго не казаць», «Беглі есмо да двара на конех», «На урадзе кгродскім пінскім жалаваў, апавядаў і протэставаў се земляны павету Пінскага…».[134] Три предложения — три столетия. Три предложения — три местности. А язык один. Что еще надо? А Будный? А древняя иконопись? Алесь, Юзеф твоей диссертации не слушал. Ткни его носом… Предки думали не так.
— Откуда вы знаете, как они думали? — спросил Людвик.
— Вам никогда не приходилось перерисовывать факсимиле? — спросил Виктор. — Однако что я, вы — офицер, ваше ремесло — война. А жаль… Иногда в старой рукописи попадается неразборчивое место. Для издания его нужно точно скопировать. И вот водишь рукой, повторяя линии, и вдруг ловишь себя на мысли, что все, все понимаешь. Потому что твоя рука повторяет движения руки человека, который жил за триста лет до тебя. Так и с мыслью предка, за которой следишь, читая старую рукопись.
— Интересно, — с неожиданной серьезностью сказал Бобровский.
— И даже если б ничего такого не было, одно ощущение нами своей родины дает нам право на отпор официальным патриотам. — Румянец пятнами вспыхивал и угасал на щеках Виктора. — Что же за мысли у них?! Кто они?! Шляхта в самом худшем смысле этого слова!.. А вот они, — Виктор обвел глазами друзей, — и сотни других подтвердят, что мы против Польши магнатов и за Польшу простых людей. Чьи мысли высказываешь, Ямонт? Мысли Велепольского?… Высказывай, смыкайся с «правицей» белых! Но знай: мы для Велепольского и K° не вотчина и не холопы. Хватит с нас рабства… Братство — да, но не подчинение! Равенство — и ни на волос ниже!
— Это сепаратизм! — вспыхнул Ямонт. — Это преждевременная торговля, это нож в спину!
Виктор держал руку на груди:
— Наш Савич действовал рядом с Конарским, и никто не бросил ему упрека в неверности и измене. Мы верные люди.
Сухой, мучительный кашель разорвал его грудь. Он кашлял в платок так, что Алесь с ужасом ожидал — вот-вот появятся красные пятна.
— Ямонт, брось, — сказал Стефан Бобровский. — Ты что, не видишь?
— Только не жалеть! — сквозь кашель гневно прокричал Виктор. — Только не жалеть!
— Кто за отказ от прав на окраины? — спросил Зигмунт.
Кроме крайней «левицы» белорусских красных, подняли руки Врублевский, Домбровский, Стефан Бобровский и затем, взглянув на Виктора, Зигмунт Падлевский. Воздержались Авейде, Звеждовский и Сераковский. Решительно против был Ямонт.
— Против — один.
— Два, — с клокотанием в горле сказал Виктор.
— Кто еще?
— Падлевский! Пишите и его «против». Мы здесь не милость вымаливаем. Мы требуем то, что нам принадлежит.
Кастусь с потемневшим лицом смотрел на Сераковского и ожидал:
— За кого же стоишь ты, Зигмунт?
Сераковский смотрел ему в глаза спокойно и искренне.
— Не за колонию.
— А объективно?
Виктора все еще бил кашель.
— За конфедеративное государство. За неделимую Польшу, в которую на равных правах с поляками вошли б белорусы, литовцы и украинцы… Мы не имеем права ослаблять восстание, Кастусь.
— А все же делаете это.
— Чем?
— Словом «неделимая», — тяжело шевельнул челюстями Кастусь. — Чем ты тогда отличаешься от белых?
— Ну, знаешь…
— Что «знаешь»? — Лицо Кастуся окаменело, глаза горели холодным огнем. — Воеводства Мазовецкое, Краковское, Литовское, Люблинское, Белорусское, Украинское. — И, словно отвесил оплеуху, бросил: — Может, еще Крымское? Интересно, что сказал бы на это твой друг Шевченко?
Зигмунт вздрогнул.
— Чем ты отличаешься от белых с их гнусной идеей «единой и неделимой»?
— Кастусь…
— Я давно Кастусь. И я знаю, что при словах «неделимый», «нерушимый», «единый», когда их говорит сильнейший, настоящих людей тянет разбить неделимость, разрушить нерушимость. Потому что это замаскированная цепь рабства.
Лицо у Кастуся пылало.
— Это не нож в спину. Просто лучше заранее договориться обо всем, чтоб твердо знать, на что надеяться. Потому что если вам второстепенное положение — это большая или меньшая неприятность, то у нас вопрос стоит иначе. Или свобода, или не жить.
— Я не протестовал, — сказал Сераковский, — я воздержался. Но ты убедил меня. Значит, мы должны этот взгляд, принятый теперь большинством рады, распространить среди умеренных и вести за него спор с белыми.
— Срам! — выкрикнул Ямонт. — Это подрыв общей мощи, гражданин Сераковский!
— Взаимопомощь, — сказал Милевич.
— Сепаратизм! — сказал Звеждовский.
Алесь понял: нервозность Кастуся может испортить дело, пришло время вмешаться.
— Большинство людей не понимает, что принуждение, второстепенное положение, цепи — это вечная мина под единством, что в таком положении даже между братьями растет чувство враждебности, а иногда и ненависти. Самостоятельность и возможность распоряжаться собой, как пожелаешь, — вот наилучшая почва для братства.
— Чувствую, чем здесь пахнет, — сказал Ямонт после паузы. — Робеспьеровщиной, Дембовским, галицийскими хлопами, что пилили панов пилами, Чернышевским… Вот откуда они и идут, ваши крайние, чудовищные взгляды. Из дома на Литейном.
— Какого? — спросил Бобровский.
— Что напротив министра государственных имуществ. Из дома этого картежника, что пишет стишки о народе, а сам нажил поместья, и даже министр внутренних дел говорит, что он не революционер, потому что имеет деньги.
Кастусь поднялся. У него подергивались губы и щека, дрожало левое веко.
— Юзеф, молчи, не доводи. Человек, который… всю жизнь… Человек, который… наполовину поляк и сочувствует вам. Как тебе не стыдно?!
И сел, странно, как будто не своими руками, загребая воздух. Воцарилось тяжелое молчание.
— Прошу слова, — нарушил тишину Алесь. — Я предлагаю исключить студента Ямонта из рады и «Огула». Я предлагаю также предупредить все низовые организации, чтоб они не вздумали выказывать Юзефу Ямонту доверия, если не хотят враждебности, а возможно, и провокаций…
— Я вас ударю, Загорский, — сказал Юзеф.
— Не советую. Предлагаю исключение.
— Основание? — спросил Звеждовский.
— Сплоченность. Единение.
— Яснее?
— Наш триумф в сплоченности. Сплоченности с левыми элементами, какой бы нации они ни были — поляки, украинцы, русские, литовцы, курляндцы… — Он говорил, словно отсекая каждое слово. — И потому мы должны с уважением относиться к каждой нации, не оскорблять ее прежней враждебностью, недоверием, сомнением в ее революционных силах. Иначе — гибель. Все восстания грешили этим и гибли. По-видимому, шляхетских националистов это ничему не научило… Ты поставишь наконец мое предложение на голосование, гражданин Сераковский?
— Ставлю…
Ямонт обводил всех глазами и понял: глаза большинства не обещали пощады.
— Хлопцы… — сказал он. — Хлопцы, как вы можете? — Голос его дрожал. — Хлопцы, я отдам за восстание жизнь!
Все молчали. И тогда Юзеф всхлипнул от волнения.
— Хлопцы, я никогда не думал…
— Думай, — сказал Валерий.
— Я непременно буду думать. Не отнимайте у меня права погибнуть за родину… Я хочу этого… Я не могу без вас… Хлопцы, что я, иуда?… Хлопцы, простите меня!!
Теперь все смотрели на Алеся.
— Исключение, — бросил Алесь.
— Алесь, ты безжалостен, — отозвался Виктор.
— Как ты можешь? — спросил Верига.
Молчание.
— Ты что, не видишь? — сказал Кастусь. — Он молод, он глуп.
В болезненных глазах Ямонта стояли слезы.
— Я не буду стреляться, хлопцы, — сказал Ямонт. — Мне нельзя без этого дела, но я не застрелюсь. Это низко для сына родины. Но я клянусь вам — я пойду и выслежу кого-нибудь из сатрапов и выстрелю, а потом дам себя схватить… Возьми свое предложение обратно, Алесь… Прости меня, слышишь?
Загорский смотрел в глаза Виктору. Он знал: хлопцы ради солидарности поддержат его, но Виктор будет потом страдать. И хотя он не считал правильным попустительствовать Ямонту, пришлось уступить.
— Хорошо, — глухо буркнул он, — я не буду ставить этого вопроса. Не потому, что изменил свое мнение, а потому, что…
— Мы считаем, что ты прав, гражданин, — не дал закончить ему Валерий.
— Вы считаете. Но они так не считают. — Алесь кивнул на крайних «левых». — Пусть будет так.
— Хорошо, — облегченно вздохнул Сераковский. — Значит, так и запишем: «Автономия, федерация или полная самостоятельность — решат после победы сами народы, в частности белорусский народ». — И вдруг добавил: — А гулянье в Петергофе было в этом году дрянь.
Алесь оглянулся и увидел — в дверях стоял хозяин.
— Время кончать. Через полчаса дом будет полон людей.
…Загорский и Кастусь вышли из курительной в большую гостиную. Там было полно народу, но они не знали в лицо почти никого. Алесь смотрел на друга неодобрительно: все лицо Кастуся покрылось мелкими красными пятнами, как при крапивнице.
— Нервы у тебя, Кастусь…
— Знаешь, месяц назад у меня произошло обострение болезни.
— Какой? Ты мне ничего не говорил…
— Да я думал — все прошло. У меня несколько лет назад были приступы.
— Эпилепсия?
— Нет. Просто вдруг как будто шкуру содрали. Каждый нерв в теле оголен. Болит.
Кастусь говорил глухо и прятал глаза.
— Болит. Понимаешь, из-за самого незначительного пустяка болит. От лжи — болит, от двуличия — болит.
— Что, неприятно?
— Нет. Физически болит. Понимаешь, от самой незначительной обиды кому-нибудь. От мелочей. Несколько дней назад стою у Невы. Вижу — бездомный пес вырвал у девочки из рук пирожок. Девчонка бедненькая, голодная видать, стоит и плачет. И так мне стало — ты только не говори никому — и девочку жаль, и пса жаль. Прямо — ну аж сердце разрывается. Главное, пес не убежал далеко, тут и глотнул, в подворотне. А девчонка даже плакать не может громко, как здоровые дети. Понимаешь, стоит и, как у нас говорят, квилит… Ну, чепуха же это, тем более — я купил ей пирожок… Так на тебе, второй купил и бросил псу, а он завизжал — и бежать, будто я в него… камнем.
Лицо Кастуся вдруг напомнило Алесю лицо ребенка.
— И вот, почти спать не могу. Как вспомню — бог ты мой! Ну хотя бы детей во дворе сиротского дома или стариков на лавочке на бульваре, а то обезьяну у болгарина-шарманщика… Ладонька, знаешь, детская, сморщенная. И клетчатое платьице на ней… Как вспомню, словно я за вольтову дугу ухватился. У меня… с какого?… ага, с пятого октября галлюцинации. Будто стоит кто-то фиолетовый и толстый. И ничего у него нет, кроме одного золотого ока. Стоит да краями своей грубой мантии шевелит. И будто хочет есть людей, не знаю уж, каким образом. А мимо меня идут, идут. Покойная мать без лица, ты в лохмотьях, Виктор, девочка с пирожком, собака… Все, кого в жизни видел… И смотрят… Каждую ночь так.
Алесь испугался. Схватил друга за грудки, сильно встряхнул. Калиновский вздрогнул.
— Прости, милый, — сказал он. И добавил после паузы: — Помнишь, сказал Веже, что на мой век нервов хватит. Боюсь, не хватит. Только б это случилось после, когда уже у каждого будет по пирогу.
— Жаль, что ты не у меня, — умышленно грубо сказал Алесь. — Я б тебе за твои фантазии… Пойдешь сегодня ко мне.
— Зачем?
— Буду выхаживать. Во-первых, каждый вечер перед сном два часа гулять. Во-вторых, пить отвар. Аглая даст. В-третьих, «трижды девять» — настой трав на водке. В-четвертых, холодные ванны два раза в день.
Грубоватый и уверенный тон Алеся произвел, кажется, должное впечатление.
— Медик, — сказал Кастусь.
— А что? И медик. Читать только веселое. Есть бифштексы. Спать ложиться с курами… Серьезно, серьезно, Кастусь… И еще — влюбиться тебе надо… Ну, это, наконец, как хочешь. Но какой-то месяц я тебя не отпущу.
— Ладно.
К ним подошел Виктор, и Алесь умолк. Сердце Алеся обливалось кровью за братьев.
— Послушай, Алесь, — сказал Виктор. — Кастусь говорил, что ты вместо полного освобождения предложил своему отцу какую-то либеральную блевотину. Какую-то конкуренцию с мужиком, сахарные заводы, стеклозаводы. Ты что, от нас отмежевываешься? — Глаза у Виктора блестели, видимо, от температуры.
— Брось, — сказал Алесь. — Надо же мне дать отцу что-то, за что можно было бы бороться официальным путем? Или он должен был нашу программу выдвинуть: землю — крестьянам, царя с чиновниками да злостными крепостниками — на осину, родной язык — школам, попов — из школ? Ты этого хотел?
— Ну… как… Н-не это, конечно…
— А потом, ничего не сделав, юркнуть в прорубь? За меньшее людей в Сибирь угоняли… Я, Виктор, не думал так, когда предлагал. Но пока народ на восстание не пошел, надо делать хоть что-то.
— Отстань от него, — вдруг резко сказал брату Кастусь. — Почему вы все к нему с вопросом этим идиотским: «Како веруешь?» Он патриот не хуже тебя.
Виктор растерялся от нападения.
— Это кто? — вдруг указал Кастусь в сторону одного из гостей.
— Слепцов. Венгерский герой.
— Ну и дурак, — резко бросил Кастусь. — А тот?
— Эверс, советник министерства иностранных дел.
— Этот зачем?
— Он и еще вон тот, Чертков, шталмейстер, да еще тот гриб, сенатор Княжевич, министр финансов, — ширма. Чтоб не было «голубых» друзей из соответствующего дома.
— Неплохо придумано. А тот?
— Иванов-тридцатый.
— Ты что, шутишь? — возмутился Алесь.
— В самом деле. Адъютант по особым поручениям при петербургском военном генерал-губернаторе.
— Что, тоже маска?
— Да нет. Почему-то проникся уважением к Людвику. Лезет всюду умные разговоры слушать… А там вон Щербина, поэт. Видите, какое лицо. А тот, в очках, с бакенбардами, старик, — бывший друг Пушкина. А теперь, кажется, товарищ министра народного образования. Вяземский Петр Андреевич. Поэт. Жаль, хлопцы, старости.
— А тот, похожий на огромного воробья?
— Толстой. Феофил. Музыкальный критик… А тот — рогоносец Феоктистов, пес цепной, наместник Фаддея Булгарина. Из молодых, да ранний. И, скажи ты, не успевает старый подлец подохнуть, как уже на его место нового готовят.
Один из гостей привлек особенное внимание Алеся. Не внешним видом, пожалуй, а какой-то подчеркнутой нескованностью.
Сколько ему могло быть лет? Наверно, далеко за пятьдесят. Во всяком случае, об этом неопровержимо свидетельствовали совсем седые усы, склеротический румянец на щеках, нос, который когда-то, по-видимому, был островат и немножко вздернут, а теперь с годами обвис и тоже немного покраснел. Да и брови были как у старика — кустистые, суровые.
Незнакомец встретился с Алесем взглядом и, видимо, понял, что тот рассматривает его как любопытный и загадочный экземпляр рода человеческого.
В человеке этом таилась какая-то мучительная извечная мысль, которая истязала, и даже минута веселья не приносила облегчения. Тяжелое, обессиленное неотвязной мыслью, измученное и грозное лицо.
— А того ты не знаешь? — спросил Алесь, собираясь идти опять в курительную.
— Знаю.
— Кто?
— Шевченко.
Алесь невольно сделал два шага назад. Раньше, чем успел подумать, что это неприлично. Но все равно было поздно, человека уже не было видно.
…Из курительной большинство народа уже разошлось. Сидели у огня лишь хлопцы, с которыми в первый вечер познакомился Алесь, да Малаховский, Милевич и Зигмунт. Но зато набилось много другой молодежи. Некоторых Алесь знал. Вон те тоже земляки, из Академии художеств. А тот — товарищ Врублевского по Лесному институту, неуклюжий Яневич, белорус из-под Мяделя. А тот тоже свой, Антось Ивановский, товарищ Виктора по работе и идеям… Некоторых других Алесь видел на заседаниях «Огула».
— Что ты мне, человече, тявкаешь о музыке? — сердился Эдмунд Верига.
Его оппонент, по всему видно — студент-белоподкладочник, сидел, независимо закинув ногу на ногу.
Высокомерное лицо, надменный рот, золотые брелоки на цепочке часов.
Цедил слова, словно с судейского кресла, будучи твердо уверен: хорошо все, что бы он ни сказал. Что он «левый», свидетельствовал разве что один из брелоков — золотое сердце с рубиновой каплей крови, «Сердце Отчизны».
— Говорю, что однообразная музыка скучна.
И тут Алесь понял, что брелок с «Сердцем Отчизны» ложь.
— А ты знаешь о диапазоне мужских голосов в белорусских хорах? — спросил Верига. — Наверно, слышал, что так называемая «подводка» есть только в белорусских хорах? Из всех славян только у белорусов да еще у донских казаков.
— Это еще что?
— Приятно спорить со знатоком музыки. Это самый высокий, какой только возможен, солирующий мужской голос. Поет, а тебе кажется, что на небе бьют серебряные звоны. От них и до самой низкой октавы — вот тебе и монотонность… Что, скучно? А вот это что?
Эдмунд пропел музыкальное предложение, мягкий голос нежно забился в стенах комнаты и умолк.
— Ну, этого один дурак не знает. Начало известной арии «Гальки».
— Это, хлопче, песня: «Стала б ты калиной, обнял бы тебя я…» А это?
— Ария Антониды.
— Это «Выйду я на болани гулять…». Поют ее на Полотчине, Витебщине… А это?
Звуки загудели почти страшно. Эдмунд пел басом.
— Н-не знаю… На орган похоже. Что, кто-то из старых немцев?
— Да нет, — сказал Верига. — Это «Пан бог, твердыня моя…». Старый хорал. Ты прав, однообразие. Монюшко, Глинка и… кого ты еще там выбрал? Баха?
Присутствующие давились от смеха по углам.
— Ну что, еще будешь слушать или, может, уже достаточно, сделаем передых? Думаю, достаточно. Неинтересно мне что-то с тобой спорить, — сказал Верига.
— Я недавно встретился с одним «итальянцем», — как всегда пряча глаза, заговорил Малаховский. — Так он говорил, что на польские и белорусские слова нельзя писать музыку. Мол, только полногласные языки дают хороший текст для песни. Он композитор. Свинья! — вспыхнул вдруг Малаховский. — Я никогда ему этого не прощу. Жрет наш хлеб, да нас же и охаивает. Предложил ему стихотворения Дунина, Словацкого да белорусское стихотворение Сырокомли. «Только попросите кого-нибудь перевести. К этим языкам музыку писать нельзя. Один слишком шипит, второй слишком звенит». Предложил мне подыскать поэта, чтоб тот написал ему слова для хорала благодарности государю императору…
— А ты что? — спросил Кастусь.
— Я вначале хотел было… а потом подумал, что еще к судье попадешь… не стал связываться. Но через месяц принес ему стихи. Гляжу, вылазят из орбит глаза, вылазят… «Ты что же это принес? Мужицкие стихи?»
— Чьи стихи? — спросил мрачный Валерий.
— Нашего «гражданина князюхны»! — прыснул Малаховский.
Алесь побледнел.
— Ты что?… Какое ты имел право? Да я и стихов не пишу.
— А кто у Кастуся однажды тетрадь забыл и только на второе утро прибежал?
— Да не пишу я, хлопцы. — Алесь глазами умолял друзей, чтоб поддержали. — Врет он.
— Внимание! — сказал Малаховский. — Князь Загорский при всех говорит, что я обманщик. А я заявляю, что он низкий эгоист и себялюбец. Потому что держать нужные всем стихи в тетради и не читать их…
— Замолчи! — крикнул Алесь.
Так что, мне прочесть или попросим его?
Валерий и Калиновский запротестовали было, но их голоса заглушил общий крик:
— Просим! Просим!
— Я не поэт!
И тут тихий, мягкий голос сказал в неожиданно наступившей тишине:
— Что же это ты стыдишься стихов, хлопче?
Алесь повернул голову в ту сторону.
На пороге стоял человек в синем сюртуке и исподлобья, с хмурым, неуловимым смешком смотрел на Алеся.
— Так не можно, — сказал Шевченко. — Поначалу это, правда, как любовь. Страшно, что кто-то узнает. Но зачем же стыдиться любви? Дана она — значит, счастлив человек на земле.
Зигмунт попытался было подняться навстречу, но седой человек сделал едва заметный жест ладонью, и тот остался сидеть, лишь глаза заулыбались.
— Пожалуйста. И мне интересно, — сказал поэт. — Поляк?
— Белорус.
— Тогда тем более… Вы откуда?
И эта почти деревенская интонация в словах мученного-перемученного человека вдруг напомнила Алесю белого-белого деда Когута, сидящего под дикой цветущей грушей, закат и Днепр.
— С Днепра, — сказал Алесь.
В глазах поэта вдруг засветилась невыразимая нежность.
— Тем более, — повторил Шевченко. — Читай, хлопче. Я тебя прошу.
— Нет, — у Алеся пересохло в горле, — я читал кое-что из вашего и…
Поэт понял. Зашевелились усы.
Горячие, немного смущенные теперь смотрели на Алеся глаза. И Алесь вдруг почувствовал, что ему будет не стыдно читать этому человеку даже слабые строки, что он даже хочет читать, что он подсознательно мечтал об этом.
Он стал в неуклюжую позу, как будто перед аппаратом дагерротиписта.
— «Присяга языку», — сказал он.
В курительной стояла тишина. Алесь почувствовал, как бьется сердце. Глаза смотрели на него.
Есть преданье: грядет раздробить на куски
Вавилонскую башню Адам…
И сольются навеки племен языки
В речь единую, чуждую нам.
Он начал глухо — сердце мешало. Но течение строк, как всегда, успокоило его, а то, о чем он хотел говорить, наполнило душу неизведанной нежностью, болью и любовью.
А в следующую минуту голос его окреп, и он начал ощущать сердцем каждое слово. Румянец выступил на щеках.
Неужели и ты в этот канешь поток,
Капля светлая речи моей,
Что синее и трепетней, чем василек,
И полдневного солнца теплей?
Мне ни счастья, ни долгих не надобно лет,
Я готов задохнуться в петле…
Если знать, что тебя в этом будущем нет,
Что мне делать тогда на земле?
Если бедный корабль твой пучина пожрет,
Сиротину, по воле богов,
Пусть родимое слово предавший народ
Ждет забвенье во веки веков!
И пускай не настанет весна для меня,
Счастье, песня, любовь и покой, -
Я опреснок твой черный не в силах сменять
На обилье пшеницы чужой.
Сам бестрепетно в пекло, к чадящим котлам,
Я направлюсь из райских садов,
Если первый же ангел не вымолвит там
Мне по-нашенски: «Братка, здароў!»
Чтоб от слова родного меня отрешить,
Нужно трижды в последнем бою
Три могучих твердыни дотла сокрушить:
Тело, душу и песню мою.
Ты мой хлеб ржаной, ты мой радостный май,
Мой единственный светоч во мгле.
Без тебя, не с тобой — мне не надобен рай
На душе,
В небеси,
На земле.[135]
Хлопцы молчали. А он, подняв глаза, увидел, что поэт стоит перед ним и сурово смотрит ему прямо в лицо.
Понимая, что у него вот-вот подогнутся колени, Алесь опустил глаза, чтоб не смотреть. Две руки сжали плечи Алеся. Он почувствовал, как лег на его лоб, над левым глазом, поцелуй, пахнувший табаком, кажется, какими-то сухими травами и немного вином.
* * *
Петербург спал. Под дугой мостика дремала гулкая темень и черная вода. Они шли втроем и молчали. Далеко-далеко друг от друга горели фонари.
Поднимался ветер, — видимо, снова на дождь.
Поэт шагал между друзьями, молчаливый и немного мрачный.
— У вас на Днепре сады?
— Сады, — ответил Алесь.
— И у нас сады.
— Я знаю. Мой дед рассказывал…
— Откуда знал?
— Несколько лет назад мне попала в руки рукопись вашего «Великого льоха». Ты, Кастусь, может, не читал, там одна душа вынуждена вечно летать.
— Какую имеешь в виду? — спросил поэт.
— Душу девочки, что увидела на Днепре золотую галеру царицы и улыбнулась ей. И вот мучается, пока не раскопают великий склеп.
Шевченко смотрел на него настороженно.
— На этой галере плыл мой дед.
— Почему?
— Царицу связывают с именем моего прадеда. Когда первый раз ехала в Могилев… и потом в Крым.
— Довольно неприятно.
— Я не оправдываюсь, — вскинул голову Алесь. — Прадед отказался оставить Днепр, хотя она его и звала с собой…
— Ты не обращай на это внимания, хлопче, — с легкой тенью смущения сказал Шевченко. — И на «льох» не обращай. Я тогда был молод. Жесток.
— Вы и теперь такой, — упрямо сказал Кастусь. — Иному вас не научили, батько. И хорошо.
— Ты князь? — спросил поэт у Алеся.
— Да.
— Ну вот. А я бывший крепостной. Но что из того? Мы идем рядом, и ты друг Зигмунта и пишешь такие стихи. Полагаю, наши счеты за золотую галеру окончены. А?
— Они давно окончены. Мой дед враждовал со всем этим дерьмом еще до моего рождения. Полагаю, и до вашего. Он, кстати, знает ваши стихи.
— И что он говорит? — улыбнулся Шевченко.
— Сказал: «Я б этого хохла не в солдаты, а министром просвещения вместо дурака Уварова».
Все рассмеялись.
— Ну, мы бы просветили, — улыбался поэт в седые усы. — Ты, правда, не мучайся, хлопче, за ту галеру. Идешь той же дорогой, что и люди правды, любишь несчастный свой край, служишь ему, а остальное — дело десятое.
Начался дождь. Тарас шел, искоса поглядывая на юношей. Вышли к Неве.
— Хлопцы, — сказал вдруг поэт, — вы видите, что там?
На том берегу, под аркой самого страшного здания в империи, словно глаза, сверкали два красных фонаря, отражаясь в воде.
— Вот, — сказал Шевченко. — Глаза под архангельской аркой. Я вас к трусости не призываю. Но вы все же как только можно берегитесь. Чтоб больше успеть. У вас ведь даже хуже, чем у нас. И потому старайтесь подольше не попадать в их руки. Я вот попал и загубил жизнь. Мне сорок четыре, а жить осталось мало. Считанные годы был на свободе. Да и то — разве это свобода? Жизни конец, а не сделал ничего.
— Батько, — сказал Кастусь с укором.
— Это правда, сынок. К сожалению, правда.
— Мы не собираемся вас утешать, — понизил голос Кастусь, — а только… гибнет народ, если в начале его дороги не появится такой, как вы, без компромиссов. Словом, вы знаете, нам ни к чему говорить вам неправду. Вы сделали много, хотя, возможно, меньше, чем могли б… Однако же та проклятая солдатчина, она ведь стоит ваших стихов! Она ведь каждого, кто не пошел ради родины на все, заставит захлебнуться от стыда.
— Вы думаете, вы конец? — спросил Алесь. — Вы начало. Со временем мириады людей сольются в любви к вам, потому что вы нигде не уступали, потому что дело ваше благородное, потому что такой любви, как ваша, еще поискать на земле. Такой любви, когда один человек спасает весь народ.
Дождь шел улицами и площадями города.
— Вам жаль нас, — сказал Алесь. — Вы показываете нам ту арку. А сами вы думаете о том же, что и раньше… Да как вам могло показаться, что мы хотим другой дороги?! Мы мечтаем прожить всю жизнь, как вы, чтоб даже не только отстрадать за свою любовь, но и пойти еще дальше… умереть за нее. Вы думаете, они нас испугают своими цепями? Чепуха!
VIII
Огромная аудитория университета взорвалась смехом. Немного подслеповатый, еще совсем не старый Платон Рунин решил, что это результат его очередной шутки, и с наслаждение повторил ее:
— Так они и сказали, келарь Арсений, скарбничий Снетогорского монастыря Иона и игумен Мартирий. Враги одолевают, лезут, а они: «Не бойтесь, православные! Матерь божья идет на помощь!» Разве вы не видите в этом трогательного простодушия, несгибаемой веры и богоносности, столь свойственных славянам? Единственная душа в мире осталась не развращенной идеями гнилой демократии и уродливыми взглядами на одинаковость людей — не перед богом, нет, а здесь, на земле! Это душа славянская. Скажите, разве есть в мире еще что-то, кроме этой души, разве есть еще что-то способное противостоять грязным потокам, что разливаются по земле?… Мутным волнам мусульманского, галльского, австрийского, польского, жидовского моря? Нет!.. «Не бойтесь, православные! Матерь божья идет на помощь!»
Аудитория снова одобрительно зашумела. Рунин посчитал, что нашел ключ к душе большинства студентов. Обычно полупустая, аудитория сегодня не имела ни одного свободного места. Профессор смотрел на бесконечный амфитеатр и видел, как сквозь вуаль, розовые пятна лиц.
…Хохот катился пока еще робкими волнами. Студенты наконец начали понимать, почему сегодня по бесконечным коридорам университета ходили три парня с подозрительно спокойными лицами и шептали: «На лекцию Рунина… На лекцию Рунина…» У двери в маленькую комнатку, что выше скамеек, на антресолях стоял студент, прикрывая дверь спиной. Эта четверка что-то задумала и смогла, по-видимому, сохранить тайну, потому что надзиратели даже не заходили в непривычно набитую аудиторию.
Из любопытства пришли студенты и с других факультетов. Ожидали — и не ошиблись в своем ожидании.
Недавно из-за Рунина выгнали из университета троих студентов — русского и двух поляков, — выдав им волчий билет. Выгнали за глупость, за обычное озорство. Повернули дело так, как будто хлопцы богохульствовали.
— Традиционность и благородный консерватизм верований, обычаев, одежды, психики, способов вести хозяйство… даже таких, казалось, мелочей, как кухня и быт, — вот что служит для познания славянина. И потому славяне от Лабы до Черногории, от Бауцена до Камчатки должны слиться в один народ под властью сиятельного дома Романовых.
Аудитория ошеломленно утихла. Рунин решил, что студентов поразила новизна этой давно сгнившей идеи.
— Так вот… Славянский консерватизм есть самое благородное, трогательно и приятное явление на земле…
Такого молчания, которое воцарилось после этих слов, наверно, не бывало в здании «двенадцати коллегий»[136] с самого дня его постройки. Все ряды амфитеатра смотрели в сторону двери.
Удивленно раскрытые рты, круглые глаза.
Из двери появились «консервативные славяне». Их было двое, и консервативными они были до умиления.
В вышитых посконных рубахах, подпоясанных ткаными поясами, в сермяжных порточках и в новых, белюсеньких онучах, светлые ликами и волосами, они спускались по ступенькам на средину амфитеатра, к пяти свободным местам, которые, очевидно, специально были не заняты, и на их ногах победно скрипели пахучие, новенькие лубяные лапти.
На сгибе локтей у них висели зеленые ивовые лукошки, на поясах — гребни, кресива и дощечки, которыми в глухих мазурских деревнях чешут голову.
Сероокие, светловолосые, иконописные, с вишневыми губами и неестественно розовыми щеками, они очень напоминали опереточных пастушков.
— …Рождение панславистской идеи назрело, — метал пламенные слова подслеповатый Рунин. — Дальновидность этой идеи и расширение ее свидетельствуют о том, что славянам давно время занять первое среди всех место, надлежащее место…
«Славяне» наконец заняли «надлежащее место», широко рассевшись на свободной скамье.
Алесь и Грима, словно по команде, открыли крышки лукошек, собираясь, наверно, «всасывать мудрость».
— …разольется вместо всего этого поток нашей традиционности, стойкого монархизма и православной веры. Воссоединенные славяне возьмут в свои руки наследие дедов — Малую Азию, Царьград и проливы. На святой Софии снова встанут кресты, а на воротах засверкает Олегов щит. Патриархи Антиохии и других… городов поведут дальше дела христианства на своих землях, Палестина наконец получит законного хозяина. Разве не глупость, в самом деле, что гроб господень находится в руках язычников?! Монастыри с мудрыми Несторами и Пименами вместо капищ…
— Смотри, — шепнул кто-то.
«Славяне» достали из лукошек «свитки пергамента», склеенные, видимо, из бумажных листков, кожаные чернильницы и гусиные перья, возвели очи к небу и, пробормотав «молитву», начали покрывать бумагу затейливой вязью, не забывая о краской краске для заглавных букв. Хартии с тихим шелестом сползали на пол.
Студенты наконец начали понимать, что здесь происходит. Месть-таки пришла. Неожиданная, пародийная, злая. Молодцы! Не выдержало, значит, у людей сердце. Есть настоящие парни, которые не позволят даже маленькой подлости уйти без возмездия.
Кое-где по рядам снова начали прыскать со смеху.
Должен был произойти грандиозный скандал, и лишь ощущение этого сдерживало пока аудиторию от гомерического хохота.
— И что же? — театрально поднял руки профессор. — На пути благородной идеи, чувствуя ее опасность, встали ее враги. Турки, сардинцы, французы, англичане… Но не только они. Против идей прежде всего восстала измена! Измена, которую тайно несли в сердце наиболее неистовые элементы общества. Всех их объединяло забвение принципов народной морали и забвение народных традиций, гнилое западничество, которое завели у нас Белинский, Герцин и К0, погоня за сомнительными и подозрительными новшествами…
Два «консервативных славянина» достали огромные монокли и ловко поднесли к глазам.
Кто-то в последних рядах захохотал.
— …погоня за модными течениями чужой философии, погоня за социалистическим бредом… Предатели выступили против необратимого и закономерного высшей закономерностью исторического процесса — процесса образования единого панславянского народа…
«Консервативные славяне» решили подкрепиться. Из лукошек появились потрескавшиеся и тугие, как резина, каленые яйца, ломтики сала, две бутылки с клюквенным квасом и, наконец, горшочек с кашей.
«Славяне» ели яйца и запивали их квасом, который оставлял под носом красные усы. Ели сало, вытирая руки о подстриженные «стрехой», на купеческий манер, волосы.
Теперь смеялись, зажимая рты, десятки людей.
— Украинофильство, которое подогревают австрийские агенты… Это дело с Шевченко и какой-то Наталкой Полтавкой во главе… Ограниченное число фантазеров, которые считают, что Малороссия, малороссы являются чем-то особенным со своим неразвитым наречием своими чумаками и могут существовать, не испытывая нужды в общем славянском отечестве, императоре и восточном православии…
Грима смотрел на горшочек каши с безграничным удивлением. Вид у него был такой, что ближние ряды грохнули смехом. Грима недоуменно посмотрел на них. Хохот усилился.
Посчитав это реакцией на свой непревзойденный юмор, профессор перешел на пафос:
— Как у немцев Германия превыше всего, так у нас наш государь превыше всего. И мы имеем полное право крикнуть: руки прочь, и да будет наш народ с его государем, вершителем судеб народов!
Всеслав наконец догадался, как быть с кашей. Вынул из глазницы монокль и начал черпать им кашу.
По скамьям выше и ниже, захватывая все новые секторы, покатился гомерический хохот.
Когда Рунин понял, что причиной смеха является вовсе не его остроумие, было поздно — смех охватил всю аудиторию. Он поспешно вскинул на переносицу пенсне и увидел все.
От хохота, от могучих, как прибой, перекатов ходуном ходили ряды.
Рунин начал подниматься по ступенькам. И тогда Алесь встал, чтобы закрыть Гриму спиной. Отодвинул его плечом.
Четверка помощников вместе с соседями схватила Гриму и оттащила его подальше от прохода. Он сопротивлялся и кричал, но хохот заглушал его крики. Хлопцы затащили Всеслава далеко за спины.
— Вы? — спросил Рунин. — Вы, князь?
Некоторые уже не могли смеяться и только зевали, как рыбы на песке.
— Я с самого начала предчувствовал, ждал от вас чего-то такого, — сказал бледный Рунин. — Зачем вы это сделали?
— Патриот конюшни! — крикнул из-за спины Грима и придушенно замычал.
— Кто еще там? — спросил Рунин.
— Разве вам мало меня одного? — спросил Алесь.
— Я хочу знать, кто еще?
— Как видите, все.
Хохот делался неудержимым.
— Причины?
— Нежелание видеть вас здесь. Нежелание, чтоб нас учил уму, а вернее — уму-маразму, такой, как вы… доносчик… мракобес… губитель юных и чистых…
— Без личных оскорблений!
И тогда Алесь поднялся.
— Шутки прочь… Нам опостылел ваш панславистский бред. Опостылела эта маска хищничества… Нам опротивели вы. Вы мараете само имя нашей родины, наше имя, нашу незапятнанную честь.
— Вы не патриоты!
— Мы патриоты больше вас. Но мы не хотим величия за счет других народов. Потому что все люди земли — братья. И все они подобны друг другу и нам. В мире нет худших и лучших народов… А если есть, то их делают такие, как вы.
— По-видимому, я еще не закончил чистки университета.
— И не закончите, — спокойно сказал Алесь. — Я уйду отсюда, но уйдете и вы вместе с вашей блевотиной. В противном случае вам на каждой лекции будут устраивать обструкцию.
— Посмешище! — крикнули студенты.
Снова вспыхнул хохот. Хлопцы их местного землячества затянули по-русски запрещенный после восстания «Марш Кошута». Почти без слов, которые знали немногие, грозно летела мелодия.
Амфитеатр бушевал. Каждый теперь не понимал, как могли они терпеть эту мразь и гниль хотя бы одну минуту, как могли забыть об исключенных, как могли мириться с унизительными рассуждениями этой мокрицы.
Аудитория взрывалась криками:
— Позор! Мозги лыковые! Вон! Вон!
Свист, казалось, рушил стены и заставлял дрожать стекла.
* * *
Они стояли на перроне и, как всегда в последние минуты, не знали, о чем говорить.
— И все же это ребячество, — сказал Кастусь. — Мужики с голоду едят траву, а ты ради сомнительного удовольствия свести счеты с этой старой обезьяной вылетел.
— Пускай они мне с двумя дипломами соли на хвост насыплют, — ответил Алесь. — Что же, по-твоему, позволить ему и дальше отравлять мозги и доносить? А так его убрали. Да и из хлопцев теперь никто такому бреду не поверит.
— Хорошо, что Гриму не выдали.
— Попустительствовать Рунину было нельзя. Стерпели б это — стерпели б и большее.
Кастусь покусывал губы и вдруг захохотал.
— Дураки вы… Дураки, но молодцы… Кашу — моноклем.
Второй удар колокола разорвал холодный воздух.
— И в самом деле ничего не произошло, — говорил дальше Кастусь. — Выперли эту сволочь, посмеялись. Дипломы — у тебя. Я это, собственно говоря, потому, что скучно мне будет. Но ничего. Может, это и к лучшему. Нужно работать на местах. Многие хлопцы даже оставили университет, идут волостными писарями… Работай и ты, брат. Надеемся.
— Буду, — искренне ответил Алесь.
Из вагона вылез мрачный Кирдун.
— Время прощаться, панич.
— Как, Халимон, едешь, значит?
— Еду, — буркнул Кирдун. — Кто вас теперь кормить будет? Мне-то ничего, а панич вот третьего университета не кончил. Говорил ему, не связывайся. С орех того добра — на три дня запаху. А все вы. Вы панича сбиваете.
— Брось, — сказал Кастусь. — Обнимемся, что ли?
Кирдун вытер глаза.
— Да что мне, самому вас не жаль? Молодые такие, а без жизни живете…
— Увидимся, сказал Алесь.
— Увидимся. В деле.
Паровоз дышал паром на низкое солнце, и оно, попадая в седые клубы, меняло цвет. Делалось ядовито-зеленым.
* * *
Старый Вежа встретил внука холодновато.
— Отучился? Ясно. Как говорят, с прэндким поврутэм.[137]
— Выгнали, — сказал внук. — Ну и сволочи!
Дед притворился удивленным, Даже головой покачал, словно удивляясь наивности и неосведомленности внука. Начал терпеливо объяснять:
— Мы нация большая, и мелкие сволочи нам в государстве совсем без надобности.
Кирдун, который вместе с Алесем получал взбучку — «зачем допустил»? — вдруг начал ворчать. Осмелел в Петербурге, слушая беседы Алесевой компании.
— Хватит уже ему учиться. И так умнее всех.
— И меня?
— А неужели ж?… — сказал Кирдун и осекся. — Не так молвил, извините.
— Нет, ты говори. Говори, если начал.
Кирдун, как большинство простых людей, не мог выносить нотаций и истязания словами.
— Учил много… Много писал… Много читал…
— Инте-ресно, — сказал дед. — И что, хотелось бы знать, вычитал? А, Халимон?
Раньше Кирдун, неверно, начал бы просить, чтоб отпустили душу на покаяние. А тут не выдержал:
— Вычитал про народы и про равенство людей.
— Ну-у? Не мож-жет этого быть!
— «Кишкой последнего попа — последнего царя… задушим», — вдруг вспомнил Кирдун. — Я ему, княже, говорил: «Не стоит, панич, так громко. Думайте себе потихоньку, пока до кишок не дошло».
— Еще?
— «Отчизну, веру верни нам, просим», — надеясь лишь на заступничество Алеся, бубнил Халява.
— Гляди ты! Еще?
Теперь Кирдун шпарил отрывок из Краледворской рукописи. Шпарил на искаженном до последнего чешском языке. У деда полезли глаза на лоб.
— Ясно, — сказал. — Ясно, чему вы там учились.
Алесь попытался было заступиться.
— Я не с тобой говорю, — сказал дед. — Ну, Халимон, а цель… цель вашего с паничем ученья какая?
— Народ, — сказал Кирдун. — «Пойте гимн народу…», «Эй, не тужи, день счастья идет, народ твой нить золотую прядет. Свивайте веревку, беда, печаль, петли для врага никогда не жаль».
— Ого! — воскликнул с иронией дед. — Ты, Кирдун, чешское, чешское что-нибудь еще нам такое! Очень уж хорошо у тебя получается. Полиглот!
Кирдун дерзко и смело смотрел в глаза пану Даниле.
— Почитай, Кирдун, — с неожиданной злостью сказал Алесь. — По-чешски. Давай «Пророчество».
Кирдун выпрямился.
— «Вижу я зарево, тени сражений, острый клинок окровавит твой рот. Познаешь ты беды и мрак запустений, но духом не падай, мой гордый народ!».
— Хватит, сказал Алесь. — Дед, вы никогда не обижали простого человека. Но то, что вы делаете, это панство.
И тут Халимон неожиданно напустился на Алеся:
— Молчали б, панич. Ругань не в торбе носить… Да и какое тут панство?! Если бы это пан дед на меня одного. А он что, с вами иначе разговаривает? С губернатором? Деду восемь десятков да семь годков, вам двадцать…
Алесь развел руками.
Вежа прикрыл рот ладонью.
— Брось петь, — все еще с иронией сказал он. — Знаем мы, что это такое.
Отступить он не мог. Но Халимон и Алесь понимали, что это ворчание и есть отступление.
— На-род, — сказал Вежа. — Осенью возле розария пахал землю дед Тхор. Разворачивал соху, да и повалился из борозды прямо в розы. Глебовна ему: «Что ж ты робишь, перечница старая? Это ж цветы!» А он: «Цветы развели. Цве-ты! Г… это, а не цветы. Всю с… поколол!» Вот тебе и твой народ. Вот тебе и тема для очередного дифирамба — «Розы и Тхор».
Никто не знал, что Вежа тайно выписывал все те книги, которые читал внук в Петербурге.
Никто не знал, что Вежа тайно выписывал все те книги, которые читал внук в Петербурге. Молодых обзывали фалангистами — дед читал Фурье. Молодых называли гегельянцами — дед читал Гегеля, хотя его и поташнивало от подспудной поповщины. Многое он из-за своего барства не попытался даже понять, но одно ему понравилось. Немец отвечал на то, что было естественно убеждением деда, нормой его мышления едва ли не с того времени, как Вежа себя помнил, а особенно со дня смерти жены.
Здоровым от природы, земным своим умом пан Данила понимал, что мир не стоит на месте, что есть в нем и стоячая вода, и течение. Первая гниет и превращается в болото, вторая из криницы превращается в ручеек, реку, море, облака. И он знал, что мир идет вперед, мучительно постигая что то огромное. Наблюдая за людьми, от понимал, что то, к чему они идут, — лучше.
Новое поколение никак не могло быть хуже предыдущего. Дети сохраняли опыт отцов, анализировали их ошибки, и надо было быть самовлюбленной свиньей, чтоб не замечать этого.
Две строки поэта больно ударили по нервам Вежи полным совпадением с его мыслями:
И наши внуки в добрый час
Из жизни вытеснят и нас.
Не следовало гордиться. Надо было просто объяснить им, что не минуют этой последней чаши и они, что таков закон жизни — «диалектика». И надо было понимать, что единственный способ не стать ненужным — изменяться вплоть до самой смерти и до смерти понимать новое, а если не понимаешь, не способен понять, относиться к нему с любовной верой.
И все же деду было грустно. Немилосердным и жестоким был «в высшей своей справедливости» закон жизни.
— Вались, дерево на дерево, — произнес дед вечную школярскую поговорку.
Кирдун сел, спорить со старым паном не приходилось.
— Записываю на твое имя четыре волоки земли со всем, что к этому относится. Отказываться не смей. Не твое дело. Продавать ее запрещаю: земля — независимость, корни. Получишь с женой вольную. С такими мыслями в крепостных не ходят.
Халимон попытался повалиться в ноги.
— Вот оно. Мысли мыслями, а из холопства не вырос.
Налил чарку.
— Панича не оставлять… И после моей смерти не оставлять. Он тебя почитать будет.
— Зачем же обижать, пане? Я же возле него почти десять лет. Я его вот такусенького помню.
— Ну, брось, брось!
…Алесь как будто вновь знакомился с окрестностями, но особенных изменений не чувствовал.
Гелена жила в новом доме в Ведричах, ожидало, пока малыши Юрась и Тонка подрастут, и считала необходимым участвовать в каждой пьесе, которую ставил театр в Веже. В округе почти все одобряли решение Вежи дать Гелене землю. Надо было любой ценой удержать актрису, которая становилась гордостью Приднепровья. Слухи о ней проникли далеко. Зимой в Вежу пришло письмо от знаменитого Щепкина: просил приехать на смотрины, заранее договорившись о сумме контракта. Приезжала также m-me Lagrange от имени французской труппы, которая выступала в Михайловском театре, та самая Лагранж, которая позднее была увенчана лаврами одинаково трагической и комической актрисы в «Дураках» и драме «Le fils de Giboyer».[138] Слушала и смотрела Гелену в «Антигоне» и на французском языке в «Федре». Не нашла погрешностей в языке, кроме легкого южного акцента, и окончила тем, что пригласила поехать с ней. Гелена отказалась.
В округе одобрили: молодчина Вежа, утер нос французам!
Детям исполнилось по году, и малыши были очаровательны: все материнские, а глаза — его, Алесевы, глаза.
Наилучшим доказательством того, что все они одно? — от него, Алеся, и до последнего мужика, — было то, что на этой земле не существовало других колыбельных, кроме мужицких, хотя по отношению к панским детям они звучали, может, и комично.
Колыбельные были одни. Те, что бормотал сейчас он:
Люлі, люлі, люлі,
Пойдзем да бабулі,
Дасць балулька млечка
І ў ручку яечка.
А як будзе мала,
Дасць кусочак сала.
Дети вырастут, и те самые песни прозвучат над колыбелью их детей.
По сравнению с этим счастьем все остальное казалось пустяком. Гелена смотрела на Алеся с улыбкой, сожалела, что вот с Раубичами по-прежнему враждебные отношения, но это ничего, со временем помирятся. Михалина избегает Илью, и Ярош недоволен этим, и Ходанские бесятся. А Франсу нет до этого никакого дела, потому что он по-прежнему влюблен в Ядзеньку Клейну.
…С Раубичами действительно было по-прежнему. Не кланялись даже в собрании. Когда на бал приезжала одна семья, второй почти никогда не было. Алесь видел Михалину очень редко, да и то при содействии Мстислава.
Мстислав за этот год изменился. Самостоятельная жизнь наложила отпечаток. Возмужал, посуровели светлые глаза. Перевел мужиков на оброк и готовил освобождение. Понемногу беседовал с верными хлопцами. Много охотился. Гарцевал на коне с собакой и ружьем по окрестным пущам и лугам, почему-то часто заезжая в Озерище.
Ничего, кажется, не изменилось в загорской округе. Только заметно изменился — и это внушало тревогу — пан Юрий. Неизвестно, что случилось, скорее всего — глубокое недовольство жизнью и собой. И она так меняла его, что если б это было со старым Вежей, можно было б подумать о конце.
Но пану Юрию исполнилось лишь сорок восемь, и еще два года назад ему давали десятком меньше. В нем всегда было много мальчишеского. Отец любил шутить, был способен на самые неожиданные проделки. Это он в молодые годы, едва только слетел с могилевского губернаторства Михаил Муравьев, приехал к его преемнику, Егору Бажанову, в накладных усах, в бороде и с копной волос — под видом витебского архиерея — и, не дав никому повода усомниться в своей принадлежности к церкви, спорил по вопросам богословия. Потом они с Бажановым стали друзьями. И это пан Юрий устроил однажды так, что единственный заяц, убитый на охоте известным хвастуном и вралем Вирским, держал в лапках записку с надписью: «За что?!».
В окрестностях Копыся водились чрезвычайно редкие черные зайцы. И это отец в сговоре со скорняком Вежи, знаменитым мастером, уверил одного из Витахмовичей, Симона, что бывают зайцы и полосатые, и в докозательство этого показал шкурку и сказал, что за второй экземпляр не пожалеет и тысячи рублей. Симон целый год днями и ночами таскался по известковым пустошам возле Романовичей, спал в халупах пастухов или просто под чистым небом, пил козье молоко и, конечно же, ничего не убил. Зато вылечился от туберкулеза.
Теперь на пана Юрия больно было смотреть. В его глазах часто появлялись безразличие и пустота.
Оживал он только на охоте. Но и там однажды, когда ночевали у костра, чтоб утром идти флажить волков, не выдержал. Слушал-слушал сына, а потом тихо сказал:
— Окончена, брат, жизнь. Не так прожили. Еще лет двадцать тоски, а там и к пани Песоцкой в кровать.
— Отец, ты что?
— Не нужно все это никому. Ни эти реформы, когда вся эта механика требует молота, ни моя суета. Нич-чего!
…Настроение это начало проходить у пана Юрия с первыми приметами «весны воды», с предчувствием клича лугов и болот, с первым живым представлением о том, как скоро уже станет «капать» и «скрежетать» в пуще глушец.
Словно каждая синяя капля из сосульки подбавляла сини в отцовы глаза. Зато теперь, предчувствуя стрельбу, начала заранее страдать мать.
Повторялась привычная история каждой весны.
Отец тайком готовился. Лили дробь, делали из войлока пыжи.
— Что, брат, поделаешь! Страсть! Прошлифует нам с тобой мать потроха.
Как черт, сверкал синими глазами.
Зацимбалил дождь по вершиночкам,
По еловнику, по березничку…
Серым коникам сухонько стоять,
Нам, стрелкам-молодцам, мокренько сидеть.
Серы коники под свиткой угреваются,
Мы укрылися, стрелoчки, голой спиной.
Пел тихонько, но так, что становилось страшновато.
И вдруг плевался:
— Черт знает что… Разбойничья!.. Вот послушали б люди. Да еще кабы кистень на руку, — знаешь, такой шар с шипами да ремень вокруг запястья. Да в людскую, да в три пальца свись! «А-ди, кому шкура дорога!» Или лучше к Фельдбауху.
Пан Юрий изобразил растерянное лицо пана Людвика. Потом на этом лице появилась недоверчивая улыбка:
— Ша-лун-ка! Das ist mir nicht Wurst! К пани муттерхен Антонида я сейчас пробежался! Вместе этот разбойник гонять! Nuch?!
…Отец с матерью поссорились в этот год задолго до начала весенней охоты, и Алесь почти обрадовался этому: скорее пройдет грусть матери и он, Алесь, на уток поедет вместе с отцом, а дома уже будут тишина и мир. Не мог он видеть укора в глазах матери. И не мог, как и пан Юрий, отказаться от ружья, костра и ветра.
В середине марта произошла неприятная история в Татарской Гребле.
Деревня лежала в той самой пуще, куда дети когда-то ходили смотреть, где берут начало криницы, на северо-восток от Покивачевой мельницы. Это была самая глухая из деревень пана Юрия: на север, северо-запад и запад от нее пуща тянулась на несколько дней дороги.
Пуща еще спала. Не было даже проталин. Большие города муравьиного народа дремали под снегом. Лишь ворон, чтоб не платить муравьям за проигранный когда-то заклад собственными детьми,[139] спешил поставить воронят на крыло, пока города врага были просто мертвыми хвойными иглами.
В эти дни явился в Татарскую Греблю нежданный гость — огромный исхудавший самец медведь.
Преждевременно поднявшись из берлоги, совсем еще не вылиняв, голодный, за одну ночь разорил ульи в омшанике мужика Шпирки Брыжуна и с неделю не появлялся, потом залез в конюшню Ничипора Щербы, повалил кобылу с жеребенком — единственное достояние семьи — и напился теплой лошадиной крови.
Его гнал голод. Следующей ночью он появился на загуменье деревни, раскидал овчарню и задрал еще одного коня, а утром отнял лукошко с яйцами у Верки Подопри-Камин. Баба несла яйца в Суходол, на рынок.
Терроризированная деревня забиралась с закатом солнца в хаты и сидела там до утра. Медведь никогда не трогает людей — до первой крови, все равно, медвежьей или человечьей. Медведь не трогает и крупного скота. Этого принудила к разбою мертвая пуща. И в разбое он был необузданным и умным. Невольно вспоминалось предание, что медведи — это люди, только обросшие шерстью. Да более умные, потому что удрали в лес, чтоб их не заставили трудиться.
Мужики жаловались. Пан Юрий начал готовиться. Мать страдальчески морщила брови:
— Ну зачем?
— Коней валим, милая, людей обездоливает.
— Испугайте и прогоните. Снег, а у него, единственного из зверей, голые пятки.
— А кто виноват? — посмеивался пан Юрий. — Ты знаешь, почему медведь встает? Он летом загуляется с медведицами дольше других да не успеет жира назапасить… Медведь — Дон-Жуан, как сказала одна придурковатая городская барышня.
— Юрась! — бросала мать последний козырь.
— Ну что ты? Ну, пятки голые! Так ведь сам виноват… «Медведи чернику в пуще собирали, медведи чернику на ток рассыпали. Медведи весь день по чернике ходили, лепешки черники на пятках сушили. Четыре ноги аж под солнце вздымали, всю зиму черничные лапы сосали… Вку-уснень-ко!..»
Из Гребли донесли, что медведь после каждого разбоя возвращается в свою берлогу и делает попытку уснуть снова. И засыпает иногда. На день-два.
…В день охоты Алесь решил было не вставать, чтоб не портить себе настроения чужими сборами, но в четыре часа, в темноте, пан Юрий запел, идя в оружейную, и только у двери сына умолк: вспомнил, что тот не едет и это радостное пение может на целый день испортить настроение сыну.
Алесь со злостью закутался в одеяло, желая уснуть, но не мог. Все равно надо было вставать и идти на сахарный завод. Да и не хотелось пропускать сборы: зрелище, видимо, еще более волнующее, чем сама охота.
…Во дворе месили копытами подмерзший снег кони. Скрипели полозья. Освещенные фонарями и факелами, сновали туда-сюда люди. Бискупович и Юлиан Раткевич распоряжались. В пятнах света вырисовывались сухощавые силуэты собак.
Псари держали их на сворах. Собак сегодня ожидала трудная работа — хватать зверя сзади, «за ноговицы», оттягивать его от охотников.
Шляхта из младших родов — семь человек — то и дело ставила ружья и рогатины у крыльца и шла в охотничью комнату, куда еще с вечера поставили столы — закусывать. Возвращались оттуда красные, тугие на утреннем морозике, как помидоры. Пахло от них вином, свежим морозом, кожей и конским потом.
Переступали с ноги на ногу, скрипели белыми высокими войлоками, ходнями[140] и сапогами.
Фонари погасили, и снег стал лиловым. Появился отец. Синеглазый, смуглый, белозубый. Увидел Алеся и виновато прошептал:
— Такова уж наша судьба: соловья не кормят баснями, а женщин мудростью.
Он был очень огорчен за сына.
— Ну ничего. Даю тебе слово: всегда теперь будешь со мной.
Хлопнул сына по плечу и, пружиня, встряхнулся, как зверь. Нет, ничего не бренчало, все было подогнано как следует.
Пан Юрий был во всем белом. Белые кабти,[141] белые кожаные штаны, белая шуба, подбитая горностаем, белая, тоже горностаевая, шапка с заломленным верхом.
— А чтоб из вас дух, — сказал он внезапно. — Так вот, сам не проследи… Пиявки датские где?
— Вон стая, — кивнул Карп.
— Еще одну, — сказал пан Юрий.
Снял шапку. Рассыпались блестящие белокурые волосы.
— Жарко.
— Выпил, что ли? — спросил Раткевич.
— Что я, такой дурень, как у твоего отца дети? Просто жарко. Вот-вот весна.
— Узрел, — сказал Януш.
— Хлопцы, хватит жрать! А то как бы потом Андреева стояния не было, — пошутил пан Юрий. — Давайте собираться.
Повели на смычках собак. Звонко заржал в свежем утреннем воздухе конь.
— Быстрее, хлопцы, не терпится. Змитер! О, хитрая бестия Змитер! Но-но, Змей! Давай настоящего коня.
— Да… я… оно… думал… чтоб Змей… Хай бы ён…
Синие хитрые глаза отца смеялись. Он скопировал Змитра:
— Хай бо ж но ён… гэна.
Вокруг захохотали.
— О то ж бо яно табе и е, — важно закончил отец.
От него так дышало здоровьем, силой и радостью. Движения сделались точными и ловкими, как прежде.
Подвели белого жеребца. Пан Юрий легко взвился в высокое седло. Поискал ногой петлю и вставил в нее рукоять рогатины.
Теперь, с ружьем за плечами, с рогатиной, похожей на древнюю пику, загорщинский пан напоминал средневекового воина. Подобранный, ловкий, легкий в седле — залюбоваться можно.
— А кто это там требухой трясет? Известно кто — Раткевич. Своячок младшенького рода, чтоб уже дух из тебя, чтоб…
Подскакал к саням, в которых семеро из младших сидели спинами друг к другу.
— Что вы, на суд едете?
И полетел к воротам, исторгнув на скаку из рога морозную серебристую трель.
…Мимо него проезжали всадники, и конь горячился под ним. И холодный воздух был такой сладкий, что чуть не разрывал мощную грудь пана Юрия.
Увидев Алеся на крыльце, отец улыбнулся:
— Оставайся счастлива! Следующий — твой!
Цокот копыт. Ясные звуки рога. Снежная пыль.
Поляна лежала на пологом склоне, вся укрытая весенним уже, но все еще глубоким, по грудь, снегом. Вокруг стояли заснеженные деревья пущи, грезили, вознося головы в неяркое небо. Ночью еще подвалил снег, засыпал все следы и муравейники, но соки[142] говорили, что медведь не покидал протоптанного их лыжами круга. Круг был что-то сажней триста в радиусе.
Зверь, свалив очередного коня, спал уже вторые сутки.
Прямо перед собой, в далеком конце поляны, пан Юрий видел выворотень огромной ели.
Ель свалило давно, под ней успел вырасти кустик крушины. И как раз рядом с этим кустиком был лаз в берлогу и сбоку небольшое отверстие для дыхания: на верхушке кустика цвела изморозь.
Поляна не была ровной и чистой. На ней росли три или четыре семенника, а под ними были то ли сугробы, то ли заснеженные муравейники. Удивляться, что берлога на таком открытом месте, не приходилось: глушь и дебри вокруг были страшные — глаз выколешь, да и болота летом не позволяли пройти сюда.
Загонные с бубнами и трещотками, обходя лесом поляну, прошли в пущу по ту сторону от берлоги. Сок, сидящий на верхушке мощного дуба, должен был свистом дать им сигнал, когда зверь побежит на них. Логово было у самого края поляны, и стать там было нельзя из-за близкого расстояния между дебрями и берлогой. Охотники не успели б выстрелить, могли в зарослях ранить друг друга.
Надо было оставить между медведем и стрелками приблизительно то расстояние, на котором находился теперь от берлоги пан Юрий, — саженей тридцать.
План был таков: зверь побежит на загонщиков, и тогда по сигналу сока на дубе цепь загонных поднимает шум и грохот, будет бить в бубны, кричать, трещать трещотками и стрелять в воздух. Зверю ничего не останется, как бежать прямо на посты.
Охотники бросили жребий и разошлись по номерам.
Пан Юрий, как хозяин охоты, мог выбрать то место, которое хотел. И он выбрал это. Немного схитрил.
Он был почти уверен, что зверь побежит на него, потому что как раз за его номером к поляне подходил большой овраг, так густо заросший деревьями и кустарниками, что и теперь трудно было что-нибудь рассмотреть в нем. Зверь побежит искать спасения, конечно же, только сюда.
Справа, саженях в двадцати, стоял на пятом номере Януш Бискупович, слева, на том же расстоянии, седьмой номер занимал Юлиан Раткевич. Сквозь кустарники была видна его длинная, как колядная свеча, фигура.
Юлиан словно врастал в землю — притаптывал снег вокруг себя и углублялся в него. Наконец на поверхности осталась только верхняя часть туловища. Юлиан взглянул на Загорского, и тот подумал, что Раткевич нервничает.
Сок «кугакнул» с дуба: видимо, подали сигнал, что края загонной цепи вот-вот сомкнутся и тогда в кругу останется почти вся лыжня.
Карп, седоусый и хмурый, шел к пану Юрию на широких лыжах: проверял всех. Скользил легко, лохматый, как лесной дух.
— Тролль, — тихо сказал пан Юрий и рассмеялся дню Карпу, заснеженным деревьям и легкости в себе.
— Пане, — хриплым и одновременно звонким голосом сказал Карп, — я стану между вами и Юлианом. И туда, и сюда смогу подскочить.
Он знал, что пан Юрий не любит помощников, и маскировал возможную помощь. А что она понадобится, знал по месту, на котором стояли шестой и седьмой номера.
— Как хочешь. Только держись ближе к Юлиану.
Карп отошел немного ближе к Раткевичу и присел на корточки.
Пан Юрий успел подумать: «Квочка», — и снова тихо рассмеялся. Снега, родная пуща, тени людей, махровая цветень изморози на крушине, свежий холодок.
Кровь от всего этого была как шампанское. Казалось, что в ней бушуют, кипят и с тихим звоном исчезают серебристые маленькие пузырьки радости.
…Началось. Два овчара на лыжах стали поодаль от выворотня. Пращи в руках, камни в сумках. Крутят… Раз… Два… Точно черти… Ну еще бы, с двадцати сажней могут попасть в висок. Бьют по выворотню, чтоб камни падали в берлогу.
Махрово цветет изморозь на ветвях крушины.
Так и есть. Выскочил. Не очень большой, Хотя отсюда плохо видно. Оставляя в снегу борозду, мчит на людей. Черта с два догонишь на лыжах. Так сыпанули от него, — наверно, только ветер в ушах свистит.
Медведь побежал в пущу, на загонщиков. И почти сразу после свиста сока между деревьями поднялся галдеж и шум. Тарахтели трещотки, мелко и гулко бухали бубны. Послышалось несколько выстрелов. Шли минуты, и людям на номерах казалось уже, что зверь прорвался. Но шум приближался, — значит, гнали.
Медведь выскочил из пущи, потоптался какой-то миг на месте…
Эх, если б сюда… Выстрелить. Зверь, увидев, обязательно встанет на задние лапы и пойдет. И тогда лезвие рогатины под левую верхнюю, где шерсть посветлее.
…Медведь наконец бросился бежать, но значительно левее, на седьмой номер — на Юлиана Раткевичи.
Черт… Черт… Вот везет!
Тряся задом и переваливаясь, зверь бежал все быстрее, прямо на Юлиана. Вот он оставил в стороне доезжачего, и Карп, выпрямясь, бросился на лыжах к седьмому номеру, на помощь… Ах, черт-черт!
Пан Юрий отставил ружье. И здесь не повезло.
Такой зверь! Бродяга. Правда, меньше, чем можно было ожидать по рассказам, но у страха глаза велики. Если так легко валил коней, значит, ловкач.
Бурый, он казался на снегу почти черным. И потому, что он бежал на соседа, разочарование охватило пана Юрия. В самом деле, тот, видимо, был прав, когда говорил: «Вот бы двуногого мишку этак».
Слева прозвучал выстрел. Второй. Зверь встал на задние лапы, сделал несколько шагов и, наверно обессилев, свалился на все четыре. Черт, как же они его? Ага, еще выстрел! Наверно, Карп.
Этот выстрел как будто снова подбросил медведя в стойку. Две фигуры бросились чуть не под него. Тонкая черточка рогатины стала наискосок и как бы соединила черную тушу с землей. Теперь выстрелы с восьмого и девятого номеров. Стреляют от радости вверх. Сыплется снег с ветвей.
На всех номерах люди подняли крик радости. Кричал даже дозорный на вершине дуба. Ну вот и конец! Кричат, черти, как резаные.
Чего их разобрало?
…Что-то мелькнуло в стороне от него. Пан Юрий посмотрел туда. За каких-то десять саженей от него…
И только тогда от понял, что люди кричали ему. Убит был не тот. Две берлоги были на одной поляне. Одна — под выворотнем, и в ней, наверно, спала медведица, и недаром так долго не могли разбудить ее овчары. А вторая была здесь, рядом, — они заметили б ее, если б не ночной снег. И в ней, именно в ней, лежал, страдая от бессонницы и голода, тот, кого искали они.
Медведь вылез из-за высокого, сажени на полторы, сугроба, который они все, и пан Юрий в том числе, приняли за муравейник. И это был, безусловно, тот, тут ошибиться не мог никто. Огромный, бурый, со свалявшейся шерстью и треугольной, тяжелой, как валун, головой, он бесшумно появился из берлоги и смотрел на пана Юрия.
В узких дремучих глазах зверя было что-то пещерное. Старый, но еще в полной силе богатырь. Десять саженей… Не успеешь перезарядить.
Нож… Рогатина… Нет в мире медведя, который перед нападением не встал бы на задние лапы. Хорошо… Но как близко и какой большой! Какой чудовищно большой!.. Пан Юрий на мгновение ощутил, как ледяными иголками осыпало все тело… А потом это исчезло. Лицо стало хищным и строгим. И сердце заполнил большой, спокойный восторг борьбы.
Все это произошло за какую-то долю секунды. Еще раньше, чем пан Юрий поднял ружье, зверь бросился на него.
Он бежал с неожиданной скоростью, словно катился. Колыхался в воздухе горб, куцые лапы выбрасывались вперед — вначале обе левые, затем обе правые — и мягко плюхали в снег. Лобастая голова, как треугольный щит, была угрожающе опущена.
Глаза смотрели в глаза.
Голодный, в отчаянье, не понимая, что происходит, страдая от боли в застуженных, подмороженных босых пятках, злобный от всего этого, он мчался, как страшный крепостной таран, без всякой надежды на спасение — потому что хотел жить.
И синий огонь в глазах зверя связал его с глазами человека пониманием общности всего живого. Если б медведь свернул в этот момент, пан Юрий не выстрелил бы… Живое сопело и задыхалось в снегу, живое, одной болью связанное со всем живым.
Но зверь мчался, плыли доли мгновения, и прозвучал выстрел.
Зверь содрогнулся, но не сбавил скорости.
Второй выстрел. Снежная борозда взметнулась совсем близко.
Пан Юрий отбросил ружье и упер в снег рогатину. Зверь вот-вот должен был подняться — и тогда… в толстую шерсть под левой лапой…
…Медведь не поднялся.
— Гей-гей-гей! Гей-гей-гей! — кричали отовсюду страшными голосами люди.
Они бежали сюда вместе с собаками и кричали, чтоб отвлечь внимание медведя. Но снег был глубокий, собаки, еще раньше спущенные на первого зверя, тонули в сугробах и не могли так быстро добежать.
И со страшным горловым криком, кляня себя, что побежал к Раткевичу и оставил князя, проклиная медведя, пущу, душу и бога, летел от седьмого номера на широких лыжах доезжачий Карп…
Медведь не обращал внимания на крики. Ему надо было добраться только до одного, что так больно кусался на расстоянии. Боль, недоумение и ярость были в дремучих глазках. Он чувствовал, что сердце у него разрывается, что надвигается что-то непоправимое, чего уже никак, никогда в мире не исправишь.
Пан Юрий сунул рогатину в зверя, просто так, так пику, и поставил, вскинул-таки его торчмя, но от страшной тяжести древко сломалось. Словно ком живой боли, рыка, крови, ярости, надвинулось темное.
Человек спрятал голову и с кордом бросился прямо под зверя. Нацелил стал туда, куда и хотел, — в желтоватую, более мягкую на ощупь шерсть под левой лапой. Нажал.
И тат нога его поскользнулась. Падая под страшной тяжестью на спину, он увидел совсем близко Карпа с топором в руках, уродливую, как утес, махину, что снизу надвинулась на него, почувствовал у самого лица горячее смрадное дыхание.
И это было последнее, что он видел и чувствовал…
Юрий Загорский, скончался, так и не придя в сознание, по дороге в Загорщину, у оврага, где берут начало криницы.
Сани с телом медленно двигались по снежной дороге к родовому имению, А за ними тянулись вторые сани, с тушей медведя-оборотня.
Друзья видели ярость стычки и то, как мужественно боролся князь. Если б не снег, если б не вторая берлога, если б не засмотрелся, если б не поскользнулась нога, ехал бы живой здоровый.
Но друзья не знали мыслей князя о «двуногом мишке», не чувствовали, как медленно от груди и до ног осыпались в теле ледяные иголки, каким уродливо большим был медведь и как в сердце человека не было страха.
И они не видели в глазах зверя смертельного ужаса, и гнева, и желания жить, они не знали, как пан Юрий вдруг ощутил связь всего живого со всем живым, связь боли, единой для всех существ на земле.
Они не знали, что пан Юрий во взгляде этих дремучих глаз понял страшное чувство непоправимого, которое владело зверем.
Никто уже никогда не мог узнать об этом.
Медленно полз к Загорщине санный поезд. Владелец семи тысяч семей, который так и не стал владельцем каждой третьей души губернии, ехал в последнюю дорогу. Глаза, пока из не прикрыл Юлиан Раткевич, смотрели в небо, которого пан Юрий сегодня не уберег.
Скакали по мокрому снегу гонцы. Внезапная оттепель, первая весенняя оттепель, надвигалась на землю — откуда-то потянуло низкими, теплыми тучами.
Морд! Морд! Морд![143] — надтреснуто кричали в деревнях колокола.
…Когда поезд подъехал к крыльцу загорщинского дворца, на ступеньках уже стояли Алесь, пани Антонида и еще несколько человек.
Мать сошла к саням и стояла молча. Алесь боялся смотреть в ее глаза, потому что когда она впервые взглянула на труп, в этих глазах не было горя, а было какое-то просветленное, удивленное недоумение.
Кирдун за спиной панича едва слышно сказал:
— Если б меня взяли, не дал бы.
И Алесь подумал, что Кирдун это сказал вместо него.
Медведь лежал во всю длину больших саней и свешивался с них, удивительно плоский, лежал раскинув лапы.
— Как случилось? — шепотом спросил Алесь у Раткевича.
Нервное лицо Юлиана передернулось.
— Что говорить. Нет уже нашего пана Юрия. Поскользнулся.
Лицо пана Юрия было чистое. Губы, как ни странно, улыбались, словно хотел сказать что-то веселое.
Мать стояла возле саней и недоуменно смотрела на них.
— Обиделся, милый, — сказала она. — Я не буду больше. Езди себе…
Она поискала глазами и наконец увидела Юлиана Раткевича, что стоял у саней с медведем.
Медленно подошла к нему:
— Этот?
Юлиан молча склонил голову.
Расплющенный, как лохматая черепаха, медведь снизу смотрел на женщину, словно подползал.
— В обиде на меня отошел, — сказала пани Антонида.
Губы матери задрожали было и вдруг, впервые для всех окружающих, стали жесткими.
IX
После похорон пана Юрия Алесь ходил как в тумане. Дни и ночи, вечера и утра словно скользили по сознанию, не оставляя никаких следов.
Он не знал почему, но не плакал. Просто иногда вспоминал, как отец сидел у камня с серпом и колосьями, как произносил вместе с Алесем клятву, как в тот синий день, когда убили волка, серебристо трубил рог отца.
Хватит неба, и хватит травы.
Сегодня — тебя,
Завтра — меня.
И тогда вдруг сжимало сердце, и Алесь быстрее садился, чтоб не упасть, — так это было больно.
Пан Юрий не любил камней, тьмы, стен, и потому его похоронили прямо над Днепром, в дубовой роще.
Мать очень редко выходила из своих комнат, в которых закрылась на несколько дней перед охотой. Вацлав снова уехал в Вильну, а остальных она не хотела видеть.
Ни с кем не разговаривала. Алеся все время гоняла по хозяйственным делам: видимо, не хотела, чтоб думал и вспоминал. Когда его не было дома, иногда приходила на могилу, молча сидела там несколько минут и снова закрывалась в комнатах. Два-три слова иногда говорила только Алесю да горничной, и на лице ее в те редкие мгновения было все то же непривычное жестковатое недоумение. Вечером слушала доклад сына о делах, но на второй же фразе теряла интерес.
— Иди. Все хорошо.
Это, однако, длилось недолго. Недели две. Перелом к лучшему Алесь заметил в том, что мать вдруг приказала сменить занавески в своих комнатах, купить в Могилеве хвойной воды, принести из гардеробной некоторые, наиболее любимые, туалеты. Сказала Алесю, чтоб начал быстрее устанавливать на сахарном заводе новое английское оборудование, привезенное еще паном Юрием.
— Мне надо быть с тобой. С этим заводом и дома ночевать не будешь.
— Глупый, ты же всегда со мной. Мне теперь легче. Я уже почти спокойна. Скоро буду совсем спокойна.
Алесь занялся делами на заводе и подготовкой к весенним работам. Он трудился до изнеможения. Официально засвидетельствовал в Могилеве и начал проводить в жизнь отмену барщины по всем своим имениям. Мать заранее согласилась со всем, что он посчитает нужным сделать.
С этого времени семь тысяч семей, которые принадлежали лично ему и матери, вместо отработки барщины должны были платить оброк.
На Ходанских и других это произвело впечатление взрыва. Часть магнатов и мелкая шляхта одобряли отмену. Но немного позже отменил барщину только Ярош Раубич, да и то, по-видимому, чтоб доказать что-то новому зогорщинскому хозяину. Остальные так косились, что пан Адам Выбицкий и наиболее доверенные из управляющих умоляли Алеся именем Христа не торопиться.
— Ссориться с вами станут, распри заведут из-за боязни бунта в своих деревнях. А те восставать будут, потому что вашим позавидуют.
— И правильно. Они не хуже.
Наивное и все еще моложавое лицо пана Адама покраснело.
— Так владельцы же объединятся против вас. Мало ли у них способов! Прицепятся к какой-нибудь чепухе, дуэль — и все… Глотку перегрызут.
— Пусть попробуют, — сухо ответил Алесь. — И вот что я вам скажу. Прошу вас не считать эту мою меру окончательной. Не забывайте об этом никогда. Я решил действовать так постепенно из-за понятной человеческой боязни — чтоб преждевременно не пресекли возможности вести дело дальше.
— Как? — спросил кто-то.
— А вот как. Целуйте Евангелие и ставьте подпись под документом. В нем условие между мной и вами, что вы клянетесь своим достоянием и честью молчать о том, что вы здесь услышите.
— Княже… — сказал кто-то с укором.
— Я знаю. И знаю, что наши мужчины умеют молчать. Но, возможно, кто-нибудь… молодой жене… И тогда произойдет преждевременный бунт мужиков в других деревнях, придут солдаты, будут стрелять и не дадут ничего довести до конца. Так что прошу расценивать Евангелие не как обиду, а как знак высшего моего доверия к вам. Потому что в ваши руки отдаю я свою жизнь и честь…
Люди поставили подписи.
— Вслед за этой временной мерой мы отменим крепостное право. Возможно, через год. И не так, как в проектах, а с землей. Постепенно наделим всех, не только крестьян, но и безземельную шляхту, раздав большую часть поместной земли. Большего мы пока сделать не можем, но и на это придет время.
У Выбицкого были на глазах слезы.
— Княже, — сказал он, — этого мы вам никогда не забудем… Не надо было Евангелия, княже.
— Ну, а молодой жене? — улыбнулся Алесь.
Все засмеялись, поняв, что молодой князь прав.
— Правда, — сказал Адам, — если что-то просочится, мы все отказываемся. И я говорю вам всем: того, кто сболтнет, я убью самолично. Кто пойдет со мной?
Люди склонили головы в знак согласия.
* * *
Алесь трудился, как никто и никогда не трудился из людей его круга. Он решил перестроить сахарные заводы — вместо деревянных построек возвести каменные. Он, наконец, сделал то, что никак не мог решиться пан Юрий, — застраховал все строения. И пускай святоши в округе вопят, что это вроде как борьба с волей господа бога.
У Озерищ заложили на стапелях восемь барок: на Киевской контрактовой ярмарке всегда большим спросом пользовался северный картофель для винокурен.
«Положили ряд» с оршанскими известковыми копями и заложили выше Орши еще шесть барж: южным заводам нужна была известь.
Охрипший, обветренный, загорщинский пан носился между Суходолом, Могилевом и Оршей; по мокрому снегу, под дождем, ночевал в корчмах. Пропах псиной от мокрой волчьей полости, по целой неделе не бывал в бане, спал дорогой в возке.
Все одновременно. Все на этой неделе, сегодня, сейчас. Подохнем, если не сделаем. Риск? Без риска жизнь не жизнь. Этот сонный покой, эта возмутительная, как вопль в пустыне, бедность от бесхозяйственности, они убивают, гнут в дугу человеческие жизни.
В деревне Бель, самой заброшенной из его деревень, за Копысем, отсутствие промыслов и неурожаи довели людей до отчаяния. Корчма довершила дело водкой, займами, развратом. Узнав об этом, Загорский налетел туда, сунул в зубы проходимцу-корчмарю мужичий долг и выгнал его из села. Женам были даны деньги, и под эти деньги до самой пахоты мужчины должны были ломать известь на Оршанских копях.
Губернатор Александр Беклемишев вызвал было его к себе и попытался кричать, что его действия пахнут разбоем — погнал людей, избил корчмаря и сидельцев.
Не на того напал.
— Пан Александр, вот вам стоимость корчмы, а вот обманные расписки корчмаря на впятеро большую сумму. Я не требую ее от казны. И позвольте мне самому знать, что я могу и чего не могу делать в своих владениях. Спаивать народ я не позволю. Советую также вспомнить, что губернская казна до сих пор должна нашему роду за строительство школ и шлюзование Друти. Я не скажу, что мне было б приятно взыскать эти деньги в этом году, всего лишь спустя год после окончания срока…
— Успокойтесь, — смутился губернатор. — Черт с ним, с корчмарем.
— Это проходимец. Копейку в казну и рубль себе. Тихонько прополз по округе, а там — как Мамай прошел! Вы дали ему место в Довске?
— Казне нужны деньги, — сказал губернатор. — Казна — дело святое.
— И вы говорили мне о разбое, — с укором сказал Алесь. — Я не советовал бы вам держать таких людей.
— Я подумаю. — Губернатор действительно решил не спорить, потому что помнил, чем все это окончилось для Жегулина, фон Берга и еще некоторых, что спорили с Вежей и потому не просидели на должности и года. И губернатор сказал: — В бедности виновата пассивность здешних людей, а не мы. Отдали торговлю в руки староверов да евреев.
Алесь рассмеялся, но так, что губернатору стало не по себе.
— При чем здесь они? — спросил Загорский. — В этом виноваты мы с вами, господин губернатор, наша нетерпимость, наша гнилая продажность… И тех, и других гонят за веру… У нас они когда-то нашли пристанище. И мы жили с ними хорошо. Нам было диковато, что они молятся не так, что одни держат для нас отдельные кружки, а другие почему-то раз в год строят шалаши и едят там… Ну и черт с ними, каждый сходит с ума по-своему… Однако их нашли. За то, что крестятся двумя пальцами, трижды из Ветки делали пустыню, убивали, жгли живьем. За один палец снимали голову, а она у человека одна. А раскольники — хороший, трезвый, работящий народ. Память о мачехе своей — язык, обычаи — сберегли, не растеряли… Так их в благодарность, забывая слова Петра, что лишь бы подати платил, а молись как хочешь, мертвых штабелями складывали, да девчат солдатня насиловала… И других достали… Полоцких всех живьем в Двине утопили, с детьми маленькими… Опричник в рясе, пес бешеный — Грозный, палач. Сделали им землю эту чужой. Так чему удивляться?! С чужого — греби!
Когда молодой Загорский ушел, губернатор долго еще не мог прийти в себя. Черт! Манеры едва не версальские, язык мужицкий, одежда разбойничья, мысли якобинские…
Но не якобинскими были мысли Алеся. Болела душа. Всюду было одно банкротство. Поля, заросшие пыреем, потому что не было копеек на железную борону, варварская подсочка деревьев, уничтоженная отбросами ватной фабрики рыба в Путейне, березовые посадки на известняках и песчаных землях, где так нужна вода, бездумно осушенные болота — от резкого снижения водного слоя посохли окружающие леса.
Потери, потери, потери… Деньги, брошенные на ветер.
— Лучше бы вы ими печи топили, головы еловые!
Деревня голодает, живет в темноте, земля истощена. Промышленность кустарная, торговли нет. И спят, спят все, словно угоревшие, не понимая, что сон угоревшему — смерть. И сердятся, когда их будят.
Так тяни, тяни их силой из чадной хаты. Пускай кусаются — тяни!
Весна запаздывала. В начале апреля еще лежал снег, было промозгло, и бил озноб, а ночью морозило. В один из вечеров Алесь обходил конный завод. Коней надо было перевести в запасные конюшни, чтоб произвести генеральную уборку, побелку, чистку. Это собирались сделать сегодня же.
Переводить было довольно легко. Привыкшие к вольному выпасу летом, кони и за зиму не отвыкли слушаться табунного вожака и верховода, огненного жеребца Дуба. Куда он, туда и табун. Дуб вдруг задурит и погонит напрямик — и остальные за ним.
Алесь отпустил людей ужинать, а сам в последний раз осматривал новые конюшни, а потом пошел по старым, чтоб после Змитер, Логвин и другие управлялись уже без него. Он хотел помыться, побеседовать с матерью и ехать в суходольское собрание. Майка сообщила, что братья и Наталья сегодня гостят у Клейны, отец остался дома и она будет в собрании только с матерью, а возможно, и одна.
Алесь тосковал без нее. И потому торопился, хотел сегодня решительно поговорить с Михалиной и как-то рассечь мережу, в которой они так давно запутались.
Дуб был отяжелевший уже, но все еще могучий дикарь. Косил кровавым оком и пугал, задирал верхнюю губу, показывая зубы.
Алесь как раз потчевал Дуба подсоленным ржаным сухарем, когда за стеной прозвучал и резко оборвался бешеный цокот копыт.
Дуб озоровал и не хотел брать. Встревоженный Алесь оставил его и пошел было к выходу, но в этот момент в конюшню ворвался красный от ветра и волнения Павлюк Когут.
— Что? — спросил Алесь.
Павлюк хватал ртом воздух, словно бежал он, а не конь. Наконец вымолвил:
— Раубича пошли громить!..
— Кто?!
— Люди Корчака.
— Ты что, сдурел?
— Да… Да… Убивать будут.
— Да не за что его!
Павлюк не мог знать о разговоре в челнах, когда Кондрат, страдая за дядькованого брата, навел людей Корчака на имение Раубича. Не знал он и о большом плане нападения, который вынашивал в душе бывший пивощинский мужик.
А Кондрат и Андрей ничего не знали о тайном мире между Алесем и Михалиной.
Произошло же вот что. Корчаку очень нужно было оружие. И ему, как и предвидел Иван Лопата, никак не удавалось поднять большое количество людей. Слухи о близком освобождении заставляли каждого притаиться и ожидать, как мышь под веником.
Не стоило ломать шею, когда все равно крепостное право вот-вот будет отменено.
Большинство мужиков ушло от Корчака по домам, хотя и помогали — «на всякий случай, а вдруг да понадобится». С четырьмя десятками людей он отсиживался в пущах.
О нем начали говорить — нестрашный. Ему позарез нужно было оружие. Черный Война, встретив однажды на лесной стежке всю гурьбу, издевательски поехал прямо на нее, лишь положив руку на пистолет и сверля людей подозрительным взглядом. Богдана боялись: «Словно сам черт ему помогает. Не иначе — оборотень», — и уступили дорогу.
А Богдан язвительно улыбнулся, вытащил пистолет и бросил:
— На, атаман. Возьми. На бедность.
Такого Корчак вынести не мог. Этот один наводит страх на всех столько лет! И месяца не проходит, чтоб молва не принесла новость: «Напал один на полицейский пост… Застелил… Коней отбил и раздал…».
И Корчак, помня слова Кондрата, решил: «Раубич — будущий родственник Ходанских… Не стережется… Есть оружие… Одобрение и поддержка со стороны Когутов, а значит — и озерищенцев».
На Кроера идти было не по зубам: у того все еще сидели черкесы… Большой поход начать тоже нельзя: войска всюду. А Раубич не стерегся.
Корчак и так и этак тасовал карты. Выпадало одно — идти на Раубича.
…Ничего этого не знали Алесь и Павлюк. Недоумение владело Загорским.
— Откуда знаешь?
Павлюк, видимо не подумав, ляпнул:
— Стою с Кахновой Галинкой у тына…
— Что? С Кахновой?
Павлюк залился румянцем.
— Как же это ты так?… У собственных братьев… Ты как им теперь в глаза смотреть будешь?
И тут Павлюк рассердился:
— А что?! Сами виноваты. Друг другу дорогу уступают. Она мне сказала: «Обрыдли мне они, Павёлка…». И потом — люба она мне…
И тут юмор ситуации дошел до Алеся. Загорский захохотал.
— «И восста брат на братов, а племя на племя». Ничего, не было б хуже.
Сурово бросил:
— Дальше. Стоишь ты, значит, с Кахновой Галинкой…
— Оставь… Так вот, стою я, значит… Тьфу!.. И слышу, идут люди. А навстречу им человек поднялся на гребле…
Павлюк умолчал, что встал навстречу людям Петрок, любимый Галинкин брат.
— «Проследили, — говорит. — Раубич большинство людей на фест[144] отпустил. С ним в имении человек восемь». — «Хорошо, — говорит один из тех. — Двинем». — «Хлопцы, — говорит тот, что подошел, — вы хоть душ живых не губите. Сами души имеете». — «Цыц, не заедайся». Да и двинулись.
— Давно пошли? — побледнев, спросил Алесь.
— Подавно. Больше часа.
Майка могла еще быть там, Майка могла не успеть уехать… И еще он вспомнил глаза Яроша, темные глаза без райка, которые испытывали… Это отец Майки. Это просто Человек, живой, и слабый, и сильный. Одно неукротимое желание росло сейчас в душе: быстрее, быстрее спасать…
— Что же делать? — бормотал он. — Что же делать?
И вдруг понял, что делать. Снял со стены двустволку сторожа, патронташ.
— Сейчас ты поможешь мне, а потом… кликнешь людей здесь и поскачешь на Чекан. Раткевич теперь на хуторе. Поднимай всех. Скажи — Раубичи гибнут.
Стал выводить, на ходу надевая уздечку, огненного Дуба.
— Отваливай дверь.
— Что ты задумал?
— Потом будешь спрашивать. Отваливай.
Двери скрипели, отлетая от косяков, ударялись с лязгом о стены. Из конюшни доносилось ржанье.
— Как только крикну, гони коней! — крикнул Алесь.
— На глум? Перебьются же!
— Моя забота.
Спустя несколько минут в загон, словно поток лавы, начала вытекать лошадиная масса.
Удивленные неожиданной, во тьме, свободой, возбужденные кони вначале тихо. А потом громче и громче стали ржать, пока ржанье не превратилось в хаос звуков. Горячие двухлетки носились вокруг табуна, взбрыкивали и хватали храпами друг друга.
И Дуб, словно поняв, что происходит непорядок, заржал тоже, гневно.
Алесь видел, как кони подняли головы на тонких шеях и замерли. Слабый свет молодого месяца мерцал в настороженных глазах.
Время! Загорский медленно тронул Дуба, а за ним, так же медленно, стал выплывать со двора табун — сто восемьдесят голов.
Нельзя было гнать, как этого ни хотелось. Кони могли броситься и разбиться о бревна забора вокруг конюшни.
Оглянулся — последние из табуна миновали ворота. И только теперь подумал, что поспешил и сделал плохо, не оседлав Дуба. Придется ехать охлюпкой, как в ночное.
— Гони за людьми! — крикнул он Павлюку. И поддав пятками в бока Дуба, с места пустил его галопом.
За спиной словно обвалилась земля. Разноголосый грохот разорвал ночь.
Кричать. Все время кричать, чтоб кто не попал под копыта.
— Гей! Ге-ей!
Черта с два услышат. Стрелять изредка надо, вот что.
Столб огня. Грохот. Дуб сбился с ноги, но снова бросился вперед, еще стремительнее.
— Гей! Гей! — Язык огня. — Гей! Табун!
Табун бешено мчался за ним. Нарастающий грохот копыт был неистово грозным.
Прижавшись к спине коня, Алесь гнал и гнал его. Сквозь ночь. Под стеклянный звон в замерзших лужах.
Бросился кто-то в сторону, за дерево, услышав топот. Человек? Зверь? А, все равно! Выстрел! Крик. Цокот копыт.
«Та-та-та, та-та-та» — ритмично раскалывал землю топот.
Кони летели в ночь…
…Ярош Раубич стоял, связанный, перед черным крыльцом дома, немного в стороне от большой галереи. Отблески красного огня плясали по его лицу. Чуга была разорвана на груди, волосы слиплись от пота, на щеке наливался синяк.
Перед ним стояло несколько людей Корчака. Они нашли мало оружия, хотя обыскали уже весь дом. Два или три ружья, саблю. Один из мужиков едва ворочал двумя руками родовую святыню — двуручный меч.
— Что написано? — спросил, рассматривая вязь.
Раубич улыбнулся.
— «Помни: трудно вынимается. Вынул — напои».
— Спасибо, — сказал Корчак. — Мы вынули… Напоим, спасибо.
Черные дремучие глаза Корчака смотрели из-под белой чуприны прямо в глаза Раубича. Но он не знал, что такое взгляд Раубича, который выдерживали единицы, и, чувствуя, что вот-вот сейчас опустит глаза, сказал:
— Поверните его. Пусть покажет, где…
— Боишься меня, бандит, — со спокойной издевкой сказал Раубич.
Кто-то толкнул его.
— Гроб свой толкаешь, собачья кость.
Люди отпрянули. Раубич стоял и смотрел на свой дом, на стеклах которого плясало винно-красное зарево. Казалось, что дом горит изнутри. Дом, в котором он прожил жизнь и возле которого сейчас погибнет.
Страха он не чувствовал. Конец так конец. С того дня, как начал самостоятельно мыслить, обессиливала и угнетала мысль о судьбе родной земли, о том, что счастливы на ней лишь мертвые. Так пускай уж. Хорошо, что никого нет дома. На миг он вспомнил Алеся. Плохо обошлись с хлопцем. Опозорили, оплевали. А хлопец был ничего. Любил его когда-то. И очень, очень любил Михалину. Плохо поступили, плохо.
Ярость душила его. Так попасть! Так по-глупому попасть! Застали врасплох, сняли, словно сонного петуха с насеста. Люди с испугу разбежались. Как глупо кончается жизнь… Все годы страдать из-за рабства родины, готовить заговор, почти подготовить, пустить своих на оброк, ожидать восстания. И вдруг, ничего не увидев, погибнуть. От рук какой-то банды, которая двигалась сюда, потому что он не стерегся. Сюда, а не на настоящих кровопийц.
Запястье Корчака обвивал ремень кистеня. Кистень покачивался. Колючий стальной шар, похожий на шишку дурмана.
— Оружие? — спросил Корчак.
— Не для вас наготовил. Нашли три ружья — хватит от зайцев отстреливаться.
— У тебя сколько голов? — спросил один из лесовиков, низколобый хлопец.
— На одну больше, чем у тебя, — улыбнулся Раубич.
— Сравняем, — сказал Корчак. — Где оружие?
Раубич молчал.
— А ну, тряхни его. Подтяни к огню, — сказал Корчак. И, словно оправдываясь, добавил: — Будет знать, как в кресты стрелять. Сдерните с него чугу.
Чуга легла на связанные руки, как крылья.
— Где?
Ярош молчал. Безволосая, гладкая кожа постепенно краснела от близкого огня.
Низколобый вдруг зашипел. Он держал Раубича за плечо, и волосы на суставах его пальцев начали сворачиваться и дымиться.
— Ч-черт!
Мужик, который только что отбросил в сторону ненужный старый меч, вдруг крикнул:
— Корчак! Побойся бога. Что же ты делаешь, зверюга? Зачем Юстына подбиваешь? Ты же знаешь, он головой тронутый…
Низколобый Юстын непонимающе смотрел на них, тряся рукой в воздухе.
— Замолчи! — зло крикнул Корчак. — Замолчи, Брона!
— Я уйду от тебя, — спокойно сказал Брона. — Я не изверг. И все мы, из Кроеровщины, не изверги. Одна у нас душа. А ты — как вурдалак ненасытный. Дождешься серебряной пули да осинового кола.
Белые ресницы мужика дрожали, но говорил он запальчиво, смело.
— Не будет тебе за такое успеха. Тоже и у него гордость.
Корчак немного остыл:
— Так что, может, уже «пан» предложит что?
— Убей, а не издевайся… Да он сам скажет… Скажи, пане, не губи души.
Раубич смотрел в его светлые глаза:
— Иди, хлопче Брона, в мою комнату, третью от зала. Они не нашли…
— Ну вот! — обрадовался Брона. — А вы, сыроядцы…
— …а там, за шторой, висит мой штуцер. Для тебя уж одно ружье найду. Держи на память…
— А им не скажешь? — спросил Брона.
— Им не скажу, — просто ответил Раубич. — Они росомахи. Падалью питаются. Кровь не по ним. — И, помолчав, сказал: — Добивайте, что ли.
Брона смотрел на Раубича со спокойной враждебностью и уважением.
— Т-так, — протянул Корчак. — И в самом деле… Помирать стоя будешь?
— Да.
— Нажились мы тут, хлопцы. Спасибо надо сказать одному добродею за совет.
— Не надо ему твоей благодарности, — возразил Брона. — Он сказал правду. Есть у этого человека оружие. Да только вы все учли, кроме него.
Корчак смотрел на Яроша. Потом вынул из ножен корд и стоймя кинул его в землю.
— Ты не бойся, раубичский пан, ударят точно.
— Я не боюсь.
Брона побежал за штуцером и принес его.
— У-ух какой! — улыбался он. — Аж руки прикипели. Вот это оружие! Ну, держитесь теперь…
Раубич улыбался. Вид у хлопца был, как у ребенка, что держал игрушку.
— Ну, спасибо… Ты — ничего!.. Ты даже подумать не успеешь, я уж постараюсь, — спешил Брона и как бы пояснил: — Жену мою с детьми Кроер куда-то в Расейщину продал за непослушание… А что она там?
— Я понимаю, — сказал Раубич.
— Ведите коней, хлопцы, — приказал Корчак. — Дом жечь не будем. Пусть вдове останется. — И улыбнулся: — Может, и для меня что-нибудь найдешь?
Раубич с жестковатой улыбкой покачал головой.
— Да я шучу, — сказал Корчак.
Люди с лошадьми стояли немного в стороне и не смотрели на них. Никому не хотелось видеть убийство.
Брона вытащил из земли корд и стал с левой стороны и немножко впереди Раубича.
— Молись, — сказал Корчак.
Пан Ярош поднял голову и, глядя на языки высокого пламени, начал читать апокрифичную молитву панов-латников, против которой четыреста лет безуспешно боролась церковь. Безуспешно потому, что читали ее один раз и потом не было кого карать.
Брона слушал, как падали слова. Молчал и смотрел чужими глазами. И летели, летели в небо языки огня.
— «Воины бога пришли за мной» — спокойно читал Раубич.
Корчак отошел к лошади.
— «Воины бога пришли за мной… Они пришли — и не опечалилось сердце мое. Они пришли — и не дрогнули колени мои… Тьма была вокруг. И во тьме горели лики архангелов…
…Как половодье, близились они… Как лава, росли они… Как ураган, росли они… Как солнце в час смерти, росли они».
Странный звук родился где-то. Словно начинался обвал. Далеко-далеко. Брона не удивился. Так оно и должно было быть. Что ж, если за человеком шли воины бога…
— «Как черный огонь были очи их… Как сухая трава в огне были волосы их… Как вежи во время пожара были крылья их… Как расплавленная сталь были мечи их.
…И разверзлось небо — и пожар был за спинами их.
Но не трепетала душа моя».
Цокот нарастал и нарастал, близился. Неодолимый, мощный. Земля стонала. Потом долетели два выстрела, а спустя минуту — еще два.
— Что такое? — спросил Корчак.
— Большой отряд, — ответил кто-то.
— Войско, — пробормотал Юстын. — Наутек, хлопцы!
— Ти-хо! — приказал Корчак.
Земля гремела уже, словно была из железа.
— И правда, хватит, — взвился в седло Корчак. — Засиделись… Брона, кончай да догоняй.
Люди тронули коней. Обвал уже гремел во всю мощь.
Брона сделал шаг и встретил глаза Раубича.
— «Потому что не боялся я смерти детей нижe своей кончины без холма и причастия, без слез и памяти…»
Брона зашел за спину Яроша, поднял с земли штуцер и резким ударом корда перерезал веревки. А потом со всей силой толкнул Раубича. Тот не удержался на ногах и повалился на землю.
Корчак, оглянувшись, увидел лежащего и то, что Брона садится на коня. Всадники исчезли за домом.
…Алесь, вырвавшись на лужок, увидел разбитые окна, пощепанные двери дома — в них били топорами, — зыркий огонь, а возле него неподвижного человека.
Пылали флигель для гостей, дом эконома и каретная. Рыжее, как львиная грива, пламя с горячим гулом летело в ночь. Коробились крыши, тысячами рубинов сияли сквозь вуаль огня бревна. Ревело, сыпало искрами, несло.
И грозно вертелся во все стороны, угрожая мечам, флюгер-всадник на крыше флигеля — горячая струя воздуха вертела его. Достойный жалости, маленький и грозный всадник над морем огня.
Алесь спрыгнул с коня и склонился над неподвижным телом.
— Пан Ярош! Пан Ярош!
…Ярош удивленно смотрел на него. Потом сел, потирая запястья.
— Ничего, — резко сказал он. — Где солдаты?
— Какие солдаты? Я один.
* * *
В этот момент люди Корчака скакали уже на той стороне озера. Спешили оставить между собой и карательным отрядом как можно больше верст.
— Неудача, — сказал Корчак. — Ни оружия, ничего. Отряд кто-то навел.
Гнали коней, словно одержимые. И лишь после долгого молчания Корчак обронил:
— Ничего. Одного-таки кокнули.
Брона пожал плечами.
— Боюсь, что нет. Боюсь, что он останется в живых.
— Ты что?
— Времени не было. Когда я ударил его, мне показалось… корд наткнулся на железо.
— Брас-лет, — похолодел Корчак.
Брона молча скакал рядом с Корчаком. Он не жалел ни о чем.
«Воины бога пришли за мной».
Он улыбнулся мрачно и погладил в темноте вороненый ствол штуцера.
* * *
Ярош недоуменно смотрел на Алеся, потного, с грязными потеками на лице. Под спутанным чубом дерзко горели серые глаза.
— А солдаты?
— Да один я, один. Вставайте. Они удрали.
Раубич увидел вспененный табун, что жался подальше от огня. Перед табуном стоял, прижав уши, огромный жеребец и смотрел на пламя.
«Конь покойного Юрия. На нем он был, когда предупредил… Тогда, у кургана. Нет, никогда не пошел бы пан Юрий на заговор.
И этот… Действительно один. Прискакал и сдунул их, как пылинки. И увидел его на земле, очумевшего. Еще, может, подумал, что сомлел, как баба».
Ярош почувствовал страшное унижение. Он, мужчина, с восемью слугами, с оружием в доме, попал в руки этим свиньям и битый час терпел издевательства, словно ожидая, когда этот щенок явится на помощь. Один, с бесполезным, как тросточка, дробовиком в руках. Прискакал на помощь тому, кому «мстил презрением». Конечно, к таким надо скакать на помощь, разве они сами защитятся?
— Вставайте. Они не ранили вас?
Ярош неожиданно легко поднялся, начал было отряхивать грязь с живота и колен и едва не застонал.
Унижение раздирало его. «Один… Один… Боже мой, спасай меня от позора… спасай меня от этого спасения…»
Если б Алесь сказал то, что хотел сказать: «Быстрее, пан Ярош, они могут вернуться, а нас двое», — все, возможно, обошлось бы. Раубич увидел бы в его поступке простую смелость, желание помочь отцу девушки, которую любил.
Но он не сказал этого.
— Имеешь мою жизнь, — глухо сказа Раубич. — Надо будет — отдам.
— Зачем так?
— Я ее не хотел. Так разве не все равно, кому отдать?
— Пан Раубич…
— Я дорого дал бы, чтоб этой помощи не было.
— Брезгуете брать из моих рук? — оскорбленный, спросил Загорский.
— Не беру подачек.
— Отец… — сделал последний шаг Алесь.
Может, Раубич и понял бы, если б смотрел в глаза. Но он смотрел в сторону.
— Я ни о чем не просил. Ни вообще людей, ни лично вас.
Всадник вертелся в море огня. И, чувствуя, что он и сам такой же, Алесь сказал:
— Простите… Если б я знал, что это так, я прислал бы вместо себя слугу… Я имел смелость подумать, что я сделаю это лучше него… Видимо, напрасно.
Голос был грустный и строгий.
— Вы сегодня имеете право говорить мне все. Но потому я и не хотел жизни из ваших рук… И потому я принял жизнь из рук холопа, который разрезал мои веревки… — Раубич хотел хоть чем-нибудь удивить этого человека, посеять в нем хотя бы тень сомнения в том, что спас не он. — Хлопы лучше вас, — закончил он.
— Вы уже считаете эти веревки своими? — грустно спросил Алесь. — Быстро привыкли. А хлопы действительно лучше… Лучше нас… Они благороднее и благодарнее… Прощайте, Раубич.
И пошел к своему жеребцу.
Дважды он пытался сесть и опять опускал ногу на землю.
И лишь собравшись с силами, вскинул тело на спину Дуба.
Молча тронул со двора.
Табун медленно потянулся за ним, покидая дом, в окнах которого плясало зарево.
Одинокий всадник вертелся в море огня…
* * *
Жизнь шла себе и шла, словно ничего не случилось, и дед по-прежнему боролся за наиболее справедливое освобождение людей.
Еще раньше император поручил генерал-адъютанту Якову Ростовцеву, который когда-то подал свое предложение[145] отмены, руководить подготовкой реформы, тем самым одобрив его мысль и дав понять, что проекты губернских комитетов устарели. Для редактирования их в марте были организованы вспомогательные учреждения при главном комитете — редакционные комиссии, которые тогда же принялись за дело под руководством Николая Милютина.[146]
Люди Милютина и он сам были все же лучше многих. Не либерализмом, а тем, что это были обычные люди. Любопытно: что могло б произойти, если б освобождение, пусть номинально, поручили бывшему шефу жандармов, а в то время председателю Государственного совета и комитета министров Алексею Орлову? От прошлого у него остались определенные наклонности. В настоящем было полное физическое и моральное падение, доходившее до того, что он молчал, ползал по полу и ел из поставленной перед ним миски, как собака.[147] Полностью выжившее из ума животное с замашками жандарма больше года занимало этот пост. Не первый и не последний случай. И после этого кто-то мог сказать, что «История города Глупова» — пасквиль.
Так называемые «сливки общества», растленные насквозь, выжившие из ума от вырождения, руководили людьми, которые во всех отношениях были выше и лучше их. Внутренними делами России три года руководил Бибиков, один из наиболее ярых мистиков того времени. Он регулярно по ночам вызывал дух покойного сына, который умер в Дрездене, и как будто бы беседовал с ним. И такие люди могли говорить безвольному царю слова благодарности за то, что он освободил «20 millions de pauvres petites chevilles».[148] Даже демагогу Валуеву это не понравилось.
Бедные «винтики» выполняли самую высокую миссию на земле — заставляли землю рожать. А те, кто сидел над ними, — органчики, спириты, верноподданные болваны, эротоманы и педерасты, животные, которые ели с пола, — какую миссию выполняли на земле они?! Никакой, кроме организованного грабежа, прожигания жизни и высасывания последних соков из этой несчастной земли.
Ростовцев тоже был спиритом и мистиком. Однако это не мешало ему бороться за земные блага. Возможно, он считал, что тень человека на том свете получает в единоличное пользование тени тех вещей, которыми он владел на Земле. Было похоже на это. А может, он просто думал, что другие люди как себе хотят, а он, Яков Ростовцев, никогда не умрет. И в самом деле ему было в то время только пятьдесят шесть лет и минуло всего тридцать три года, как в сказке, с того времени, когда он изменил декабристам. Он успел стать мерзавцем в двадцать три года, когда большинство не успевает еще стать даже просто людьми, а не то что утратить честь и пристойность. И он знал, что преданные им погибли, как и тысячи других (честные чаще всего мало живут), а он существует.
Вежа ворчал:
— Старая шлюха! Как он в глаза преданных им смотрит?
Но «старой шлюхе» не было никакого дела до того, что о нем думают. Он торопился хватать. Хватать как только можно, сколько станет сил. Хватать, даже оставляя после себя голую землю. Когда начались заседания редакционных комиссий, ему оставалось жить девять месяцев и двадцать семь дней. Но он греб и драл, очень напоминая того человека, над которым смеялся переодетый ангел из сказки, потому что человек выбирал себе на рынке самые крепкие, по крайней мере на год, туфли, не зная, что завтра утром ему обуют их, кладя в гроб. Умер Ростовцев в 1860 году, натворив перед этим сколько мог зла.
На этом, собственно говоря, он мог бы и кончить, как все люди на этой земле, однако воинственный «старец» не угомонился и после смерти, пытаясь, вопреки всем законам естества, и по ту сторону могильной плиты влиять на дела осиротевшей без него земли.
Эта не совсем обычная и под корень подсекающая зловредный материализм история произошла в начале января 1861 года. Манифеста об освобождении еще не было, и, понятно, покойник еще блуждал по своей квартире, обеспокоенный, как же все это обойдется без него.
В бывшей квартире Ростовцева жил генерал-адъютант Путята, тоже спирит, человек, который вызывал дьявола и угрожал ему, что в случае идейных разногласий он пожалуется на него обер-прокурору синода и комитету министров.
По совместительству с мистикой этот человек занимался еще и воспитанием юношества в духе преданности родине и престолу, потому что занимал пост начальника штаба военно-учебных заведений, и, таким образом, военная мощь империи частично зависела от привидений, а призраки, которые населяли комнаты генерала, — от его служения военному могуществу государства, а за это служение Путята получал целиком материализованную пенсию и не символические чины и ордена. Таким образом, Путята на практике решил вопрос единства материального и идеального в природе.
В начале января в комнатах Путяты слышались странные звуки. На вопрос: «Не Яков ли Иванович?» — раздался троекратный стук в дверь и по комнатам повеяло могильным холодом.
Затем магический карандаш дал на заданные вопросы следующие ответы.
— Что тебе нужно здесь?
— Огонь, — ответил оптимистически настроенный мертвец.
— Для чего?
Склонный к решительным действиям, воинственный покойник ответил:
— Воевать!!
— Кому воевать?
— Министрам.
Видимо, привидение узнало в нематериальном мире о чем-то позорящем его честь, чего оно не знало на земле.
— С кем?
— С коварным князем Константином.
— Какой конец?
— Вседержитель! Могила!
Встревоженный и потрясенный до глубины души, Путята сделал доклад об этом Муравьеву Вешателю, в то время министру государственных имуществ, а тот — графу Адлербергу, министру императорского двора и уделов, после чего они втроем поделились этой астральной беседой, конечно же, с шефом жандармов и начальником Третьего отделения Долгоруковым, тем более что он был незаурядным знатоком потустороннего мира еще со времени дела Селецкого.[149] Вначале думали дать делу ход, но Ростовцев был мертв, а флюиды вещь ирреальная, и посадить их никуда нельзя. Потому раздумали.
А поскольку сигналы были тревожные, все четверо впали в панику и длительное время находились в растерянности: что же делать?
…Но до кончины Ростовцева еще оставалось время, а редакционные комиссии не соглашались с ним до конца. Без земли освобождать было нельзя, потому что «мужик» — это не только его личная, никому не нужная жизнь, не только его «быт», но еще и платежи государственных повинностей. Кроме того, учитывали, что вольному нищему не нужно искать топор в сенях, а косу — на другом конце своего покоса, где вчера забыл ее. И то и другое было всегда при нем.
Решено было земли дать больше, а повинности уменьшить, хотя и не настолько, как об этом вопили Могилевская, Тверская и еще одна-две губернии. Нельзя было предположить, что безземельный много отдаст бывшему господину, — казна государства была опустошена. Вместо вотчинной власти было демократично предложено крестьянское управление… под надзором полицейских органов.
Комиссии работали пять месяцев и закончили черновой проект, но сразу после этого начались возня и визг «обиженных». В Петербург летели замечания от тамбовских, тульских и московских помещиков. Царя заклинали не доверять «либералишкам». Депутаты от губернских комитетов поехали в столицу производить изменения.
— Я туда не поеду, — сказал дед. — Заранее скажу, что будет. Мягкотелые начнут добиваться неотложного выкупа, легкого для них, суда и публичности, а государь, в неописуемом своем милосердии и вниманиии к тем, кто любит престол, покажет им фигу.
Как в воду глядел. Действительно, на либеральном тверском «адресе пятерых», «ни с чем не сообразном и дерзком до крайности», было начертано государем «замечание авторам» за «неправильные и неуместные свои домогательства».
Либералы Москвы просили о маленьком представительстве и получили в ответ лишь три слова:
— Ишь чего захотели.
Замечания комиссий — даже эти замечания! — сочли слишком левыми и выправили.
Но на практике не было предоставлено и этого. Сразу после того, как Ростовцев направился в свое, такое беспокойное для всех, загробное путешествие, на его место сел министр юстиции граф Панин, тоже спирит, и поддержал крайних «правых». Нормы земельных наделов уменьшены, повинности — возросли.
* * *
Алесь лазил по лестницам, мосткам и котельным сахарного завода. В это время — в начале апреля — завод почти не работал. Лишь в одном из цехов шла обработка заготовленного с осени полуфабриката. Сделали запас, чтоб не было больших простоев.
Производили кристаллизацию и пробелку сахара. Алесь шел вдоль ряда, осматривая жестяные и глиняные пробелочные формы.
— Сколько людей работает, когда трут свеклу?
— В двух сменах мужчин-чернорабочих двадцать пять, женщин — около двухсот, — ответил красный, как помидор, седоусый сахаровар-механик из Гамбурга.
— Ну вот, а теперь пятьдесят, — сказал Алесь. — Почти на четверть сокращена сезонность, господин Лихтман. А вы возражали против полуфабрикатов.
— Я и теперь возражаю, — сказал немец. — Сахар худшего качества.
— А сколько свеклы пропадает во время заготовительных работ? Ногами по ней ходят, гниет она, в мелисе повышен процент сахара. И потом… пусть хуже качество. Вы имеете пенсию круглый год, и вам следовало бы хоть раз подумать, что чувствует сезонник. Пятьдесят человек получают свои деньги в начале апреля, словно это десятое октября, начало полной загрузки сахарного завода.
Он почти бегал пыльными переходами, шмыгал в люки, спускался в котельные, где красные, как гномы, кочегары махали шуфлями. В котельных свистел пар, мелко дрожали лоснящиеся от масла цилиндры.
…Все, кажется, ладилось. Закончат отбелку — надо начинать ремонт этого завода, расширить другой сахарный завод, установить в нем машины и оборудование, купленное в Англии и Берлине, построить отдельные здания еще на два паровых котла.
Выбицкий, немец и мастера едва поспевали за ним. Мастеров на этом заводе было пять, все белорусы — механик, кузнец, слесарь, медник и столяр.
— Три гидравлических пресса, — говорил Алесь. — Три, которые требовали ремонта. Механик!
Механик был похож на корягу: тупой с виду, страшный мужик. Так все и считали. Но Загорский однажды видел, как он, проверяя колосники, один в котельной, стоял, опершись на шуфель, и, залитый багровым сиянием, пел: «Не для меня она, весна, не для меня Днепр разольется». Пел красивым, душевным тенором.
— Маленький, с шестидюймовым пистоном, отремонтировали, — сказал механик. — Два больших, двенадцатидюймовых, — вот-вот…
Алесь иногда удивлялся, почему это большинство людей словно стесняется говорить о деньгах и своем отношении к ним.
Хозяйство — пожалуйста, политика, искусство, любая холера — хоть сейчас. А как деньги — стоп!
Конечно, деньги были «презренным металлом», «ничтожным металлом», но пока что всем приходилось жить в мире, где без них не обойдешься. И не могли в этом мире существовать ни хозяйство, ни политика, ни искусство, не потершись о тот металл, без него. А между тем все молчали о нем, делая вид, будто его и не было.
Герои книг жили, словно у них был неограниченный кредит. Герои не знали, сколько стоят сапоги, телячья нога или фунт вот этого сахара. А это ведь было интересно, почти как поэзия, хотя и далеко не возвышенно.
Деньги подчас уничтожали сущее. Но что ни говори, это ведь они двигали многочисленными силами на земле, это они вынуждали многих выбираться из болота отсталости, напрягать разум и мускулы, бороться.
Главное, самое первое в каждом народе было то, как он обрабатывает поля, стороит дороги, наводит мосты, какие машины стоят на его фабриках и, наконец, как он зарабатывает и как тратит этот самый «презренный металл».
Алеся удивляло, почему, например, любимый Пушкин совсем нигде не говорил о технике, а об экономике обмолвился в двух-трех незначительных отрывках, в то время как имение Гончаровых называлось «Полотняный завод», а самому поэту приходилось часто и мучительно думать о деньгах.
Это было, конечно, потому, что поэты, если они настоящие поэты, хотят отдавать себя всем временам и не стареть никогда. Верность была и остается верностью, любовь — любовью и смерть — смертью, а вот эти два чугунных безвоздушных аппарата (один для выпаривания, второй для окончательного сгущения сиропа) предется сегодня же выбросить в мусорную яму, а вместо них поставить другие, новые, которые тоже со временем устареют.
И Алесь думал о том, что если когда-нибудь какой-нибудь человек заинтересуется им, Алесем Загорским, и его соседями, он просто не сумеет пройти мимо этих аппаратов, которые Алесь сегодня выбросит, мимо паровой машины в двадцать лошадиных сил — возможно, достойной его сожаления! — для приведения в действие терки и насосов, мимо другой, в пятнадцать лошадиных сил, что вытягивает воздух из аппаратов и качает воду для всего завода.
Главным, конечно, будет для того человека не это. Главным будут они, живые, их любовь, ярость, распри, страдания, борьба с оружием в руках, привычки, картины на стенах. Но он не сможет обойтись без этого смешного для сахарного завода, потому что это никак не второстепенное, потому что на этом взросло все в его жизни, потому что без этих котлов и терок не было б и Мантеньи в загорщинской галерее.
Нельзя было пройти и мимо этой аппаратуры для варки сока. Нельзя было не отметить, что в каждый дификационный котел вмещается этого сока сто двадцать ведер… Это все был «господин сахар», без которого не может жить и мыслить ни один мозг — ни его, ни того, кто заинтересуется им, ни мозг тех, кому он будет рассказывать.
Можно спросить: а что им до съеденного сто лет назад сахара? Вздор!
Сахар и хлеб были единственно вечными богами, которые поистине каждый год воскресали не так мистически, как Озирис и Христос, Адонис и Таммуз всевеликий; они никогда не исчезали, превращаясь в нервы, плоть и кровь. И если б человечество однажды прервало эту вечную эстафету, даже если б один он, Алесь, прервал ее, не было б кому интересоваться и рассказывать и не было б кому слушать.
Если б у него был талант, и он, Алесь, писал книгу о средневековье, он не мог бы оставить без внимания ни станков, на которых ткались слуцкие пояса, ни маслобоен того времени, ни того, как и по каким рецептам варили тогда пиво. Потому что этого не видел никто, потому что главным в эстафете поколений были не турниры, не бархатные плащи герольдов, не мудрые королевские приказы, а человек, который отливал сталь для пики, ткал бархат, выделывал бумагу, на которой писались приказы.
Власти делали с человеком что хотели. Труженика они придавливали трудом и превращали в раба посредством труда. Интеллигента они развращали идиотскими книгами, отравой навязанного безделья, ленью и опять-таки превращали в раба.
А дело в том, что каждый человек больше всего, даже не ощущая этого, жаждет дела, деятельности, бурлящего функционирования среди подобных себе.
Копать, драться. писать искренние книги, перебрасывать мосты, бормотать под нос только что ражденные стихи, рыть колодцы и пробивать туннели, дуть стекло, лечить, считать — иначе не стоит жить.
А вместо этого Гедимин бубнит о словах «учись умирать» и «простом солдатском плаще», вместо этого болван Рунин борется за моральную чистоту студенчества (доносами) и вякает о «консервативных славянах», вместо этого чистейший Раубич говорит о «кодексе чести».
«Черта тебе, а не кодекс чести! Я вот сейчас полезу под котел и погляжу, что там с зольником… Ложь! Рабство во лжи!.. Хотите убить меня, а я не дамся! Да я подох бы давно, если б не трудился! Стал бы трупом, амебой, слизняком.
Я ищу живого, а вы тычете мне и всем крест на Софии и всемирное господство. Но вы забыли об одном, господа, — что вы оставили мне труд, и именно поэтому у вас ничего не получится со мной и с тысячами других.
Именно поэтому вы и просчитались. Именно потому, что вы не можете запретить труд, мозг человека никогда не воспримет величия в курении ладана.
Ибо когда вы остановите колесо — вы остановите жизнь. Жизнь вообще. И прежде всего свою.
И после каждого своего падения я, Человек, поднимаюсь, потому что меня поднимает труд. Единый со всеми на земле…»
* * *
Кто-то бежал, грохоча по железным ступенькам.
— Панич! Панич! Княже Алесь!
Кирдун. Растрепанный, бледный, без шапки и чуги.
Вытирая руки промасленной тряпкой, Алесь недовольно оторвался от разобранного гидравлического пресса и от своих мыслей.
— Что случилось?
— Пани Антонида…
— Что?!
— В обмороке!
* * *
В комнате матери тускло мигала единственная свеча. Темные шторы были опущены. Едва вырисовывались серебряные и хрустальные грани флаконов на ночном столике, перламутрово блестела итальянская майолика под стеклом.
Совсем не гармонировал горьковатый запах духов с византийской на кипарисной толстой доске Троеручицей. Третья рука выросла, чтоб удержать сына, который падал в колодец, потому что две другие были заняты. Икона была, по существу, еретическая, но добрая человеческой добротой, не в приер другим византийским иконам.
Такую доброту в глазах Алесь видел еще только на одной, тоже византийской, иконе — на иконе Владимирской матери божьей.
Пани Антонида лежала на кушетке, почему-то переодетая в свой самый любимый праздничныый наряд: белое с золотом, окаймленное валансьенскими кружевами платье и белые с золотом, до смешного маленькие туфельки.
Лицо при свете свечи было слабо-розовым, горестные ресницы опущены.
Алесь наклонился над нею:
— Что с тобой, мама?
— Не знаю. Переоделась… Вдруг закружилась голова.
— Видимо, резко поднялась. Ты звала меня? Так я посижу.
— Да, теперь посиди.
Темно-серые широкие глаза смотрели на Алеся внимательно.
— Какой ты! Труженик. Хозяин.
Алесь увидел себя в туалетном зеркале. Пыльный, с кое-как вытертыми руками, непричесанный.
— Пойду, умоюсь и переоденусь.
— Нет, не надо. Ты хорош вот такой. Тебе никогда не говорили девушки, что ты красивый?
Алесь смутился.
— Красивее, чем прадед Аким. Все лучшее, что было во всех наших, ты взял себе.
— Н и ч е г о не хочу брать с е б е.
— Совсем ничего?
Глаза понимали…
— Ма-ама… — с тихим укором сказал Алесь.
— Не буду, — прошептала она. — Это я единственный раз в жизни.
Улыбка ее была грустная и слабая. И почему-то у Алеся от этого что-то как бы повернулось в сердце.
На миг он закрыл глаза, а когда поднял ресницы, увидел, что мать смотрит на него, словно ищет утешенья.
— Погиб отец, Алесь. Что же делать?
Что он мог ответить на это?…
— Весна? — спросила.
— Весна.
— Лебеди летят?
— Да. Хотя еще кое-где снега.
Опустились веки. Алесь видел. Что щеки у матери немного розовеют, словно она собирается с силами.
Предчувствие какой-то неясной тревоги закралось в сердце Алеся.
А щеки матери все розовели. И все больше напрягались плечи под кружевами.
— Я говорила ему: «Не ходи, не убивай медведя. У него босые ноги». Он был голоден и спасал свою жизнь. Как мы… Все спасает свою жизнь… Все было больно. Жить — больно, есть — больно, дышать — больно.
Голос у нее был жалобный, тонюсенький.
— Ма-ать!
— Слушай. Слушай меня. А рыбы как дышат, беззвучно кричат на дне челна. В отчаянье. Много рыб.
— Они холодные, — бессмысленно сказал Алесь. — Холодные они.
Она протянула к нему руку. Какую-то необычную сегодня, почему-то совсем слабую и маленькую, как и вся ее фигура, руку.
— Мама, мы разумные существа.
— Может, есть и более разумные…
Лицо матери пылало, как в лихорадке; теплые обычно глаза блестели, беспокойный рот кривился. И напряженно, высоко лежали на подушке плечи.
— Считаем всех ниже себя. Гордыня, подлая самоуверенность! Они, мол, немые, эти звери. А мы можем сказать, кто мы и зачем? Так кто мы перед жизнью — не немые?
Словно отгоняя что-то, она повертела головой.
— Они не говорят.
— А может, мы не слышим? Может, когда наливается жито, оно чувствует то, что и мы, любя, и в радости качается из конца в конец, и меняет цвет на лиловатый, потому что принаряжается, и шумит-шумит само себе. Ты знаешь, что ощущают колосья под серпом? Только они не могут ни убежать, ни кричать. Не дано им. Ну и что? Нам летать тоже не дано. А мы, глупцы, говорим: мо-ожно, потому что они немые. И колосья немые, и звери. А отсюда не так уж далеко и до диких людей. Они тоже немые, бормочут неизвестно что. И мы их, сильные, берем, как крольчат.
Жалость разрывала горло Алеся.
— Крепостное право, — сказала мать. — Отмени его, Алесь, отпусти, пожалуйста, людей. Убей его, Алесь, потому что это тоже людоедство…
— Я понял, мать. Я знаю…
Мать, видимо, не хотела, чтоб Алесь заметил ее слабость.
Алесь собрался с мыслями:
— Я знаю главное. То, что человек должен жить только для освобождения людей. Он никого не должен хвалить, никому не должен петь оды. Потому что оды — это только утверждение того, что существует, закрепление его на мертвой точке, измена движению человечества. Никакой похвалы, только вечное раскрепощение людей. И пусть на этом пути даже виселица. Иного выхода нет.
Родинка-мушка над верхней губой матери шевельнулась от слабой улыбки. Снова напряглись плечи.
— Да… Да… А потом война, тюрьма, виселицы, убийства. Слабый младший народ. Немой, более слабый сосед. Виноват потому, что слаб. И потому — убивай! Ничего, бог простит.
Молчание.
— А не простит бог! Ох, как он не простит когда-то! Убивать себя будете, лишь бы не смотреть в глаза Последнему.
Снова пауза.
— Мир, в котором никому не было б страшно жить…
Она сказала эти слова, как бы взвешивая. И вдруг снова начала отгонять что-то:
— Ох, какой жестокий, жестокий человек… Кровью, плотью, дыханием других… Убивать, чтоб жить, — какой вздор! Какой безвыходный круг! Призываем к доброте. Как можем стремиться к солнцу, когда прикованы убийством к земле?
Широкие глаза лихорадочно горели.
— Даже не ради тех, кого убиваем. Ради себя. Потому что не может быть человеком тот, кто убил… Тому, кого убили, легко. А вот кто убил… У-у…
Закрыла глаза.
— А потом приходит расплата и для нас. Приходит и связывает по рукам, бросает на спину. — Голос стал вдруг твердым. — Нет, я уйду отсюда не так… Победить…
Что-то такое мятежное было в голосе матери, что он вдруг бросился к шторам и со звоном раздвинул их.
Лицо ее было живым только при розовом свете свечи. Кроме глаз да двух лихорадочных пятен на щеках, живого в нем не было ничего.
— Что?! — почти крикнул он.
— Ничего. Просто я пятнадцать дней ничего не ела.
Холодея, он вдруг понял, почему шторы, почему свеча… почему она тогда повеселела и стала ровной ко всем и ко всему.
— М-ма-а! — бросился он к двери.
— Стой, — тихо сказала она. — Ради меня, подожди! — Глаза были такими угрожающими, что он остановился. — Я должна сказать… Через пять минут пойдешь… Ну… Иди сюда…
Он присел возле нее. Мать взяла его за руку.
— Слушай, пусть даже поздно… Знаешь, когда я перестала есть, мне стало легко… Впервые в жизни… Я никому не должна.
— Но это смерть! Мама!
— Да. Это заколдованный круг. Дороги, чтоб вырваться, человеку не дано. Или исчезай, или убивай. Безумная выдумка. И потому мы осуждены. Нет выхода.
— Мама…
Она держала его руку, но ногой он незаметно нажимал на пластинку ночной сонетки у ее кровати. Нажимал… Нажимал… Нажимал…
— Сердце почти не билось. Я лежала без движения, чтоб дольше думать. Долго думала. И вот…
Он нажимал пластинку сонетки. Нажимал… Нажимал… Никто не шел. И в отчаянье от этого он спросил:
— Зачем, зачем ты это сделала?
— Ты простишь меня. Ты останешься сильным, потому что у тебя великая, благородная цель. А я всегда была непригодна. Тень — и все.
Алесь физически ощущал, как должен греметь звонок в комнате Анежки… Боже, только б скорее пришли!
— Зачем? Зачем?
— Я была способна только на это. Взбунтоваться. Покарать себя за всех. — Глаза ее ловили его глаза. — Может, хоть по капле моей крови бог положит на остальных и простит их, ибо не ведают, что творят.
Голос вдруг стал почти угрожающим:
— И он… тоже. Приковать такой дух к оболочке быдла! Как он мог! Жрать, подобно животным, рожать детей, как животные… И любить их за то, что убивают… У, дрянь!.. Разве виноваты люди? Им бы жизни радоваться!.. И все же я вымолила прощение.
Он нажимал и нажимал пластинку… Да что они, оглохли там все, что ли!
— Зачем ты так? За-чем!
— Не имеем права… И мне страшно жаль вас — отца, Вацака и особенно тебя. Ты впечатлительный, тонкий. Знаю, мы не имеем права — и жаль. Может, этими днями я выкуплю право на вас, и вы получите возможность как-то жить на земле. Не нести ответственность за общую вину.
Шевельнулась.
— Надо было доказать. И за то, что я родственница Кроера. И за всех без исключения людей. И за него, беднягу, и за себя. Надо было доказать, что мы не убийцы, что мы от отчаянья живем жизнью других… Хоть кому-то взбунтоваться… Чтоб знали, что это нам крайнее страдание, что люди думают… думают… думают над этим…
Кажется, она начинала бредить. Глаза смотрели выше него.
— Я его очень любила. Дай бог, чтоб тебя… так…
Дрожа, он склонился к ней. Она прикоснулась устами к его глазам.
— Ты понесешь мои глаза дальше.
С большим, последним усилием дотронулась до его руки.
— Обещай мне… Обещай, что никогда без крайней, без смертельной необходимости не отнимешь жизни у живого.
Он кивнул головой.
И тогда она, словно исчерпав все силы, опустила плечи. Опустились и ресницы, теперь спокойные. На веках лежала голубая тень.
…Не помня себя, он бросился вниз:
— Люди! Лекаря! Люди! Люди!
Но еще раньше, чем прибежали люди и лекарь, у пани Антониды началась агония. Странная агония, похожая на угасание лампады, в которой выгорело все дотла…
* * *
Они сидели вдвоем в комнате деда. Он всегда останавливался в ней, когда приезжал в Загорщину. Алесь немного отошел, так и не выплакавшись; во всяком случае, дед больше не боялся за него.
Так они и сидели, предавленные общим горем, очень старый и молодой. А между ними стояла бутылка тминной да запыленная, словно в фуфайке, бутылка вина.
— Знаю, и для тебя слишком много. Так вот, за несколько недель. Но ты — человек. Стой. Зацепись и стой… Да и меня, старого Эготиста, пожалей… Я, Алесь, действительно стар. Перед тобой будущее, свои дети. А передо мной — могила. И детей моих нет…
Одни, одинокие во всем доме.
— Ты еще пустишь корни. А я как старый тополь, что выпустил ростки, а их срезали. А на новые сил нет. Один остался, да и тот… Один ты у меня… Сохну я, как дерево, обрубленное да обгоревшее… Ты меня пожалей.
— Я не буду, дед… Но не прощу я себе… Как мог не заметить!.. Каждую весну и осень, всегда так было, что она закрывалась, никто не мог видеть… Но все равно — как я мог допустить?
— Не помогло б, — наливал дед ему вина, а себе тминной. — Она все равно сделала б это… Раненая совесть, сыне…
Дед замолчал. Что он мог сказать? Он тасовал мысли.
Какое-то совсем темное, словно осеннее, было небо над парком. За окном месяц бешено мчался над неподвижными громадами облаков.
— Легче всего окончить так. Но людям надо идти. Чтоб жить. Жизнь — благодать. Наивысшая благодать, которая дана каждому, несмотря на всю боль.
Дед не заметил, что противоречит сам себе. Он просто высказывал вслух мысли, как все люди. Может, которая и утешит.
— Чтоб жить… Особенно тем, что сами и бросают зерно, что дают ему расти, что борются за колосья — иначе нивы заглушили б сорняки… Что поделаешь, трава лучше отрастает, когда ее косят…
Дед снова налил и задумался.
— Выпей, сыне. Я долго жил. Меня сочли б сумасшедшим, если б я сказал, ну хотя б про котлы на сахарном заводе… Пресс крутили руками… А, ерунда!..
Мысль деда металась в сумерках:
— Вот росток картофеля в подвале. Желтый, бледный… Или лука, тоже желтый, без вкуса. А положи луковицу без земли, без воды на окно, ростки станут зелеными, появится откуда-то горечь… Значит, есть же что-то в свете? Так неужели же мы глупее луковицы? И в самом деле научимся со временем делать хлеб из солнца. И люди станут питаться светом.
— Со временем, — горько сказал Алесь.
— Зато навсегда. И станет хорошо. Вначале людям… Затем животным… Затем растениям… Ходите себе, смейтесь… Бегайте себе, прыгайте, летайте, славьте жизнь… Колоситесь себе, зеленейте…
Глаза Вежи мягко светились из-под тяжелых век.
— А ты, человек, стой. Стой, не падай. За всё стой. Вначале за людей, потом за все, что дышит и шумит. Долго еще стоять. Кроваво. А ты стой. Даже при своей унизительной животности стой. Животное, а стоишь. За это с тебя — все грехи да на святость великую.
Луна мчалась среди неподвижных туч.
— Сосны на Длинной Круче видел? — спросил дед.
Алесь вспомнил.
…Стремительный, трепетный, как стрела в полете, Днепр… Длинный, с версту, и высокий, саженей в пятьдесят, обрыв… Кроваво-красная глина… И на круче корнями вверх и зелеными ветвями вниз — сосны… Висят… Битые, страшно скрюченные… Перевитые, неприступные, одинокие… Непокоренные в своем желании жить там, где не смог и не захотел жить никто.
— Да.
— Так это мы. Слабая оборвется. Всякая другая оборвалась бы… Кроме нас… И все. До последнего камня запомни…
* * *
Спустя несколько дней рядом с могилой пана Юрия появился второй холмик, который месяцем позже порос зеленой травой.
* * *
Басак-Яроцкий сразу с похорон забрал Алеся к себе, не позволив даже вернуться в опустевший дом:
— Нечего тебе там делать.
— Я, может, к деду, дядька Петро?
Пострижной еще больше покраснел:
— Вы там мудрить начнете. А тебе сейчас та мудрость… Кгм… — И дядька выразительно кашлянул, одним видом лучше всяких слов показав, насколько именно сейчас нужна Алесю та мудрость.
Ехали верхом по раскисшей земле. Весна запаздывала, и лишь изредка среди туч проглядывал горячий молодой синий лоскуток неба.
— Срам. — Короткие усы дядьки шевелились. — С самого пострижения приглашал к себе… Пускай себе этих, разных там… «поутру проснувшись» нет. Я тебе не императрица Анна. Я солдат.
«Поутру проснувшись» было любимое кушанье императрицы Анны. Приготавливалось оно из бычьих глаз, и дядька всегда употреблял это название, когда говорил о разносолах и лакомствах, порожденных извращенным вкусом.
Дядькина бурка, на которую пялили глаза окрестные мальчишки, пахла табаком, как и парадный мундир. Это была одежда лишь на самые важные случаи жизни.
Ладный и седой, он ехал на своем конике прямо, как ездил, наверно, и под пулями. Алесь был благодарен пострижному, который не позволил ему зайти в опустевший дворец. Все понимал старик. Сказать иногда не мог, но понимал все.
— Видишь, жаворонок… Словно на нитке. Ты не знаешь, Алесь, где они ночами прячутся? Морозит же ночами. Я лежанку каждый вечер топлю, как на старые кости. Люблю огонь… Кажется, чем утопиться, так лучше бы в огне… Так не знаешь, где?
Достал короткую трубочку, кисет и задымил.
Тромб отворачивал храп от табачного дыма и косился на Басак-Яроцкого умным оком: хозяин не курил.
— Что за табак такой приятный, дядька?
— Ты что, считаешь, только богачу приятный табак курить? — улыбнулся дядька. — Выкручиваемся и мы, да еще как! Дорогая жизнь, она у дураков бывает.
— Нет, в самом деле?
— Кгм… Табак хороший, это правда, турецкий… Но даже самый дешевый табак, который мы, бывало, курили там, когда армянин не приедет, можно сделать — ого! — На лице у Петра было удовольствие. — Ко мне, бывало, все бегут: «У Яроцкого запасы старого. Яроцкий сбережет, хотя и не скряга». И не знают, что я даже из корешков могу тебе такую «Кабу-Гаванну» завернуть, что тамошние индусы семь верст будут за конем бежать да нюхать.
— Индейцы, дядька.
— Ну, индейцы… А уж с настоящим табачком, так, я тебе скажу, и Вежа такого не нюхал, что я могу сделать.
— Как?
— А обыкновенно. Домашний табак, известное дело, досмотри как следует. Это… кгм… основа! А потом готовься «Кабу-Гаванну» делать.
Яроцкий дымил, словно ладан и смирну курил неведомому богу.
— Жди, когда зацветет белый донник. Не та желтая падла, что в засуху поля истязает, а его белый брат. Следи, чтоб пчелы полетали самое большее день. Чтоб лишне не выпили меда… Собери цветки осторожненько, очисти и суши не на солнце — под ветерком. А высушенные мешай с табаком… Вначале не много, потому что привыкнуть надо, потому что это курить — все одно что в цветах уснуть: и сон, и легкость, и мысли приходят отчаянные, словно бы каждый миг ты с персидской царевной можешь пожениться да плевать на весь мир.
— Дурмит?
— Нет. Просто безвредный мед.
— Так просто?
— Хе-хе, — сказал Яроцкий. — Видишь, что в кисете на дне?
— Ну, комок какой-то.
— Это сентябрьский желтый антон, покрошенный да в жидкую ткань завернутый. Понюхай.
Из кисета повеяло хорошим табаком, медовым летним полем, осенними садами и еще чем-то.
— А это? — спросил Алесь. — Какое приятное! Как запущенный сад в июне!
— А это другое, о чем хотел сказать. Розы не у каждого есть, так шиповника в разгар цветения набери, подсуши да в мешочек в коробочку с табачком и положи.
— Вы маг, дядька…
— Я много такого знаю… Напрасно ты не приезжал. Простота тебе нужна человеческая, хлопец… Обычное, серое, свое… Пусть неразумное, потрескавшееся, но свое… Как предки жили. Были богатые, а на твердом спали… Да и не чужой ты мне. Детей у меня нет… Все войнища эта. А ножницы твои пострижные, серебряные, до сих пор на стене висят. Рядом с листом, с личной мне благодарностью Ермолова Алексея Петровича. Мы тогда, каптенармус случайный, четыре солдата да я, пять дней перевал против лезгинцев держали. И название уже того перевала забыл, а до сих пор, как вспомню, как они визжат да улюлюкают, — ну, сердце падает.
— Вам сколько же лет, дядька?
— Не так уж и много. Родился я спустя три года после смерти императора Павла… Значит… Вот, пятьдесят пять мне… А туда я попал молодым, шестнадцати лет. Офицеры, бывало, пить да в карты. А мне мать много прислать не могла, да и проигрался б, а в солдатской казне одалживаться — бога забыть надо. Да и неинтересно мне это. Так я у перса куплю… по-нашему не знаю, как тебе и объяснить, но вязкое такое, дрожит, как наш студень, но не из мяса, а из дынного, кажется, сока да сахаром обсыпано… словом, рахат-лукум… и сижу, а зубы у меня, как в смоле, вязнут, а сам гляжу на горы… И кажется мне, будто совсем они не из камня, а из голубой вуали и легкие, аж пустые изнутри, как шатры… вот-вот полетят.
Посуровел слегка.
— Только вначале они такими и были.
— Ну и как вы там?
— Семь лет был в Особом кавказском корпусе, при Алексее Петровиче, долгих лет ему. Жив еще. Обидели его, а мужик какой был! Лев! Боялись его верхи. Слухи среди солдат ходили: «Лишь бы заколот,[150] а мы уж его на штыках донесем до трона».
— Как на штыках?
— А так. Штыки в парусину да на плечи. А на парусине генерал, чтоб выше. А вокруг солдаты да знаменосец… Меня он помнил, хотя и не очень чтоб отмечал. Не терпел он этих игрушек ни на себе, ни на других. И правильно. Гордиться тут нечем. Присяга, конечно, иначе каждому солдату через двадцать пять лет не чистую, а голову сечь надо б… Так Алексей Петрович это понимал. Не то что Паскевич. Тот за Эривань да Арзрум мне тоже лист да оружие, кинжал да личную саблю. Да крест. А я это все в сундуке держу.
Выбил трубку, крякнул, словно глотнув чарку.
— Потом провоевал я год с лишним с Паскевичем Иваном Федоровичем. Восемь лет было уже моей службы. Отметил он меня после того, как мы крепость брали… Как-то бишь она… И это забыл! Но обидел он меня там сильно. «Шпуры, говорит, надо вести да взрывать». А я ему: «Позвольте сказать, не надо этого. Нужная крепость. Нам понадобится. Войска много, оставьте ее в тисках — да измором ее. Жаль крови». А он: «Вы боитесь, кажется?» Панство дурное! За такие слова глупый солдат, где и не надо, на смерть идет.
Яроцкий говорил глухо и спокойно, словно о том, как они вчера пообедали.
— Я пошел да, пока они там возились с подкопом, самовольно ту крепость взял. Пришлось ему на свечку поплевать, а порох сдать в цейхгауз. На грабеж. Понял, что обидел меня. Когда б ни навещал наш полк, не минет спросить: «Как живешь, земляк?» Да и по имени, по отчеству.
Улыбнулся.
— И вот хоть что говори, хоть и наш, белорус, а не любил я его, покойника. И тогда, и теперь. И не из-за поляков, что он с ними учинил. Это — присяга, и кто перед богом невинен? А так просто. Скользкий был человек. Царедворец. Душа, кажется, нараспашку, а сам хитрый, как линь.
Кони ступали по подсыхающей земле. Жаворонок, как подвешенный на резинке, дрожал между небом и землей.
— А тут мать умерла. Съездил сюда, посадил на могилке деревья. Пусто, тоскливо. И половины отпуска не отбыл — назад… Попал я на линию, по крепостям. Чечня. Девять лет на линии. Был я уже капитаном… Тридцать лет мне было и четырнадцать лет я служил, когда стал над Дагестаном и Чечнею Шамиль. По-нашему — то ли царь, то ли митрополит, по-ихнему — имам. «Имать» наших, значить, поставлен… Ну, тут и началось… Боже мой! Дерутся люди, жгут, режут.
Синие глаза Яроцкого потемнели, хрипловатый бас приглох.
— С генералом Голофеевым в Чечню ходил. Счет стычкам потерял. Кровища лилась… В сорок девятом году было мне сорок пять, а прослужил я двадцать девять лет; израненный весь, как старый волк, ушел я в чистую, с пенсией да с чином майора. Быстро жили люди, быстро изнашивались. Да и решил: хватит, надо пожить… Выслужить больше я не мог. Служили из наших немногие. Связей нет. Знаний особенных тоже нет. Дальше служить не было смысла. А таких армейцев было там триста берковцев да еще наперсток.
— А смелость?
— Не был я смелым. Никогда не был. А даже если б и был, то среди нас, кислой шерсти, смелее меня было — как до Тифлиса на Эривани раком поставить… Да я и обрадовался чистой. Откровенно говоря, не по себе стало.
Дядька опять закурил.
— Залили мы те синие горы человеческой кровью… Хуже их дикари, да еще и сволота беспардонная. Воинов сколько, джигитов положили за эти двадцать девять лет! После моего ухода десять лет минуло, а все воюем, маленьких не можем одолеть. А жаль людей. Дикие они и головорезы, но справедливые. И друзья верные. Гляжу, лучше мне с ними лепешки есть, чем… А, да что там!
Курил.
— Стыдно-с. «Озорство одно», как мой денщик говорил. Мало того, что сожгут эти их сакли, так еще обязательно найдется сволочь да в водоем ихний… А они люди брезгливые, чистые люди. Руки и лицо моют пять раз на день, все одно как мы. А я тебе скажу, таких чистоплотных, как ты, — это еще поискать. Я с ними ладил, они меня даже уважали, мирные. Говорю им: «Баранов отгоните, войско пройдет». Знаю, с ними по-хорошему, чтоб не нищали, так и они немирным не скажут. А у меня и среди них были друзья. Да какие! Сам гроза Мехмет-ходжа. Чеченец был. Мамакай-абрек… Муса-ингуш. Ахмед-бек.
Дядька тихонечко затянул гортанную песню.
— Это по-ихнему… Означает: «Мы родились в ночь, когда волчица родила своих щенят. Мы получили имя, когда рыкает на восходе солнца барс. А смелыми мы стали в горах, где лавины висят над головой, как смерть… Проклятие этим князьям, они лохматые и бурые собаки… Когда доживем до весны, кровью их заставим…»
Развел руками:
— Ну вот… И скажи ты: зачем?! Скалы эти бедные понадобились? Своей земли мало?
* * *
В этих чистеньких, белых комнатах вместе с Алесем жили покой и мир. Жили уже восьмой день.
Окруженные садом, десять комнат под зеленой от мха гонтовой крышей. Низенькие окна, окаймленные синим, радужный от старости кафель натопленных голландок, печка на кухне, разрисованная пояском — девчата с коромыслами и всадники. Двери не только прямоугольные, но кое-где, для красоты и разнообразия, с полукруглой верхней притолокой: не поленились парить и гнуть толстую дубовую плаху.
Дворовые строения немного поодаль. Сад шумит ночью. Книг почти нет, кроме вездесущего «Завальни», пары охотничьих книг, «Дударя белорусского» да еще календарей с восемьсот сорок девятого года.
На полу, вылизанном до желтизны, где постелены густо волчьи шкуры, а где и домотканые половики. На стенах — привезенные ковры. Единственное богатство висело на них — оружие. Удивительной красоты кавказские шашки, пистолеты, фитильные и кремневые, украшенные серебром, ружья.
Дядька поселил его в своей большой «холостяцкой».
Те же ковры, то же оружие. Никаких кроватей, только две лежанки у стен, а на них ковры. Укрываться мехом, чтоб было теплее.
Огромный медный рукомойник, арап на часах вращает перламутровыми глазами. Да еще столик, а на нем вино и закуска, если ночью притянет живот к спине.
И удивительно — несмотря на то, что в Загорщине и Веже такого не было, что ели у дядьки по завязку, он и в самом деле теперь ощущал каждую ночь голод.
— Каждый вечер баня, а баня у меня особенная.
Баня действительно была особенная. Единственное новое здание фольварка поодаль, за оградой. Старая сгорела три года назад. Не то чтоб огнем, а просто так уж натопили, такой был в ней мятный да густой дух с паром, что она тихо себе истлела за ночь, не выдержала. Пришли утром, а бани нет.
— И я по соседству с тобой. Ты, если хочешь, дверь на ночь не закрывай. Вон тебе с лежанки печка в коридоре видна. На рассвете ее затопят. Не знаю, как ты, а я люблю утром, еще в темноте, проснуться и поваляться под меховым пологом. Глядя на огонь, да слушая, как гудит.
Алесь просыпался в темноте под гудение и поблескивание пламени. Лежал. Думал.
Завтракали. Дядька шел по делам, Алесь — в пущу, где уже синели подснежники, или к Днепру, который вначале с орудийным гулом крошил лед, потом мчал его, нагромождая и снова разрушая замки из льдин, а затем широко разливался, словно хотел захватить в свое лоно как можно больше неба.
В пуще, на котлищах, осторожно, чтоб, не дай бог, не набрать песка, срезал в лукошко сморчки. Это была спокойная, добрая охота.
Возвращался поздно, когда смеркалось. Уставший пес бежал впереди, и, когда оглядывался, глаза его саженей за пятнадцать светились красноватым светом.
Дядька уже ожидал. Доставал из кувшинов яблоки, не соленые и не моченые, а — секрет кухарки — как будто свежие и только залитые одной холодной водой и потому особенно сочные. Однако это была не просто вода и не рассол, а что-то совсем иное. Словно в воду налили свежего яблочного сока: кисловато-сладковатая, с запахом свежего яблока. На похмелье — за уши не оттащишь.
Перед сном, когда Алесь уже лежал, люди приносили три-четыре огромные охапки соломы и клали на пол у лежанки. Приходил дядька поговорить с часок перед сном. Набивал лежанку соломой, оставляяя длинную прядь, что соединяла солому в печке с соломой на полу.
Закуривал куцую трубочку, поджигал солому в лежанке и, сидя на скамеечке перед огнем, казалось, медленно, но ловко, нигде не обрывая, тянул и тянул солому в огонь. Словно нитку из кужеля[151] на ручной прялке. Только вместо веретена крутился у его правой руки беспокойный желтый огонь.
— Не по-нашему, конечно, — говорил дядька. — Люди удивляются. Но привык на юге. Да и дело рукам.
Отсветы делали его лицо медным, а усы рыжеватыми. Тянулась и тянулась в огонь, дремотно шелестела не обрываясь золотистая соломенная прядь.
— Воевали, — говорил дядька. — И война же тогда подлючая была. Выходим полком, отрежем участок леса, расставим посты, чтоб не стреляли по воинам, да и вырубим весь лес. Все уничтожим, кроме ежевики. А потом, в сушь, придем да сожжем. Кабаны дикие убегают. Фазаны, бедные, летят, да, глядишь, какой-нибудь горит на лету… Так сожжем на сей раз и с ежевикой. Просеки ведем, заложников берем.
Тянулась солома в огонь. Сухое тело бывших колосьев.
— Агульго еще раньше взяли, — в который раз вспоминал дядька кавказские приключения. — Шамиль тогда в Даргу убежал. И началась вот такая война. Только теперь ей конец приближается. Говорят, будто окружили имама в Гунибе… А тогда этому конца не предвиделось. Пошли мы с голофеевской экспдицией на Чечню… Жители убегают, скот ревет. Словом, когда ворвется отряд в аул, пусто там. Одни старики да куры. А то и стариков нет, одни куры. Тут уж казаков за руки держи. А когда аул близко и там у кого-то из казаков кунак есть, казаки солдат удерживают. Война, известное дело! Назовем для примера три аула: Большой, Малый, Средний Хунзах. Это я сейчас названия придумал, для примера. Война, по донесениям, приблизительно так будет выглядеть: «Взяли аул Малый Хунзах. Жителей перебили, кур переловили и съели, сакли сожгли, мечеть загадили»; «Взяли аул Средний Хунзах. Мечеть запаскудили, сакли сожгли, переловили и съели кур»; «Взяли аул Большой Хунзах. Кур переловили и съели, мечеть загадили, сакли сожгли». Повсюду, как видишь, одинаково. Всей разницы, что поначалу, а что потом. Да еще Малому Хунзаху вместе с жителями досталось, потому что ниже по горе лежал… Старые солдаты и офицеры этим брезговали. Ну, а щенкам, конечно, лестно. «Начальство приказывает — его ответ. Круш-ши, хлопцы!» Да и гонор. То его на конюшне драли или, скажем, к казначею на обед не приглашали, а тут перед ним земля горит… Из-за того, что война не война была, зверели люди, а уж как дойдет до кинжалов и пуль, так только держи их. Но настоящее дело бывало редко. Однажды пошли лес рубить — и вдруг нападение. День дрались. Речка там такая есть… названия не наши, забыл… Ва… Валерка?… Валетка?
— Валерuк.
— Гляди, правильно. Откуда знаешь?
— Стихи такие есть, Лермонтов написал.
Дядька на миг оторвался от своей «пряжи», чтоб почесать подбородок. Огонек, словно только этого и ожидал, пополз из печи к соломе на полу.
— Куд-да? — Дядька, поймав его, запихнул обратно. — А ну, иди к своим!.. Знал одного. И как раз в это время. На Валерке и при экспедиции.
— Так это же большой человек, дядька… Поэт?
— Поэтов этих много. Хоть носом ешь… На Валерке… При экспедиции… Черт его знает еще где.
— Поэт!!!
— Поэт ли — не знаю. А что поручик, хорошо помню. Офицер был неплохой. Только строптивый и непослушный. Не хотел в экспедиции воевать. Сердце, значит, ему не позволяло, чтоб приказывали.
— Может, этот не тот… Михаил?
— Михаил Юрьевич, правильно.
— Ах, черт! — Дядька как бы сразу вырос в глазах Загорского: это же подумать, кого видел! — И разговаривали вы с ним?
— Почему же не разговаривать, если придется? Что он, турок? Мы с ним и на охоту ходили. И чаёк с ним гоняли. Я там от кофе нашего отвык, все чаёк да чаёк. Исключительный мы сним чай умели делать… Секреты разные были… Он свой у одного друга выпытал — убили его потом под грозной крепостью. По-глупому совсем. А мне мой секрет даром достался: хочешь, чтоб кофе или чай хороши были, — клади как можно больше и того и другого.
— Расскажите, дядька: какой он был?
— Какой… Обыкновенный… Глаза, да нос, да две руки. Невидный такой. Ноги кривоватые, как будто в детстве рахитом болел. Обыкновенный армейский офицер… Только что богатый.
— О чем хоть беседовали?
— Помню я, думаешь, о чем с каждым офицером разговаривал?
«Эх, дядька, дядька, — подумал про себя Алесь, — повезло тебе, а ты…»
Чуть не плюнул с досады, но потом подумал, что вины Басак-Яроцкого здесь нет. Свела судьба с обыкновенным армейским офицером, каких Петро в самом деле видел сотни. Кто отличит под серым сукном одно сердце от другого? Эх, люди! И в самом деле «стыдно-с».
— Помню лишь, что необычайной храбрости был человек. На что уж те басурманы, а он и их перебасурманил. Набрал себе добровольцев — такие же сорвиголовы, как он, — да и пошел гулять… Сам в красной сорочке, в бешмете, конь под ним белый… Что ты думаешь, на такое поглядев, да жизнью не рисковать — это нельзя. Очень даже просто и свихнуться или запить до последнего солдатского креста и забыться, кто ты есть, человек.
Рассмеялся.
— Мы с ним и в крепостях на линии стояли. Это только говорят, что «война, у, война!», а на самом деле война — это тоска. Особенно в крепости. Редко когда что-нибудь веселое произойдет. Был я одно время комендантом крепости Шатой. Одно название, что крепость. Вал, да забор, да кое-где глинобитная стена. Ну, однако, у меня солдаты и несколько пушек. Вот однажды стою на стене и вижу — пыль на дороге. Летит всадник. Ободранный такой джигит. Буркой что-то прикрыл. Подлетает под ворота: «Иван! Открывай!» — «Чего тебе надо?» — «Открывай! Пропал совсем, если не откроешь!»
Снова рассмеялся.
— «Да что тебе здесь надо?» — спрашиваю. Тот как взовьется. Глаза бандитские, жалостные, в горле аж клокочет. «Открой, шайтан. Марушка карапчил». А это у него, значит, денег не было, так он себе девку, жинку, взял да и украл. Хорошо. Впустил я его. Он благодарит. И девка кланяется. А оружие я у него все же отнял. Знаю, чем это кончится. Дал ему с девкой пустую халупу. Думаю: «Попробуйте найти. А если и найдете, поздно будет». Сам ушел чай пить. И двух чашек не выпил, зовет солдат: «Идите на стену, ваше благородие». Иду. Вижу, перед воротами человек пятьдесят конных. Все с ружьями. Ну, думаю, купил себе хлопот из-за чужой свадьбы… Впереди всадников чеченец. Нос словно у ястреба, борода рыжая, как будто, ты скажи, он ее нарочно выкрасил. Глаза бандитские. И папаха белым обкручена… Ходжа! «Иван, открываай, вор у тебя. Карапчил мою дочку. Мы его сейчас резать будем». А я ему: «Ты в своем доме дашь кого-нибудь резать? Вот. А тут мой дом». — «Я в своем доме воров не принимаю». — «Так что, говорю, ни один из твоих гостей за барантой за Терек не ходил»?» Несколько человек рассмеялись. Затем рыжий говорит: «Впусти меня одного». «Ну, один, — подумал я, — ничего не сделает. Да и поздно». «Иди, говорю. Только остальные пусть отъедут, а ты оружие положи». Рыжий говорит: «Кинжал один оставь, Иван».
Ну вот, не стал я рыжего оскорблять. Впустил. Идет он, только глазами по сторонам зыркает. И, как кто его ведет, прямо к той мазанке. Ну, думаю, сейчас начнется. Взял кинжал да как метнул в дверь, зубы оскалив, — тот аж дюйма на четыре впился. Только и сказал: «Гых-х…» Понял, что поздно, но злость сорвал. Да еще как бы сказал этим ударом: «Взял ты мою дочь, так возьми и кинжал, подавись…» А спустя несколько дней помирились. Такая гулянка перед крепостью была — любота! И меня угощали, как посаженного отца.
Помолчал.
— Это приятно вспомнить. А остальное — враки. Народ, главное, хороший. Нельзя мне было того джигита не впустить. Ну что, ну, зарезали б. Мало зарезали людей? Мало их и так резали, чтоб еще за любовь… Знаешь. Как по-ихнему «любимая» будет? Хъеме… Слышишь? Словно подышал… О!..
Дядька шел спать. А Алесь лежал без света и смотрел, как в коридоре бьется в печке огонь.
Домик в саду. Простые люди. Простые слова и воспоминания. Простые напевы женщин в людской.
Чесал он сошки
С моих белых плеч,
Вил он веревки
С моих русых кос,
Пускал ручеечки
Из моих горьких слез.
И он еще больше понял после этих дней: все в простоте, все в близости к этим. Им тяжело, надо быть с ними.
Печка. Отсветы огня.
И вообще — кому было хорошо жить на этой земле? Все, казалось, есть, а болит душа.
Лица плыли перед ним… Пан Юрий… Мать… Раубич…
Почему так несчастны люди?!
…Дядька… Лермонтов… Черкесы… Шевченко… Кастусь… Малаховский… Виктор… Черный Война…
Почему так несчастна земля?! И вокруг несчастна, и особенно здесь несчастна.
Плясал в темноте огонь. И, глядя на него, Алесь думал:
«Бунт идет… Идет восстание… Идет революция, взрыв бешеного гнева и ярости. Неумолимый пожар от Гродни до Днепра. Его не может не быть, такое сделали с людьми… Идет свобода к моему народу и всем народам…»
Огонь пылал во тьме.
«Она идет. Только слепые не видят, только глухие не слышат. «Лицемерные! Облик неба распознать умеете, а знамений времени не можете?» Она неминуемо будет в том поганом, паскудном мире, который вы построили. Мир наиподлейшей лжи, нагайки, тюрем, угнетения малых народов, запрета языка, зажимания рта… Но главное — в мире лжи.
Потому что вы не просто убиваете людей и народы — вы лжете, что вы их благодетели, и принуждаете того, кого убиваете, чтоб он кричал: «Благодарю!»
Близится час. Канет вода из рукомойника. Каждая капля — это на каплю ближе к вашей гибели, как бы вы ни цеплялись за жизнь.
Как бы ни лгали, каких бы палачей и лгунов ни покупали и ни ставили себе на защиту.
Капли падают во тьме, и точат, и приближают…
Кап…
Кап…
Кап-п…»
X
Тайна Павлюка Когута все же выплыла наверх. Да еще и совсем по-глупому. Доверилась Галинка Кахнова младшему брату Илларию, послала к Павлюку, чтоб позвал. Малыш прибежал в хату к Когутам, узнал, что Павлюк в гумне меняет с братьями нижний венок бревен, вскочил туда и ляпнул:
— Павлюцо-ок… Сястла пласила, цтоб не задерзался, как вчела.
Кондрат с Андреем так и сели на бревно.
В следующее мгновение Илларий уже улепетывал, поняв, что сделал что-то не так, а Кондрат гнался за ним, чтоб расспросить подробно. Мальчик был, однако, умнее, чем можно было предположить, шмыгнул от взрослого оболтуса в лаз под амбаром, да там и затаился.
Кондрат предлагал ему сдаться. Обещал разные блага сладким, аж самому гадко было — такой уж сахар медович! — голосом. Малый только сопел.
Когут со злости нарвал крапивы и туго заткнул лаз, а сам, потирая ладони, пошел в гумно, думая, что б все это значило.
А когда пришел, братья дрались.
— Братьям… на дороге… встал? — выдыхал Андрей.
— Не ожидать же… пока вы ее… вдвоем… седую… в монастырь поведете, — сопел Павлюк.
Кондрат кинулся разнимать и получил от Павлюка в ухо, а от Андрея в челюсть. Рассердился, двинул Андрею, потому что тот дал первый. И еще от него получил. Вдохновленный этим, Павлюк наподдал и начал нажимать на Андрея, пока тот, отступая, не упал за бревно и не накрылся ногами.
И лишь тогда Кондрат понял, что обидели и его. И вовсе не Андрей. Схватил брата за грудь, бросил через ногу на солому.
— Ты? С нею?
Прижал в угол.
— С нею, — мужественно ответил Павлюк.
— Будешь?
— Буду.
— Глаза твои где были? Два года она нам дорога.
— Я поначалу и ждал. Да не ждала она. Неохота ей двадцать лет ожидать.
— Отступись.
— Нет. — Павлюк навесил Кондрату.
И в этот миг на младшего навалился Андрей. Дрались молча, сжав зубы. Павлюк был в ярости. Двое на одного. Так черта лысого им девка. Спросили б, дьяволы, у нее.
Павлюка прижали к стене. Рассудительный и спокойный, он мог иногда взрываться лютой яростью. И теперь, увидев, что его побеждают и могут так надавать, что за неделю под забор не пойдешь, он ощутил, как глаза застлал красный туман.
Рванулся меж братьев и снял со стены цеп — дубовый бич на отполированном руками ореховом цепильно.
— Прочь! — рыкнул так, что братья отлетели. — Сунетесь к ней — убью… Стеснялся вас, а вы с кулаками… Убью!
И ринулся на них. Кондрат было захохотал, но сразу отскочил. Цеп врезался в ток у самых его ног.
— Дур-ило! Ты что?!
Но Андрей с побелевшими глазами схватил уже второй цеп и бежал к Павлюку.
Гэх-х! Цепы встретились в воздухе, перекрутились.
Павлюк вырвал свой. Кондрат недоумевающе смотрел, как братья лезли друг на друга. Это была уже не шутка. И тогда он тоже схватил цеп.
Павлюк летел на Андрея, и Кондрат подставил цепильно, рванул цеп из рук брата и отбросил в угол… Андрей, словно не понимая, налетел на них, поднял цепильно — бич привычно вертелся в воздухе.
Кондрат знал: один удар — и смерть. Прыгнул, схватил Андрея за руки. Тем временем Павлюк снова ухватил свой, а заодно и Кондратов цеп. Кондрат потянул Андрея за собой вместе с цепом и спиной прижал Павлюка в угол. Не имея возможности размахнуться, они лупили одними бичами, то по своим рукам, то по Кондратовой спине. Бичи болтались, как язык в колоколе, и хлопали мягко, но чувствительно.
Кондрат получил от кого-то по голове. Зашатался. И в этот момент в гумно влетел озерищенский пастух Данька. Гнал коров, хотел попросить огнива и увидел.
— Пляшете? — с лютым юморком спросил Данька. — Танцы?
— Аг-га, — ничего не понимая, сказал Кондрат.
— Ну, так я вам последний сейчас сыграю, — улыбнулся Данька.
И хлестнул с выстрелом цыганским кнутом. Да по всем троим. Да еще. Еще.
— Аюц, хряки! Ашкир вам, бараны!
Наконец до всех троих дошло, да и жалил кнут, будто горячим железом.
Братья отпустили друг друга. Бросили цепы.
Неладно было в гумне. Не смотрели друг другу в глаза.
— Вы что же это? — спросил побледневший Данька. — Ах остолопы, ах вы дрянь блудливая…
Когуты молчали.
— И, наверное, из-за бабы? Я и то вижу: на деревне один смоляной забор да три болвана возле него… Да есть ли такая баба, чтоб достойна была?!
Кондрат наконец опомнился:
— Хватит. Не трожь бабу.
— Я ее зацеплю! — с угрозой сказал Данька. — Не все мне по жолнеркам да вдовам. Подумаю вот, подумаю, да у вас, козлы, и у тебя, птенец, умыкну ее из-под носа…
Красивое Данькино лицо было сурово. Что-то ястребиное светилось в глазах. Задрожали брови.
— Братья… Да вы, как пырей, с одной связки все… А ну, миритесь!
Молчание было продолжительным. Потом Павлюк тяжело вздохнул.
— Я виноват, Кондрат… Виноват, Андрейка.
— Черта нам с того! — буркнул Андрей.
— Я сказать хотел — духу не хватило.
— С тобой она хочет? — глухо спросил Андрей.
— Да… Не хотел, брат.
Андрей махнул рукой:
— А, да что там… Спал ты, когда совесть раздавали… Идем, Кондрат!..
…Часом позже, сидя на берегу, братья все еще молча макали руки в воду и прикладывали к синякам и шишкам. Нарушил молчание Андрей:
— Ну?
— Вот тебе и ну. Проспали.
— Дак что же зробишь? Другому б бока намяли. А тут… Брат все же…
И Андрей растерянно улыбнулся.
— Дурни мы с тобой, дурни! Сразу спросили б. Вот и дождались.
— Свинья брат, — сказал «на пять минут младший». — Подъехал-таки.
— Брось, — вздохнул Андрей. — Он хороший хлопец.
— Хороший хлопец! — Кондрат поливал водой шишку на лбу. — Как дал, так я аж семь костелов увидел… Позор теперь! Бо-ог ты мой!
— Прохлопали мы с тобой, брат, — грустно улыбнулся Андрей. — Одно нам с тобой утешение: быть нам старыми холостяками да чужих детей нянчить… Хорошо, что хоть не минет нашу хату та невестка. И дети будут Когуты.
Он улыбнулся, но Кондрат понимал, как брату плохо. И хотя Кондрату тоже было так, что аж сердце сжимало, он пошутил:
— Ну, нет. В одной хате с ней я не смогу. Тут, братка, нам с тобой или делиться с отцом, или по безмену в руки — да к Корчаку.
Лицо у Андрея было спокойно, лишь ходило под кожей адамово яблоко.
— Недаром, брат, Адам яблоком подавился, — говорил Кондрат, изо всех сил желая развеселить брата. — Наконец, черт его знает, может, мы с тобой еще радоваться будем, плясать каждый вечер, что ее не взяли. Вот погоди, попадет он в эти жернова да к нам и жаловаться придет. А мы ему, вольные казаки, чарку-другую да в ухо.
— Что ж, — сказал Андрей, — к Корчаку, так к Корчаку.
* * *
Сабина Марич искала встречи с Алесем. Петербург, а затем Вильна не помогли ей. В Вильне она бросалась-бросалась, а потом нашла Вацлава Загорского и навещала его чуть не каждую неделю. Приносила ему конфеты, фрукты, спрашивала о жизни, что пишет брат.
Одиннадцатилетний Вацлав воспринимал все как знак уважения и любви лично к нему. Его, счастливца, на самом деле любили все. Так было в Загорщине, так было и в Вильне. И потому он и его компания встречали молодую веселую женщину радостно, приказывали дядьке ставить самовар, доставать припасы. А затем шли вместе с ней гулять на гору или в парк.
Сабина понимала: эти мальчишки — часть Вацлава, Вацлав — часть Алеся. И потому она старалась подружиться с ними и добиться их расположения.
Младший Загорский поехал в Вильно по протекции, в шесть лет. Поскольку ему принадлежала лишь часть капитала, Вежа решил быстрее выучить его, а затем послать учиться в Германию на инженера-дорожника. Там человек оканчивал учебу не со степенью магистра или бакалавра, а со степенью доктора. С этой степенью охотно принимала для подготовки Англия. Вацлав должен был окончить подготовительный курс у кого-то из кембриджских профессоров, пройти практику на английских железных дорогах и возвратиться в империю одним из мастеров своего дела, после чего всю жизнь он будет человеком. Дед торопился. Ему надо было поставить на ноги и этого.
Вацлав был в шестом классе. Он читал так много и, главное, имел столько книг, что с ним дружили и семиклассники.
Веселый, подвижной, как ртуть, удивительно остроумный для такого возраста, всегда готовый натянуть нос начальству, при этом выгородить друзей и сам не попасться, он был общим любимцем.
Вацлав в самом деле был красив. Волосы волнистые, как у Алеся, глаза серые, с голубизной, рот с приятной, чуть хитроватой складкой, только и грызть ему орехи и шутки. Брови гордые и добрые.
Весь он был от Загорских и одновременно сам по себе.
Когда Сабина шла с мальчишками по улице с гордо закинутой головой, не было, наверно, ни одного человека, который не обратил бы внимания на эту компанию.
Гребень золотистых волос, влажные, словно зеленые камешки в росе, глаза, вся — неуловимая ящерица, струйка жидкого малахита, которого не бывает на земле.
…Вокруг Вацлава собралось ядро человек в семь. Три семиклассника, три мальчика из шестого класса, один пятиклассник.
Семиклассников звали Алесь Миладовский, Юлиан Чарновский и Титус Далевский. Последний был из «опасной» семьи, но едва не самый скромный и добрый из всех. Смотрел на Сабину преданно, тонюсенький, горячий, как огонек, очень в чем-то похожий на Вацлава.
Эти много знали про Алеся, слышали о Викторе с Кастусем.
Однако из всех, пожалуй, большее внимание привлекал одноклассник Вацлава, небольшой росточком, немного неуклюжий шляхтюк. О нем по секрету Вацлав сказал Сабине:
— Знаете, он в пятом классе был два года. Очень умный, но болезненный и бедный и часто думает там, где думать запрещено, в костеле, в классе. Ему есть о чем думать. А его секут и сердятся. И смеются подчас. Я его опекаю. И всегда его выставляю с лучшей стороны. И хлопцы начали уважать, а я с ним еще гимнастикой занимаюсь, и он стал ловчее.
Немного смешной, лобастый, с худым лицом и острым подбородком, этот мальчик наивно смотрел на мир узкими, как щелки, глазами, которые словно бы только прорезались. Смешной, симпатичный барсучонок.
Звали его Франц Богушевич.
Был он старше Вацлава, но Сабина не сомневалась, что слова об «опекунстве» не хвастовство.
Один не знал хорошо языков, кроме своего, да еще, как это часто бывало в белорусских фольварках, подпорченных русского и польского. Второй, сколько помнил себя, одинаково хорошо владел шестью.
Один слышал разговоры о выгодном в этом году ячмене (винокурни увеличили закупки) и о худших, чем у предыдущего, проповедях нового ксендза. Второй с детства знал, чем непригодна для условий Белоруссии агрономия Либиха и как развивалось красноречие со временем Цицерона и до наших дней.
И они были одноклассниками. Не было ничего удивительного в том, что один, который тянулся к знаниям, привязался к тому, кто знал больше, хотя тот и был моложе. Не было ничего удивительного, что младший тянулся к старшему, владеющему бесспорными знаниями, которых не приобретешь из книг: как приходится на каждом шагу бороться за семью, за фольварк, за землю, за свою честь и как выкручиваться из лап более сильного. У Франца было знание жизни и беды снизу.
Кроме всего, Сабина видела еще одно. Франц позволял опекать себя, пока у него еще не было этого безошибочного инстинкта отличать ложь и правду, сор и золото, тиранство, прикрытое красивыми словами, и ясного понимания того, что такое мир и какое место занимаешь в нем ты.
Гимназия делала из романтически-возвышенных, мечтательных и справедливых подростков будущих тайных советников, пшютов, снобов и баричей, и Франц понимал, что он должен придерживаться того форпоста человечности, который хотя и чисто по-юношески, но боролся с этим, и прежде всего Вацлава.
А душа у него была, и еще какая. Она только начинала развиваться, но в глубинах своих давно все понимала и обещала оставить далеко за собой многие и многие души.
Сабина однажды поймала на себе его взгляд. Паренек смотрел своими узкими глазенками, и были в этом взгляде тяжеловатая пытливость, ум и извечная — почти нечеловеческая — жажда правды.
Вспоминая добродушные глаза юноши, Сабина каждый раз вздрагивала. Ей казалось, что этот человечек вдруг постиг ее всю.
Этим пока что не мог похвалиться никто. И только она знала, кто она. Знала, что ее ироничность и ее ум — лишь средство для того, чтоб прикрыть простой факт личного безразличия к жизни.
Она не жила. Еще с институтских времен. Пансионная система убивала двояко и не могла, вследствие своей уродливой и вежливо-холодной бесчеловечности, не убивать. Можно было сберечь что-то одно — тело или душу.
Одних она убивала физически. «Господи, как ужасны ледяные колонны, какой холод в дортуарах!.. Я хочу на Днепр… в Липецк… в Киев, на монастырский двор, где всегда останавливается мать и где грецкие орехи падают с деревьев!.. Я хочу на меловые донские горы, где весной жар тюльпанов… Как холодно!.. Почему я не могу говорить, как говорила?… Почему я не могу позволить себе маленький отзвук «з», почти неслышимый, в слове «день»? Я не могу иначе, мой рот не так создан, и я ведь не буду актрисой, чтоб выговаривать чисто…»
Такие плакали по ночам, начинали кашлять или жадно ловить запах каменноугольного дыма и нефти. Наступала беспощадная зеленая немочь, хлороз.
Другие, более сильные, зажимали душу в ладонь, чтоб выжить. «Эти колонны — мрамор? Спасибо, мадам, спать в холодной комнате здоровее… Император — душка, мы видели его на акте… Я исправлю свое произношение. Только здесь я поняла настоящую цену хорошим манерам… Это не нахальство в моих глазах, мадам, это почтительность, не сердитесь…»
Такие выходили из института здоровыми и улыбающимися и добивались успеха, потому что ненавидели мир, и людей, и друг друга.
Выходили с изувеченной, сломанной душой, с рассудительно-холодным сердцем, с той отвратительной бабской подлостью, которая во сто крат хуже подлости мужской.
Выходили, готовые идти по трупам. Бедные души!
Мир был враждебен и холоден, но все же она, как каждое живое существо, не хотела леденеть и искала спасения. И спасение появилось.
Это был брат Вацлава.
Она решила уехать. Мальчики вдруг стали ей чужими. Последние дни она тоже встречалась с ними, они шутили при ней, соревновались в остроумии и рыцарстве, смеялись.
Темными глазами смотрел на нее Титус Далевский, Вацлав передразнивал Гедимина, идиота Соловьева и ханжу Борщевского, как они говорят весной о результатах экзаменов и необходимости держать гимназию в ежовых рукавицах и как каждый миг отвлекаются, начиная обсуждать паненок, что проходят под окнами.
И добродушно смотрел на них узко прорезанными глазами барсучонок, который жаждал правды, — Франц Богушевич.
Подрастала вторая смена восстания.
* * *
Она сама не знала, что с ней. Едва приехав, начала расспрашивать у дядек про Алеся. Иван хвалил молодого князя за хозяйственность. Но Тодар вдруг набросился на Загорского за излишнее попустительство мужикам и вообще за мужиколюбство.
— Выдумал себе игрушку да и возится с нею. Тычет своим белоруссизмом всем в глаза. Говорит, словно навозными граблями что-то разбрасывает.
— Не обращай внимания, — сказал Иван.
Сабина искала встречи. Поехала к Мстиславу, надеясь, что встретит его там. Мстислав сказал ей, что Алесь вторую неделю не показывается у него, а если она встретит его, пусть бросит ему в лицо вот эту перчатку, которую он здесь забыл, и скажет, что если не заедет на днях, то дуэль.
— Почему его перчатку, а не вашу?
— А зачем я своими перчатками разбрасываться стану?
Перчатку эту Алесь Загорский не получил.
Поехала Сабина и к Ходанским, не зная, что они в ссоре с Загорскими. Но и эта поездка ей ничего не дала.
Жила она при винном заводе и к дядькам заезжала редко, да притом настолько была углублена в свои мысли, что не замечала другого — частых наездов гостей к Ивану и Тодару. А гости были довольно подозрительные. Приезжали тайком. Уезжали ночью. Вели длинные тайные беседы с хозяевами.
Были это чаще всего те люди из шляхты, которые вели торговлю и бешено сопротивлялись деятельности пана Юрия, а затем старого Вежи. Им грозило сейчас полное разорение: выкупа не хватит даже на расширение маленьких стекольных заводов и лесопилен, душ у каждого пятьдесят — шестьдесят. Землю так или иначе не сбережешь, а денег не будет и на то, чтоб нанять бывших крепостных.
Среди этих обозленных, доведенных до крайности людей появился вдруг богатый Кроер. У этого не было причин для беспокойства: жил бы и без крепостничества. Но он ненавидел саму мысль об освобождении и о том, что он не будет иметь физической власти над людьми.
Кроме того, он боялся. Боялся нападения Войны и Корчака, которые гарцевали по пущам и с которыми ничего не мог поделать Мусатов, боялся того, что хлопы стали «нахальными», что они все больше и больше начинают ощущать чувство собственного достоинства.
Этого боялись и другие. С двух сторон надвигалась страшная опасность: со стороны богатых Клейн, Загорских, Раубичей и их состоятельных оруженосцев, всех этих Раткевичей, Кольчуг, Юденичей, Турских, Ивицких-Лавров, потомков могучего старого дерева — Ракутовичей, со стороны всего этого переплетенного родством, традициями и преданиями клана, который сейчас «краснел» на глазах, и еще со стороны мужичья, которое почувствовало свою силу и значительность.
С двух сторон ожидали смерть, гибель, нищета. И потому надо было защищаться. Тут уже никому не было дела, что Кроер и Таркайлы белорусы, Панафидин и Иванов русские, Август Дзержак поляк, а Сабаньские-Юноши и Стаховские-Огеньчики считают себя поляками. Наоборот, люди, подобные последним пяти, громче белорусов вопили о «gente albarutenus»,[152] о том, что они теперь больше белорусы, чем «гнилые западники и социалисты» Загорские; вопили о традициях и необходимости «выковать мечи для обороны прав искони чистого шляхетства, которое придает благородство» и им. И потому все они были единодушны в необходимости «поднять меч».
Создавалась «Ку-гa» — приднепровская мафия.
«Ку-га» просуществовала очень недолго и успела взять сравнительно мало жертв лишь вследствие отвращения местных жителей к убийству в спину.
Начальство закрывало глаза на деятельность «Ку-ги» и ее жертвы. А уничтожали с корнем, не подкопаешься. И тот, кто заинтересуется этим вопросом, должен будет лишь просмотреть статистические данные. За два года на территории Могилевщины погибло «от волков» больше людей, чем за предыдущие триста лет. Причем почему-то среди погибших не было крестьян, а все больше шляхта.
* * *
Сабина Марич ни на что не обращала внимания. Она искала Алеся. Все окончилось неожиданно просто, и тон из последней беседы не оставил ей никаких надежд.
Они встретились и долго беседовали, и она сказала ему, что мир становится лучше, когда в нем встречаешь таких людей, как он. И тогда Алесь, словно вдруг прозрев, ответил:
— Не надо этого, Сабина. Для вас я сосед и друг, как Раткевич, как другие хорошие люди. Будет плохо — поможем. Ваш враг — наш враг. Ваш друг — наш друг. Вот и все.
Она благословляла бога, что не успела зайти дальше, что не дошла до последнего унижения.
— Я это и имела в виду, князь.
— Вот и хорошо.
— И мне не хотелось бы никогда стать для вас тем, чем стали Ходанские и Раубичи.
Он понимал, что это удар, возможно, даже легкая угроза. Она не успела зайти далеко, и Алесь радовался, что отсек этим одним ударом все ее попытки. Но он также догадывался, что в мыслях она зашла далеко и теперь ни за что не простит ему этого.
— Да, — сказал он, — это действительно было б неприятно. Особенно для меня.
Она предполагала и раньше, почему его удручает вражда с Раубичами, а теперь узнала обо всем.
Свет потускнел.
Она не могла жить без него. Раньше, в мечтах, — как без любимого. Теперь — как без недосягаемого и единственно необходимого существа. В недалеком будущем — как без врага.
* * *
Михалина через няньку Тэклю сообщила Алесю, что она снова, в третий раз за эти месяцы, выбирая время, когда у отца было хорошее настроение, предприняла попытку поговорить с ним о Загорских.
Она писала, что это теперь было более чем трудно. Округа не знала, почему после нападения Корчака на имение Раубич особенно резко изменил свое отношение к молодому князю. Алесь ничего никому не рассказывал. Раубич тоже молчал. Знали, что Алесь с табуном прискакал ему на помощь, а насчет дальнейшего ходили разные слухи. Одни говорили, что Загорский опоздал и бандиты уже скрылись, подпалив дворовые постройки и не убив пана, потому что не хотели жертв и большой облавы. Другие утверждали, что Загорский чуть не испортил дела, еще издали открыв пальбу, потому что немного боялся, что было естественно. Говорили и о какой-то большой страшной ссоре (выводили ее логическими построениями), в которой будто бы обе стороны осыпали друг друга взаимными оскорблениями. А кто говорил, что Алесь вообще не доехал. Но никто ничего толком не знал.
Она писала, что теперь это было более чем трудно. Сообщила, что попыталась объяснить отцу все. Однако разговора не получилось. Пан Ярош, уже в который раз, остановил ее и заявил, что если она промолвит еще хотя бы слово о Загорских, он, несмотря на свою любовь к ней и нежность, ни с чем не посчитается и отвезет ее в монастырь, к тетке-игуменье, для дополнительного воспитания. Года на четыре.
Алесь, узнав об этом, поскакал к имению Раубичей и весь день рыскал по рощам вокруг него, пока не встретил племянника Тэкли. Мальчик предупредил его, что появляться здесь опасно, так как пан Ярош перехватил записку паненки Михалины и подозревает, что передавала их Тэкля.
И Тэкля просит, чтоб панич не показывался, потому что его могут подстеречь; Михалина же почти как в тюрьме, и Алесь, если его увидят, испортит все и паненке, и Тэкле. А Тэкля обещает: когда гнев пана уляжется, сообщить Алесю.
— Хлопчик, милый, скажи Тэкле: когда ей дадут вольную, я ее к себе возьму. Пусть передаст одно слово — где можно встретиться.
Мальчишка чесал одной босой ногой другую.
— Она, дядька князь, говорила, что паненку кинуть не может, потому что той одной совсем плохо будет. Уезжайте вы, говорила, будьте ласковы.
Загорский понял: ничего не поделаешь. Пока за Михалиной и всеми, кто ей верен, следят, не надо настораживать Яроша и Франса. И он поехал к деду.
…Дед, казалось, знал все и не все из того, что происходило, одобрял. Подумаешь, мол, рыцарь бедный, Тристан-трубадур и менестрель, капуста а ля провансаль. И, словно желая показать Алесю, что существует и иной взгляд на вещи и потому пусть особенно не идеализирует, буквально допекал его несправедливыми, но остроумными рассуждениями о женщинах, их отношении к жизни, искусству, мужчинам и успеху в жизни. Видел, что внук перестает быть мужчиной, и потому сознательно прививал отраву.
«Рыцарь бедный» и сердился, и понимал, что его лечат, и не мог не хохотать — с такой смешной злостью и так похоже на правду это говорилось…
Он не знал, что дед никогда не позволил бы себе говорить так, если б ему не верили. Особенно если речь идет о таком важном деле, как закалка души внука.
И Алесь действительно чувствовал облегчение.
Они прогуливались у озера. Дед, все такой же красивый, шел удивительно молодой походкой, разве что немного медленнее, чем девять лет назад.
— Ты думал над тем, почему они так любят заниматься искусством? Потому, что в глубине души жгуче ощущают свою обделенность в этом смысле. Понимают, что здесь ничего не поделаешь, но хотят убедить мужчин, что это не так.
— Противоречите себе, дедуля. Откуда же у них тогда мысли?
— Очень просто. От первого мужчины, который учил их искусству. Ну, и самую малость, насколько позволял мозг, ею самой развитые. И, конечно, деформированные. Так всю жизнь и толчет. В жизни ей положительная мораль чужда. Знает она лишь отрицательную — стыд. Ну, а в искусстве у нее и отрицательной нет.
Алесь вспомнил Гелену.
— Это неправда, дед… Я говорю о жизни.
— Они, брат, неэстетичный пол. Греки были не самые большие дураки, когда не пускали их в театр. — Улыбнулся. — По крайней мере можно было хоть что-то слышать.
— Даже если так, они благословляют нас на подвиги. Вся поэзия — от любви.
— Скажи: вся гибель поэзии — от любви. Мильтон правильно сказал своей жене: «Любимая моя, тебе и другим — вам хочется ездить в каретах, а я желаю оставаться честным человеком». К сожалению, подавляющее большинство людей отдает предпочтение каретам перед убеждениями. А женщины — особенно. Женщина всегда скажет: «Лучи — это главное в солнце», редко скажет: «Солнце бросает свои лучи» (это только одна Ярославна додумалась, да и то со слов поэта) и никогда не скажет, как Данте: «Умолк солнечный луч…» Э, брат, даже лучшие из них — наивны и близоруки…
И спросил вдруг:
— Ты читал хороших поэтов-женщин?
— Сафо.
— Так я и замечаю, что ей всю жизнь была в тягость ее женственность.
— Но ведь поэтесса.
— Это ее такой Фет в переводах сделал, — без колебания сказал дед.
— Так, может, еще появится.
— За три тысячи лет не появилась, а тут появится. Природа не делает скачков.
Невозможно было с ним спорить, всегда он был прав.
— Ты, дед, совсем как могилевский Чурила-Баранович, — сказал, не сдержавшись, рассерженный Алесь. — Могилевский Диоген. Над всем издевается да насмешки строит.
Дед сделал вид, что слышит об этом впервые:
— Кто такой?
— Я же говорю — губернский Диоген. С чудачествами. В доме умалишенных был.
— Хорошие чудачества, — сказал дед. — За них и взяли?
— Нет, в самом деле. Идет по улице и хохочет.
— Ну-у, чтоб за это всех брать, кто у нас в стране на улицах хохочет…
Алесь только руками развел. А дед уже говорил дальше:
— Ты не принимай всего близко к сердцу… Был такой в двенадцатом столетии умный-умный папа Иннокентий Третий. Написал он трактат «О презрении к свету». Нужно тебе почитать да кое над чем задуматься… Хотя зачем читать? Вот послушай, что он о жизни говорит… У-умный был! «Человек сотворен на несчастье, — не из огня, подобно светилам небесным, не из воды, как растения, а из одного вещества с животными, потому и терпит равную с ними участь. Источник зла — его тело, что поработило дух и стало для него тюрьмой. Добрые страдают не меньше злых («Если не больше», — добавил дед). Жизнь есть борьба. Человек ведет ее с подобными себе, с природой, со своим телом и с дьяволом. Не проходит дня, чтоб к наслаждению не примешивался гнев, зависть, страх или ненависть. Жизнь не что иное, как смерть заживо, потому что мы умираем, пока живем, и лучше умереть заживо, чем жить мертвым». — Подумал-подумал. — Впрочем… дурак он был, этот папа. За что и выбрали.
…Много занимались делами.
Прибыли наконец выписанные из Англии молотилки и семена. Многие приезжали смотреть на них. Приехал и Иван Таркайло. Бегал глазами, разглядывая.
— Что, только свое молотить будете?
— И крестьянское. За небольшую плату. Выпишу еще, — может, более зажиточные купят, а победнее пускай берут, скажем, вдесятером.
— А бабы что зимой будут делать?
— Пусть ткут полотно для продажи. Пусть учатся делать сарпинку, миткали. Промысел будет. Скоро появятся свои агрономы.
Таркайло не выдержал:
— А не боитесь?
— Чего?
— Появились какие-то люди. Недавно за эти реформы Арсена Стрибаговича сожгли. Сына его подстрелили. Все дымом пошло: и постройки, и скирды, и завод… Сын едва выздоровел.
— Это вы про «Ку-гу»? — спросил Алесь. — Куга — она и есть куга болотная. Куда ветер, туда и она гнется. А попробуют на меня вякнуть — выловлю всех.
— Да я разве что говорю? — отступил Таркайло. — Я и сам этих выродков ненавижу. Сам бы все это завел, да побаиваюсь. Я не вы. Сожгут. Недавно встретили на дороге моего лакея Петра да записку передали.
И Таркайло подал Алесю клочок бумаги. В левом верхнем углу был грубо нарисован глаз филина с пером-бровью. Ниже шли корявые буквы:
«Видим! Пойдешь к Стрибаговичам, возьмешь на лесопилку по вольному найму людей — гроб… Сегодня сделано — завтра получишь веревку, послезавтра не повесишься — через день сжигаем твое чучело на Красной горе или на другой высокой. Увидишь, не исчезнешь — жди сову. И другим передай, будет им то же…»
В конце был нарисован крест. Алесь улыбнулся.
— Дайте мне.
— Что вы! — тихо сказал Иван. — Никогда!
Дрожащими пальцами спрятал бумажку.
— Убьют. Было уже так. Никто не жалуется. У них, говорят, в суде рука. И вам не советую, если когда получите…
— Ну, смотрите. А получить-то я должен первый. У меня везде по вольному найму люди. Даже из моих крепостных.
— Я и говорю — берегитесь… И молчите… Молчите… Христом прошу…
Уехал. Алесь удивленно раздумывал. Зачем это ему было? Помощи на всякий случай искал? Так поможем, если понадобится.
И Алесь махнул рукой на случай с Таркайлом. «Ку-га», «шмуга» — чепуха какая!
…В августе неизвестные всадники вылетели из пущи на витахмовскую свекольную плантацию. Тридцать человек с ружьями. Нижняя часть лица у каждого была закрыта белым муслином.
На этой десятине первый год росла гордость Алеся — добытый с огромными трудностями, едва не воровством и взяткой, сорт свеклы «Золотая» с количеством сахара до двадцати восьми процентов, против обычных шестнадцати — двадцати. Хозяйство, где росла «Золотая», принадлежало барону Мухвицу, генеральному директору товарищества «Минерва», и было под Виницией. Семена Герман Мухвиц раздобыл где-то в Австрии (он был еще и членом административного совета Варшавско-Венской железной дороги), раздобыл тоже почти воровством и очень ими дорожил. Человека, который дал Алесю семена, выгнали со службы, и пришлось взять его на свое содержание.
Вокруг «Золотой» ходили чуть не на цыпочках. Платили мужикам и бабам вдвойне за обработку каждого ряда. Алесь надеялся, что через год треть плантаций будет засеяна своими «золотыми» семенами.
И тут случилось.
Под бешеное «ку-га» неизвестные выстрелами отогнали рабочих и начали гарцевать по десятине, выбивая ее копытами, как ток. Из леса вылетело около двадцати подвод, они расползлись по плантации и начали поливать из бочек сочные зеленые ряды густосоленой рапой.
Люди побежали в Витахмо за помощью. А пока на плантацию помчался Андрей Похвист, эконом Студеного Яра, случайно оказавшийся в Витахмо. Помчался один — спасать.
Прибежал и увидел шабаш уничтожения: струи рапы, всадников, что неслись по полю, выкрики, сочный хруст ботвы, выстрелы в воздух.
Эконома побили и прогнали с плантации.
— Передай: будет вводить новшества — прирежем.
Через час, увидев, как со стороны Витахмо бегут с ружьями люди, неизвестные обрезали постромки и, оставив новые бочки вместе с телегами, припустили в пущу.
Люди ринулись было за ними, но оттуда рванул залп, и преследовать дальше побоялись.
Поле было смешано с грязью. Алесь уже назавтра увидел, что рапа сделала свое дело: ботва, там, где она уцелела, была как сморщенный, сухой табак.
Он приказал выкопать более уцелевшие корни, перенести в оранжерею, приказал щедро поливать поле водой: а может? — но средства бороться с этим у агрономов не было, никто не сеет свеклу на солончаке, с неба не идут соленые дожди. Спасти удалось не больше трех десятков корней.
«Золотая» погибла.
Похвист рвал на себе волосы.
— За что?
— За то, что кадлуб длуги, а ноги крутке,[153] — мрачно говорил дед. — Убежать не успел… Ну, хватит, будешь иметь за правду.
— Сволочи, — сжав зубы, сказал Алесь.
Дед грустно улыбался.
— А что такое мера добра и зла? У многих — карман. Ради него не то что свеклу — человека затопчут.
— Жаловаться будем? — спросил Похвист.
— Нет, — сказал Алесь. — Сними с витахмовских мужиков половину недоимок. Прибавь на сахарных заводах вольнонаемным шесть грошей за час. Сторожам — ружья, и если увидят такого, с маской, — губы Алеся жестко скривились, — пусть стреляют в него под мой ответ. И мужики, если заметят, пусть стреляют.
— Правильно, — сказал дед. — Так, говоришь, шляхта?
— Конечно, шляхта, — ответил Похвист. — Разговор выдает. Да и зачем мужикам на хорошие для них новшества жаловаться?
— Ясно, — сказал дед. — Вот мы им мину и подведем. Увидят мужики, как Загорским везет, так, может быть, кого-то из своих и цокнут обухом в лоб.
А через неделю случилось еще худшее.
Стафан Когут и Юлиан Лопата ехали на одном возу из Суходола. Возили кое-что продать. Возвращаясь, купили четверть водки, взяли из нее по чарке под домашнее сало, остальное закрыли и положили под подстилку: у Когутов должны были рыть новый колодец, так хоть в начале дела и не положено, а все же напоить надо, чтоб не говорили, что Когут скупердяй.
Стафан купил еще поршники для малышки. Очень уж хорошие были поршни, как фабричные: низ сплошной, верх, как андарак, клетчатый, из желтых и синих кожаных полосок, а ремешок, которым затягивают, красный, как мак-самосей.
Стафан все время доставал и рассматривал их, улыбаясь в молодые, густоватые уже усы, золотистые, как у отца. Самый безобидный из всех Когутов, воды не замутит, он был хорошим мужем и отцом.
Все приезжие во всех книгах хвалили местных людей за то, что те были хорошими родителями и мужьями. Но те книг не читали, да и удивились бы, прочитав: «А как иначе? Молодой — дури, сколько хочешь, хоть в лозу с чеканом иди, а женился — тут уж не-ет!»
Ехали домой немного навеселе. У Стафана тоже был хороший голос, хотя и хуже, чем у Андрея. Он пел, а Юлиан ему подтягивал густым басом:
Были у мати три сына на роду,
Приказали да всем трем на войну.
Ой да старшему не хочется,
Молодшему не приходится.
Ну, а средний меч берет, собирается,
С батькой, с матерью прощается.
— Не кусай усы, мой татка, при мне,
Не плачь, моя родная матка, при мне,
Не плачь, не плачь, моя матушка, при мне.
Наплачешься, моя мамка, без мяне,
Наголосишься, наплачешься,
С сиротами накугачишься.
— Погоди, — сказал вдруг Юлиан. — Кто это?
Из лесного острова слева от дороги вылетели два всадника. По белым свиткам было ясно — мужики. Не остерегаясь даже того, что конь может угодить ногой в хомячью нору, убегали, словно от смерти.
Юлиан узнал в одном из всадников Корчака. Второй был незнакомый.
— Как на слом головы, — сказал Стафан. — Кто б это?
Юлиан промолчал.
Всадники пересекли битый шлях саженей за пятьдесят перед возом. Стафан смотрел на них с интересом. Люди медлили, видимо раздумывая, куда кинуться. Левее от них было конопляное поле, а за ним — склон, поросший медными соснами. Правее — кусты, за которыми лежал чахлый, на сыром месте, лес. На опушке, как богатырь, стояла могучая сухая сосна.
Всадники, видимо, решились — поскакали налево, стежкой через коноплю. Когда телега подъезжала к месту, где они пересекли дорогу, Стафан увидел, что кони, оседая и бессильно сползая вниз, уже несут людей по крутому склону, заросшему соснами… На шляху лежали хлопья пены.
— Н-ну, — сказал Стафан, — загонят коней.
— Замолчи, — бросил Лопата. — Не твое дело.
С острова, откуда выскочили всадники, послышался цокот копыт.
— Вот почему, — догадался Стафан, увидев десяток верховых.
На свежих, почти не утомленных конях всадники глотали дорогу вдвое быстрее, чем предыдущие, и скоро вылетели на шлях. Остановились, оглядываясь. Лица были закрыты белым.
— Гей! — сказал один. — Не видели людей?
Стафан смотрел на него и думал, говорить или нет. Пожалуй, не стоило врать: неизвестно ведь, что за люди были те, да и связываться с этими страшно. Но всадников с повязками было много, а обычай говорил: видишь, что много людей гонится за одним, — не помогай. Он колебался.
— Видели, — сказал Стафан.
Лопата сжался. Всадники подъехали ближе. Глаза мрачно блестели над повязками.
— Куда помчали? — спросил всадник в синем.
— Двое? — спросил Стафан, медля.
— Да.
— Конные?
— Я вот тебя как опояшу, — сказал второй, с бешеными глазами, поднимая корбач.
— Погоди, — сказал синий.
— Гэна… як яно… — мямлил Стафан. — Конники, значит, два?
— Вот ворона, — рассмеялся синий.
— Два всадника пробегали верхом… — сказал Стафан, — унечки туды… Ды не, не туды, а унь туды, бачите, где мокрый лес.
— А не туда? — Бешеный указал корбачом на склон с медными соснами.
— Брось, — сказал синий. — Что им на склоне? Правильно говорит мужик, там мокрый лес, там, видимо, яр.
Они рванули вправо, но почти сразу попали в болото и стали его объезжать.
— Ты бачил? — спросил Лопата.
— Ничего я не бачил, не бачу и не буду бачить, — со злостью ответил Стафан.
Широкое лицо Юлиана было бледно. Он махнул рукой:
— Гони!
В этот момент из пущи, как раз между сухой сосной и тем склоном, где скрылись Корчак с другом, вылетел всадник. Наметом погнал к погоне, махнул рукой в сторону медного бора.
И Стафан удивился — такое незнакомое лицо стало у Лопаты. Щеки плотно обтянула кожа, рот как будто провалился, сильные челюсти дрожали.
Маленький отряд, видимо, спорил. Люди махали корбачами в разные стороны.
— Напрасно! — тонко кричал тот, что подъехал. — Говорю, временные кладки через яр за собой разрушили. Чирей вам теперь на зад, раззявы!
Когутов воз удалялся, группа всадников делалась все меньше и меньше. Лопата пожалел, что с ним нет ружья. Того самого надежного, кремневого, которое лежало у него на коленях, когда они советовались в челнах, а вокруг был разлив.
Ах, как он пожалел о ружье, потому что всадники начали снова увеличиваться. Очень быстро…
На миг Юлиан ощутил на коленях знакомую тяжесть, ощутил, как левая рука лежит на граненом стволе, а правая ощупывает привычный пудовый приклад, оплетенный врезанной в древесину и расплющенной — для красоты — медной проволокой. Он сам расплющил ее молотком когда-то на пригуменье. Был, помнится, ясный майский вечер.
Юлиан тряхнул головой. Очень широкий, но красивый рот сжался. Что жалеть, если ружья нет.
Всадники догнали воз.
— Ты что же это, хлоп? — люто спросил бешеный.
Тот, что прискакал позже, остановил Стафановых коней, несколько человек спрыгнули на землю и стащили Стафана с воза.
— Зачем врал? — спросил синий.
— Закон, пане, — просто сказал Стафан.
— А я вот тебе покажу закон… Законники… Правды ему захотелось.
Стфана начали избивать. Вначале кулаками и корбачами. Затем, свалив, сапогами. Пыль стояла над дорогой. Хекали, топтали, целили каблуками в голову, которую Стафан закрывал руками, в грудь, в живот, к которому он подтягивал и не мог подтянуть колени.
Стафан не кричал. Когда ударом переворачивали с боку на спину, смотрел сквозь кровь, заливавшую лицо, недоумевающими глазами.
Сильные челюсти Юлиана ходили. Он вначале думал, что обойдется двумя-тремя затрещинами, но минуты шли — и он вдруг понял, что Стафана убивают.
— Давай, хлопцы, давай! — кричал бешеный. — Еще пока «гуп». Кончай, когда «чвяк» будет!
Юлиана держали два человека. Он начал вертеться на возу.
— Как бьете?! — кричал бешеный. — А ну, на оглобицу его да по почкам его… по почкам!
Двое в масках вскинули Стафана на оглобицу воза.
Бешеные глаза поверх повязки смотрели весело. Бешеный вскинул саблю вместе с ножнами и плашмя ударил…
Юлиан вырвался. Навернул одному под нижнюю челюсть, и тот полетел с воза. Испуганные кони рванули, и заднее колесо с хрустом переехало упавшему руку. Тот заскулил. Бешеная радость заполнила сердце Лопаты. Он ударил ногой второго. В пах. Плюхнулся на дорогу и тот.
На крик синий вскинул звериные глаза. Юлиан рывком отодрал грядку с телеги.
Глаза Юлиана и синего встретились. И в этот момент ветерок отклонил с лица синего муслиновое покрывало. Юлиан на какое-то мгновение увидел жесткие усы Тодара Таркайлы и понял: это конец.
Тодар достал из-за пояса пистолеты.
— Тарка… — сказал Юлиан.
Два выстрела почти слились в один. Юлиан Лопата, стоя на возу, покачнулся и, странно загребая воздух руками, как будто шел купаться по неровному дну, упал на Стафана.
— …ла, — закончил он.
Он был убит наповал.
Кони мчались дорогой. Бешеный вдогонку выстрелил в Стафана… Затем всадники поскакали полем в сторону лесного острова.
Последняя пуля попала в бутыль, предназначенную для людей, которые завтра должны были начать копать колодец на когутовской усадьбе.
Кони летели. Потом, утомившись, пошли шагом. Крови нигде, кроме соломы, не было видно, и каждому, кто встречался с возом, казалось, что это едут с базара смертельно пьяные мужики.
Под колеса капала водка из пробитой бутыли.
…Алесь привез лекаря, когда Стафан был еще без сознания (пришел он в себя лишь на третий день) и, только раз на мгновение раскрыв осоловелые глаза, сказал не своим голосом:
— Ку-га.
Лекарь осматривал избитого. Алесь сидел во дворе на бревнах и слушал, как голосит Марта.
Слушал, как она, Марта, увидела лошадей, что сами остановились у ворот, как было подумала, что муж и Юлиан напились, как принялась ругать их и только потом увидела кровь.
— Поршники ведь купил, — причитала Марта, — да такие красивенькие, такие ладненькие!
Маленькая Рогнеда, на которую никто не обращал внимания, обула их и теперь топала перед Алесем, видимо ожидая, что он заметит и похвалит.
— Кровь, — сказал Алесь.
— Ав-вой, што той кровищи было! Вой-вой!
— Кровь, — подтвердил Алесь. — Кровь они принесли сюда. Никогда у нас так, в масках, не убивали… Ну что ж, будут иметь кровь.
Когда вышел лекарь, Алесь отвел его в сторону.
— Боюсь, он не жилец, княже. Сломали три ребра, пробили голову. Сотрясение мозга, несколько внутренних кровоизлияний. Но не это самое главное… Боюсь, что ему отбили одну почку. Так что это вопрос времени.
— Он мне брат, пан лекарь.
— Я слышал. Но вы ошибаетесь, если считаете, что я делаю разницу между князем и мужиком. Я лекарь.
— Какие-нибудь хорошие лекарства?
— Оттянуть время… А, наконец, кто знает? Может и выздороветь. Он крепкий. Другой умер бы, не доехав и до дома.
Алесь привез из губернии еще двух лекарей. Сделано было все, но никто не обещал выздоровления.
Когда Стафан пришел в сознание, Загорский спросил у него, не узнал ли он кого-нибудь из тех, что напали.
— Что вы, — сказал Стафан. — Я понять не успел, что произошло…
Алесь мучительно думал, как же разыскать, как отомстить. И вдруг услыхал странное.
— Ты не беспокойся, брат, — сказал Стафан. — Что уж тут. Оставь. Все христиане.
Это было так неожиданно, что Алесь понял: Стафан ни на минуту не сомневается в том, что его ожидает.
Алесь не знал только одного. Как раз тогда, когда он ездил в Могилев за лекарем, Стафан смотрел на Рогнеду, топавшую по хате все в тех же самых поршниках. И вдруг позвал Кондрата.
— Закрой дверь, — сказал он.
Стафан лежал в чистой половине, на той кровати, где стелили гостям. Обычно к гостю, который после ужина уже засыпал, приходили Марта с Яней и приносили последнюю чарку крупника.
— Выпей, гостейка, последнюю, да и спи! Обидь себя, чтоб дом не обидеть.
Гость улыбался, выпивал, целовал хозяйку дома в щеку и засыпал с мыслью, что дом придерживается обычая, что это хороший дом.
Теперь кто-то должен был поднести чарку и ему. Стафан чувствовал приближение этой госпожи. Хватит ли ему в ответ на ее поцелуй улыбнуться? Надо, чтоб хватило.
— Что ты, брат? — спросил Кондрат.
— Обещай, что ей всегда будут и поршни, и черевики, что другим детям, то и ей.
— Обижаешь, Стафан, — сказал Кондрат. — На том стоим… Да ты брось. Выздоровеешь.
— Тогда, Кондратка, слушай. Побожись, что все забудешь, если выздоровею.
— Во имя бога, — неохотно сказал Кондрат.
— Если выздоровею, я прощу им, — сказал Стафан. — Отец у нее будет, а это главное. Мы христиане.
Малышка топала по полу. Поршни на ножках — словно кусочек радуги.
— Но если умру, нет им моего прощения.
Кроткие глаза Стафана стали вдруг такими, что Кондрат испугался.
— Потому что где ж правда? Я никого не затронул. Я никогда не лез в их дела, придерживался обычая, а обычай запрещает убивать впятером одного. И вышло так, что для меня один обычай, а для них другой. И они убили меня, хотя я никуда не лез и знал, что мы люди маленькие и должны пахать землю и у нас дети… Так вот, если умру — убей.
— Кто? — спокойно спросил Кондрат.
— Таркайло Тодар, — сказал Стафан.
— Откуда знаешь?
— Голос был похож. И Юлиан сказал: «Тарка…ла». А потом выстрелы.
— Хорошо, — буркнул Кондрат. — Сделаю. Еще кто?
— Мне показалось, что я узнал глаза другого. Но это просто чтоб знал и остерегался. Обещай, что не будешь убивать, пока не убедишься.
— Во имя бога… Кто?
— Кажется, Кроер Константин…
— Почему Алесю не сказал?
— Оставь, брат. И так у него врагов много.
— Я все сделаю, брат, — сказал Кондрат.
— А теперь забудь. — Стафан закрыл глаза.
* * *
Несчастья начали сыпаться, как из мешка. За несколько месяцев смерть отца, матери, ссора с Ярошем, письмо от Кастуся, что у Виктора резко ухудшилось здоровье, налеты «Ку-ги», смерть Юлиана Лопаты и зверское избиение Стафана.
И наконец, в довершение, новое событие в Раубичах — возмущение Ильи Ходанского, что пан Ярош не держит слова.
Разгневанный Раубич позвал дочь. Михалина сказала, что желает вернуть Ходанскому слово.
— Не будет этого, — сказал пан Ярош. — Никогда. Ни за что.
— Я люблю Загорского.
— Он наш враг.
— Вам — возможно. Да и то не вам, а глупой спеси. Он друг вам, люб мне, брат Франсу. Он никогда не думал вредить вам, несмотря на ваши бесчисленные оскорбления. Потому что он человек, а вы… вы… вы — дворяне, и не более. Даю слово: никогда не буду ничьей женой, кроме его. Все отдам за него. Никогда не буду с ним жестокой. Пусть подчинение, пусть даже рабство, лишь бы только быть с ним. И все. И на этом мое последнее слово.
Короткая шея пана Яроша налилась кровью.
— Увидим, — тихо сказал он. — Силой под венец поведу. Это и мое последнее слово.
— Вы можете, конечно, сделать со мной все. Но ведь и я с собой могу сделать все. Я знаю, священник согласится венчать, даже если вы приведете меня в цепях. Он всем обязан вам. Всем и даже тем, что двадцать лет не служит по новому обряду, прикрываясь «болезнью». Он знает, кого он должен благодарить за то, что за ним сто раз не пришли и он не подох в Соловках на соломе. Он «не совершил греха», а вы «не поддались, не поступились честью». И потому он обвенчает. А свидетели, которые будут клясться, что я шла по своему желанию, тоже найдутся.
Голос ее звенел:
— Я не буду позорить вас и кричать в храме. И это будет последняя благодарность за то, что вы родили меня и поэтому теперь убиваете… Последняя. Потому что сразу после свадьбы я убью этого изверга. Сына изверга и бешеной стервы. А потом убью себя.
— Как хочешь, — сказал пан Ярош.
Сразу после разговора он приказал приставить к комнатам Михалины верных людей, а Илье Ходанскому сказал, что свадьба будет через два месяца, в конце октября. До этого же времени он просит графа Ходанского не появляться.
Пан Ярош все же жалел дочь, хотя она сама была виновата, дав слово. Он надеялся, что за два месяца Михалина одумается, и понимал, что присутствие Ильи еще больше разожжет ее сопротивление. Да и новый член семьи раздражал Раубичей своей самоуверенной мордой.
…Записку обо всем этом передал Алесю племянник няньки Тэкли. Они иногда встречались в той самой березовой роще.
Несчастья, обида и гнев, несправедливость судьбы буквально разрывали на части его сердце.
Вечер был теплый. Костры горели за рекой, а в реке отражалась вечерняя заря, куда более яркая и багровая, чем на небе. У костров — там, по-видимому, ночевали жнеи — звучал тихий смех. Потом долетела тихая, грустная песня:
За реченькой за быстрою в цимбалы бьют,
А там мною любимую за ручки ведут.
Один ведет за рученьку, второй за рукав,
Третий стоит — сердце болит: любил, да не взял.
И эта заря, и безнадежная глубина реки, и, главное, слова песни вдруг потрясли его острым соответствием с тем, что творилось в его сердце.
Алесь знал теперь, что ему делать. Напрасно он простил. Завтра же он пойдет к Ходанскому и даст ему в морду. Потом в собрании надо дождаться, когда пан Ярош и Франс будут порознь, и поступить так же с ними. На один день назначить все три дуэли. Будет очень хорошо, если Илья погибнет, а Франс свалит его. Тогда Майка получит свободу, а обиды у нее на Алеся не будет. И, возможно, Раубич пожалеет.
Зачем мы любилися, зачем сады цвели,
Зачем наши тропиночки травой заросли?
Другой с тобой венчается в церкви золотой,
А мне одно венчание — с сырой землей.
Утром, однако, произошло непонятное и невероятное. Он лишь на рассвете уснул на какой-то час тяжелым, кошмарным сном. Потом проснулся, вспомнил вчерашние мысли, хотел подняться и почувствовал, что не может. Это не был страх. Это было хуже — безразличие.
Вспомнил Раубича и подумал: все равно… Франса… все равно… Попытался представить игривые, как у котенка, глаза и рыжеватые волосы Ильи и почувствовал: и это все равно.
Лицо Майки всплыло перед глазами. Краешки губ, чистые, как майская вода, глаза. И снова не почувствовал ничего, кроме безразличия.
Хорошо помнил, что он в спальне. Видел даже колонны и занавес, что шевелится от ветерка. Однако казалось, что он видит это во сне.
…Он стоял среди вооруженных людей. Кто в латах, тронутых ржавчиной от многодневной крови, кто в кольчугах, от которых топорщилась широкая, тканная цветами и листьями чертополоха одежда. Шугало пламя. Краски были такими яркими, какими они никогда не бывают в жизни: краснота плащей аж горит, желтизна плащей — как золото на солнце.
Алесь и все, кто рядом с ним, видели вилы, колья и боевые цепы толпы, окружавшей их. Спутанные волосы, неестественно мощные, несовременные челюсти, желтые, как мед, и белые, значительно светлее, чем теперь, волосы, лютый огонь в синих глазах.
Замок пылал перед ним ярким, бешеным огнем. Летели искры.
А он, Алесь, — а может, и не он, а кто-то другой, — дремал стоя на, потому что четыре дня он и все эти люди не спали и четырех минут.
Ему было, пожалуй, все равно, что толпа сделает с ним и другими.
Он видел человека с разбитой головой. Человек лежал впереди, саженях в пяти от него.
— Посыпьте их нивы своим ячменем! — кричал кто-то.
— Смерть! Смерть! Смерть! — ревела толпа.
«Так это ведь Юрьева ночь, — подумал он. — Как я там очутился? Почему вспоминаю какую-то незнакомую мне девушку?
Какой мрачный сон! Какая-то Загорщина, которой не должно еще быть, какой-то человек против медведя, какая-то девушка!
И вот еще кто-то наклоняется во сне надо мной — страшно болит голова! — высокий, старый, с волной кружев на груди.
— Внучек, любимый, что с тобой?
Какой еще внук, если он мой праправнук?! Какое право имеет на меня этот старик?!»
Снова яркие краски. Более жизненные, чем жизнь. Небольшой строй людей, среди которых он. Клином стоят перед ними люди в белоснежных плащах с крестами. Их много. Немного меньше, чем людей на его стороне, но на самом деле куда больше. Один из «крестовых» стоит пяти человек. Так было и так будет. Потому что на его людях ременные шлемы, а на тех — сталь, за которую нельзя даже уцепиться. Его воины поют, и он замечает, как светлеют их глаза и дрожат ноздри.
— Га-ай! — кричит кто-то, словно поет, и его поддерживает хор.
И вот он, неизвестный себе, но более близкий, чем он сам, летит на коне навстречу клину. А за ним с воплями и рыком летит лавина всадников.
Красный туман в глазах. Голова работает ясно и четко. Удар снизу, слева, справа. Свалить конем, не то… Стрелу в бабку белом коню — пусть падает. Хозяин не поднимется.
Вбились в строй. Сердце захлебывается от холодной ярости. Руби. Даже приятно, когда кровь свищет из многочисленных ран на теле: становится прохладно, как в дождь. Этому, и тому, и еще вон тому. Но почему в глазах врагов под забралом — ужас?
— Пaна! Пaна! Пaна! — вопит клин.
Они поворачивают коней. Они бегут.
— Алесь, мальчик мой! Ну что? Что?
— Мроя,[154] - говорит кто-то.
…И ночью над стрехами висит рваная комета.
На миг он вспоминает себя, а потом наплывает мрак, отчаяние, становится дурно… Отец, мать, Виктор, Стафан, люди «Ку-ги». «Какой подлый мир! Я не хочу трудиться на него. Я не хочу даже жить для него. Не хочу. Не хочу».
— Алесь! Алесь! Мальчик мой!
Он лежал, ничего не понимая, кроме живых снов. Не в силах шевельнуть рукой или ногой, не в силах не отдаваться этим снам, где, как живые, ходили отмеченные крестом огромные медведи с кордами-зубами, где люди жили в сырых восьмигранных комнатах с большими ревущими каминами и ржавыми вертелами, где на частоколах, как на частоколе возле чьей-то бани, торчали лошадиные черепа, — он лежал, и видел сны, и желал лишь одного: уснуть так, чтоб не видеть этих окон и занавесей и старческого лица, которое склонялось иногда над ним.
Через два месяца в этом сне должно было произойти что-то невыносимо тяжелое. Алесь хотел уснуть к тому времени так, чтоб уже никогда не узнать, что будет.
* * *
В зале, где на стенах беззвучно шелестели крылья и руки поднимались с жестами благословения и угрозы, за огромным дубовым столом сидела группа людей. Во главе стола, положив перед собой шестопер, сидел старый Вежа. Напротив дремал седой Винцук Раминский, старший брат того Раминского, что при Напалеоне руководил народной стражей.
Рядом с ним мрачно молчали столетние Стах Борисевич-Кольчуга и Лукьян Сипайло. Хмуро курил трубку Янка Комар, брат уездного маршалка в том самом двенадцатом году и друг Вежи по знаменитому «сидению в крепости над порохом», один из тех немногих, кто остался. Чертил что-то на бумаге, тряс белой головой прадед молодого Яновского из-под Радуги, который на заседании в Раубичах хотел умереть, защищая пересечение дорог на Гуту, Чернигов и Речицу. Думал, обхватив голову руками, старый Витахмович, самый старый из всех присутствующих, стодвадцатилетний человек.
И, наконец, между ним и Вежей сидел самый молодой член собрания, вопреки всем правилам и по настоянию Вежи введенный в этот круг секретарем и архивистом, — Юлиан Раткевич. Вежа настаивал и добился своего. Нужен был один помоложе, потому что у большинства не хватало уже сил, а Раткевич был, пожалуй, одним из наилучших знатоков традиций.
Шло заседание тайной рады старейшин, знаменитой «седой рады» Приднепровья. Тех, кто хранили необходимые знания, тайны, сберегали в памяти обычаи и следили за генеалогией местного населения. Вежа издавна был главой «седой рады», хотя и отпускал в ее адрес шуточки.
— Щелкунчики замшелые… Своеобразный «Готский альманах». Дебре из Дебрей.[155] Рыцари манной каши и тертой моркови.
Это были еще самые мягкие из его эпитетов. Но сегодня Вежа, страшно похудевший, смотрел на «рыцарей манной каши» с тревогой.
Молчание становилось тяжелым.
— Мроя, — глухо сказал Янка Комар.
Молчание.
— Мроя, — сказал седой до прозелени старый Витахмович. — Память предков. Он умрет.
Желтое лицо Юлиана Раткевича было неподвижным.
— Пожалуй, в самом деле все, — сказал Раткевич. — Он не хочет жить… Сколько времени ее у нас не было?
Винцук Раминский думал:
— Что-то не помню. Не со времен ли польского раздела, пан Витахмович?
— Тогда, — ответил тот. — Я почему помню — мне тогда было тридцать четыре, и я собирался второй раз жениться. Разных невест предлагали. Одна была сестрой Юрася Жуковского. Пан Юрась заболел в семьдесят третьем. При Екатерине. Ему начала сниться заново чужая жизнь. Но не кусками, из разных времен, а словно… одним… потоком. Снилось ему, как делали запасы в пуще, как убивали оленей и зубров, как солили. Как потом шла рать на Крутые горы бить татар. Сон его прервался в середине боя — он умер.
Подумал.
— Еще раньше, года за четыре, заболели Алехнович-Списа и Янук Корста, двоюродный брат прапрадеда этого щенка Юлиана.
Витахмович помнил спор о том, принимать ли Раткевича, но начисто забыл, — а может, сделал вид? — что «этот щенок» сидит сейчас среди них.
Юлиан улыбнулся про себя.
— Списа умер, — сказал Витахмович. — А Корста выжил. Хотя, судя по такой могильной фамилии, умереть бы Корсте…[156] Но тут уж как кто, так что ты, Даниил, не отчаивайся.
Забубнил:
— Болезнь… болезнь… болезнь… Такая уже болезнь. Что-то не слышал я, чтоб этой болезнью кто-нибудь, кроме нас, болел.
Лукьян Сипайло сказал:
— Рада, помните, предполагала, что и у Акима, вашего отца, были зачатки.
— Рада отказалась от этой мысли, — сказал Борисевич-Кольчуга.
Вежа сплел пальцы.
— Черт, — сказал он. — Глупая впечатлительность. Идиотская впечатлительность. И такие страшные для молодого события.
— Силы ослабели, — сказал Комар. — Безразличие.
— Безотчетно пытается отойти от невыносимой действительности, — сказал Юлиан Раткевич.
— Что же делать? — спросил дед. — Я знаю: когда-то при первых же признаках в монастырь уходили. Покой. Труд. Но тогда монастырь был крепостью. Монахи границы защищали, подступы к городам. А теперь?… Загорский — да в монастырь! К божьим крысам!.. Что же делать, «седая рада»?
— Церковь оставь, — сказал Юлиан. — Разве она справилась хотя бы с одним делом, которое ей поручили, — с добром, с любовью, с моралью?
— Да, может, обойдется, — сказал Винцук Раминский.
— Нет, — возразил Сипало. — Усталость — смерть. Иди, чтоб жилы трещали, — и станешь жить долго. Надо, чтоб он никогда больше не уставал. Успокоить его надо… Покой.
Все молчали. Потом Вежа несмело сказал:
— Так что? Небо?
— По-видимому, — сказал Борисевич-Кольчуга. — Больше ничего не сделаешь.
— Где? — спросил Сипайло.
Вежа кашлянул:
— Храм солнца!
Юлиан подумал.
— Пожалуй, правильно. Самое высокое, самое близкое к небу место. Дольше всей округи видит солнце. Музыка, трубы, эти не повредят?
— А чем они повредят? — сказал Вежа. — Во время восхода солнца радостное пение, при закате — печальное. Наконец, как Комар скажет.
Все смотрели на мрачного Янку Комара, главного человека в том деле, которое они собирались совершить.
— Крутой пригорок, — сказал Комар. — Макушка голая. Неба будет сколько хочешь. Мало человек его видит, как, простите за сравнение, свинья, а тут за считанные дни — на всю жизнь. Пусть будет так. Только в парк не пускайте никого, даже самых близких. Ему теперь нельзя видеть людей.
* * *
Он лежал перед ними голый и не стыдился этого. Ему было все равно. Только немного неприятно, что все окна открыты, занавеси сняты и свежий ветерок обвевает голое тело. Было холодновато, и это мешало проснуться от сна, в котором были дед, Михалина и другие, снова начать жить, видеть пожары, поток крови в башенных водостоках, слышать звуки сечи, стоны стали и выкрики.
Его около часа парили в самом горячем пару, хлестали вениками и обливали мятной водой. Затем еще почти час мыли в прохладном бассейне. Он страшно замерз. И вот теперь, не ощущая ничего, кроме холода, он лежал на мягкой постилке.
Янка Комар сидел возле него и странно, какими-то мелкими движениями трех пальцев, гладил его голову. От этих прикосновений клонило в чудесную дрему, слегка покалывало в корнях волос.
Знаменитый специалист Комар начинал свое дело. Редкое, необъяснимое дело. То, которого не знал никто в загорской округе. Только он да два его ученика. Ученики и слуги стояли рядом, а Комар гладил и гладил голову, смотрел в Алесевы глаза. И от этого становилось немного легче.
И наконец Комар заговорил. Даже не заговорил, а словно запел печально-тонким речитативом:
— Гляди, гляди на мир. Гляди, любимый хлопче, на мир. Гляди. Гляди. Небо над тобой. Много. Много неба. Синего-синего неба. Облака плывут, как корабли. Несут, несут душу над землей. Несут. Земля внизу большая. Земля внизу теплая. Земля внизу добрая. И небо над землей большое. И небо над землей теплое. И небо над землей доброе. И облака между небом и землей. Ты в облаках, облака в небе. Синее-синее небо, белые-белые облака, чистая-чистая земля. Нельзя не быть счастливым. Нельзя. Нельзя. Погляди, убедись, что ты счастлив.
Алесь словно сквозь песню чувствовал прикосновения уверенных, сильных и заботливо-осторожных рук к своему телу. Двое слуг занимались ногами, два ученика — грудной клеткой, руками и плечами. Они перебирали каждый мускул тела.
— Ты здоров. Ты свободен. Ветер обвевает твое тело. Небо смотрит в окно. Небо. Небо.
Голос пел так с час. Уверенные руки за это время перебрали не только каждый мускул, а, казалось, каждую связку, каждый сосуд и нерв, каждую жилку. И одновременно с этими движениями в тело откуда-то вливались удивительное успокоение, равновесие и спокойная сила.
Его снова облили водой. И снова руки. И снова речитатив Комара и глаза, которые видят тебя до дна.
Запели над ним голоса. Он не понимал слов, но мелодия, простая, пленительная и чарующая, с перепадами от высоких звуков к низким, как будто властно отрывала его от привычного, от мира, где господствовала солдатня, где чужие люди, так не похожие на людей, творили с людьми что хотели, где на дорогах звучал крик «ку-га».
Он потерял на миг всякое сознание, а когда очнулся от очистительного сна, почувствовал, что его несут, видимо, на носилках и подняв над головой, потому что он не видел тех, кто нес. Он просто как бы плыл между небом и землей, лицом к лицу с солнцем и небом. И где-то за ним серебряно и звонко, словно из жерла криницы, словно из журавлиного горла, пела труба.
Он лежал.
Мягкая постилка была под ним. Холодная простыня лежала в ногах. Ложе стояло в беседке. Люди принесли его сюда и оставили одного, нагого, наедине с небом. Вокруг были розово-оранжевые колонны, вознесшиеся в небо. Он ничего не видел, кроме них и неба.
Так он лежал.
Он только пил воду, иногда брал лед, прикладывал к голове и тер им грудь и руки.
Во всем том, что его окружало, была великая чистота и отрешенность. И он словно плыл на своем ложе навстречу облакам. Между небом и землей, как на воздушном корабле.
Опускался маковый цветок солнца. Холодало. Серебряные трубы начинали звенеть. Тихо-тихо, словно в них лилась кристальная и звонкая вода. И печально-печально, как будто сама земля прощалась с солнцем.
Он почти не поднимался. Только в жару обливался водой. Никто не подходил к нему. Людей не было. Он не вспоминал и не думал ни о чем.
Ночью, приятно холодея под простыней, он слышал сквозь дрему крики сов. Смотрел в небо, видел, как падали с него звезды.
Приходил день. Трубы начинали нагреваться и радостно звенеть. И ему, что согревался вместе с ними, начало через несколько дней казаться, что это в нем самом звенит тепло, и ветер, и то, что возвращалось откуда-то, наполняя свежестью тело.
И снова кричали совы. И снова радостно летел синий зимородок к далекой реке. Купался в солнце. И все это было не дольше мгновения — чередование ночных ужасов и теплого дня, звезд и голубого неба. Всего, с чем он был наедине.
А когда поднимался, видел слева Днепр и парк, в котором не было строений, а справа — дикий парк и овраг, где тогда Гелена… Нет, он не думал о ней и вообще о людях. Людей совсем не было. Были там просто истоки Жерлицы, начало вод, начало криниц.
Так шли дни. Ночью падали звезды. Две из них они когда-то назвали своими именами. Какие? Не все ли равно?
Не надо было думать об этом, если каждый день он парuл под облаками, пропитанными голубизной и горячим светом.
Так прошло две недели. Ява отступала. Она появлялась все реже. Потому что были небо, облака и солнце. И еще ветер, и однажды ночью гроза с молниями. Мир раскалывался вокруг, и Алесь лежал словно в шатре из ослепительных молний, похолодевший от непонятного восторга.
Потом начало временами приходить возбуждение. И еще, словно волшебство, мысли о жизни. Вначале они были неприятны, а потом стали даже согревать. Потому что вокруг были звезды и облака.
И, главное, небо.
Он уже ел. Он лежал и думал обо всем на свете.
В один из дней вдруг нахлынула нежная скорбь о ком-то. И с острым проникновением в правду он понял, что нет счастья в том, когда только тебя любят.
Любить — вот это было счастье.
И это относилось не только к женщинам. Это и любовь к людям. Счастье было — отдавать. Все отдавать женщине, солнцу и всем бесчисленным человеческим мирам, которые жили и двигались вокруг.
Реальность наплывала откуда-то все чаще. Красная от лучей заката дикая груша… Туман, что сбегает с земли, и повсюду белые… белые… кони… Отец прикладывает к губам рог. Синяя паутина в воздухе… Тромб на ослепительно белом песке арены… Глаза матери, что улыбаются ему… Кастусь и он на коне над обрывом… Колосья под серпом на камне… Кроер, поднимающий корбач… Красные вишни на подоконнике мансарды… Родник шевелит песок… Лица Когутов… Облик Стафана… Ветвь дуба, протянувшаяся среди звезд… Соловьиные трели… И опять Кастусь… И Майкина рука, показывающая на звезды…
Земля… Земля… Земля…
Однажды ночью все это нахлынуло на него с такой силой, что он задрожал от жалости по утраченному времени и от жажды деятельности.
Он не мог больше лежать вот так. Хватит! Прошло три недели. Три недели словно выброшены из жизни.
Была ночь. Он попытался подняться, но не смог — провалился в короткий и крепкий сон.
…Была все та же ночь. Но из темной земли — вокруг вознесенной в небо беседки и насколько мог охватить глаз — тянулись воздетые в молитве руки. Они тянулись все ближе и ближе. И выше, словно на каждую распрямленную ладонь должна была лечь своя, только ей предназначенная звезда.
Глухой гул доносился отовсюду, как будто невидимые люди роптали и задыхались под землей.
Руки тянулись выше и выше. Кричала земля.
…Он проснулся и увидел краешек восходящего солнца. Солнце переливалось и сияло над кронами деревьев.
Но голос безграничного горя еще летел от земли.
И тогда он сделал усилие и поднялся. Поднялся навстречу солнцу и, запахнувшись в простыню, вышел из беседки.
Пели птицы. Он шел, и шаги делались все увереннее.
…В аллее он увидел бегущего навстречу Кирдуна.
— Панич Алеська! Панич Алеська!
И бросился ему на грудь.
— Бог ты мой! А как же я ждал! Каждое утро. Когда это, думаю, та хвороба отступит?! Не пускали меня. Никого не пускали. Даже от Михалинки человека не пустили.
Алесь обнял этого первого человека из вновь добытого мира.
— Ну, брось, Халимоне. Видишь, все хорошо. Жив.
Жадно спросил:
— Что там нового?
Кирдун понял по этому вопросу, что с болезнью все покончено.
— Надо, надо было, чтоб встал. Прибегал хлопец от Михалины. Свадьба скоро. Подгоняет пан Ярош.
У Алеся жестко сузились глаза.
— Я сказал, что больны. За нею следят. Бежать хотела, — захлебывался Халява.
— Еще что? — сурово спросил Алесь.
— Так, ерунда, панич. За это время некоторые даже не послали спросить, что с вами… Старый пан посмеивается. Говорит: «Б-бай-кот», — вот как. Вся западная часть округи — Таркайлы, да Браниборские, да другие… Старый Ходанский кричал: «Подыхает старое гнездо! Чего ждете, младшие?! Скоро и Веже подыхать! Гоните его, пока то дело, из комитета и отовсюду. Красное из этих «красных» пустить надо!» Хорошо, что в собрании большинство младших восстало против них. Пана Кастуся Кроера Юлиан Раткевич за двери выкинул. Дуэля была… до первой крови.
— Убили кого? — спросил Алесь.
— Царапины у обоих.
— Ну, бойкот — это чепуха, — торопился Алесь. — Еще что?
— «Ку-га» сделала облаву на Черного Войну.
— Убили?
— Выскользнул… А потом пришло письмо с угрозой от «Ку-ги» Юлиану Раткевичу.
— За что?
— А дьявол его знает… — Кирдун вдруг остановился. — Паничику, секрет.
Что-то такое было в его голосе, что Алесь тоже остановился.
— Думаю, Кроер со злости прислал… со злости на Юлиана… Только молчите…
— Не шути, — сурово сказал Алесь. — Почему думаешь?
— А кому Юлиан когда шкодил?… И потом… Помните, Таркайло говорил, что люди «Ку-ги» остановили его лакея, Петра, и дали предупреждение?
— Ну?
— Петро ничего не знает, — шепотом сказал Кирдун. — Я как бы случайно заговорил с ним. Никто его не останавливал. Ничего он, Петр, не передавал.
Алесь остолбенел.
— Таркайлы?
— Они, пане Алесь, — просто сказал Кирдун.
Алесь пошел, почти побежал по газону. Белая простыня развевалась в воздухе.
— Насчет Кроера и думать перестань. Доказательств нет, хотя и похоже на него. А Таркайлы — похоже, ты прав.
Румянец залил его щеки, глаза блестели.
— Готовься, Халимон. Мы им тут теперь дубов наломаем.
…Старый Вежа еще издали услышал гомон и понял: обошлось.
И все же он привычно сдержался и не проявил своих чувств. Углубился в книгу, а потом бросил на Алеся такой взгляд, словно ничего и не случилось, словно только час назад они расстались.
— Что это крик и шум велик и речи мнозие во всех боярех?
Алесь рассказал.
— Ну, и что думаешь делать?
— Украду.
— Ты, братец, прежде чем красть, хоть оденься. Как ты женихаться поедешь таким Христом? Тут тебе не Палестина и не Эммаус. — И улыбнулся: — Ей-богу, выздоровел. Вишь ты, как сразу к деятельности его потянуло. Идешь на женитьбу, как на слом головы… Ну, это всюду так. А еще что?
— Таркайла надо проучить.
— Как? — спросил дед.
— Дуэль.
— С ним? Во-первых, это уже не дуэль, а триэль. Их ведь двое. А во-вторых, не пойдет он с тобой драться. Он торговец, хотя и дворянин.
— Надо, чтоб Исленьев знал.
— Зачем? И так ему с нами хлопотно. Русские люди близко к сердцу принимают чужие беды. А ему их хватило и своих, еще со времен мятежа… В дело с Таркайлом деда не втягивай. — Подумал. Затем сказал: — На Таркайла нельзя смотреть как на равного. Прикажи, чтоб запрягли лошадей.
…Впервые за последнее время дед переодевался в парадную одежду. Сидел рядом с внуком, величественный и строгий. Молчал всю дорогу до дома Таркайлов. Когда пролетка остановилась, сказал Алесю:
— Жди меня здесь.
Пошел в дом. На пороге его попыталась было задержать Сабина:
— Брата дома нет. Только панский брат.
— Он мне и нужен.
И прошел мимо нее.
Тодар Таркайло увидел и растерялся. По испугу в глазах Вежа убедился — он.
— Как дела пана?
— Какие? — спросил Таркайло.
— Пан знает, какие. Не мне их ему напоминать.
— Я, простите, не понимаю…
— Напрасно. А монастырь пан Тодар помнит?
— Ей-богу, нет…
— Хватит, — бросил Вежа, — не будем тратить время. И ты знаешь все, и я. Не мне это все уточнять, не мне, конечно, на тебя доносить. Но предупреждаю, Тодар, чтоб знал, на кого поднимаешь руку. Мальчик мой Алесь… Обижать его и царю не позволю, а тебе и подавно.
— Вы забываетесь…
— Я — нет. А вот ты забылся. Ты никогда не думал, почему твои векселя Платон Рылов из Ветки к взысканию не подает?… А зря. Подумай. Векселя те у меня. Не хотел я позора человеку одной земли, дворянину. Тебе следует прийти, — к кому уж сам знаешь, — и просить разрешения tirer mon epingle du jeu.[157]
— Я не понимаю.
— Брось. Брось, говорю. Все понимаешь. С твоим умом не в политику лезть, а в горохе сидеть. И другим скажи, Вежа их тоже знает. И не помилует. А поэтому, если еще кто-то в загорской округе хотя бы раз «кугакнет», я тебя нищим пущу.
Помолчал.
— И это еще не все. На месте монастыря — пепел. Будет он и на месте ваших домов, сколько бы их ни было. Терпел я. Напрасно терпел. Больше не буду. На том прощай…
…Кони бежали ровно. Старик молчал. И только у поворота на Вежу вдруг начал говорить, словно сам себе:
— Лессинг говорил, что всегда надо выбирать левую руку, или стремления, а не правую, или доброту… Вот ты и руководствовался б этим… Да разве вас убедишь хоть какой мудростью!
И совсем нелогично рассердился:
— А ты мямля. Разве у нас такие были? Я б сейчас на разведку поехал, pour preparer et sonder le terrain, et pour present pas le caractere peu satisfaisant de la premiere.[158]
Сжал трость.
— Я б дочь Раубича живой увез. Обвенчался б. Церковь моя. В Милом. Этого вонючего племени ближе чем на семь верст не терплю, но на такой случай ничего…
XI
Синий, мягкий день лежал над лугами. Солнце уже клонилось к западу. Небольшой лесной островок над спокойной и по-осеннему густо-синей Равекой издали казался безлюдным и тихим. Пожелтевшие березы стояли над рекой, горели добрым и нежарким огнем, осыпали временами на траву редкие угольки листьев.
Через Равеку, разрывая конской грудью кувшинки, ехал вброд всадник. Прямо к лесному островку. На опушку оглянулся и исчез среди деревьев.
Островок был полон людей. Привязав к кустам коней, они ждали.
— Что слышно, Кондрат?
Кокут приблизился к Алесю, соскочил с коня.
— Пан Ярош беседует со старым Ходанским. Закрылись с час тому назад, и не чувствуется, чтоб скоро закончили. Тэкля, пользуясь случаем, собирает кое-что из вещей паненки.
— Что просила передать?
— Чтоб на закате солнца ожидали возле лаза в ограде.
Кондрат вдруг улыбнулся.
— Видишь, где мы?
— Неужели же, — сказал Алесь. — Последнее наше ночное. Когда Война к нам заехал.
Андрей Когут улыбнулся тоже.
— А там, подальше, мы слышали, как Раубич из пушек стрелял, когда младшая родилась.
Молчали. Алесь вспомнил слова из последней Майкиной записки: «Дед был когда-то прав. Трудности сделали свое. Возьми, забери меня отсюда, родной, любимый».
Он положил руку на карман, у сердца, нащупал там записку, и ему стало тепло.
— Что ж, хлопцы, надо, видимо, собираться. Мстислав, ты здесь?
— Да.
— Значит, сколько нас? Ты, я, близнецы… Матвей Бискупович, Янка Клейна, Кирдун, Павлюк… Восемь человек. И еще Кондратий с шестью полесовщиками. Т-так. Ну, этих сразу отправляй в Милое. Пусть держат церковь. На всякий случай.
Цепочка всадников проскакала к Равеке, вспенила воду, выбралась на сухое и прямиком, через поле, направилась в сторону Милого.
— Ну вот, — сказал Алесь, — двинулись. У ограды берем ее и скачем во весь дух. Коней не жалеть. На случай, если тревога, ты ее, Мстислав, берешь и скачешь, а мы…
— Кто с ней собирается венчаться? — спросил Мстислав. — Ты или я? Это, брат, не война. Тут — хочешь не хочешь — будешь удирать первым. Конуты с тобой… Нет… Павлюк с тобой и Янка…
— А я? — спросил Андрей.
— Ты с Кондратом и я прикрываем, — сказал Мстислав.
Он рассмеялся:
— Если у кого из вас коней подобьют, останется Ян Клейна. Его в темноте не поймают.
— Завидуешь? — весело спросил арап.
— Что-то ты меня забыл? — сказал младший Бискупович.
— Ну, ты, конечно, со мной. Вместе вредили — вместе и отвечать… Так давайте, хлопцы, по стременной — да и к Раубичам.
Выпили из бутылок. Кребс подвел коней.
— Пистоли в саквах.
Возмужавший решительный Павлюк первым вскочил в седло.
— Торопится наш академик, — сказал Кондрат. — Как будто это ему жениться.
— Два курса осилил, — грустно улыбнулся Андрей. — И не убоялся «бездны премудрости».
Тромб затанцевал под Алесем.
Загорский взял поводья Косюньки. Янка Клейна с ружьем вскинулся на Ургу.
— Кони немолодые, — сказал он.
— Ничего, — ответил Кребс. — Кони верные. Если уж сложить голову, то с конями, с которыми жизнь прожил.
Кортеж тронулся. Кребс встряхнул головой — дала себя знать водка — и счастливо рассмеялся:
— Вот это жизнь! Не жизнь, а баллада.
Шагом, чтоб преждевременно не утомить коней, скрываясь, где можно, в оврагах, минули луга. Возбуждение нарастало. Когда подъезжали к ограде парка, Андрей совсем забылся и неожиданно для самого себя затянул:
Вой жа вы коні,
Коні,
Коні,
Ночка цёмная…
— Тьфу, — сказал Алесь. — Ты конокрад, что ли?
Кондрат дал Андрею подзатыльник.
Алесь чувствовал, что боится в этой компании, видимо, только один он. И не за себя, а за то, что может все сорваться. А остальные словно пьяные. Им легко. Сорвется дело — и все. В худшем случае шею свернут, упав с коня. А как быть ему, Алесю?
В душе, однако, он их оправдывал. На из месте и он бы веселился.
— Алесь!
Он взглянул сквозь ограду в парк и увидел ее. Она бежала вдоль ограды, касаясь ее рукой. Искала и не находила места, где был подготовлен лаз.
Кондрат помчался вперед:
— Сюда! Сюда! Майка, сюда!
Она бежала к пролому, который он показывал. Странно- ей еще рано было появляться. И вещей не было в руках.
Он понял почему, услышав какой-то шум в глубине парка. Что-то помешало.
— Сюда, Михалина, сюда!
Руки Кондрата подхватили ее. Потом Когут как бы вырвал ее из-за решетки, поднес к лошадям.
Алесь наклонился, подхватил на руки, поднял с таким ощущением, что мог бы подбросить и до неба, усадил в седло Косюньке. И только теперь догадался, что могло насторожить Раубичей.
На Михалине были штаны и две полосы из шотландки, которые образовывали как бы платье, разрезанное по бокам. Ничего похожего на обычную польскую или русскую амазонку. Не для шуточек, не для прогулочек, как та. Настоящий наряд для скачек не на жизнь, а на смерть. Решилась, решилась на все. Насторожила всех.
— Глупышка, глупышка моя!
Парком бежали к ограде какие-то люди. Он не видел в полумраке — кто.
— Ходу! Ходу, хлопцы! — хрипло сказал он.
Кони рванули с места. Закурилась пыль, потянулась длинным шлейфом. Цокот подков пронесся в холодноватом вечернем воздухе.
Садилось за горизонтом слева огромное холодное солнце. Почти стоя в стременах, наклонившись, оторвав тела от высоких лук седел, они мчали в сумерки бешеным галопом, когда не обращают внимания, что на дороге, что вокруг.
* * *
Церковь в Милом была храмом-крепостью. Других здесь, пожалуй, и не строили четыреста-пятьсот лет назад. Огромный прямоугольник со стенами в две сажени толщиной, с круглыми башнями на каждом углу. Окна-бойницы только на высоте четвертого этажа, в три яруса — для нижнего, среднего и верхнего боя. Крутые крыши из свинцовой черепицы. Низкие двери, окованные железом, с решетками. Вокруг — ров.
Церковь возвышалась над всей округой, и когда кавалькада подлетела к стенам, люди увидели где-то далеко-далеко, верст за десять, и возле Раубичей мелкие точки факелов.
Алесь снял Михалину с коня.
— Кребс, берите коней и гоните с ними в Вежу.
Мстислав указал на факелы.
— Не теряйте времени. Давайте, Кребс, быстрее! Если начнут стрелять, пусть Вежа знает: сдаваться не будем, хотя бы они сюда полк привели.
— Заходите в церковь, — скомандовал Мстислав.
Закрыли за собой дверь.
В церкви все было подготовлено. Священник, конечно, не мог одобрять этих богомерзких побегов, но связываться со старым паном боялся еще больше.
Алесь не мог и представить, что все это происходит с ним, что для него звучат голоса певчих, что это для него лежат на аналое крест и Евангелие, что друзья сошлись сюда тоже для него и на веселье и на смерть, которая вот-вот может прискакать к этим стенам.
И он не мог и подумать, что эта девушка слева связывается с ним всем этим во что-то последнее и неразрывное.
Он искоса смотрел на Михалину и удивлялся даже тому, что она здесь. Какая-то чужая. Большое счастье, что Мстислав позаботился о платье: знал, что могла ничего не успеть взять.
Удивительно, какая чужая она стояла рядом с ним. И этот отблеск свечи, которую дает ей в руку священник.
Вслед за этой мыслью он ощутил жгучий стыд. Изменой это можно было назвать, вот чем.
И все же это кольцо, что сейчас взяли с престола… Надо что, обменяться им? Трижды? Что это означает? Что взаимно будут облегчать жизненные трудности? Откуда он знает, какие они, эти трудности, кому надо делать облегчение? Он ведь не знает даже ее, той, с которой навсегда желает связать жизнь! Она, жизнь, может быть навсегда и очень длинной, а может и окончиться через час от залпа, который рванет по галерее, со двора. И, однако, он знал, чем рисковал, идя сюда.
Голос священника задушевно-умильный. Он закатывает глаза.
Алесь снова покосился на нее. На губах блуждает улыбка. Огоньки свечей отражаются в синих, как морская вода, глазах.
Суровые лица друзей были у стен и вокруг. И среди них, рядом с ним, стояла она, готовая на все.
— Господи боже наш, славой и гонором венчай-я, — донеслось до него.
Ковшик с вином у губ. И вот ее рука в его руке. Неизвестно откуда возникла вдруг радость. Лишь одно прикосновение рука возвратило ее — и теперь уже навсегда… навсегда… навсегда…
Он повторял это слово, как клятву.
Окружили друзья. Пошли в окружении их к ступенькам на хоры. Поднялись почти до половины винтовой лестницы, когда снизу, от двери, долетел сильный и гулкий, как в бочку, звук — ударили чем-то тяжелым.
…С высоты галереи они увидели испятнанный факелами луг и всадников. Человек пятьдесят.
У самой двери в церковь стоял удивительно маленький Франс Раубич. Немного дальше, возле коней, стояли молодой и старый Ходанские. Еще дальше — Раубичева шляхта, Браниборский, еще и еще люди, Мнишек.
— Открой, — сказал побледневший Франс.
— Что тебе нужно, Франс? — спросил Алесь.
— Вор, — сдавленным голосом сказал Франс.
Возможно, он и не сказал бы этого, если б не жег стыд перед Ходанскими.
— Вор теперь ты, — спокойно ответил Алесь. — Здесь нет теперь Майки Раубич. Здесь есть моя жена перед богом и людьми — Михалина Загорская… Я советую тебе лучше ехать домой, Франс. Мы можем встретиться потом, если хочешь.
Франс развел руками.
— Видимо, хватит, — сказал он. — Давайте бревна, люди.
— Не делай того, о чем пожалеешь, — предупредил его Алесь. — Я люблю тебя, брат. Ты действительно теперь мой брат. Не я начал распрю. Я всегда хотел, чтоб был мир. Нам опостылело, что из-за глупой ссоры гибнут наши лучшие годы. И потому я вынужден был пойти на этот шаг, хотя я очень сожалею, Франс, и прошу твоего прощения.
Раубич, казалось, не знал, что ответить.
— Вишь, запел, — вмешался Илья Ходанский.
— Я не трус, Франс, ты знаешь. Я просто хочу мира. Не обижай своей сестры, а моей жены.
— Хватит, Франс, — сказал старый Ходанский. — Ты можешь идти. За оскорбление отплатим мы.
— Как? — спросил Франс.
— Она станет вдовой Загорского, не успев стать его женой.
Алесь мрачно бросил:
— Я не хочу твоей крови, Франс. И ты запомни: что б ни случилось, я никогда не стану стрелять в тебя. Мне дорога моя жена.
— А если выстрелю я? — спросил Франс.
Алесь пожал плечами.
— Не унижайся! — рявкнул вдруг Мстислав.
— Я не унижаюсь, ты видишь.
— Мы ему не дадим расстреливать тебя, — побагровел Павлюк. — Я буду стрелять. Слышишь, я?!
— Слышишь, Франс? — спросил Алесь. — Возможно, они. Но не я.
— Открой, — сказал Раубич, — не позорь нас.
— Я не могу этого сделать, — спокойно сказал Алесь. — Я не верю вон тем. Я склонил на это дело друзей и отвечаю за их жизнь и безопасность.
Франс отошел от двери. Ему что-то горячо говорил Илья Ходанский. Раубич обхватил голову руками. Ходанский продолжал, Франс кивал головой. Потом глубоко вздохнул и окинул взглядом церковь.
— Франс, — снова сказал Алесь, — одумайся, пока не поздно.
Вместо ответа раздался выстрел. Стрелял кто-то из дворян, окружавших старого Ходанского. Осыпалась штукатурка над головой Алеся.
В ответ галерея залопотала негромкими выстрелами.
— Люди! Люди! Одумайтесь! — кричал Алесь. — Что вы делаете? Люди!
Замолотило свинцовыми бобами по свинцовой черепице над головой.
Мстислав сунул в руки Алеся ружье.
— Бей! Бей и не кричи! Они это не так поймут!
И тогда Загорский, захлебываясь гневом и отчаянием, припал к прикладу.
Ружье было новое, пистонное. Оно неожиданно удобно легло к плечу. Алесь увидел на конце ствола голову Ильи Ходанского и нажал на курок.
Илья схватился за голову и медленно завалился назад, на руки друзей.
— Неужели убил?
— Ну и черт с ним, если и убил, — прохрипел справа арап.
— Не убил! — вдруг почти радостно крикнул Андрей Когут. — Нет! Видишь, встает. Видать, только оглушил.
«Ра-та-та! — сыпануло по черепице — Ра-та-та!»
— Вишь ты, — сказал Кондрат — Этак запросто и убить могут.
Выстрелы с галереи постепенно словно опоясывали церковь.
Янка Клейна, первый из раненых, сидел на каменных плитах пола и, ругаясь, накладывал корпию на простреленный мускул предплечья.
Мстислав присматривался, что происходит внизу.
— Гляди, — сказал он. — Вот негодники.
Люди внизу устанавливали две пушки. Парадные. С Раубичева крыльца.
Алесь почувствовал холодок в позвоночнике. Холод прокатился куда-то вниз и исчез в ногах.
— Эта, если и не прицеливаясь, в голову поцелит, — сказал Кирдун, — то, наверно, дырка будет с дворец пана Вежи.
Воцарилось молчание. Старый Кондратий медленно перекрестился.
— Пушки, — сказал один из полесовщиков.
Кондрат Когут обвел всех глазами.
— Мы народ серьезный, — сказал он, — шутить не любим.
Со свистом хлестанула по балюстраде и крыше картечь.
— Хватит шутить, хлопцы, — сказа Мстислав. — Бейте по пушкам, иначе живыми не выйдем.
Алесь высунул голову. Илья Ходнский подносил пучок ярко горящей пакли к запальнику. На голове у Ильи белела повязка.
И вдруг что-то случилось. Чья-то рука выхватила фитиль из рук графа.
— Стойте, хлопцы, — недоумевая, сказал Мстислав. — Не стрелять. Баба.
Действительно, среди людей, что держали осаду, появились две женские фигуры.
— Иди домой, Франс, — сказала Клейна. — Там сейчас одна Ядвинька. Она боится. Даже лекаря еще нет. Послали в Вежу.
— Это зачем?
Клейна не ответила. Она взяла жену Раубича под руку и двинулась с нею к церкви.
— Эй, — сказала она, — бросай оружие! Янка, это ты там, паршивец? Бросай оружие, говорю.
Янка смущенно крякнул.
— Мужики-и! — сказала Клейна. — Войны им не хватало. Женам да матерям стоило б за вас взяться. Да чтоб каждая по голове так треснула, чтоб аж Москву увидел… А ну, бросай оружие! Кто там главный? Загорский молодой? А ну, поднимайся, они стрелять не будут. Да Михалину сюда, шкура б на ней горела!
Павлюк и Андрей побежали за Майкой, привели.
— Ты что же это наделала, а? — спросила грозно Клейна. — Видишь, мать едва на ногах держится. Кончай войну, Михалина!..
Майка молчала, сгорая от стыда.
— Плохие дела, доню. С твоим отцом удар.
Сложила руки.
— Михалина, сойди. Богом клянусь, никто не тронет. Иначе Франсу придется в мать стрелять, а другим в женщину. Сойди, дочка. Сделаем вид, что ложная тревога… Может, ему и жить недолго.
Майка смотрела на Алеся.
— Не знаю, Михалина.
— Алесь, — сказала Клейна, — не упрямься. Съедешь отсюда месяца на два подальше от властей, пока мы здесь будем круговую поруку держать. Вернешься, — может, пан Ярош к этому времени выздоровеет. А тогда — слово тебе даю — сама ее приведу.
Алесь смотрел в землю.
— Алесь, — прошептала Майка.
— Иди, — сказал он. — Я подожду. Я тебя всегда буду ждать.
— Я тоже буду ждать, Алесь.
Она двинулась по ступенькам вниз. Скрылись ноги, грудь, плечи. Голова, которая напоследок вскинула на него большие глаза и печально склонилась.
Лязгнули внизу запоры. Потом Майка появилась рядом с Клейной и та положила ей на плечо руку.
XII
Алесь шел улицами Москвы. Мартовский набухший снег мягко поддавался ногам. Сверкали неподалеку купола кремлевских соборов. Пролетали иногда из Замоскворечья на Манежную купеческие тройки — начиналась масленица.
Загорский снял шапку, проходя мимо Иверской, а потом остановился и начал смотреть на площадь. Второй месяц он жил в Москве, и каждый раз грозной и гордой красотой поражал его этот уголок земли.
Вернуться к берегам Днепра все не получалось. Правда, история с Майкой понемногу забывалась. Сразу после штурма церкви в Милом Клейна завезла Михалину в Раубичи, успокоила пана Яроша и решила уехать вместе с Михалиной и Ядвиней на пару месяцев из округи.
Сразу начала действовать круговая порука. Под давлением общества даже Ходанские, которые не хотели врать, вынуждены были сказать, что никакой осады не было.
Пан Ярош понемногу выздоравливал. Отпустило. Но про Алеся с ним боялись даже начинать разговор.
Однако это было не самое страшное. Значительно хуже было другое. Алесь не хотел ожидать, пока выйдет подготовительный манифест об отмене крепостного права. И Кастусь с этим соглашался: если они желали иметь поддержку среди окрестных крестьян, их надо было отпустить на волю как можно быстрее. Мужики сорока с лишним деревень должны были быть освобождены раньше других, чтоб они почувствовали, от кого получили волю, и в будущем верили б во всем этому человеку.
Загорский так и сделал. Шла переписка с Выбицким и Вежей. Еще осенью началось массовое засвидетельствование документов об освобождении.
Мужиков освобождали с самым минимальным выкупом (только чтоб не вопили соседи) и с передачей в полную их собственность той земли, которой они владели еще при крепостном праве. В отпускных было оговорено, что если дела бывшего пана с сахароварнями и другим пойдут хорошо, мужицкий надел может быть увеличен за счет панской земли.
И вот тут произошла странная вещь. Что шипела окрестная шляхта, это было понятно. Шипела, но боялась, прижатая старым Вежей, который, кстати, своих крестьян переводил только на легкий оброк, давая возможность Алесю хозяйничать в своих деревнях лишь после своей смерти.
Что начальство советовало отказаться от освобождения, тоже никого не удивляло. Побаивались бунта в окрестностях. И ничего, однако, не могли поделать. Пан был хозяином, и в его действиях не было безумия. Подожги он свой собственный дворец — дело иное, тогда и опеку можно было б ввести. А так они только советовали и уговаривали, нажимая на то, что освобождение все равно скоро придет и во время этого ожидания свободные деревни среди крепостных будут, как фитиль, забытый в бочке с порохом.
Удивляло другое — ворчанье мужиков. Повсюду оно было скрытым, но в Татарской Гребле и Студеном Яре вылилось чуть не в мятеж. Крестьяне отказались от освобождения.
Долго никто ничего не понимал. И только потом по окрестностям пополз неизвестно кем пущенный темный слух:
— Не берите, хлопцы, — обманут. Царская воля выгоднее. Никакого выкупа, земля — вся. Обман задумали. И на сахароварни не идите. Опять заневолят…
Алесь написал Кастусю и получил совет: обусловить в отпускных, что если надел и выкуп «царской воли» будут более выгодными для мужика, он, Загорский, соответственно увеличивает надел или отменяет выкуп.
…И тут, в ясный февральский день, запылала недавно застрахованная сахароварня. Та самая, с двумя верхними деревянными этажами, которые Алесь все собирался заменить каменными. Подожгли неизвестные люди. Вряд ли «Ку-га». О ней со дня разговора Вежи с Таркайлой никто не слыхал. Скорее всего кто-то из Гребли.
Сгорела дотла. Вспомнили о страховке. Угрожал суд. Спасло лишь то, что в «отпускных» было оговорено о сахароварнях. Только сумасшедший будет, отпуская людей, уничтожать свое же имущество.
Алесь рвал на себе волосы. Люди не хотели благ. Люди мстили неизвестно за что, отдавали журавля за синицу в небе.
Надо было немедленно возвращаться на родину.
Третий день в Москве Кастусь. И сегодня совещание о дальнейших действиях организации. Поприсутствовать и уехать. Ближе к делам.
…До «Вербы»[159] было еще далеко, но у стен несколько человек торговали книгами. Книги лежали на настиле из лапника и на столах.
Здесь и должен был встретиться Алесь с Кастусем. Алесь стоял возле одного из торговцев, небритого человечка с пустыми глазами, и начал от нечего делать перекладывать книги. Человечек смотрел на него свысока, словно это он, Алесь, торговал всеми этими письмовниками, старыми календарями и разрозненными подшивками «Северной пчелы».
А это что?
«И что собрала посохомь вымлатила и знашла ячменю… три меры».
Что такое? Пальцы листали страницы.
«Ту справа всякого собрания людского и всякого града еже верою соединеннемь ласки и згодою посполитое доброе помножено бываець».
Алесь листал дальше.
«Предъсловие доктора Франьциска Скорины з Полоцька во всю бивлию…»
Алесь заставил лицо быть спокойным.
— Продаете?
— Берите, господин.
— Ну, и скажем, сколько? — безразличным тоном спросил он.
— Если три рубля дадите…
Алесь повертел книгу в руках.
— Хорошо… Возьмите…
Алесь отошел от торговца, не чувствуя под собой ног. Все, кажется, было вокруг таким же, как и раньше. Те же стены, площадь, облака над ней. То и не то.
Освобожденная от участи быть оберткой для селедки, лежала у него на ладони книга. Лежала и молчала.
Он чувствовал, что задыхается.
Торговали Скориной. Торговали древностью. Торговали всем: разумом, правдой, совестью.
— Здорово, Алесь, — раздался за спиной голос Кастуся.
— Здорово. Идем? Нам далеко?
— Больше часа хорошей ходьбы, — ответил Калиновский. — Возле Дмитровского тракта. Хуторские пруды.
— Так, может, извозчика?
— Возьмем на Тверской, у Страстного монастыря. Давай немного пройдемся.
Спустились к Охотному ряду.
— Знаешь, что у меня есть? — спросил Кастусь.
Глаза Калиновского смеялись. Он засунул руку за пазуху и вытащил оттуда край газеты, которую по одному виду Алесь отличил бы от тысячи других.
— «Колокол» за восемнадцатое февраля. Считай, свеженький. И в нем первый за все время призыв к восстанию.
— Кто?
— Неизвестный. Подпись «Русский человек».
— Из Лондона?
— Нет, отсюда. Письмо из русской провинции. Возможно, хлопец вроде Волгина.
— Как пишет?
— «Наше положение ужасное, невыносимое, — сурово и тихо наизусть шептал Кастусь, — и только топор может нас спасти, и ничто, кроме топора, нам не поможет. К топору зовите Русь!..». Вот так, гражданин нигилист Загорский. Понятно?
— Положение действительно невыносимое, — сказал Алесь, — он прав. Как думаешь, реформа будет обманом?
— Она ничем иным быть не может, Алеська. Ругали Ростовцева, а как подох, так выясняется, что он еще ничего себе был. Это у нас всегда так: «Явился Бирюков, за ним вослед Красовский. Ну, право, их умней покойный был Тимковский». Слыхал, что Панин на месте Ростовцева откалывает?
— Ну вот. Тогда и начнем, когда поймут обман. Раньше мужика на бунт не поднять. А без него мы перелеты, пересохшие у корня.
— Давай, брат, на минутку сюда. Неизвестно, когда встретимся.
Над дверью была вывеска:
«ДАГЕРРОТИПНАЯ МАСТЕРСКАЯ М.М.ГРИНЧИКА».
В большой комнате их усадили в кресло на фоне туманного — каких не бывает — пейзажа. Зажимами прикрепили руки к подлокотникам, невидимой скобой укрепили головы так, что ими нельзя было шевельнуть.
— Вот так нас казнить будут, — сказал шепотом Калиновский.
— Тьфу на тебя… Тьфу! — засмеялся Загорский.
Гринчик, очень похожий на печального журавля, погрозил пальцем:
— Молодые люди, это не шутка. Не у всех хватает духу не смеясь просидеть перед камерой-обскурой пять минут. Вам один снимок?
— Два.
— Тогда десять минут, — с видом безучастного инквизитора сказал печальный журавль. — И не шевелиться, если не хотите получить вместо лиц фату-моргану. Я имею парижскую медаль. Я привез удивительную новинку сюда. Жалоб на меня нет. Я работаю исключительно на серебре. Не то что некоторые «новаторы» — на медных пластинках. Они б еще бумагу придумали или полотно, как художники. Это же дико! Человек делает хороший дагерротип раз, много — два в жизни. Он должен быть вечен, дагерротип. И для внуков, которых у вас, видимо, пока еще нет.
Их закрепили так, что шевельнуться было нельзя.
Гринчик положил Библию на колени Алесю.
— Вот так. Вы интересуетесь старой книгой, господа студенты. Вы словно бы задумались на миг. Меланхолия в глазах. Представьте себе: вы задумались над судьбой этой книги. Вас она интересует.
— Представьте себе — она нас действительно интересует, — сказал Кастусь.
— Тем лучше. Не моргайте.
Зашипел калильный фонарь. Серебряная сеточка начала лить прямо в глаза невыносимо яркий свет.
…Когда они наконец вышли на улицу, резало в глазах. Растирая одеревеневшие мускулы шеи, Кастусь захохотал.
— Как с виселицы сняли. Вот, наверно, балбесы получатся! Ужас! Глаза остановились, лица неестественные.
— Ничего, «для внуков» сойдет. Полагаю, однако, получится неплохо. Видел я дагерротипы. Довольно естественно. Конечно, не портрет, но нам будет память.
Кликнули извозчика. «Ванька» поторговался и повез.
— Как Виктор? — спросил Алесь.
— Снова стало хуже. Очень хочет увидеться с тобой.
— Пусть наконец возьмет у меня деньги и едет на Майдеру или в Италию. Людвик Звеждовский где?
— В Вильне. Начал работу там.
— Надо ему связаться с моим Вацлавом. У него много друзей среди молодежи.
— А Валерий?
— Инспектор егерьского училища в Соколке.
— Это что, специально Гродненщина?
— Надо и там кому-то быть.
— Домбровский как?
— По-прежнему в академии. Он ведь моложе.
…В окно были видны голые деревья, редкие домики далекой окраины, зеркала двух небольших овальных озер. За столами сидели хлопцы из московского землячества. Четверо. Ни с кем из них Калиновский Алеся не познакомил, и по одному этому было ясно, насколько серьезное начиналось дело…
Кто-то сжал ладонями виски Алеся, не давая повернуть головы. Загорский все же выкрутился:
— Сашка, Сашка, друже!
Сашка Волгин стоял за его креслом и улыбался во весь рот.
— Ну, брат, утешил!
— Давно началось? — шепотом спросил Сашка.
— Давно. Теперь толкуют о методах.
— Методы обычные, — сказал Сашка. — Взять бы этих vieilles ganaches[160] за чуб да о мостовую головой. Доруководились. Худших властителей нет во всем мире. Паскудят русское имя.
Алесь тихо рассмеялся.
— Э, брат, насчет нас с вами у моего деда есть добрая присказка-байка.
Они разговаривали шепотом, боясь помешать другим.
— Бог делил между народами землю. Одним то, другим это. Пришли белорусы… Очень уж господу богу понравились. Он и начал наделять: «Реки вам даю полные, пущи немеренные, озера неисчислимые. Зноя у вас никогда не будет, а холодов и подавно. Зажраться на богатой земле не дам, чтоб были ловкими, смекалистыми, трудолюбивыми, но и голода у вас никогда не будет. Наоборот, в голод более богатые люди будут к вам приходить. Не уродит хлеб, так уродит бульба. А еще звери и дичь в пущах стадами, рыба в реках косяками, пчелы в бортях миллионами. А травы — как чай. Не будет голода. Женщины у вас будут красивые, дети здоровые, сады богатые, грибов и ягод — завались. Люди вы будете талантливые, на музыку, песни, стихи способные. На зодчество тоже. И будете вы жить да жить, ну как…» Тут его Микола в бок толкает: «Господи боже, да вы подумайте. Это же вы им рай отдадите! Это же вы… бо-же мой!.. Да они при их языкастости туда из настоящего рая всех переманят! Они же языком мелют — дай бог нам с вами». Бог подумал, крякнул, но обратно ведь отнимать не будешь. В самом деле, есть уже она, земля. Лани бегут — лес шевелится. Рыба челны из воды вытесняет. Деревья — до солнца. «Хорошо, говорит, земля будет рай. А чтоб не слишком вы перед моим раем нос задирали, дам я вам самое худшее в мире начальство. Оно вам того рая немного убавит, да и спеси чуть-чуть с вас собьет. Это вам для равновесия». Вот оно как!
Сашка Волгин невесело рассмеялся.
— Хуже всего, что это правда, Алесь.
— Вот так и живем.
— Ничего, брат, недолго.
— Ты что делаешь?
— У меня русский сектор. Большинство — офицеры. Есть и студенты.
— Много?
— Пока что немного. Пятьдесят два человека.[161] Будет больше.
— Это большая радость… Это уже не мы одни, а союз. В самом деле, утешил, брат. Вместе ведь и в аду хорошо.
Рассмеялись.
— Стоит один вопрос, — поднялся Кастусь. — Что будем делать дальше? Сколько можно ожидать! Вот вы, из Могилевщины, какое у вас положение с крестьянским вопросом?
Алесь не сразу понял, что вопрос адресован ему. Поднялся.
— Положение плохое. По губернии двести восемьдесят тысяч крестьян в закладе… Разрешите спросить остальных.
— Спрашивайте, — сказал Кастусь.
Они держались как незнакомые.
— Вы, кажется, из Витебщины? — спросил Алесь у высокого белокурого хлопца. — Судя по говору…
— Из Витебщины.
— Сколько заложенных на Витебщине?
— У нас двести десять тысяч.
— Я с Минщины, — сказал худощавый беловолосый юноша. — У нас заложенных двести восемьдесят восемь тысяч.
Чернявый, похожий на испанца молодой человек резко блеснул угольными зрачками.
— Я из Гродни. У нас сто девяносто семь тысяч душ в закладе.
Алесь обвел всех глазами.
— Вильнянина здесь нет, но и там не лучше. И вы еще спрашиваете, что нам делать?
Кастусь в знак одобрения наклонил голову.
— Около миллиона крестьян предано своими так называемыми хозяевами, которые должны заботиться о них. Хозяева сами подняли вверх руки, сами взяли у государя деньги за этих людей. Ценой их крови и страданий приобрели себе возможность роскошествовать. И тем самым утратили право на человеческое к себе отношение. И если они сами отдают народ во власть палачей, не могут быть хозяевами — мы должны отнять у них это право. — Глаза Алеся были мрачные и решительные. — Я предлагаю: людей освобождать и крестьян наделять землей. Я предлагаю: господ, которые грабили народ, выселять из страны, лишать нажитого богатства, а кровопийц — расстреливать. — Сел.
— Правильно, — сказал Кастусь. — Пусть представители Московского землячества выскажут свои суждения о подготовке и сроках восстания. О методах восстания. Мы сведем их в одно с мыслями других землячеств и организаций.
Люди думали.
* * *
Возвратившись в Приднепровье, Алесь вплотную приступил к вербовке людей. Дело пошло неожиданно легко. Плохо поддавались агитации, пожалуй, одни крестьяне. Да и среди них с помощью Когутов удалось навербовать около трех сотен людей. Молодые дворяне из небогатых легко и охотно шли в организацию. Уже теперь, если б нужно было восставать незамедлительно, Приднепровье в той зоне, где действовал Алесь, могло б выставить около трехсот кос и шести сотен багнетов. А еще в северной части губернии действовал Людвик Звеждовский («белые» пробили на должность своего, не зная, что этот свой за последнее время сильно «покраснел»).
Словом, было на кого опереться. Разве что предательство. Но и оно благодаря системе десяток не могло распространиться широко.
Алесь знал: до намеченного ими срока восстания оставалось еще три года. Лето шестьдесят третьего. За это время можно было многое сделать. А если реформа разочарует людей, те, которым он дал землю уже теперь, тоже возьмутся за косы. До июня перевод крестьян на свободное положение был почти завершен. Тысячи бывших его мужиков были свободны: дополнительный пороховой заряд.
Этот год был светлым годом. Казалось, что начинается снова «весна народов». Свежий ветер веял над миром. В Америке северные фермеры с ружьями шли на рабовладельцев, и, хотя им приходилось тяжело, люди надеялись на них и верили в их мужество.
В конце апреля Гарибальди с тысячей отчаянных и смелых людей высадился в Сицилии, где ярко пламенело восстание против неаполитанских Бурбонов. Обрастая людьми, беспрестанно побеждая, тысяча двигалась, становилась многими тысячами, выбрасывала врагов из городов и деревень. В том же самом году Гарибальди освободил королевство обеих Сицилий. Ожидал похода на Рим. Разделенная еще с Юстиниановых времен, растерзанная на части, залитая кровью Италия поднималась единой во весь свой исполинский рост. Наполеон говорил когда-то, что итальянцы любят болтать о свободе родины… в кроватях своих любовниц. Теперь от этих любителей поговорить смазывали пятки австрийцы и Бурбоны. Потому что итальянцы разговаривали теперь языком оружия, и так, как подобает мужчинам.
С шестого столетия, со дня злосчастной гибели Тейи, короля остготов, была реставрация Юстинианом рабства, пожары, крепостничество, тирания церкви, грабительство кондотьеров, инквизиция или власть торговцев. Лоскутная, истерзанная страна, вечные захватчики — от византийцев и испанцев до австрийцев.
И так на протяжении тысячи трехсот лет. Довольно сильный заряд оптимизма для всех, кто не желает и не умеет ждать. Достаточно большая школа выдержки. И когда всем казалось, что уже все, — богатырь поднялся, доказывая этим, что н и к о г д а н е п о з д н о.
Никогда, если речь идет о свободе, о свете завтрашнего дня.
У юношей загорались глаза, когда они смотрели на запад. У них трепетали ноздри, ловящие ветер свободы.
— Жить! Жить! Воевать за свободу! Уничтожить рабство! Воевать за право, за счастье, за отчизну!
* * *
Мстислав Маевский ехал верхом в Озерище. Надо было повидать Когутов, поговорить о том о сем, а главным образом встретиться с Яней.
Хлопец вначале удивлялся, почему его так тянет к этой девочке, а когда понял, было поздно, попытался сам себя уговорить, что это обычная романтическая история в духе: «Здравствуй, добрая дева, не откажи запечатлеть на твоем невинном челе братский поцелуй, ибо и крестьянки любить умеют, под сению дерев пляша», — ничего не помогало.
Теплым взглядом окидывал хлопец из-под русой чуприны Днепр, молодую зелень на его берегах, само Озерище, красиво раскинувшееся над рекой. Не знал, что делать. Собрался было вместе с Кастусем поступать в военное заведение. Использовать льготы для студентов, окончивших университет, и дворян. Что-то и у Кастуся не ладится. Диссертации еще не представил, в кандидаты, значит, зачислен условно. Из штаба военного заведения что-то нет ответа. Да и чему удивляться. Недоверие к местным людям большое, а тут человек, который знает право, финансы, статистику, политическую экономию, сельское хозяйство, технологию и другое, желает еще получить и военные знания. Нет уж, хватит. Черт знает, что из таких людей может получиться при распущенности современной молодежи. Возможно, якобинские министры.
Мстислав засмеялся. Кастусю не везло, а ему, Мстиславу, тем более. Генералов из них не выйдет. Что ж, один займется теоретической подготовкой мятежа, а второй станет неплохим поручиком. Поручики восстанию тоже понадобятся. А кем, интересно, будет Алесь?
Из придорожной корчмы, за которую садилось солнце, летела жалобная песня:
І чарка мала, і гарэлкі няма.
Міла, міла не цячэ, каля сэрца пячэ.
Сидит, видимо, какой-то влюбленный бедолага и плачется на горькую судьбу, обхватив руками лохматую голову.
Мстислав снова задумался, услыхав песню. Пойдет в бунт, возможно, голову сложит, или схватят да расстреляют, или инвалидом сделают. Что тогда делать девчине? Ах, боже ты, боже. Как бы хорошо было, если б все уже миновало, если б победа. А тут врагов — гурт. Лают на честных людей. Не позволят так сразу через кровь перепрыгнуть…
Мстислав прямиком направился к курганному захоронению за Озерищем.
Янька была уже там. Мстислав соскочил с коня.
— Вечер добрый!
— Стафану плохо. — Свежее личико Яньки сморщилось, горестно задрожали брови.
Стафану действительно не помогали ни лекаря, ни лекарства. Надеялись, что, может быть, природа свое возьмет, и делали для него все, постоянно оставляли с ним кого-то из братьев или Марту с Рогнедой, чтоб не был одинок.
— Посидим немного, да я пойду к нему, — сказал Мстислав.
— Сидеть не надо. Лучше походим.
Они шли берегом. Яня, опустив глаза, обрывала молодую веточку вербы.
— Мне молодую листву жаль. Смотри, какая зеленая.
— И правда. Я не буду больше.
Подошла к обрыву, бросила веточку в реку.
— Ты не думай, — глаза Яньки смотрели немного испуганно, — она в воде оживет, выплывет где-то у берега и укоренится.
— Конечно, укоренится.
И вдруг Янька всхлипнула.
— Вербе можно, человеку вот нельзя. Как срежут его, так уже все.
Мстислав растерялся:
— Ничего. Обойдется…
— Нет… Нет уж, видать… Не жалуется Стафан, нет… Помнишь, как на свадьбе его весело было?
— Запой ту, что тогда Марта пела, — попросил Мстислав, — запой. Вот увидишь, ему сразу легче станет.
— Правда?
Янька доверчиво взглянула на него, глубоко вздохнула и затянула тихим, дрожащим голоском свадебную песню.
Мстислав шел и вспоминал радость тех дней: и как ездили на рыбную ловлю перед свадьбой, и как шутили с Галинкой Кахно, и как было весело. Нет, ничего не могло случиться со Стафаном.
Няхай яна ранюсенька ўстаець,
Няхай яна хатку, сенькі падмяцець,
Няхай яна на вулку шумку не нясець,
Няхай яна на шуметнічку пасыпе,
Няхай яна і ножкамі прытопча,
Няхай яна і слёзкамі прымоча.
Они шли навстречу багровому огромному солнцу, что наполовину село в заводь Днепра. Мягко ступал за ними утомленный конь.
Нашы курачкі трапятлівыя разграбуць,
Нашы жоначкі лепятлівыя разнясуць.
— Няхай вашых курэй каршун дзярэ,
Няхай вашых жонак смерць пабярэ.
Янька вдруг всхлипнула и села в траву, как будто у нее подкосились ноги. Он опустился рядом с нею, робко погладил по золотым волосам.
— Ну что ты? Что?
Взял ее за плечи и силой отвел ладони от глаз. В глазах были слезы.
— Кто же это мог? — сквозь слезы сказала она. — Как поднялась рука на такого? Тихий, кроткий. Ребенок останется. Ну, ничего. «Сиротские слезы даром не минают, попадут на белый камень — камень пробивают».
Мстислав поставил ее на ноги. С минуту колебался и вдруг осторожно поцеловал в распухший, соленый от слез ротик.
— Не надо, — глухо сказал он. — Если даже что-то и случится, я тебя не оставлю. Отцом буду. Братом буду. Мужем, если хочешь, буду.
* * *
Стафан сидел на завалинке, зябко кутаясь в чугу, и ввалившимися глазами смотрел на залитый багрянцем сад и на солнце, что садилось за ним. Подошел Кондрат, но старший его словно и не заметил. Лицо желтое и в пятнах, взгляд отсутствующий.
Кондрат осторожно положил ему на руку, что лежала на коленях (вторая сжимала на груди отвороты чуги), двух убитых дупелей.
Стафан пощупал рукой ржавые мягкие перья и скривил губы в улыбке.
— Жа-аль.
— Тебе сегодня сварим. Ничего. Еда, брат, панская.
— Все равно жаль.
Кондрат присел.
— Дай ружье, — сказал Стафан.
Взял двустволку сухими, как куриные лапы, пальцами.
— Тяжелое. Никогда в жизни стрелять не любил. Вот и сам дичью стал.
И опять Кондрата, во второй уже раз, удивило гневное выражение глаз Стафана. Солнце уже едва виднелось над водой.
— Кондратка, — сказал Стафан, — я сегодня умру.
Брат сделал движение протеста.
— Нет, — сказал Стафан, — я знаю. Ты не забыл?
— Нет.
— Исполни. И Кроера тоже. Мне явление было — он.
— А если нет?
— Если даже нет, то этакую погань надо стереть с земли.
— Исполню.
— Убей за сорок дней, пока душа тут… Таркайла… Чтоб душа моя успокоилась. А с тем не спеши. Все добре сделай. А может, и я с того света приду, скажу, он или нет. Чтоб живую душу спасти от напраслины, отпустят.
— Исполню.
— Проводи меня, братка, к реке. Видишь, багровая…
Гнев исчез из глаз больного, и даже улыбка стала прежней, как до болезни. Опершись на плечо Кондрата, он поднялся.
— Ну вот, благослови вас всех. Мне…
Словно потерял мысль.
— Ну вот… Если б выше… Выше… Трошки выше…
Потянулся, словно хотел еще раз увидеть реку. А потом стал опускаться на землю. Так неожиданно, что Кондрат едва успел подхватить его.
* * *
Везли Стафана на кладбище по воде. Еще стоял запоздалый паводок, и к церкви на острове иначе добраться было нельзя.
Шли четыре челна. На переднем стояла корста с покойником. За рулевого — Алесь, провожал покойника брата в последнюю дорогу. Мрачный Кондрат пенил воду веслом. На остальных трех челнах сидели Когуты, Кахновы и родня Марты.
Зелеными облаками стояли в воде рощи. Звенел над крохотной лапинкой суши жаворонок. Тепло, совсем по-летнему, грело солнце.
Не взлетали с островов кулики-турухтаны. Как будто знали, что люди на челнах стрелять не будут. А может, одурманенные половодьем весенней крови в жилах, никого не боялись. Токовали, натопырив перья, ходили друг перед другом, яркие в свадебных нарядах.
Самочки, пристроившись по краям островка, смотрели на самцов.
Ни у кого из местных жителей не поднялась бы рука стрелять по ним в такое время. И турухтаны знали об этом. Небо, вода и островок — все было для них.
Марта на втором челне убивалась и причитала. Это была ее обязанность. Остальные уже малость перетерпели горе… Минул год, и все это время они ждали неминуемого, и когда оно пришло, мало осталось слез.
Разве что у матери.
Старый Данила думал, что и его скоро повезут этой дорогой. И он жалел, что сегодня не его везут вместо Стафана. Хорошо было б почивать в такой день под жаворонком, между небом и землей. И чтоб возле челна токовали турухтаны.
Янька выплакалась еще у курганов, а затем в хате. Алесь думал, как теперь отыскать виновного во всем этом. Мстислав изредка поглядывал на Яньку и налегал на весло.
Один лишь Кондрат глядел на мир мрачно, как демон, сквозь припухшие веки. И чем больше Алесь смотрел на него, тем больше догадывался: этот все знает.
Над водой меж зеленых тучек затопленных деревьев летело причитание:
А я ж за табой на край свету хадзіла,
А я ж за табою ў вагонь лётала,
Сокал ты мой міленькі, каханенькі!
А устану ж, бывала, я раненечка,
А мой жа саколік на палетачках ходзіць.
И хотя все знали, что Марта всегда вставала раньше «соколика», все представляли себе утренние росистые луга, Стафана с уздечкой на плече, гулкий поутру звук далекого бубенчика — и всем становилось горько.
А креветачкі ж ад яго красуюць,
А небачка ж ад яго ззяе.
Зірнеш — мятлушкі ад яго ў вачах лётаюць,
Зірнеш — нібы ігруша белая зацвіла,
Зірнеш — як лісцік кляновы ён прытульненькі,
Зірнеш — сэрца молатам у грудзіну валіць.
Хай бы ж той халера лепей мяне забіў,
Хай бы ў мяне з сэрца кроў высмактаў,
Як жа мне цяпер цяжанька без любага дружачкі…
Караван смерти плыл мимо островов жизни.
Кондрат не смотрел ни на небо, ни на безграничный, как небо, разлив. Еще три дня тому назад он спрятал ружье в дупле дерева у мостика через Озеранку, по дороге на Суходол. Фольварк Таркайла был севернее, и дорога из него в Суходол пролегала возле Озерища. И каждое утро Кондрат выходил на курганы и следил.
Позавчера Тодар возвратился домой с торговцем салом Бруноном Деримедовичем в одной таратайке.
Сегодня утром он повез торговца в Суходол, и Кондрат надеялся, что, может, вечером он будет возвращаться один. Даже если возвратятся опять вдвоем, Кондрат это стерпит. Он будет терпеть все сорок дней, а дождется, когда тот будет один.
Может быть, сегодня они успеют похоронить Стафана до наступления вечера и Кондрат успеет вернуться на Озеранку.
Жаль будет, если не убьет за сорок дней. Душа брата не так возрадуется. Но даже если не успеет — нехай. Он привык терпеть. Он мужик, и он дал слово. Он будет ходить месяц, два, год, но он встретит Таркайла одного. Нельзя сказать, что ему будет легко его убить: он еще никогда не убивал. Но он знал — иначе нельзя.
«Терпим, терпим, терпим, а они считают нас за глупых зайцев. Судят нас, расправляются, как хотят, и уверены в том, что им нет кары. Потому и делают, что душа их желает.
На каторгу зашлют, в Сиберию, — и ходят себе спокойно. Знают: даже если вернется, побоится снова туда попасть.
И убьют если мужика, тоже не ждут возмездия. Если б ожидали — ого-го! Трижды подумали б, перед тем как паскудство какое-то сотворить. Ну, так если не карает бог, не карает начальство, пусть покарает сам обиженный. Другие тогда оглядываться будут, прежде чем донести, убить, детей осиротить, имущество пустить дымом».
Подкова шрама на лбу Кондрата аж покраснела, так он думал. Убьет. Зимой или весной, летом или осенью — убьет. В слякоть или в ясный день — убьет. Ночью или утром — убьет. Как бы легко было жить на земле, если б за каждое паскудство негодяй ждал неминуемой кары.
Вой, як повалюся я на тваю магілачку,
Як закуваю я цяпер па табе кукулечкай.
Дружыначка ж ты мая, нашто ж ты мяне… пакідаеш?
А ці дабра ты ад дзетак, ад жонкі… не маеш?
Як жа ж нам цяпер… пражыць?
Як жа нам жыццё без цябе прабыць?
Як мы цябе забываць… будзем?
Адкуль мы цябе дажыдаць… будзем?
Кондрат сжал кулаки на весле и рывком направил челн с корстой к недалекой уже церкви на острове.
Да каго ж мне ўначы цмокам прысмактацца?
Адкуль жа мне парады цяпер дажыдацца?
Адляцеў ты ад мяне цяпер, саколік,
Кукулечка!
Згас ты цяпер для мяне, васілёк мой — сонейка,
Пралесачка!
Тихий и страшный вопль бабы летел над водой к островку, откуда плыли навстречу ему редкие удары похоронного колокола.
…Обратно Кондрат и Алесь плыли в челне одни. Далеко оставили весь караван челнов.
— Слушай, Кондрат, возьми меня с собой.
— Куда?
— Ты знаешь…
— Нет, — сказал Когут, — ничего я не знаю.
Они плыли, а вокруг была голубизна и жаркий воздух.
— Смотри, что это? — сказал Алесь.
Кондрат оглянулся, и на миг оба замерли, потрясенные увиденным.
На берегу вдали вставал в воздухе огромный черный столб — от земли до неба. Он казался б неподвижным, если б не крутились в нем с бешеной скоростью клочья сухой травы.
Кто-то всасывал их в небо, и они взмывали все выше и выше. Мощный смерч двигался к берегу, приближался. Черный, как дым, он клубился и переливался тем, что было внутри, словно змея, которая сбрасывает кожу. Жирная, вся волнистая, она, постепенно сужаясь, ползла куда-то — не поймешь, вверх или вниз.
Вихрь смерча спустился на воду и пошел прямо на их челн. Словно завороженные, они не двигались. А смерч наливался, чернел.
Блеснуло в высоте длинное серебряное тело рыбы.
В следующий миг исполин рванулся, промчался возле них и продвинулся немного дальше, как предупреждение. Из черного нутра его дохнуло могильным холодом.
Все быстрее и быстрее уходил от них смерч, перешел реку, почернел, взлетев на берег.
Они никогда не видели такого.
Исполин закружился по полям, уменьшаясь. Исчезал.
…Когда он исчез, они взглянули друг на друга.
— Беда будет, — прошептал Кондрат.
— Брось чепуху молоть!
— Фу-у! — закрыл глаза Кондрат. — Вези меня на берег. Высади.
— Возьми, говорю, с собой.
— Нет!! — резко бросил Кондрат. — Нет и нет. Черт с ними, со смерчами… Надо — и их грудью…
Когда он скрылся, Алесь почему-то вспомнил Майку и испугался, что они с Кондратом едва не погибли. Через день он должен был встретиться с девушкой и окончательно решить, как быть.
* * *
Кондрат ожидал уже целую четверть солнечной дуги, сидя в зарослях у мостика. Солнечный свет имел запах скипидара, горячей мяты, едкой вампир травы. От гудения сосен где-то над вершинами ходил ветер — шумело в голове и клонило ко сну.
Он сидел в зарослях за большим, как хата, камнем, недалеко от речушки. Над камнем, на склоне, восьмисотлетний дуб тянул к солнцу свои едва оперившиеся ветки. По его глубоко, на две ладони, изрытой морщинами коре ползали красные козявки с черными рожицами на спинах. Они были похожи, эти рожицы-черточки, на маски, которые надевают на крещение. Кора дуба, видимо, казалась козявкам почти бездонными оврагами и высокими грядами пригорков.
Прямо перед Кондратом звенела Озеранка, несла волны в Днепр. А через нее был перекинут ветхий мостик. Кондрат трижды уже ссовывал с него две плахи. Мужики, подъехав к мостику, ругались, клали их на место и переезжали. А он снова выходил, снова сдвигал плахи и снова садился за камень, сжимая теплый от рук приклад винтовки.
Пуща качалась и шумела над головой. И Когут под ее шум думал обо всем, но только не о том, что хотел сделать. Все, что касалось этого, он обдумал давно.
…Таркайло появился неожиданно. Один. Мелькнул на пригорке и исчез, съезжая к мостику. И тогда Кондрат вышел из-за камня, как сотни раз представлял это себе, перебежал ближе к переезду и присел в кустах, совсем близко от сдвинутых плах.
Он успел еще метнуть взгляд в обе стороны дороги. Там никого не было. Даже если появятся, то оттуда они его, Когута, не узнают. Коня и телегу еще можно узнать, и то если знаешь, кого ждешь, и какие у кого кони, а человека — нет.
Прежде чем попасть оттуда к мостику, надо съехать прокопанным съездом, где телега и человек скрываются с головой. Значит, в самом худшем случае хватит времени для двух выстрелов. Выстрелы будут верными — с четырех шагов.
Но он надеялся, что посторонние люди не появятся. Ему не хотелось, чтоб Таркайло испытал страх и ужас лишь одно короткое мгновение перед тем, как умрет. Кондрат умолял об этом — бога не бога, а сам не знал кого. Того, кто поможет.
Таркайло выругался и слез с таратайки. Подошел к дырке в мосту, плюнул, огляделся, как сдвинуть плахи. Потом в глазах его что-то мелькнуло — заметил.
— Не двигайся, — сказал Кондрат, наводя стволы. — Стань возле воза.
— Чего тебе? — побелел тот.
— Сегодня похоронили Стафана Когута. Мое имя Кондрат Когут.
Таркайло потянулся было рукой к саквам.
— Ну? — сказал Кондрат.
— Так что я, виноват в том?
— Виноват. И виноват, что убили еще одного. Ты сам их не стоишь.
Таркайло вдруг крикнул. Испуганные кони рванули вперед, но колеса таратайки с маху влетели в провал.
— Думал, что перескочат, а ты на воз — и ходу? — Глаза Когута смотрели спокойно, улыбка кривила губы.
— Ответишь, Когут, ответишь.
— Нет, — сказал Кондрат. И бросил: — Молись.
Тодар шарил вокруг глазами.
— Ответишь, Когут… Мясо твое под кнутом полетит. Повесят…
— Ну! — сказал Кондрат.
— «Господи боже, в руки твои отдаю дух мой…»
— Хватит, — сказал Кондрат. — Лопате и того не дал.
Выстрел прокатился по вершинам пущи.
Таркайло сделал запоздалый шаг в сторону, только теперь сообразив, что можно прыгнуть с мостика, пусть и на мелкое место. Все равно это выигрыш во времени.
Но он уже не смог этого сделать. Прижал ладонь к груди, покачнулся и упал на колени.
— Убил, — сказал он. — Убил ты меня.
Кондратово ружье ходило перед его лицом.
— Ничего, — сказал Таркайло, наклоняясь вперед. — И тебя так… И тебя… И всех вас.
…Кондрат продул стволы. Привычно, как каждый крестьянин, который бережет оружие. Синий дымок двумя струйками вылетел из них.
Затем Когут склонился над убитым и сорвал с его груди запачканную в крови калиту. В ней зазвенело и зашелестело.
— Иди помойся перед Страшным судом.
Тело Таркайла свесилось с настила, упало с небольшой высоты в мелкую, устланную камешками речушку.
С минуту Кондрат смотрел, как мутно-серо потемнела прозрачная вода, как потом сплыла муть и на ее месте появилось что-то розовое. Глупые пескари бросились к этому розовому, словно клевали его, и сплывали вместе с ним по течению.
Скоро вода снова стала прозрачной. Течение приподняло ноги убитого, и они слабо шевелились на перепаде.
Кондрат повернулся к лошадям:
— А вы что будете дергаться, бедные? А ну, давай! А ну!
Он поддел плечом таратайку и приподнял ее. Колеса выскочили из пролома. Кони какое-то мгновение постояли, а затем медленно пошли — без хозяина.
Кондрат спустился с обрыва и пошел по воде. Не туда, куда сплывало т о и где суетились пескари, а в противоположную сторону.
Пройдя шагов сто, он вымыл калиту и руки в студеной воде и снова пошел водой.
Потом пошел оврагом. Размахнулся и бросил калиту вместе с тем, что звенело и шелестело, в черное «око пущи».
На поверхности черной воды исчезали круги…
* * *
За неделю полиция и даже Мусатов со своим подначальным Буланцовым перетрясли всю округу. Облавы ходили по пущам, люди, с трудом, иногда рискуя жизнью, забредали даже на некоторые островки среди трясины.
Война, как всегда, отсиделся в одном из своих тайников. Люди Корчака давно не появлялись в окрестностях.
Поймали двух-трех случайных бродяг, но убийц не нашли. Иван Таркайло теперь никуда не ездил один, а ночью сидел в фольварке, закрыв все ставни.
Единственный человек, кого случившееся привело в ярость, был Кроер. Ясно, кто убил. Мужички миленькие. Никто другой, они! Неизвестно только — кто. Из Таркайловых кто-то или из его, Кроеровых, а может, отозвалась через родственников одна из жертв «Ку-ги». В поисках самым ретивым и лютым был он со своими черкесами. Тряс лесников, искал и избивал бортников и лесных смолокуров.
А когда это ничего не дало и в окрестностях поутихло, закрылся в Кроеровщине и начал измываться над своими. Просто так, лишь бы сорвать злость. Дошло до соседей. Все понимали: надо сидеть тихо. А этот, как нарочно, баламутил свирепостью всю округу. Все возрастая и возрастая, до губернии докатился наконец общий вопль:
— В опеку его!
Вице-губернатор Исленьев выехал в Суходол, чтоб расследовать дело на месте.
По пути он остановился в Загорщине и тут узнал, что Кроер снова запил. А на следующее утро прискакал в Загорщину, к Алесю, тот же, что и в прошлый раз, гонец из Кроеровщины и снова сказал, что пан Константин умирает и послал десяток слуг, чтоб повсюду оповестили об этом. И будто бы послал даже за доктором и священником.
— Притворяется, — сказал Вежа.
— Вы думаете? — Исленьев и верил, и не верил.
— Старая шутка, — процедил Алесь. — Его выдумки малость однообразны. Это уже третий раз.
— И все же, думаю, надо поехать, — сказал Исленьев.
Алесь смотрел на него с сочувствием. Старик не менялся. Все такой же румяный, седой, доброжелательный. Хороший русский человек. Алесь помнил его слова о «мраке» после расстрела в Пивощах. И жалел. Скрутила беднягу жизнь.
— Ну, поедете, — сказал Алесь, — увидите пьяных гостей. Священник и лекарь не имеют права отказаться, увидите пьяного лекаря и пьяного попа.
— Я б вам не советовал, — сказал и Вежа.
— Вы не поедете?
— Видите ли, я не требовал бы этого от него, если б, скажем, умер я, — ответил старик.
— Ну, а вы? — спросил Исленьев Алеся.
— Я однажды съездил. — Алесь потер запястье.
— По-христиански, — сказал вице-губернатор.
— По-христиански стоило б всех нас повесить, — сказал Алесь. — За то, что терпели среди нас такого монстра. Дать вам охрану?
Старик спокойно поднял на него глаза. Румянец на его свежем лице проступил сильнее.
— Благодарю, — сказал вице-губернатор. — Но неужели вы думаете, что я в жизни кого-нибудь боялся?
— Я не хотел, чтоб вы поняли меня так, — ответил Алесь.
Исленьев захватил с собой мужика-гонца Борку и поехал в Кроеровщину. Дорогой по всем погостам звонили похоронные колокола. Даже инвалиды в часовенках дергали деревянными ногами петли веревок, что вели к колоколам.
День был серый и совсем не летний. Звонили колокола потому, что умер великий пан, но люди не ехали.
— Это правда, что вашего пана «дважды отпетым» зовут?
Борка прятал глаза.
— Говори, не бойся.
— Отпевали его трижды, — ответил мужик. — Вся округа.
— Ну, и как он?
Борка ехал на своем конике сбоку и немного позади, хотя должен был вести. Он молчал.
— Так как же? — повторил вопрос губернатор.
— Ничего, — беззвучно ответил мужик.
Исленьев ехал и думал: «Ничего». Все «ничего». Бог ты мой, как можно затюкать народ. А мы помогали этому своей слепотой, беспомощностью сделать что-то, потому что это — система. Попытались было тридцать пять лет назад — легли под картечью. И с того времени только и думаем, как бы не задело нас по нашей драгоценной шкуре. Только и ходим на задних лапках».
Исленьев внутренне застонал.
Он искренне заинтересовался делами края. У него были знакомые в цензуре, и они присылали ему «для ознакомления и принятия к сведению» материалы столичных журналов, которые касались этой земли, даже если они и не проходили через цензуру.
Одна статья лежала в «Современнике» и в цензуре, наверно, год. Не проходила. Видимо, и не пройдет. Исленьев вспоминал. У него была хорошая память, совсем как у того человека, что когда-то рассеял их картечью. В чем в чем, а в памяти Николаю отказать было нельзя. Каждого, кто разговаривал с ним, помнил всю жизнь: имя, отчество, где служил, когда перешел из полка в полк, как зовут жену и детей, когда беседовали об этом. Удивлял этим последнего отставного штабс-капитана, вселяя в него чувство, похоже на суеверный страх: «Через двадцать пять лет вспомнил!».
Он, Исленьев, тоже помнил многое. Помнил, например, как тот в следственной комиссии топал на него ногами:
— Почему вы не говорите о своем знакомстве с Якушкиным и Пестелем? Моя доброжелательность к людям имеет границы! Пока что я не хочу, чтоб графиня Евдокия носила траур и называлась вдовой.
Он еще помнил ее имя, распоясавшийся хам.
Да, Исленьев тоже помнил многое. Вот и теперь он вытаскивал слова той статьи из недр памяти. Так, кажется: «Целый край взяли да вот так и забили — держи карман! Итальянцев тоже… забили, лишили любви к свободе и родине!.. Поглядим, что еще скажут сами белорусы!»
Исленьев не мог не согласиться с автором статьи. Потому что все время, сколько он жил здесь, он ни на миг не чувствовал покоя. Все время что-то словно клокотало и ворочалось под землей. Достоинства людей ничто не могло сломить, и лгали те кто говорил о «затравленных париях», о людях с «узким черепом, что отвыкли от языка», о людях «звериного вида», которые «возвращаются обратно от человека к животному». Это была ложь! Демагогия или политика чистейшей воды. Варшавским магнатам надо было скомпрометировать чиновничество и власти (и не без оснований), шовинистам — поляков, чиновникам и жандармам — местных панов, чтоб сожрать их. И все кричали о «народе, доведенном теми, другими, до животного состояния».
А животных, которые обезумели от ужаса, нищеты и непосильного труда, почти не было, и нельзя было так просто раздавить этих людей.
Был простой, кроткий и беспредельно мужественный народ. Добрый, верный друзьям и страшный для врагов, вольнолюбивый, чистый и гордый.
Исленьев вспоминал. Пивощинская войнишка и многие десятки других бунтов… Обычаи… Песни… Облики людей загорской округи и лицо самого Загорского, его отца и деда… Раубичи… Клейны… Нападения Корчака… Черный Война и его единоличный, длящийся десятилетия бунт… Последнее убийство…
Был истерзанный, закованный, но великий народ. И Исленьев не мог не видеть его страданий и его величия.
— И все же? — спросил Исленьев.
Хлоп молчал. И вдруг вице-губернатор услышал стон, словно у того разрывалось что-то в груди.
— Пане… пане милостивый, — сказал мужик, — заберите вы его от нас. Заберите, не дайте грех на душу взять.
— Ты что?
Борка вдруг поднял на губернатора светлые глаза.
— Ради него заберите. Кончается уже терпение наше. Хотите — казните смертью, хотите — помилуйте меня, но как бы он водкой не захлебнулся или горячим песком не перегрелся.
— О чем ты? — сурово спросил Исленьев.
— Поговаривают уже… Вольют спиртусу в глотку, а нос да рот затиснут… торбой с горячим песком пузырь мочевой раздавят — и каюк!.. И следов не найдут… Не дозвольте грех взять!
С Исленьевым ехал в этот раз его новый личный секретарь Попов.
— А я вот за тебя возьмусь, — сказал Попов, очень важный от сознания своего нового положения. — Где ты такое слышал?
— Оставь, — брезгливо сказал Исленьев.
— Режьте меня на куски — не боюсь, — захлебывался мужик. — Нет ада, кроме того, что от рождения до смерти.
…Дворец словно вымер. Никого не было на вересковой пустоши вокруг. Никого не было у коновязей и служб. Никто не стоял на крыльце.
Огромный мертвый дом со слепыми окнами. Тишина. Мокрый вереск вокруг. Тучи над крышей.
Откуда-то издали, может, из Горипятичской или Браниборской молельни, долетали редкие, разорванные еще и большим расстоянием удары похоронных колоколов.
Исленьев и Попов поднимались по ступеням.
Никого. На террасе с застоявшимися лужами от дождя тоже никого. Никто не вышел навстречу.
Толкнули дверь, пошли комнатами. Запыленные зеркала и окна. В зале, где когда-то стоял гроб, — ни души.
— Эй! — крикнул Попов. — Есть кто-нибудь?
В недоумении, куда могли разбежаться слуги, два человека шли по запущенным комнатам.
В одной комнате стоял накрытый стол персон на двадцать, и возле него тоже никого.
Скрипнула дверь, и люди поспешили туда, но это был сквозняк. Он распахнул дверь, и она толкнула бутылку, что лежала на полу. Бутылка зарокотала по выщербленному паркету, словно кто-то невидимый катил ее.
Стало жутко.
Они нашли того, кого искали, только в следующей комнате. Здесь все стояло на своих местах, было даже кое-как прибрано.
Кроер лежал на полу, закинув лицо, с протянутой к сонетке рукой.
Возможно, и звонил. Но никто не пришел.
То ли боялись зайти? То ли просто разбежались? Кто мог сказать, что тут было и что он чувствовал в последние минуты?
— Nemesis divina,[162] — сказал Попов.
Он был молод и любил употреблять латинские слова.
Исленьев покосился на него и ничего не сказал.
* * *
Три человека стояли во влажной после дождя березовой роще.
— Вот что, — сказал Франс Раубич. — Я уже сказал, что мой отец начинает дрожать от ярости, если кто-нибудь вспомнит ваше имя, князь. Я не хочу, чтоб он умер, даже если этой бесстыжей все равно.
Алесь покосился на Михалину. Встретились, и вот на них случайно набрел Франс.
— Жена, которая желает увидеть мужа, бесстыжая? — мягко спросил Алесь. — Не надо так, Раубич.
— Я уже сказал, что не позволю ей загнать в могилу отца.
Франс горячился.
— Пану Раубичу лучше.
— Все равно… Я дал слово: даже если с отцом что-то случится, ты скорее будешь его вдовой, чем женой. Вот и все.
Майку знобило.
— Послушай, Франс, откуда эта озлобленность? Готовы сожрать друг друга. Сжалься ты наконец надо мной, над ним, над собой, низкий ты человек… Майка… — сказал он.
Глаза девушки расширились.
— Я пожалела тебя, пожалела отца. Но теперь я сожалею, что вышла тогда из церкви, поверила вам.
Алесь взял ее за плечи и отвел в сторону. Улыбнулся.
— В самом деле, Франс. Я тогда пошел вам навстречу. Но теперь, когда я начинаю понимать, как вы хотите обманом использовать мою доброту, я думаю, что я напрасно сделал это. Я всегда испытывал к вам и пану Ярошу только самые добрые чувства, хотя иногда мне очень хотелось хорошенько надавать вам лично по тому месту, по которому однажды в детстве я надавал вот ей.
Франс с трудом владел собой.
— Выслушайте меня, — сказал Алесь. — Я никогда не думал «мстить презрением», я для этого слишком любил вас и потому не хотел крови. Я прискакал на помощь пану Ярошу и с благодарностью принял бы такую же помощь от вас. Вот вам мои объяснения. Vous n'etes pas content?[163]
Михалина взяла Алеся за плечо и прижалась лицом к его руке.
— Мы решили. Я решила…
— Майка, — сказал Алесь, — я сам объясню это Франсу. Иди. Помни, о чем условились.
Она пошла в сторону парка. Мужчины стояли и смотрели друг на друга.
— Так что? — сжав зубы, спросил Франс.
Алесь вздохнул. Такой лежал вокруг мир! Так он искрился и пылал после дождя! Что еще было объяснять?!
— Мы решили, что подождем, пока пан Ярош не выздоровеет окончательно.
— Вы решили?
— Ну, согласись, брат, не тебе же это решать. — Алесю стало смешно. — Самое большее, что позволяет наше с тобой родство, — это напиться до зеленого змия…
— Мы дали слово. — Франс бледнел. — Она сама дала слово Ходанским.
— Намного раньше она дала слово мне.
— Кто огласил его?
— Так ты считаешь, что слово, данное перед богом, — чепуха, а перед людьми — все?
— Мы живем не среди богов.
Черт дернул Алеся за язык:
— К сожалению, и я за последнее время все чаще убеждаюсь в этом.
Франс закусил губу.
— Ну вот, — сказал Алесь, — ей-богу, Франс, подумай ты наконец хоть раз не о своей чести, а о ее счастье.
— Ты — это счастье?
— Для нее, — сказал Алесь. — По крайней мере, она считает так. И я постараюсь, чтоб она не разочаровалась в нем как можно дольше. Потому что и она — мое счастье. Полагаю — до конца.
— Этот конец будет скоро.
— Ты собираешься встать на моем пути? — Алесь грустно улыбнулся. — Напрасно. Я же не стоял на твоем.
И увидел, что сказал страшное. Франс дернул головой.
— Так, — сказал он глухо. — И потому я еще раз говорю тебе… — У него зубы выбивали дробь. — Не надейся получить за все, что ты совершил, ничего, кроме зла.
— Ты угрожаешь мне?
Франс привычно перешел на «вы»:
— Vous verrez les consequences et vous en jugerez.[164] Я не случайно встретил вас. Я все знал. Обо всем договорено. Ее сегодня же… увезут. В крайнем случае завтра утром! Слышишь?! Слышишь, ты?!
Алесь сделал было шаг к нему и остановился.
— И ты мог кричать о чести? Дурак же я, что поверил вам!
Только теперь Франс понял, что Алесь ни в чем не виновен, а виной всему крайняя щепетильность пана Яроша и его, Франса, оскорбленная честь и мелочная злобность. Алесь теперь действительно имеет право угрожать им.
— Я знаю, — продолжал Алесь, — теперь вы ее не выпустите до смерти. И я еще мог чего-то ожидать от тебя, кроме подлости?
Франс знал, что Алесь теперь имеет право сказать ему все, и не удивился. Но рука привыкла отвечать на слово «подлость» только одним способом.
…Алесь держался за щеку. Глаза у него были закрыты. Потом он, все еще не понимая случившегося, поднял ресницы.
Франс смотрел на это лицо, на котором одна бровь была выше другой от неверия в то, что произошло, и готов был упасть к ногам Алеся.
Втянув ртом воздух, Алесь оттолкнул Франса.
— Я знаю, чего стоит человеку, когда его бьют по лицу. Никогда не бил первый. Никогда. Но и теперь не ударю тебя… Просто убью… — И пошел.
Франс стоял и смотрел ему вслед.
* * *
Мстислав, услышав обо всем, только хлопнул себя по лбу.
— Быдло! — сказал он. — И на тебя надеялся Кастусь! Тебя серьезным считали?! Как раз тогда, когда вот-вот нужно будет проливать кровь по-настоящему!
— Это напрасно, — сказал Алесь. — Если ты не хочешь, я найду другого.
— Да как ты мог?! Когда каждая жизнь дорога!.. Когда Беларусь…
— Я не могу воевать за Беларусь с побитой мордой, — ответил Алесь.
В тот же вечер Мстислав и пан Выбицкий повезли к Раубичам требование сатисфакции.
Возвратились поздно, и примирения им добиться не удалось. Майку в самом деле насильно заперли в комнате. Раубич приказал никого не принимать. Но Натали каким-то чудом сбежала к Веже и рассказала ему обо всем.
Раздраженный до последней степени тем, что Раубичи все время лезут на рожон, старик позвал Басак-Яроцкого и Раткевича и решил с ними вызвать, после Алеся, Франса и пана Яроша, чтоб все кончить одним махом. Евфросинья хваталась за голову. В доме стоял крик. Решили, что первым будет стреляться Вежа, за ним Яроцкий, потом Раткевич.
И все же потому, что Вацлав чуть не ревел, думая о Натали и о том, какое предательство творят по отношению к ней, и еще потому, что Глебовна хватала всех за руки и умоляла, решили обождать день-два и посмотреть, чем все окончится.
Все это было б немного смешно, если б не результаты, с которыми возвратились секунданты.
На листе бумаги безукоризненным почерком Франса было выведено: «Mon prince, mon humeur porte le cachet du chagrin mais concessions faites de mauvaise grace sont les pires que l'on puisse faire».[165]
— Это он мне? А кодекс? — спросил Загорский.
— Он передал это Илье Ходанскому, тот — мне, а я — вам. Видимо, хотел произвести более сильное впечатление, — сказал Мстислав.
— Все равно это никуда не годится, — пожал плечами Алесь. — Общение, пусть даже и через секундантов, с другой стороной.
Пан Адам крякнул:
— А мне кажется, тут двойственность его состояния. И ощущение вины, и нежелание мириться.
— Кто его секунданты? — спросил Алесь.
— Илья Ходанский и Михал Якубович, — ответил Выбицкий.
Никто не решался перейти к обсуждению условий дуэли. Молчали.
— Ну? — сказал наконец Алесь.
— Без лекаря, — сказал жестко Мстислав. — Права первого выбора за нами нет. Жребий. Расстояние между барьерами — двадцать шагов. В случае, если первые выстрелы будут безрезультатными, — противники обмениваются вторыми и третьими — до смерти одного из них.
— Мило, — сказал Алесь.
— Ты не протестуешь? — спросил пан Адам.
— Зачем? — пожал плечами Алесь.
— Мы ничего не могли сделать, Алесь, — сказал Маевский. — Жребий — это поровну. Они одинаково требуют смерти как для тебя, так и для себя.
Адам язвительно и грустно улыбнулся.
— Конечно, до того времени, пока жребий не бросили. А затем начинается убийство.
Все ушли. Вечер был очень теплый и тихий, загорщинский парк дремал под светлыми звездами.
Завтра будут стреляться. На лугу. Недалеко от того места, где встретили в ночном Войну… Тогда ему, Алесю, было одиннадцать, теперь двадцать один.
Как ни странно, он ни о чем не жалел. Что ж бывает и так…
Он сел и написал коротенькое письмо деду (мешать дуэлянтам запрещалось, и дед, хотя, видимо, и страдал, вынужден был сидеть дома), в котором благодарил его за все.
Второе письмо было завещанием. Половину всего движимого и недвижимого имущества — панам Маевскому и Калиновскому «на основание той торгово-промышленной компании, о которой они втроем мечтали». Одну шестую всего — брату Вацлаву Загорскому. Вторую шестую — Юрию и Антониде Раткевичам, приписанным к младшему роду по матери, с тем чтоб они пользовались этим поровну и без обиды. Половину оставшегося — на стипендии студентам из загорской округи, дальнейшее содержание школы и богадельни в Загорщине и помощь бедным. Остальное — Когутам, Кирдуну и другим слугам, чтоб была компенсация за потерю службы и обеспечение на остальные годы жизни… Заграничный капитал, ту часть, что принадлежит лично ему, — на помощь поэтам, которые пишут на нашем языке, организацию музея, куда передает все свои коллекции, и на поощрение лингвистических, исторических, археологических и этнографических работ, касающихся Белоруссии.
Вот и все. Душеприказчики — Вежа, Маевский и Раткевич. Кастусю не написал. Не поймет и не одобрит.
Кастусю нельзя было всего объяснить. Поймет ли он, как Алесь задрался со всей округой, как, не принося лично зла, все же стал врагом, потому что его идея была для многих враждебной? Алесь понимал: это не Франс Раубич ударил его, а повышенное, болезненное чувство собственного «достоинства».
Наполовину мужик по воспитанию, он невольно восстал против всего этого, против столетних суеверий и предрассудков, и это они теперь убивают его. А он, хотя и мужик, но и князь также, и сам отдавал дань традициям и не может окончательно поступиться дворянином в себе: отказаться от дуэли, стать предметом общего презрения, чтоб жить и продолжать свое дело.
Трагедия? Возможно. Но сколько уже раз людей ловили на том же, чтоб расправиться. Ловили потому, что они были детьми своего времени и своей среды.
Галуа, которого так любил «математический» Грима, едва успел на клочке бумаги в последнюю ночь записать основные принципы своей теории.
Кто еще? Ну конечно, Пушкин. И многие еще будут так погибать. Есть, однако, в этих предрассудках и другая сторона, скрытая пока что для всех.
Придет время, и не будет тогда уже кодекса чести, не будет дворян и мужиков, не будут доносить и бросать в тюрьмы за свободолюбие и светлые мысли. Не будет даже слова «свобода», не будет даже слова «правда», потому что и то, и другое станет привычным и другого просто не будет.
И вот тогда личная честь будет стоять так высоко, что никто не осмелится оскорбить ее словом или действием. Потому что общество не может быть стадом скота. Не может оно быть и сборищем нулей при нескольких единицах, — иначе будет то, что теперь: народы будут с налитыми кровью глазами лезть друг на друга, чтоб растоптать, подчиняясь воле единицы или нескольких единиц, или, что еще хуже, уничтожать свои же нули, чтоб самому стать большим нулем за счет других. Однако нуль — пусть он будет с яблоко, колесо или даже целую планету, — все же нуль.
Алесь вздохнул. Не может быть, чтоб Калиновский не понял этого.
Тем более что и Пушкин, и Галуа были большими людьми, и их дело защищало их. А он, Загорский, средний человек, каких на Беларуси тысячи.
И если он, средний человек, не защитит своей чести, кто тогда сделает это за него?
Он оторвался от бумаг. С делами было покончено. Осталось ожидать.
Можно было заснуть, но зачем?
Если жребий даст первый выстрел Франсу — он, Алесь, уснет навеки. Если жребий даст выстрел ему — Алесь успеет выспаться. Он не будет щадить Франса. Сам Франс требовал смерти одного из них, и, хотя счастья не будет, у Алеся останется борьба за справедливость. До конца. Борьба, в которой не надо щадить своей жизни.
Можно было съездить к Веже. Но старик не показывает и никогда не покажет своих чувств. Будет суховато-приязненная беседа.
Алесь подошел к краю террасы. День и вечер были непривычно жаркими, ночь тоже дышала сухостью. Потому он еще днем приказал, чтоб его кровать вынесли на этот огромный, как зал без стен и потолка, балкон. Кровать останется нетронутой.
Он стоял и смотрел на мир. Деревья замерли. Блестело широкое лоно Днепра. Переливались серебряные свечи итальянских тополей. Белые аркады спускались в парк. Небо рассыпалось, неожиданно для начала лета, тысячами звезд.
Семицветный огонек Капеллы. Лебедь, распластавшись, летит в вышине. Вон Мицар и Алькор. А дальше — туманные струи Пути Предков. Говорят, они, предки, спустились оттуда и туда же возвращаются после смерти.
Под этими звездами сердце вдруг не выдержало. Оно начало стучать сильнее и сильнее.
«Майка… Майка… Майка…» — неистово звало оно.
Было тихо и тепло. Лишь сердце дрожало среди этого бесконечного и спокойного простора. И он вдруг почувствовал, что это сердце стало большим, безграничным сердцем, и понимает все. Все на земле.
Из глубин великого сердца — вселенной — летел, все возрастая, нежный и всеобъятный клич-звон:
— Алесь… Алесь… Але-е-есь…
Это было всюду и во всем. Вселенная сжималась.
…Словно видел сон с раскрытыми глазами. Словно два крыла — а может, два серебряных свитка Пути Предков — легли на плечи.
— Алесь.
Он встрепенулся. Руки были на его плечах. За ним, обнимая его, стояла Майка.
— Ты? Как ты…
Задыхаясь, она сказала:
— Вылезла через окно и спустилась по плющу. Они не знают… Я уже больше не могла.
Загорский увидел царапину на ее запястье.
— Плющ не выдержал, — сказала она.
Он припал губами к этой царапине.
— Видишь, пришло и мое время. Тогда верба, теперь плющ. Тогда я, теперь ты.
Обнял ее.
«Что ты наделала?» — хотел сказать, но смолчал.
Это было все. Теперь он не мог вести себя, как прежде. Завтра он не будет стрелять, не сможет. Теперь это будет невозможно.
Но она не могла больше. И разве он сам не хотел этого? И разве это малая плата: купить такой ценой все на земле?
И вот ее глаза, и волосы, и руки, и гибкие плечи под его руками. Все остальное не имеет ни значения, ни цены.
Он поднял ее неожиданно легко и держал на руках, боясь отпустить, потому что в ее угрожающе близких глазах были два маленьких отражения Пути Предков. Возможно, и настоящий Путь — только отражение в чьих-то глазах. И пусть. Потому что они равны.
Она заплакала.
— Ей-богу, я не могла. Я все понимаю, но я не могу, чтоб ты убил, и не могу, чтоб тебя убили…
Она шевельнула рукой и вытащила из-за корсажа цепочку. На конце ее был малюсенький кувшинчик из камня. Размером с домик улитки-болотянки.
— С ума сошла? — спросил он.
— Нет. Я и тогда, когда поссорилась, решила: уйду. Если не отобьет, хотя бы в церкви, — я тогда у аналоя выпью.
— Глупышка. Глупышка. Не смей.
И он оборвал кувшинчик и закинул его в парк.
Припав губами к ее губам, он молчал.
Прижимая ее к себе, ощущая ртом изгиб шеи, плечом — дрожащую от вздохов грудь, одной рукой — ее стан, а другой — ноги под складками платья, он, боясь потерять сознание, потому что у него подгибались ноги, сделал несколько шагов и упал.
Под нею было синее, как небо, покрывало. В ее глазах были звезды, только теперь иные. И он гасил и гасил эти миры устами, а они возникали снова, и он не мог с ними ничего сделать, потому что они жили.
Вся она была здесь, и никого больше не было, даже в прошлом, потому что это было то и не то, — это было невероятное счастье, которого не бывает на земле.
Вся вселенная — со звездами и деревьями, с Путем и Днепром — заполняла его сердце. Вселенная с болью и ликованием уменьшалась до размеров сердца, а сердце вдруг увеличилось до размеров вселенной.
И взошло сияние! Сияние, похожее на мириады далеких и близких солнц, которые потом стали черными.
Катилась ночь. Расширенными во тьме глазами он видел ее неприкрытое тело — ноги одна на другой, закинутое лицо и сложенные вдоль туловища руки, словно она летела к звездам. А дальше видел кроны и бесконечные поля под торжественным звездным светом.
И все равно весь этот простор был ничем перед этой женщиной, перед бесконечным духом безграничия и любви, воплощенном в ней.
…Провалившись в единственный за всю ночь миг сна, он вдруг увидел рядом со всем этим еще и другое.
…Туман стоял над землей. Видны были над ним головы коней на длинных шеях. Кони выходили к почти угасшему костру, возле которого лежал он.
И туман, как вода, сплывал с земли, и повсюду были белые, белые кони.
Кони склонялись над ним и дышали теплом. И среди них со смешным толстым хвостом, с влажными глазами стоял «его» жеребенок. Стоял над ним и плакал молодой белый конь.
* * *
Сегодня ночью она явилась ко мне, словно живая, словно никогда и не умирала. Да так оно и было.
Она была в своей мантилье… Темно-голубые, как морская вода, глаза смотрели на меня горько. И едва заметен был у виска маленький белый шрам, а возле ключицы — второй. Странно было, что они зажили.
За нею были тысячи звезд, но она смотрела на меня. Шевельнулись с горечью уста.
— Зачем ты сделал это? — спросила она тихо, и голос ее летел словно из глубин вселенной.
— Что? — спросил я, хотя знал все.
— Зачем выставил меня перед всеми? Ты не знаешь, мне больно узнавать себя, видеть на себе взгляды людей, потому что то, что отдают только любимому, стало теперь достоянием всех. Как ты мог? Мне так страшно и так больно.
— И мне тоже, — сказал я. — Но разве неизвестный мне безжалостный художник не выставил своей любимой в облике милосской Венеры?… Она тоже была живая, и ей страшно и больно было видеть себя в статуе… И скульптору было хуже, чем ей, но иначе он не мог. Он шел через уничтожение ее маленькой личной гордости к восславлению ее великой гордости в веках. И уже не она стояла перед людьми, а символ Женщины.
— И потом — кому до этого теперь дело? — неожиданно улыбнулся я. — Кому дело до ее страданий? И кому будет дело до тебя через тысячу лет, женщина?
* * *
Весь мир казался одной сплошной птичьей песней. Мокрые деревья с темными стволами и дымной листвой курились, отряхивались. Вся земля под ними была мокрой.
Алесь ехал на белом коне, в распахнутой белой рубашке, подставив каплям и утренней свежести непокрытую голову и грудь.
Мстислав и Выбицкий ехали поодаль и все еще о чем-то договаривались. Были в черном, как и надлежит секундантам.
Алесь решил, что он опоздает на дуэль, насколько будет возможно. По обычаю, если одна из сторон опаздывала на полчаса, вторая сторона могла уезжать с места дуэли, а того, кто опоздал, считали за человека, который от этой дуэли уклоняется. Он решил воспользоваться этой последней возможностью, чтоб предотвратить между собой и Франсом, собой и Майкой непоправимое.
Он поднялся ночью и перевел стрелки на всех часах в доме на сорок пять минут назад.
«Просплю, — с веселым отчаянием сказал он сам себе. — Зачем я в самом деле буду его убивать?»
Утром Майка лежала, глядя в пепельное небо, и вдруг встала и начала одеваться.
— Что ты? — спросил он.
Она улыбнулась, надевая туфельки.
— Сейчас четыре часа. Ваша встреча в шесть. Он не выедет раньше пяти, а дороги мне сорок пять минут. Прикажи, чтоб для меня какого-нибудь коня оседлали.
И, спускаясь по лестнице, поцеловала Алеся.
— Не думай ни о чем. Все равно они теперь остались в дураках. Кто возьмет потерявшую честь невесту?… Не думай, он не приедет к месту дуэли.
Алесь смолчал, хотя знал, что Франс уже выехал. Откровенно говоря, он боялся ее слез при прощании и надеялся, конечно, не на ее поездку, а на свой фортель с часами. Пусть едет.
Подсаживая ее в седло и крепко целуя, он сказал:
— Вот и хорошо. До свидания.
— До свидания.
Он проводил ее взглядом, а потом пошел на парковый двор, разделся и с наслаждением подставил налитое молодой силой тело под струи каскада. Они упруго секли лицо, грудь, спину. Алесь только фыркал.
Там его и нашли Выбицкий и Мстислав.
— Опаздываем, — сказал последний.
— Взгляни на мои часы, — сказал Алесь.
Мстислав удивился и испугался. Он сверял время с секундантами Раубича. Спросил у Адама, который час, но тот забыл свои часы дома.
Маевский пошел сверять время с часами в доме, — тьфу ты, дьявол!
— Отдашь в починку, — сказал Алесь, растираясь.
— Да-а, — сказал Адам. — Что же делать?
— Поездим по полям, — ответил Алесь, — видишь, утро какое!
…И вот они ехали. Туманные деревья великанами толпились вокруг, и в каждом сверкала солнечная радуга.
Алесь ехал и думал, что он никого не станет убивать, да еще в такое чудесное утро!
Франс не знал его мыслей. Но Франс не знал и того, что он теперь брат ему, Алесю, брат до смерти. Наилучший из всех братьев, потому что он брат любимой.
Радуги висели на вершинах деревьев. Дрозд вспорхнул с одного дерева, обрушив вниз целый поток золотой воды. Настигнутый этим потоком, заяц задал стрекача.
Алесь рассмеялся. Вскачь погнал коня по мокрой, лоснящейся черной лесной дороге, проскочил под деревом и с силой запустил в него корбач. На Мстислава и пана Адама обрушился с высоты поток струй, похожих на золотистую канитель, опутал их, сделал золотистые волосы Маевского рыжими, а буланого коня темно-огненным.
Алесь отъехал от них и начал трясти другое дерево на себя. Снова потянулись золотые нити. Он стоял словно под куполом шатра из блестящих нитей.
Убивать? Вздор! Мокрая белая рубашка холодит тело. Лес пахнет бальзамом.
Олень убегает, потому что люди слишком шумят.
— Что ты делаешь, сумасшедший? — кричит Мстислав.
— Это чтоб Франс не заметил, что у меня цыганский пот от страха.
Ни у кого не будет цыганского пота. Ни у кого. Что, может, у самого близкого после Майки человека, у ее брата? Шуточки!
Серые длинные глаза Алеся смеялись, все лицо смеялось.
— Братцы, поездим еще немного! — взмолился он.
— Смотри, — сказал пан Адам. — Слишком сильно хочешь жить.
— Не каркай, — бросил Мстислав. — Чепуха это. Конечно, поедем.
…Франс еще издали увидел трех всадников, которые вырвались из леса.
— Наконец, — сказал бледный Илья.
Нахальные глаза Якубовича сделались сердитыми.
— Черт знает что. Опоздать на сорок пять минут!
— Я же говорил — подождем, — безразличным тоном сказал Франс. — Возможно, часы.
Якубович рассмеялся.
— По-моему, они выторговывали лишние минуты жизни. — Хлопнул Франса по плечу. — А ну, куража, мальчик!
Поздоровались.
— Так нельзя, панове, — сказал, осклабясь, Илья.
Мстислав показал на часы.
— А ваши, пан Загорский?
— Забыл, — пожал плечами Алесь.
— Что ж, панове, — сказал гусар, — вам остается только попросить друг у друга прощения.
Франс бледный, но спокойный, смотрел в сторону и молчал. Горькая морщинка лежала у него между бровей. Загорский чувствовал, что любит в нем все… И вот грохнет выстрел…
«Ах, как все получилось! Надо было перевести стрелки на час».
— Панове, я еще раз предлагаю вам помириться, — сказал Выбицкий.
— Я готов, — сказал Алесь.
Франс молчал. У него лишь слегка дрожал краешек рта. И тогда Алесь сам сделал попытку примирения. Его сейчас ничто не могло унизить.
— Франс, — сказал он, улыбаясь, — ты знаешь, я не боюсь. Но зачем проливать кровь? Ты не знаешь, но…
Илья прервал его:
— Панове, что же это? Это против правил, самим… Если обе стороны боятся, пусть так и скажут. Тогда мы займемся чем-нибудь более стоящим… плести веночки будем, что ли?
Франс не знал того, что знал Алесь и что делало бессмысленным все слова и все условности на земле. Он испугался.
— Илья прав, — сказал он.
Алесь покачал головой. Ах, какой все это вздор!
Нет, он не будет делать зла этому человеку, который не ведает, что творит. Если первый выстрел выпадет Франсу, пусть убивает. Если повезет ему, Алесю, он выстрелит в воздух и, несмотря ни на что, попросит у него прощения. Тогда никто не подумает, что он струсил.
Секунданты начали отмерять шаги. Низкое солнце освещало серый от росы луг.
«Глупец, глупец Франс! Зачем это тебе? Ну и стреляй, если дурак. Ты не видел, как целая вселенная была меньше одной твоей сестры. Ты еще ни в чьих глазах не видел звезд. Я сделаю так, что ты увидишь. Потому что в тебя, в ее брата, я стрелять не буду. Ты мой брат. Все люди — братья. Если убьешь, это лучше, чем убью я. Потому что, если я убью, счастью все равно конец. Потому что я все равно смогу гасить по очереди звездные миры — один за другим».
Разделенные расстоянием в двадцать шагов, лежали брошенные черные плащи, словно эти двое из тех черных уже лежали убитыми, отмечая барьер смерти. Точно два трупа в черном. И как раз на тех же местах. Возле одного из них через несколько минут ляжет товарищ.
Секунданты подошли.
— Чьи пистолеты? — нахально улыбнулся Мишка.
— Полагаю, жребий, — вдруг рассердился Мстислав.
Он подумал, что если люди цепляются ко всякой мелочи, то все равно найдут возможность придраться. Предложишь свои — «Ага, ваши дороже, нашими брезгуете». Согласишься — «За свои, парижские, боитесь». Он знал, что он несправедлив, и сердился на это.
— Почему ж? Давайте мои, — просто сказал Алесь.
— Согласен, — поспешно ответил Франс.
— Пойдем к барьерам, — со вздохом сказал Адам Выбицкий.
Все остановились возле Алеся.
— Жребий? — нетерпеливо бросил Илья.
— Давайте, — сказал Якубович. — Чтоб не было споров, кто орел…
— Перестань поясничать, — сказал, сжав губы, Франс. — Нa вот тебе.
Он достал из кармана желтоватый кубик.
— Выбирайте, кто ниже трех.
Алесь чувствовал, как все в нем звенит.
«Господи, сделай так, чтоб первый выстрел был мой! Я не хочу в него стрелять. И как плохо будет ему, если он, глупый, темный человек, убьет меня, а потом узнает…»
Он сразу же понял, что просит не о том, и если б кто прочел его мысли, презрение того человека к нему было бы безграничным. И Алесь перестал думать.
Мстислав нашел в двух шагах ложбинку с голым, как бубен, дном. Все сели по краям, свесив ноги. Издали могло показаться, что люди выпивают.
Кубик покатился из рук Якубовича. Все наклонились.
— Три, — сказал Мишка.
— Дай я, — нетерпеливо взял кость Мстислав.
Он помотал рукой и резко кинул. Алесь смотрел не на кость, а на Мстислава. И увидел, как друг побледнел.
— Пять, — сказал Ходанский.
Теперь побледнел Франс. Хотел было что-то сказать, но промолчал.
…Они становились у барьера, возле Алеся.
— Иди, — сказал Илья Франсу.
Франс пошел к своему барьеру. Гусар и Ходанский договаривались еще о чем-то с Выбицким. Мстислав стоял рядом с Алесем.
— Прости, брат, — сказал он. — О черт, прости!
— Ничего, — улыбнулся Алесь.
Алесь не смотрел в сторону Франса. Он смотрел вокруг.
Перед ним лежал дымчато-серый луг, а за ним радужные, радостные деревья. Низкое солнце стояло в стороне, за Алесевой спиной. От секундантов и от Алеся на росистой траве лежали длинные тени.
— Подготовиться, — сказал Мишка. — Смелее, князь.
Загорский стал смотреть на Франса. Раубич в странном повороте стоял против него. Радужные деревья сияли за ним. Загорский поднял голову и стал смотреть вверх, но не выдержал и снова опустил глаза. «Ну, стреляй быстрее!»
В руке у Якубовича всплеснулось белое… И вслед за этим ударил гром.
Алесь покачнулся. Потом увидел, что на левом плече слегка дымится рубашка — маленький коричневый след.
И тогда, поняв, что Франс промахнулся, Алесь вздохнул.
Он увидел, что лицо Ходанского перекосилось, словно Илья проклинал Франса. В результате поединка они теперь не сомневались.
Кто-то сунул Алесю в руку пистолет. Алесь непонимающе взглянул на него, затем на Раубича, который стоял очень прямо, всей грудью к нему, и очень бледный.
Мстислав смотрел на Алеся с тревогой.
— Ничего, брат, — сказал Франсу Якубович. — Ты… смелее. Это не страшно.
Секунданты отошли. Франс скосил было глаза, не понимая, почему это они оставляют его одного. Потом вздохнул и стал смотреть на Алеся.
Нестерпимо было продлевать это страшное его ожидание. И Алесь, не ожидая взмаха платка, поднял вверх тяжелый пистолет, обождал, пока дым от выстрела рассеется над его головой, и отбросил оружие в сторону. И увидел лицо Франса. Боже мой, этому лицу, казалось, подарили солнце!
Гусар и Ходанский, которые не ожидали выстрела и смотрели на Мстислава, метнули взгляды на Франса и подумали, что Загорский в свою очередь промахнулся.
— Наш! — закричал Илья. — Наш выстрел!
Бросился к Раубичу с другим пистолетом.
Франс, еще ничего не понимая, начал поднимать руку. Мстислав крякнул от досады. Выбицкий с ужасом смотрел на Алеся. Все это Загорский заметил в долю секунды… Франс метил ему прямо в лоб.
«Ну вот и все, — подумал Алесь. — Он не удовлетворился».
И вдруг что-то произошло. Лицо Франса содрогнулось и все как бы затрепетало.
Франс… бросил пистолет на землю.
«Наверно, курок сломает», — еще ничего не понимая, подумал Алесь.
Раубич сделал несколько шагов вперед — тень его закачалась на росистой, серой траве, а потом бросился к Алесю, еще на бегу протягивая руки.
— Алесь… Прости меня… Прости…
Якубович посмотрел на две фигуры, что слились возле одного из плащей, и сухо сказал Илье:
— Полагаю, в нашем присутствии здесь больше нет необходимости. Детская игра.
Они пошли к лошадям. Никто не обратил внимания, как они двинулись краем дубовой рощи.
…Когда через несколько минут со стороны тропинки на Раубичи долетел бешеный топот копыт, Франс оторвался от Алеся. Губы его дрожали. На щеках были следы слез.
— Брат, — сказал он, — отпусти ее со мной. Я клянусь тебе, я уговорю отца… До конца, до самого конца можешь рассчитывать на меня.
XIII
Петербург просыпался. В февральском гнилом тумане куранты хрипло, словно после простуды, заиграли «Коль славен наш господь в Сионе». Неприятный, весь в слякоти и мокром снегу, вставал над землей рассвет. Обшарпанные здания, серые от влаги дворцы, тусклые огни в окнах, мокрый, но еще крепкий лед на Неве.
Мужчина, который вышел из глухого, как гроб, подъезда, посмотрел вокруг и поежился, кутаясь в шубу, — так неуютно было вокруг.
Кучер Варфоломей подвел вороных и карету к самому крыльцу, и все же тот, что вышел, едва не зачерпнул в галоши грязи. Рука кучера поддерживала опущенную подножку.
— Доброго утра, Варфоломей, — заученным, безразлично-вежливым тоном сказал человек, садившийся в карету.
— Утро доброе, Петр Александрович, свет вы наш. Ножки прикройте. Дует. Никакое оно не доброе это утро. Здоровьечко ваше бесценное потеряете.
Карета тронулась. Седок улыбнулся, прикрыл ноги полостью и раздвинул занавески на слюдяном окошке.
Улицей летел то ли желтый дым, то ли туман. Доносился запах сырости, снега и нечистот. Лицо того, кого кучер назвал Петром Александровичем, сморщилось. Опять весь день в разъезде. Вначале к министру государственных имуществ, которому он обязан карьерой и в котором, по-видимому, вот-вот перестанет нуждаться. Затем с ним на заседание Государственного совета. Вернее, — он пока что не член совета, — ожидать в помещении комиссии, пока не понадобится. Затем дела в Третьем департаменте министерства. Перед этим он едва успеет пообедать. А после департамента — вечер у великой княгини Елены Павловны, единственное более-менее приятное событие за весь день.
Хорошо лишь то, что уехал из дому. У жены мигрень. Сын опять капризничает. Он добрый, но неустойчивый и безвольный, Никc. Не унаследовал твердости и ума отца…
Что у него самого есть ум, человек нисколько не сомневался. Да так оно, пожалуй, и было.
Человеку было сорок пять лет, но он казался старше от давно выработанной корректности и сдержанности. Высокий лоб, плоско прилизанные волосы, в удивительном соединении с ними — курчавые бакенбарды, мясистые большие уши.
Лицо сужалось к подбородку, но подбородок был тяжелым. Видимо, человек знал, чего он хочет. Мешали этому впечатлению лишь ирония в складке рта и томительная скука в глазах. Брови нависали над глазами, высоко — у переносицы, низко — у висков. И нос нависал над ртом, когда-то прямой, а теперь обвисший и толстоватый на конце.
Словом, лицо важного, почтенного бюрократа. Тревожили одни глаза. Ирония, скука, усталость, ум, черствость и неуловимое веселье органически соединялись в них. Это могли быть глаза человека, переполненного иронией, утомленного бюрократа, государственного мужа. Это были одновременно глаза верноподданного и глаза знатока мира — писателя. И самое удивительное, что так оно и было.
Человек, который ехал в карете, был Петр Александрович Валуев, без двух месяцев управляющий министерством внутренних дел, без девяти месяцев министр и ровно без девятнадцати лет граф. В прошлом нестойкий либерал, бывший любимец Николая Первого, а ныне «просвещенный консерватор» и директор двух (а всего было четыре) департаментов министерства государственных имуществ, правая рука министра Муравьева, бывшего могилевского губернатора, в будущем палача Белоруссии и Литвы.
Варфоломей вспомнил, что забыл спросить, куда ехать. Из костяной трубки послышался почтительный голос:
— Куда везти, ваша милость?
— К министру государственных имуществ.
Карета свернула на Мойку. За ствол голого тополя метнулся какой-то франт — чтоб не забрызгало грязным снегом.
Подъезжали к дому, который сановник не любил, хотя бывал в нем в годы молодости с невестой, будущей первой женой, дочерью поэта князя Вяземского. Он не мог не думать, что сделал хороший выбор.
Изо всей московской молодежи Николай наиболее любил его, Валуева, и Скарятина, даже приказал им поступить в первое отделение собственной канцелярии. Надо было укрепить благосклонность.
Вяземский был одним из самых больших любимцев царя. Неизвестно за что, потому что в доме князя бывали Столыпин и Жерве и едва ли не самым близким другом хозяина был Пушкин. Удивительная иногда связывается цепь!
Он, Валуев, был тогда фрондер, впрочем как и нынешний его шеф когда-то. Входил в «кружок шестнадцати», членами которого были тот самый Жерве, «Монго» — Столыпин, покойный Лермонтов, нынешний эмигрант — князь Браницкий. И еще — тоже эмигрант и сотрудник «Колокола» — П.В.Долгорукий. Да еще Шувалов Андрей, который нынче тоже лезет в верноподданные.
…Закрыть глаза, проезжая мимо дома, где умер Пушкин… Пушкин почему-то симпатизировал ему.
«Шестнадцать» собирались после бала, ужинали, курили и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Третьего отделения и его подвалов для них словно не существовало… Бедняга Лермонтов! Вот и с этим, после Пушкина, связала судьба.
Валуев, как всегда, открыл глаза слишком рано. Как раз поравнялся с аркой подъезда, в который привезли тогда поэта. Потом возле этого подъезда плыла скорбная толпа.
Пушкин любил его, Валуева, взял прототипом для Гринева из «Капитанской дочки»… Теперь это Валуеву было неприятно, хотя немного и щекотало где-то, когда надо было оправдываться перед собой… Мишель Лермонтов плакал, когда того убили!..
Сейчас оба мертвы. Не успели своевременно отойти от ошибочных взглядов молодости. А он — живет. Он был чиновником особых поручений при курляндском генерал-губернаторе, курляндским гражданским губернатором и…
…В глубине души он знал, что цена его «служения отчизне» ничего не стоит перед «служением» убитых, хотя они протестовали и разрушали. Кому нужно знать, кто был в Курляндии гражданским губернатором во времена Гоголя? И он в глубине души догадывался, что поэтому губернаторы и мстят поэтам: чувствуют свою мизерность и неполноценность. Мол, наживались, вредили, лизали пятки, а он в это время «Мертвые души» писал.
Но ему надо было выбирать: или умирать с голода на писательском хлебе в предчувствии славы, или бесславно служить. Он решил служить, но честолюбиво, преданно, въедливо. Людей, которые делают политику страны, тоже иногда помнят.
…Валуев оторвался от мыслей. Наконец «Северная пчела» объявила, что в «седьмое царствование Александра» («Что за глупость! Какое седьмое царствование?»), в дни поста, произойдет известное всем событие.
Он припал к окошку. Монумент Николая («дурак догоняет умного») украшен у пьедестала венками. Тоже молчаливая манифестация крайних крепостников: «Взгляни, мол, вот тебе в феврале живые цветы. Этот жестоко царствовал, о реформах и не думал, держал все стальной рукой — зато и сильной была Россия. Правда, набили под конец морду, но лучше уж с битой мордой да на рабах, чем так, как ты, государь».
На цветы летела грязная слякоть.
Была демонстрация крепостников и на панихиде по Николаю в Петропавловке. Тоже с цветами. Он улыбнулся, придумывая, что скажет на суарe у великой княгини.
«Цветы, впрочем, искусственные, такова же и демонстрация».
И снова помрачнел. Генерал-губернатор объявил во всех газетах, что никаких постановлений по крестьянскому вопросу не будет. Так нельзя. Сухой отказ, сухое слово «никаких» могло только раздражить народ.
Настроение было плохое. Чтоб улучшить его, директор департаментов, потирая узкие холодные руки, стал думать о том, что всегда радовало, — о собственном возвышении.
В глубине души он не верил в мощь системы. И именно поэтому изо всех сил старался улучшить и укрепить ее. Он знал, что новой системы ему не дождаться, и потому хотел спокойно прожить свою жизнь при старой. Поэтому временами был верноподданным до тошноты. Поэтому и предлагал отдать судьбу освобожденных «на первое время» в руки прежних хозяев, а не в руки чиновников. «Конечно, первые не будут часто беспристрастны, но зато последние большей частью будут неблагонадежны». Он сам чувствовал, что это вздор, однако иначе не мог. И именно потому, что он видел ложь и грабежи, что творились вокруг, он выбрал себе в начале своей карьеры совсем иные средства для возвышения.
Он заметил, что умная критика — не выше допустимой нормы — вызывает расположение начальника, если он не дурак. Критика, если она только щекочет, заставляет начальника верить в добрые намерения подчиненного. Чепуха, что император любил жгучую критику и даже сам требовал ее! Ловушка для дураков!
Валуев с улыбкой вспомнил, как он подал записку «Дума русского во второй половине 1855 г.». Это была мина, до которой никто бы не додумался.
«Благоприятствует ли развитию духовных и вещественных сил России нынешнее устройство разных отраслей нашего государственного управления?»
Теперь надо было только не сорваться, не перегнуть в ответе. Он не очень боялся. Ответственность за недостатки нес покойный Николай. Царствование Александра оставалось еще чистой страницей, и молодому царю нужно было реноме свободолюбца и демократа. И потому Валуев ответил:
«Отличительные черты его заключаются в повсеместном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и пренебрежении ко всему другому. Многочисленность форм составляет у нас сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты: везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то, по крайней мере, постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, и редко где окажется прочная плодотворная почва. Сверху — блеск, внизу — гниль… Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде опека над малолетними».
Все же он боялся. На всякий случай нужно было найти влиятельного заступника и защитника. И он подвел вторую мину.
«Лишь морское министерство… не обнаруживает, подобно другим ведомствам… беспредельного равнодушия ко всему, что думает или знает Россия!!!»
Генерал-адмиралом был великий князь Константин Николаевич. И один бог знает, как потом он и великая княгиня Елена Павловна, к которой он сегодня пойдет, поддержали его. Доступ в салон великой княгини, удивление царя, поддержка великого князя вплоть до приказа по ведомству, чтоб начальство не лгало, как всегда, — все как будто было у него чудесно.
И напрасно. Потому что закончил он записку — Валуев улыбнулся — так:
«В России так легко сеять добро! Русский ум так восприимчив, русское сердце так благородно! Россия — гладкое поле, где воля правительства не встречает преград. Не скажет ли оно народу: да будет истина меж нами, — и не вспомнит ли красноречивых слов, сопровождавших герб одного из древних русских дворянских родов: уму нужен простор!.. Россия взывает к венценосному вождю своему с безмолвною мольбою. Сердце царево в руце божьей».
Он знал, все это будет голосом вопиющего в пустыне и, как прежде, будет штамп, и бюрократизм, и мертвечина, и опять запретят выезд за границу, что будет означать «домашний арест на свыше 60 миллионов верноподданных его императорского величества».
Через два года его назначили директором второго департамента. Еще спустя год — третьего. И еще он председатель ученого комитета министерства. И еще — правая рука Муравьева. И еще — статс-секретарь. И — дважды! — увеличенное жалованье. И ежегодно, до конца жизни, пять тысяч серебром, и награды, и пакеты с «благоволениями».
Вовремя, вовремя все было сделано. Вовремя начали борьбу вместе с Муравьевым против проектов редакционных комиссий о реформе. Однако Валуев играл в беспристрастие, в то, что он вне всяких партий и был «чуть-чуть не с правительством», например, в польских делах, потому что требовал «маленьких» уступок полякам.
Царю не пришлись по душе крайние крепостники. Валуев чуть было не ошибся, но быстро спохватился. Начал критиковать их, начал хвалить меньшинство, замечать их «зрелость и образование, беспристрастие и правильность взглядов». И опять поворот.
Он допускал, что его могут называть «флюгером». Что ж, флюгер не ломает никакой ветер. И он говорил о необходимости свободы печати, но не понимал под этим «полного простора для развития материализма и демократической пропаганды». Поговаривал о необходимости уступок полякам, но говорил, что польский вопрос можно решить не в Варшаве, а только в Москве и в Петербурге.
Не любил Муравьева, однако не подавал виду. Муравьев пока что был сильным, Муравьев мог еще помочь Валуеву и считал воспитанного и преданного человека, который многим был ему обязан, своей креатурой.
Муравьев делал глупости. Не знал действительных отношений креатуры. Креатура считала, что человеку, которому шестьдесят пять лет, давно надо уступить свое место.
И почти с радостью Валуев почувствовал, что за последнее время звезда Муравьева тускнеет. Государь был холоден с ним. При последнем докладе не подал ему руки. А давно ли лиса Клейнмихель называл Муравьева «общим избавителем»?
Вот оно! Почти с жадностью он ловил эти признаки немилости. Даже для государя Муравьев стал не слишком ли правым? Нет политической гибкости. Так подавай в отставку. И все же, даже когда пойдет в отставку, отношений не портить. Такие иногда бывают нужны властям. Когда власти начинают забывать о либерализме. Тогда как раз нужны люди со стальными челюстями.
…Лошади месили грязный снег на Литейном. Дворники едва успевали сгребать его в кучи, но на мостовой все равно была каша. Валуев смотрел в окно. Шли модистки, пряча картонки под плащами. Стоял вымокший, по всему видать — туберкулезный человек, продавал с лотка гипсовых наполеонов и бисквитных голых женщин. По статуэткам каплями стекала вода. Директор вспомнил, что на Белосточчине возникла странная секта под названием «Наполеоновщина». Люди тайно собирались и молились перед бюстом Наполеона. То же самое перекинулось и на Псковщину. Идиотская страна! Во что бы ни верить, лишь бы не в добрые намерения императора. Сектантов Валуев ненавидел, как не мог терпеть и раскольников. Вся эта публика — хоть и русского происхождения — не была русской. Имя «русский» могли с полным правом носить лишь те, кто молятся в Исаакии (хотя он и мрачный, как склеп), в дворцовой и Конюшенной церквах. Немного подозрительными были даже люди, которые молились в Петропавловке. Конечно, это усыпальница императоров, но Валуев не одобрял этих чужих по стилю строений, этих голландско-немецких штучек Великого Петра.
Русских он тоже немного презирал. И особенно не любил славянофилов наподобие Погодина, с их «родным квасом». Это называется страна! Ни Токвилей, ни Гизо, ни Боклей — ничего. Последние дни обер-полицмейстер столицы Паткуль хлестал дворников и одному отвалил от сердца двести пятьдесят лоз за то, что он будто бы сказал, что если объявят волю, то он закричит «ура». Так вот мы и в европейцев превращаемся.
Жесткие губы сановника сжались. Проезжали мимо одного из самых ненавистных в Петербурге домов. Здесь разные Некрасовы и Добролюбовы, дворяне не из лучших да семинаристы, практикуются в нигилизме и «подкопах под корни».
Некрасова он немного знал. Довольно неприятная особа, но лично он не заговорщик. У него есть деньги. И все равно он чужой.
Вот недавно они шумели о Западном крае. Вслед за Герценом. Филиал редакции «Колокола». Обрадовались возможности образовать еще одну, отдельную, белорусскую национальность. Мало им канители с украинцами. Никакого особого малороссийского, никакого белорусского языка не было, нет и быть не может.
Он с трудом признавал даже право поляков на язык. Во всяком случае, ему не хотелось этого. Существование Польши, Литвы, Белоруссии означало, что так или иначе придется вступить на путь реформ, путь, возможно, гибельный, однако необходимый. Ибо если одного существования России достаточно для того, чтобы никогда не было независимой Польши и другого подобного, то для того, чтобы Польша окончательно влилась в Россию и с ней сроднилась, необходимо, чтобы император даровал русскому народу политическую жизнь. Народ, политические права которого ограничиваются правом платить подати, поставлять в армию рекрутов и кричать «ура», еще не обладает способностью ассимилировать.
Потирая холодные руки, он думал о пользе России. Он любил подумать о пользе России. Он любил поговорить о пользе России, особенно если слушают сановные люди. Он, наконец, был уверен, что заботится о России.
Польза России, по его мнению, была в том, чтоб инородцы не смели и подумать, что они нерусские, чтоб они постепенно и в самом деле перестали думать об этом. Господа Некрасовы, Чернышевские и Герцены, несмотря на то что они русские, думают иначе и кричат о фикции братства народов, — тем хуже для них.
Пока они еще не повешены, они думают.
Какая чепуха! Как будто бы дело тут в самодержавии! Взрослые люди занимаются игрой в куклы!
Ему доставляло удовольствие думать, что они с их социализмом не больше чем слепые щенята, что существо неуклонного исторического процесса понял только он, Валуев. Это возвышало его в собственных глазах почти до уровня всеведущего бога, а их делало игрушечного дела людишками, которым пока что позволяют делать кое-что из того, что они хотят.
Он очень бы удивился, если б ему сказали, что на самом деле любят Россию они. Да, он презирал ее, однако же он возвеличивал ее и намеревался возвеличивать весь остаток своей жизни.
Возвышение, по его мнению, заключалось в том, чтобы все боялись. Ему никогда не приходило в голову, что неотъемлемые права наций, их свобода и свободное развитие их культуры и языка — наилучшие средства для братства. Он никогда не думал, что боязнь, угнетение языка и культуры, вечное бравирование перед всеми своим авторитетом и силой может привести лишь к ненависти и, значит, рано или поздно, к восстанию и открытой резне. Когда он двумя годами спустя начал это понимать, было уже поздно.
Не понимал он и того, что максимальная свобода каждой личности не разваливает общества, а ведет к его укреплению, что это заставляет каждую личность не искать средств к тому, чтоб взорвать государство, а, наоборот, прикладывать все усилия, чтоб укрепить свое общество, свое отечество. Он, Валуев, даже уничтожал документы, которые «подлежали забвению в интересах России».
Какую Россию он имел в виду, известно было одному только богу.
Если честь страны не зависит от действий отдельных людей, что может ее уничтожить? А если зависит, то виновата в этом не страна, а люди.
…Будущий министр проезжал мимо нигилистического гнезда, жестковато сузив глаза. Они не любили России, не «споспешествовали» ее величию. Россию любил он.
…Карета остановилась у подъезда министра государственных имуществ. На ступеньках крыльца чисто. Хорошо, что не промочит ноги. И еще было б лучше, если б не довелось столкнуться с министершей Пелагеей Васильевной. Редко приходится встречать более ехидных и злобных женщин. Валуев был почти уверен, что это многолетняя жизнь с ней испортила министру характер, который и без того был не сахар.
Он поднимался по ступенькам той особенной, разученной походкой царедворца и сановника, слегка пружиня на каждом шагу. Той походкой, когда кажется, что на ногах цивильного вздрагивают, позванивают невидимые шпоры. И тут ему снова стало неприятно. Шел его двойник по положению, товарищ министра, генерал-адъютант Зеленой. Спускался по ступенькам, видимо с утреннего приема.
«Люди валуевского склада не любят себе подобных, как один евнух не любит другого», — вспомнил Валуев слова кого-то из кружка Замятнина. Замятнин мог бы сказать то же самое и о себе, но внутренне Валуев не мог не согласиться со справедливостью его слов. Настороженность против Зеленого подкрепляло еще и то, что он иногда кидал с глазу на глаз слишком либеральные мысли, словно записывал к себе в авгуры: мы, мол, люди свои и можем поговорить обо всем, «не чинясь». Пускай себе другие говорят, что хотят, — мы слишком хорошо знаем настоящую цену этих слов.
Протестовать Валуеву не приходилось. Зеленой был пока что слишком силен, и потому их связывало подобие дружбы. Той дружбы царедворцев, когда люди очень хорошо знают, чего ожидать друг от друга.
— Доброе утро, Петр Александрович! — Зеленой приветливо потряс очень горячей рукой холодную руку Валуева.
— Доброе утро, милейший Александр Алексеевич! — Улыбка блуждала на губах Валуева.
В душе он посылал Зеленого в преисподнюю. Лишь один он знал, какую маленькую месть он позволяет себе, когда упрямо пишет в своих дневниках его фамилию просто «Зеленый», и это, забавляя, немного мирило его с товарищем министра. И все же стоять на ступеньках в такую погоду, разговаривать на глазах у всех!
— Довольно странные меры, — конфиденциально сказал Зеленой. — Войска консигновали в казармах. В каждую полицейскую часть командировали по полвзвода.
— Я слышал, — язвительно улыбнулся Валуев. — У всех боевые патроны, и артиллерию держат наготове. И, говорят, держали наготове лошадей для императора.
— Как думаете, почему?
— Гм, борьба за освобождение в России опасна результатами. Сами понимаете, благодарный народ.
Зеленой хохотнул:
— Прислуга говорит, он не ночевал в своих апартаментах, а перешел на половину великой княгини Ольги Николаевны. Сподобились!
Опять начиналась «беседа авгуров». Она была неприятна Валуеву, однако он был вынужден терпеть. Доноса и сплетен не будет. Во-первых, дворяне и люди своего сановного круга, во-вторых, вдвоем. Зеленой не испытывал, он не шеф жандармов, он просто тайный сквернослов и любитель отвести душу. И он пока что сильный.
Лицо Зеленого было резким.
— Я вам скажу, почему. У всех их династическое недоверие к русским людям. Люди немецкой крови.
Это всем было известно, однако Валуев сказал с иронической улыбкой, которая не протестовала, а как бы соглашалась:
— Помилуйте! Романовы?
— Что поделаешь. Даже если считать, что Павел был сыном Салтыкова, и то в жилах государя лишь одна восьмая русской крови. И ни капли больше.
— Мы с вами знаем, кровь учитывают не в процентах, как у других. Родовой дух, вот что главное. Даже если из поколения в поколение они женились бы на камчадалках — все равно, корень ведь откуда-то идет? И это корень Романовых. Вы же не перестаете быть Зеленым, хотя ваши предки из поколения в поколение женились на женщинах других фамилий.
Сказано было удачно. Зеленой прищурился от удовольствия. С Валуевым можно было иметь дело: il a de l'esprit, острослов, находчив.
Валуев решил и себе позволить вольность. Нечего излишне сдерживаться. Вольность у людей, так связанных друг с другом, у людей, опасных один другому, усиливает доверие.
Он знал, чувствовал, что Зеленой тайно подкапывается под шефа, и не испытывал из-за этого ни возмущения, ни одобрения. Все было очень обычно и так, как должно быть. Он слишком хорошо знал, что за этими улыбками, доверием, общим родством, балами и уверениями в дружбе все время другим фоном идет тайная война — самое настоящее рытье траншей, подводка мин, бумажные выстрелы из-за угла.
— Он мне не нравится, — сказал Зеленой. — Скажу вам по секрету, его песенка спета. Хотя, поверьте, мне жаль. Мне очень жаль. Вы знаете, я стольким обязан Михаилу Николаевичу.
— Все мы обязаны ему, — с приличествующей случаю грустью сказал Валуев. — Всем жаль.
Они взглянули в глаза друг другу и лишний раз убедились, что все понимают и что можно говорить дальше.
— Знаете, при последнем докладе государь почти сказал Муравьеву, что не желает иметь его министром, — с печалью в голосе сообщил Зеленой. — Министерство государственных имуществ будто бы может обойтись без него.
Без года министр государственных имуществ взглянул на без девяти месяцев министра внутренних дел и увидел, что Валуев понимает его и не удивляется.
— Вот как? — спросил Валуев.
— Да, — сказал Зеленой. — Он, гневно ударив по столу, сказал, что не позволит министрам противодействовать выполнению утвержденных им постановлений по крестьянскому вопросу и что управляющие палатами государственных имуществ должны способствовать, а не противиться выполнению этих постановлений.
— Бедный Михаил Николаевич! — сочувственно сказал Валуев. — Вот и имей после этого собственное мнение…
Глаза их одновременно сказали: «Мы с вами так бы не сделали. Старик выжил из ума. Ему временами кажется, что это он царь, а с императором, пускай себе и безвольным, но капризным, так не шутят».
Вслух Зеленой сказал с видом рубахи-парня, который всем режет правду-матку (ему эта маска шла, как Валуеву маска критикана и либерала, радетеля о России):
— И нас с вами ожидает то же, Петр Александрович. Самостоятельны мы слишком, на поводке ходить не любим.
Оба знали: если их что и свалит, так это очередной подкоп друзей, — но думать о самостоятельности обоим было приятно.
— По-видимому, великий князь Константин пробудил в государе эту мысль о противодействии министра государственных имуществ и его подчиненных, — задумчиво сказал Валуев. — Муравьев себя держит более спокойно и с достоинством, чем обычно.
— О, он удивителен! Он сказал, что воля его величества будет свято исполняться и что если он, министр, увидит, что принятие каких-то мер противоречит его совести и убеждениям, он будет просить освободить его от обязательств исполнять такие приказы. Государь на это не ответил ни-че-го. Лишь — «Прощайте».
— Что Муравьев? — спросил Валуев.
— Он дома написал письмо государю с просьбой об отставке. — Зеленой вздохнул и сокрушенно развел руками. — Мне его жаль. Я дал ему совет не посылать письма до следующего доклада, чтоб сполна убедиться, что настроение государя не было минутной вспышкой, вызванной наговорами.
— Я всегда знал, что вы человек доброжелательный, — сказал Валуев.
— А вы справедливый, — проникновенно сказал Зеленой. — И хорошо думаете о людях.
С теплотой глядя друг другу в глаза, они горячо пожали руки и разошлись, в общем довольные собой. Беседа была на высшем уровне, та беседа, утонченная и с солью, в которой слова не значат ничего и все сводится к подспудному знанию намерений и сил собеседника.
…Окна кабинета были завешены лиловатыми шторами. Скупо пылал камин. Бюрократические, мелко пикированные кожаные кресла и двери, строгий стол с обтянутым зеленым сукном верхом, тяжелые канделябры, похожие на стоячий гроб английские часы в углу.
Шеф поднялся с кресла. И Валуев, как всегда, испугался, как бы не выдать ему неприятного чувства, чем-то похожего на страх.
В ночном свете этого камина, в лиловых отсветах штор шеф был страшен, и тем более любезно, с преувеличенным доброжелательством улыбнулся ему Валуев.
Короткопалая рука шефа рывком протянулась, сжала, словно поймала, руку подчиненного. После этого более чем странно было услышать голос шефа, голос радушного хозяина, хлебосола, немного провинциального любителя посидеть у огня с трубкой да рюмочкой тминной («Коньяк — ну его! Заморская штучка!»), в расстегнутом мундире:
— Садитесь, Петр Александрович. Выпьете по погоде?
И хотя пить с утра было дурным тоном, Валуев не посчитал возможным отказаться. Шеф терпеть не мог правил и нарушал их, как мог; он вообще вычеркнул слово «шокинг» из своего лексикона.
— Последние дни доживаем, — сказал Муравьев. — Вот-вот отмена. А что тогда?
Подчиненный подумал, что тот говорит о себе, а не о крепостном праве.
Они молчали. Ни у кого Валуев не видел таких умных, неприятно умных глаз. А может, это казалось по контрасту с лицом министра. Это было так, словно выползло из земли, из преисподней, отвратительное и страшное чудовище, все еще скользкое от своего движения под землей. И вдруг подняло тяжелые, как у Вия, веки и взглянуло неожиданно, до ужаса, невероятно человеческими глазами.
Лицо это казалось еще более страшным оттого, что выступало, как на картинах Рембрандта, желтовато-оранжевым пятном из мрака. И блики огня плясали на нем. Словно высеченное топором, жирное и уже старчески дряблое, широкое, с тяжелым подбородком, тупым носом и грубым, большим ртом лицо. Жесткие бачки, металлически серая кожа, низкий лоб с жесткими, как конский скребок, волосами над ним.
Тяжело, как у собаки, свисали ниже челюстей края щек. И на этой омерзительной маске светились пронзительно умные глазки, единственно человеческое, что на ней было.
Валуев вспомнил, как характеризовал министра Федор Берг, который Муравьева терпеть не мог. Всевластный генерал-губернатор финляндской сатрапии острословил над министром, потешался над его обликом, над этой круглой головой, над вялыми, как огромные пельмени, ушами:
— Каждому свое, господа. Если на портрете Ермолова закрыть мундир, оставив одну голову, получится лев. Если на портрете Муравьева закрыть мундир, получится бульдог.
Да нет, это был не бульдог. Это было страшнее.
— Слыхали? — добродушно спросил шеф.
— Слыхал, — не счел возможным скрывать подчиненный.
— Вот оно как, Петр Александрович. Вот и благодарность. Воля государя отменять законы, однако пока не отменил, должен он им подчиняться? Вот то-то же! Ничего. Отведайте это и вы, и вам придет время ехать к вашему Никсу, как я сейчас поеду к своему сыну Николаю в Рязань. «Кто такой?» — спросят. «Тс-с, отец губернатора, бывший министр, бывший губернатор, муж Пелагеи Шереметьевой. А теперь сажает капусту да шампиньоны разводит».
— Что вы, Михаил Николаевич, вы же их терпеть не можете.
— Мало чего я тер-петь не мо-гу. Не спрашивают. Не спрашивают об этом-с. Верные слуги империи теперь в Париже денежки профукивают. Как княгиня Багратион. Слыхали, что Пален сказал? «Qu'une colonne ennemie l'avait coupee a la bataille d'Austerlitz, et que depuis elle n'avait pas rеussi a se degager».[166] Так это женщина! А мужчины?
— На вашем месте я подождал бы открытия нового комитета сельских обывателей.
Опустились и затем поднялись тяжелые веки. Рот, похожий на трещину, зашевелился:
— Mais vous concevez qu'il m'est plus avantageux de m'en aller plutot. Il faut mieux etre dehors avant la bagarre.[167]
На мгновение в душе Валуева шевельнулась мысль: «И в самом деле, стоит ли делать карьеру, если неизбежен такой конец?» Но он от этой мысли отмахнулся и забыл. Раз и навсегда.
Восходящая звезда скромно опустила ресницы перед несчастьем заходящей. И вдруг Валуева поразил странный звук.
Министр смеялся:
— Вздор все, вздор! Преждевременно это они со мной задумали. Приходит время, когда каждые верные руки на вес золота. А эти — особенно. Что они могут, никто не может. Не безумный же Орлов, не сонный же Блудов, не либералишка Милютин? Вздор все!
Голос был такой необычный, даже как будто торжествующий, так горели глаза, что Валуев подумал: «Этот человек знает что-то такое, чего не знаем мы».
— Я на вашем месте не торопился бы уходить.
— Почему? Пусть позовут. Голова не отвалится… Дни страшные наступают, Петр Александрович. У-у, какая приближается гроза!..
Сероватое, оранжевое от огня дряблое лицо улыбалось. Глаза смотрели мимо собеседника, куда-то вдаль.
— Допрыгались. Долиберальничались.
— Вам что-то известно, Михаил Николаевич?
— А вы не слышали? Беспорядки в Варшаве. — Губы Муравьева сложились в сардоническую улыбку. — Полячишки хотели отслужить, а может, и отслужили, тризну по убитым в Гроховской битве. Вот так. Вынуждены были стрелять. И стреляют до сих пор. Мы теперь не либералы. Плевать Европе на то, что мы мужичков освобождаем. Нас, простите, в самом неприглядном виде — голенькими — по свету пустили. Мы теперь угнетатели народов, вроде свергнутого сицилийского Бурбона или австрийского короля, что издевается над венграми. Допрыгались, милый Петр Александрович… Камни в войско бросали. Войско дало залп. Есть раненые и шестеро убитых.
Снова зашевелился в улыбке рот. Словно трещина в серой скале.
— Начали, голубчики. Только не слишком ли рано?
— Как же оно там было? — задумчиво спросил Валуев.
* * *
В Варшаве между тем было страшно.
Давно придавленный народ не мог больше терпеть политики незначительных льгот. Он хотел земли — ему давали разрешение на организацию Земельного товарищества (занимайтесь, панове, агрономией!). Он требовал свободы — правительство позволяло некоторым сосланным вернуться из Сибири. Он желал независимости своей родины — давали амнистию для эмигрантов.
Демонстрация 27 февраля 1861 года была стихийной. Руководителей у нее не было и не могло быть. Единственными руководителями были обида, оскорбленное национальное достоинство и гнев. Партии, которые всплывали над заговором, были вытолкнуты на поверхность неукротимым течением. Какое, действительно, имел отношение к народу — ко всем этим ремесленникам, мелким торговцам, рабочим — вождь шляхты Андрей Замойский?
В этом смысле февральская демонстрация была самым демократическим, но и самым плохо организованным движением едва ли не за всю историю восстания. В ее рядах почти не было заговорщиков-профессионалов.
И восставал, и руководил, и погибал один и тот же титан — варшавский плебс. Он искренне говорил всему миру, что у него нет иных средств, чтоб его услышали, кроме живых жертв, и что он будет приносить эти жертвы одну за другой, сотню за сотней, тысячу за тысячей, — пока его не услышат.
Он доказал это. И позднее, конечно, не предательская политика и высокие слова Велепольского и не шовинизм белого жонда толкнули в восстание многотысячные белорусские массы, а героизм простых людей на варшавской мостовой, общая с ними участь, одинаковое угнетение и еще такие люди, которые понимали все это, такие, как Калиновский.
Плебс вопил о деревенских делах и хотел подать царю адрес о нуждах края — шляхта отказалась поддержать его. Царь ответил плебсу на языке свинца и огня.
Люди хотели упорядочения местного законодательства, новых цеховых уставов, просили о равенстве для евреев в правах — в ответ на это их всех сделали революционерами.
Стрелять по демонстрантам начал батальон пехоты, который охранял дворец наместника и был отделен от толпы решеткой ограды. Достойная смелость! Между тем стрелять не было нужды, это могли понять даже чугунные мозги военных, потому что толпа уже бежала, рассеянная казачьей лавой. Генерал Заболоцкий, который командовал войсками, видел это: сумятицу и беспорядочное бегство людей в Краковском Предместье. Даже он мог бы понять, что в этом залпе нет нужды. И, однако, он отдал приказ. За это его двумя годами позже назначили минским губернатором.
Неизвестно, зачем Заболоцкий это сделал. Возможно, чувствовал настроение в петербургских верхах. Всем в столице надоела тактика ожидания, настороженности, уступок и выслеживания в отношении к Варшаве. Гнойник проще было рассечь ударом ланцета. И никто не думал, что этот гнойник — многотысячный город с дворцами и халупами, мещанами и господами, студентами и ремесленниками.
После залпа Краковское Предместье и Замковая Площадь являли страшное зрелище. Испятнанная пулями колонна посреди площади и стены домов, разбитые окна, стекла на мерзлой мостовой (ее как раз подмащивали), галоши, брошенные молитвенники, пятна крови и разбрызганные мозги.
Вот и все.
Нет, не все.
Жил себе был в городе Варшаве маленький, как блоха, затертый чиновничек из «сопливых». Звали его Ксаверий Шимановский. Не было у него денег жить где-нибудь, кроме полной ворами Крахмальной или Рыбаков. Возвращаясь домой, видимо, боялся, что ограбят, особенно когда задерживался на работе во внеслужебное время…
…Толпа разбежалась. Оставались кучки загнанных в подворотни, прижатых к закрытым подъездам людей. Казаки, черкесы и уланы возвращались. От замка двигался еще один отряд. Сумятица и ужас повисли над городом.
И тогда в сердце Шимановского вспыхнула вдруг бешеная любовь к свободе — самой прекрасной даме, которая так редко появляется в городах и селах земли.
Ее нужно было защищать. И Шимановский бросился к сваленным в кучи камням и сыпанул на казаков каменный град. Еще кто-то встал рядом с ним… Еще… Еще чьи-то руки ухватили камень.
Рыцари этой дамы носили когда-то меч Мюнцера, цеп Вощилы и аркебуз гёзов. Теперь они бросали камни. У них не было оружия.
И они отбили атаку казаков. И те бросились наутек.
Оружия действительно не было. Люди предместий хватали спинки от кроватей и колья, кухонные ножи и топоры, пистолеты, непригодные даже для того, чтоб убить из них курицу в клетке, вертела и песты. А за спиной у плебса уже плели увертливые интриги, плели «адреса», плели вонючую политику, плели, наконец, петлю на его шею.
Наместник Горчаков встретил Замойского с бискупом Фиалковским, и между ними состоялась изысканная беседа. Он согласился принять от панов польский адрес, который и был 2 марта напечатан в «Journal de St Рetersbourg», выкрутился кое-как от ответственности. И началась торговля. Тянули время, будто ожидая ответа на адрес от царя. Полиция и войска оставили улицы, потому что государь решил не действовать исключительно силой. 19 февраля Варшава была даже иллюминирована, за порядком на улице следили мещане и студенты.
Тот самый Валуев позднее иронизировал над Горчаковым и другими, что они подают пример d'un petit gouvernement provisoire a 1'ombre de la bonne petite citadelle de Varsovie.[168]
Горчаков согласился освободить от дел обер-полицмейстера Трепова, человека, который больше всех кричал о русской чести, потому что был Трепгоф — обычный Федор Федорович из немцев.
Между тем в России начались предреформенные и послереформенные волнения, а поскольку манифест об освобождении не имел в виду Царства Польского (это произошло немного позднее), то зашевелился и польский хлоп. Царь понял, что «рассекание гнойника» теперь несвоевременно, и вынужден был пойти на некоторые уступки.
За спиной у народа собирались группы и фракции, толковавшие, сколько просить за кровь, пролитую варшавским людом.
Группа негоциантов, которую простые варшавяне своими страданиями и смертью впервые допустили в политику, состояла из банкира Леопольда Кроненберга, самого богатого кармана по эту сторону Буга, а также из Якуба Натансона, Юзефа Крашевского, миллионеров Юргенса и Рупрехта и лекаря Игнацыя Барановского. Стопроцентно достойное прошлое было разве что у Кароля Рупрехта, который когда-то, вроде русских Петрашевского и Дурова, постоял-таки на эшафоте под петлей.
Эти обсудили погребение убитых, некоторые права для третьего сословия (какое необычайное сходство с «залом для игры в мяч» во время Великой французской революции, подумать только!!) и еще — как удержать люд от дальнейших демонстраций и выступлений, как отнять у него ножи и вертела.
В этом была острая нужда. На улицах богато одетых людей сопровождали уже кошачьим мяуканьем и концертами, а иногда и гнилыми овощами.
Нахальные поляки пели:
Na Starym Mies?cie,
Przy wodotry?ku,
Pulkownik Trepow;
Dostal po pysku.[169]
Терпеть такое было нельзя. Эти люди боялись того, что начиналось в деревне и вспыхнуло уже в столице. Но им очень хотелось что-то выторговать себе на чужой крови. До сих пор всевластная шляхта считала их людьми только тогда, когда надо было одалживать (простите — отдавать!) деньги. А на них трудилось больше половины людей двухсоттысячного города.
И потому, прежде всего радея о порядке, они организовали гражданскую стражу, которой начал руководить Рупрехт, как человек, ближе всех знакомый со смертью.
Охрана навела порядок. Суровые санкюлоты из студентов (их портки действительно оставляли ожидать лучшего), засунув за ленты шляп удостоверения, хватали на улицах людей после комендантского часа и тащили их в купеческое собрание (do Resursy), не жалея по дороге тумаков и иных «благ». Особенно доставалось пьяным, которые кричали, что в цитадели мало войска, или трезвым, говорившим, что теперь как раз время взять царизм за горло. Их называли провокаторами, которые хотят крови в то время, когда вот-вот будут реформы, и «агентами Москвы», хотя Москва об этом, ей-богу, ничего не знала.
Гражданская стража разоружала рабочие окраины, отнимала все, чем можно было колоть или резать.
Революция на глазах делалась буржуазной. И самое удивительное, что парни из охраны действовали так из самых чистых побуждений.
Обычно задержанных отпускали. Однако иногда «агентов Москвы» вместе с оружием выдавали жандармам, и тогда «агентов» (наверно, за нерасторопность) судили и высылали не ближе Оренбурга и не дальше Норильска. Империя шутить не привыкла.
Убитых на демонстрации похоронили как магнатов. Владельцы хотя бы незначительного имущества получили некоторые привилегии на его защиту. Реформирован был торговый трибунал, в который теперь вошли и евреи (исключительно гуманная мера, особенно если учесть, что тысячи их местечковых братьев — портных, лудильщиков и других — по-прежнему прозябали в самой горестной нищете). Ремесленникам-евреям из города разрешили записываться в цехи (которые и без того задыхались от недостатка работы). Евреи-местечковцы не получили ничего, впрочем так же, как и христиане. Банкиры заложили первый кирпич в фундамент братства народов и равенства их перед нуждой и нищетой.
Ходили некоторые слухи о праве, было мгновение политических льгот — коротенькое, с заячий хвост.
На глазах простого люда банкиры ценой его крови купили себе богатство и почет. Не в первый и не в последний раз.
Торговали, однако, не только финансисты. Свой кусок хотели вырвать из зубов царя и магнаты. Они не могли выступить против реформы, которая была им выгодна. Значит, следовало требовать национальных льгот, чтоб не сунулись в их счеты с мужиками белорусы, кацапы да немцы. Во имя того, чтоб сбросить с весов белорусскую буржуазию, которая только рождалась, но была резвая и цепкая, магнаты даже отказались от «Западного края», установив границу королевства по Бугу.
Потом, когда начал стлаться пороховой дым и из общего количества восставших в шестьдесят тысяч было не менее двадцати пяти тысяч белорусов, магнаты уже никогда не говорили об этом.
Проект Велепольского, однако, отклонили сами магнаты. Он был слишком конкретен: требовал своего сената, сейма, своей армии. Они знали — этого не позволят. Да они и побаивались революционной ситуации.
Магнаты одобрили другой проект — проект Эдмунда Стависского, который отличался полной беспомощностью и не содержал ничего конкретного, так, несколько листов бумаги, исписанных красивыми словами. Хвалили Польшу и одновременно шаркали ножкой перед царизмом.
Царь принял и напечатал адрес. Он не мог рисковать, не мог допустить, чтоб в такой грозный час взбунтовались еще и поляки. Тем более что проект Стависского не требовал никакой революции. Просто самодержцу говорили такие слова, которых он до этого не слышал.
Победа варшавского движения была, таким образом, скорее моральной. Буржуазия, мещанство, городской плебс впервые почувствовали, что не одной шляхте обжигать политические горшки, что они тоже сила. И именно потому, что они были силой, наместник Горчаков и магнаты кармана так легко договорились между собой.
Плебсу не хватало вождя. Не хватало Траугутта, не хватало Калиновского, не хватало тех, кто двумя годами позже взяли в свои молодые непримиримые руки кормило восстания. И потому варшавский люд был на удивление сговорчивым, хотя в душе, конечно, желал большего.
Просто не было кому сказать за него. А император охотно подписал 26 марта рескрипт о реформах в Польше, и на этом и он, и паны успокоились. Единственное, что тут было хорошо, — небольшое количество жертв, которыми пришлось заплатить за эти реформы.
Революция так и не стала революцией.
Был потом, правда, еще один «эксцесс», но он уже ничего не мог изменить. Горчаков боялся, что оглашение новых прав вызовет беспорядки. Приказали бить в барабаны, чтоб люди не собирались в толпы и сидели по домам. И действительно, на всех подавлениях именно так, громом барабанов, заставляли дрожать людские сердца: эхо так напоминало залпы. Варшавяне, однако, не знали этого. Наоборот, они посчитали грохот за приглашение к собраниям. И люди доверчиво шли к дворцу наместника и ратуше, чтоб послушать, что там оповестят, на людей поглядеть и себя показать. Это было похоже на непослушание, но они об этом не думали. И не думал об этом генерал Степан Хрулев, бывший участник Севастопольской обороны, а теперь командир второго армейского корпуса. Он и свой язык знал лишь разве что только в той мере, чтоб говорить о статутах и тактике, а польский и подавно не знал. Слово «obebnic»[170] означало для него только «ударить в барабан», и он очень хорошо помнил, что барабан употребляют перед казнью или атакой.
Тысячи глаз, ничего не подозревая, смотрели на солдат и готовились слушать.
Ударили громы. Улицами потянулся дым. Было несколько сотен раненых. Кое-кто скончался в госпитале. Получилась маленькая ошибочка.
Дальнейшего бунта не произошло. У обезоруженных людей не было вождя. Великие паны изменили им, и день 8 апреля навсегда поселил в сердцах простых людей гнев и недоверие.
Так произошло в Варшаве.
* * *
— Как же оно там было? — задумчиво повторил Валуев.
— Узнаем, — сказал Муравьев.
Они молчали. Лиловый свет из-за штор делал цвет лица шефа трупным.
— Бунт, — сказал Муравьев. — И смотрите, чтоб он не зацепил Белоруссию. Я эту публику знаю. Сам когда-то, во время последнего восстания, могилевцам могилой пригрозил и угомонил их. Счастье, что тогда не поднялись мощные белорусские роды да мужики. Был там такой «красный князь-карбонарий» — Загорский-Вежа. Смотрел на нашу свалку свысока, как сам пан бог: «Ну-ну, мол, шевелитесь». А я об одном молил: хоть бы все эти Загорские, Ракутовичи да другие не восстали.
Не восстали тогда. Но с того времени многое изменилось. Все эти господа Чернышевские, Страховы, Добролюбовы спят и видят во сне симпатичненьких братьев белорусов. Филиал герценовской конторы. Обрадовались возможности образовать еще и отдельную белорусскую национальность. На пустом месте такое намерение не взрастает. Литература у них, у белорусов, своя появилась, кружки, ученые свои. Скоро появятся и свои коммунисты-демократы. А значит, придется стрелять. И потому я за себя спокоен, даже при нынешней благодарности за мою верную службу.
— Я понимаю вас, — сказал Валуев.
— Этот сброд раньше поставлял нам аристократов, теперь будет поставлять мятежников.
Валуев не дал понять, что смертельно оскорблен, и решил, что он это Муравьеву припомнит. Шеф не мог не понимать, что сказал страшную бестактность. Он не мог не знать о происхождении самого императора и его, Валуева. Романовы происходили из белорусского рода Кобыл. Он, Валуев, происходил от белорусского боярина Вола, который перебежал на службу к московским князьям еще перед Куликовской битвой: обидели, не мог по худородству рассчитывать на успех.
Валуев вспомнил анонимную шутку (он предполагал, что сказал это Хрептович из министерства иностранных дел): «Вот выслужится он, погодите, будут Вол и Кобыла в одной упряжке».
Не стоило так шутить. Шутник был убежден в своей безопасности: знал, что такое никто не осмелится донести царю.
Валуев знал: слово — страшное оружие. Он сам не задумался уничтожить репутацию министра иностранных дел Нессельроде одним словом: «Родился от германских родителей, в Лиссабонском порту, на английском корабле, крещен по англиканскому обряду». Канцлер в самом деле был неблагодарной скотиной: тридцать девять лет заправлял иностранными делами империи, да так и не удосужился выучить хотя бы слово по-русски.
И все же Муравьеву не стоило так шутить.
Подчиненный еще не привык к тому, что никто больше не ненавидит друг друга, как коллеги по служению одной империи, одной идее, одной личности.
О своем происхождении директор никогда не забывал. И потому, что происходил оттуда, не любил старого гнезда, как иногда выскочка не любит хаты, где родился. И чувствовал, что и государь не любит Белоруссию за то же самое. Местная аристократия слишком свидетельствовала против его худородства. Он подсознательно мстил за это земле, откуда вышел, хотя и не признался б в этом даже себе. Потому Валуев тоже хотел для этой земли дальнейшего зла. А это зло могли остановить лишь уступки, и Валуев позднее чинил всяческое зло с ненавистью и рвением ренегата.
Он с радостью подумал, что Муравьеву, хотя и временно, лететь кувырком. Он знал, как не одобрял император на государственном заседании 9 февраля действий Муравьева, который вместе с графом Строгановым проголосовал, чтоб «вольные» крестьяне, вступая в брак, просили на то разрешения у помещиков: «Не так деньги, как честь». И ясно, что государь едва не накричал на них. В брачном вопросе уступить легче, чем в земельном. Не хватало еще цепляться за такую чепуху! И без того обкорнали реформу до неузнаваемости.
«Ах, и хорошо будет, когда он полетит!» И Валуев с улыбкой вспомнил, как князь Орлов (статная фигура, суровый облик, но двигаются только руки и голова, а туловище, как каменное torso, в креслах, а взгляд иногда умный, а иногда блуждает, словно у сумасшедшего) сказал про Муравьева:
— Он умнее всех их, но смотрит то вперед, то назад, то по сторонам, лишь бы только себе не навредить.
Муравьев между тем лепетал слова, которые ничего не выражали, кроме раздражения:
— Министры. Плутяги… Хотя бы Чевкин… Il n'est pas considere; il a de 1'esprit; il est bossu. Cette araignee a une constitution dans sa bosse.[171]
И хотя считать министров конституционалистами было несправедливо в высшей степени, Валуев рассмеялся.
— А Рибопьер? — ворчал Муравьев. — Не Рибопьеры они, а Робеспьеры.
«Э, — подумал Валуев, — да ты ниже всякой критики».
А про себя решил, что на рауте у великой княгини скажет о нем (а возможно, и в дневник запишет, чтоб знали о его доброжелательности) приблизительно так: «Бедный Михаил Николаевич. Плохо ему приходится. Где прежний апломб и прежняя уверенность в успехе всеподданных докладов?»
Это возвысит его, Валуева, и убедит всех в его беспристрастности и нейтральности.
Было уже одиннадцать, а в двенадцать начиналось заседание Государственного совета. Они двинулись к выходу. Валуев передал обычные светские сплетни, чтоб шеф не заметил озабоченности.
— Сегодня ко мне заезжал военный министр.[172] Он, пожалуй, более красный, чем брат. Во всяком случае, более желчный. Я ему сказал, что нельзя объявлять освобождения на масленицу, когда все пьяные. Знаете, каков был ответ?
— Каков?
— «Так что же, казне и откупщикам будет больше дохода».
…Теперь они ехали в одной карете. Карета подчиненного катилась пустой за каретой шефа.
Валуев смотрел в окно. На перекрестке пришлось на минутку остановиться. Мимо кареты шли прохожие. Двое из них привлекли его внимание. Один — мужественной и возвышенной красотой. Второй, пониже — ассиметричными глазами на тяжеловатом лице.
Глаза их встретились. И прохожие не отвели своих, пока карета не тронулась.
«Совсем юные, — с неожиданным беспокойством подумал Валуев. — Но какие глаза! Какая мужественная и неспокойная красота у одного! И какое страшное в своей целостности, способное на все лицо у второго…»
Он был физиономистом и часто раздумывал над лицами встречных.
«У-у, какие глаза!»
…
— Кто такой? — спросил у Кастуся Загорский.
— Не знаю. Какой-нибудь мерзавец. А вот у спутника его — вот это лицо! Словно гиена. Хотел бы я знать, кто это.
— Идем, брат. Нас ожидают.
Они ускорили шаг.
* * *
Валуев ходил по приемной, ожидая, когда его вызовут с отчетом по сельскому хозяйству. Оп знал, что государь сейчас начинает заседание краткой речью, в которой напоминает о предыдущих фазах крестьянского вопроса и повторяет требование, чтоб дело рассмотрели без промедления.
И хотя он знал, что потом прочтет черновик этой речи, ему было неприятно и утешало только то, что скоро он, Валуев, будет сидеть среди членов Совета, а для некоторых эта возможность на днях окончится, и потому ему, Валуеву, лучше, потому что для него все еще впереди.
Валуев знал: ожидать еще долго, не меньше, чем до пяти-шести часов, и скучал. Временами, проходя мимо двери, слышал голоса. Ага, Муравьев придерживается своего. Не научился ничему. Как, наверно, холодно смотрит на него император. Валуев улыбнулся.
…Анненков… Фонтан слов. Он как будто жалуется. Рассказывает что-то о саратовском помещике из севастопольских героев:
— Севастопольский герой, ваше величество. Ему предстоит выдать замуж дочь, а проект редакционных комиссий сделает из него нищего.
Кому теперь дело до саратовских помещиков. Олух! А сорок пять человек, кроме государя, в том числе три великих князя и принц Ольденбургский, слушают его лепет.
Вот сейчас выступает граф Блудов. Удивительно, как он не уснул. На докладах всегда спит. Председатель Совета, президент академии, бывший член «Арзамаса». А propos de вотчинной полиции, ваше высочество, это дворянство подносит вам розгу и кнут для избиения мужиков. Смотрите сами…
Обсуждают, обсуждают, обсуждают. Вот вопрос о норме наделов и о том, что надо их утвердить законодательно. Говорят, говорят, — господи, какая скука! Наконец осилили: тридцать голосов «за», пятнадцать — «против».
И вдруг сверху донесся странный тупой треск. За ним, двумя секундами позже, еще. Треск был такой, словно кто-то клиньями раскалывал дерево. Содрогнулся потолок. Встревоженный Валуев пошел к лестнице и начал подниматься наверх. Снизу, обгоняя, спешили дежурный офицер, красавец с белыми волосами, и двое караульных. Упало что-то в гербовом зале. Валуев подошел к двери и остановился, потрясенный. Вдоль паркета протянулась трещина, выбитые дубовые планки паркета разлетелись далеко по полу.
— Что такое? — спросил Валуев.
Офицер смотрел с ужасом. На полу, у его ног, туго обтянутых блестящими сапогами, лежал разбитый вдребезги герб Минска.
Но дежурный смотрел не на герб. Валуев проследил за его взглядом и почувствовал, как и у него пробежали по спине мурашки.
Герб ударился так сильно, что свалилась корона с другого герба, что висел напротив, на стене, где не было окон.
Упала корона с государственного герба.
Офицер умоляюще сложил руки:
— Пожалуйста… Ради бога, никому не говорите. Господи, что же делать? Такое зловещее происшествие! Придется распустить слух, что свалилась только корона с минского.
— И я вам так советую, — с улыбкой сказал Валуев.
Они смотрели на разбитый в щепу паркет.
— А сегодня еще и годовщина со дня смерти Петра Великого, — сказал офицер. — Боже мой, боже!
XIV
— Так, — сказал Кастусь. — Разные слухи ходят об этом падении. Вот оно, хлопцы, какое дело. А поскольку освобождение, как говорят, на носу, то нам нужно быть на местах.
Хлопцы, человек пятнадцать, и среди них Алесь, Мстислав, Ямонт, Звеждовский, сидели в комнатенке неуютной петербургской квартиры. За окнами была теплая зима, шел дождь со снегом.
— Говорят, вот-вот по Московскому тракту отправятся около сорока генералов свиты и флигель-адъютантов, — спокойно сказал Звеждовский. — Для наблюдения за ходом крестьянского дела. Бутков наделил каждого официальным чемоданом с официальным ключом и за печатями. В чемоданах повезут новые положения о крестьянах и сдадут губернаторам.
Звеждовский в блестящем штабном мундире выглядел очень эффектно.
— Что мы должны делать? — спросил Мстислав.
— Изо всех сил сдерживать крестьянские выступления, если они будут, — мрачно сказал Кастусь. — Не время для крови. Да и потом — какая от них польза, от разрозненных? Вот когда почувствуют на своей спине, что такое царская воля, — тогда будем бить в набат.
— И все же жаль, что не начали готовиться раньше, — сказал Алесь. — Удобный момент. И в Варшаве заговор.
— Смелu они варшавский заговор, — сказал Ямонт, — обманули… Ну что ж, поедем. Брошу университет. Сошлюсь на больные глаза.
— И все же потерпим, хлопцы, — повторил Кастусь. — А то и с нами получится, как с бедными хлопцами из кружка Витковского. Разогнали, арестовали. А из-за этого провалилась организация Виленской гимназии. Первый провал. Пять месяцев минуло, а вспомню — сердце болит. Кто там остался, Алесь?
— Мало. Далевский Титус, Богушевич Франтишек, еще несколько человек и мой брат. В глубокое подполье ушли хлопцы. Видел я старшего брата Титуса — Франтишека. Сокрушается страшно. Есть и у них нелегальная организация, возглавляют ее он да Гейштор Якуб, а Франтишек говорит: словно осиротели они без молодых.
— А ну их к дьяволу! — сказал Мстислав. — Сопляки панские, белая кость!
— Правильно, — неожиданно поддержал Звеждовский.
— Но-но! — возразил Мстислав. — Сам давно ли был белым?
— Ты же меня перевоспитал, — засмеялся Людвик.
— Да уж, — буркнул Грима, — ты, Людвик, расскажи, что слышал во дворце.
— Что ж, — начал Звеждовский, — приятного мало. Пойдут на некоторые уступки полякам — замажут им рот. Был я у великой княгини Елены Павловны. Круг узкий. Статс-секретарь Карницкий, что приехал из Варшавы, министр внутренних дел Ланской, Валуев, еще несколько человек. Впечатление — испуганные люди. Да и в самом деле, как не испугаться! Не говоря о Польше, вся Литва и Беларусь служат панихиды по убитым. А у властителей накакого чувства моральной силы.
Валуев сказал Карницкому, что здесь одно войско не поможет. Долгоруков говорит Валуеву: «On prend la chose trop legerement chez nous». Тот ему: «Je tiens pour certain, que la chose est tres grave». Князь лишь оглянулся: «Chut! Il n'en faut pas parler».[173] А тот: «Но почему?…» Карницкий привез от наместника письмо о том, что защищать дальше такой режим невозможно и что надо или сделать уступки, или править царством изо дня в день багнетами и картечью.
— Интересно, — сказал Кастусь.
— Да. Карницкий говорит, что если требования не будут выполнены…
— Требования… — сказал Бискупович. — Только общая просьба обратить внимание на злосчастное положение Польши.
— Не прерывай, — буркнул Грима.
— …так никто не останется работать в Польше, потому что струну натянули до предела и она порвалась. Gouverner c'est prevoir.[174] Потом Валуев беседовал с великой княгиней. Она спросила у него: «Que fautil faire en Pologne?» Он говорит: «Changer de systeme, madame». Та грустно улыбается, указывает на Ланского: «Je le pense aussi; mais voici le ministre de l'interieur qui est flamboyant et parle des mesures de severite». Валуев пожимает плечами: «Mais on a ete trente ans severes, madame, et ou en est-on arrive?»[175]
Кастусь рассмеялся. Звеждовский улыбнулся ему в ответ.
— Тогда кто-то, незнакомый мне, говорит: «On ne tombe que du cote ou l'on penche. Si nous tombons en Pologne, c'est donc du cotede mesures de police substituees, a des idees de gouvernement».[176] Словом, даже они видят: без уступок не обойдешься.
— Играют нами, — сказал Ясюкевич. — Ах, чушь все это! Свою революцию нам надо, красную, вот что. Земля, воля, всеобщее восстание, братство всем народам.
— Гм, — сказал Ямонт. — И москалям? Почему я должен умирать за москаля?
— Брось, Юзик, — с укором сказал Алесь. — Это одни из самых добрых людей в мире. Правительство у них только плохое, вот что. Сменим — все будет хорошо.
— Я знаю, — сказал Кастусь, — чтоб люди жили, трудились и ели хлеб, надо все это наше богом проклятое сословие отправить на виселицу. И великодержавных бюрократов послать к дьяволу.
— А я думаю, — мрачно сказал Грима, — если один человек не вычерпает всей глубины натуры другого, как бы он ни был гениален, если он не сумеет заменить его, то и один народ не может заменить собой другой, пусть даже более слабый… Зачем же тогда каждой нации кричать о своем преимуществе? Это ведь то же самое, что требовать, призывать стереть с лица земли соседний народ… Я так не могу… Я… не могу быть потому другом ни таким людям, как Валуев, ни тебе, Ямонт. И я пойду на битву, чтоб никогда такого не было. Чтоб все были братья и каждый — вольный, как птица.
Кастусь поднялся:
— Что ж, паны вновь назначенные комиссары будущего восстания и командиры отрядов, время расходиться?
— Время, — сказал Бискупович.
— Тогда — по одному.
* * *
Калиновский и Загорский шли берегом Мойки.
— Виктора я разорвать готов, — сказал Кастусь. — Ты знаешь, как он «лечился» в Италии? Присоединился к гарибальдийцам. А возвратился — ему все хуже и хуже.
— Что ж, наверно, ему как раз был необходим воздух свободы. А тогда — вылечим… Ты не хотел бы сходить к Шевченко?
— Неловко как-то.
— А все же сходим. Завтра, перед отъездом.
— Давай.
Мойка под порывами ветра покрылась рябью, как будто сморщилась.
— Ну вот, — сказал Кастусь, — бросили жребий. Ты не обиделся, что силами Могилевщины будет руководить Людвик?
— Звеждовский достойный человек, — просто сказал Алесь. — К тому же он военный. Да еще из талантливых. Я революционер, Кастусь. Пусть будет так, как лучше для дела. И потом — я комиссар отрядов Нижнего Приднепровья, мне тоже работы хватит.
— Я это потому, что тебя мало знают в центре и ты застрахован от провала.
— Не веришь «белым»?
— Нет, — признался Кастусь.
— И я не верю.
— К тому же, ты ездишь по делам — тебе легче организовать людей.
В сумерках особенно нежными и красивыми были лица женщин, особенно гордыми лица мужчин.
Но они не думали теперь о женщинах. Им было не до этого.
— Поезжай, — сказал Кастусь. — Сдерживай, не допускай, чтоб преждевременно расплескивали гнев.
Помолчали. И вдруг Калиновский спросил:
— Ты не слышал, что Ясюкевич пишет стихи?
— Нет.
— Пишет, но скрывает. Как и всякий другой. Как ты и я.
Улыбнулся.
— Словно эпидемия среди наших эти стихи.
— Что поделаешь? Молодой народ, вперед рвется.
— Как думаешь, каков путь нашего стиха? Силлабика польская или тоника? Или гекзаметр, который может быть и тем, и другим?
— Что-то особое.
Алесь задумался.
— Ты о чем?
— Я вот думаю: какими глазами смотрели египтяне на первые шаги греков? Тоже с презрением. И грекам действительно еще пятьсот лет потребовалось идти, чтоб заслужить право на Фидия и Эсхила.
Друзья поднялись по лестнице в комнату Кастуся. Калиновский зажег свечу.
Но они не успели даже снять пальто, как послышался грохот ног по лестнице и в комнату ворвался Виктор.
— Хлопцы! — крикнул он. — Хлопцы! Шевченко умер!
— Ты что? — побледнел Кастусь. — Такой молодой еще…
— Умер, хлопцы, умер, — отрешенно повторял Виктор.
Лицо его побелело. И вдруг старший Калиновский зашелся в нестерпимом кашле. Алесь бросился за водой. Когда Виктора отпустило и он отнял платок ото рта, на платке была кровь. Больной виновато взглянул на Алеся.
— Не дождался, — растерянно сказал Кастусь.
— Многие не дождутся, — сказал Виктор. — Многие не дождутся свободы.
XV
В Милом читали манифест об отмене крепостного права.
Церковь была переполнена как никогда.
Свитки, мужские и женские, кожухи, белые мужицкие головы и снежные намитки женщин. Стоящим сзади тянуло в спины холодом из открытых дверей, а не открыть было нельзя, — так надышали.
Стояли и мрачно слушали, мало что понимая: написано было путанно. Читал поп. Читал деланно ликующим голосом.
Алесь смотрел на народ, заполнивший церковь, но своды потолка, на древние, обрюзгшие лица ангелов и святых на фресках. Пантократор с центра купола взирал на сборище сурово и гневно, древний и немилостивый бог.
— «В силу означенных новых положений, — читал поп, — крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей».
— В какое это «свое время»? — тихо спросил Кондрат Когут.
На него шикнули, чтоб не мешал слушать, но все же многие из тех, кто услышал, улыбнулись.
— Вишь ты, — долетало до Алеся ворчанье Кондрата, — не на масленицу, а на великий пост оглашают. Вместо гулянки подтягивайте ремень, люди добрые.
Поп «пел», закатывая глаза:
— «Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам за установленные повинности в постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и использования обязанностей их перед правительством, определенное в «Положениях» количество полевой земли и других угодий».
Поп улыбался, как будто сообщал бог знает какие приятные вещи. А Алесь думал, что его людей, уже освобожденных им, это не касается. Но сюда они пришли все. Хотят послушать «царскую» волю и убедиться, не обманул ли их бывший пан.
— «Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в «Положениях» повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются временнообязанными».
Лица у всех были слишком серьезными. Поймут. И в самом деле, как бы не довелось сдерживать людей, как просил Кастусь. Возможно, вспыхнет бунт. И не один.
— «Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением в собственность определенного количества земли крестьяне освобождаются от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-собственников».
Алесь увидел Исленьева. Старик смотрел на него. Потом покачал головой. Графу, по-видимому, было стыдно.
— Не хотим мы такой воли, — сказал кто-то тихо, видимо из браниборских мужиков.
На большинстве лиц было разочарование. Старый Данила Когут морщился. Вся родня невестки Марыли принадлежала Ходанским. Марылю когда-то выкупил старый Вежа, когда его попросил об этом Когут. Люди понимали: самое малое — еще два года надо страдать.
— «Когда мысль правительства об упразднении крепостного права распространилась между не приготовленными к ней крестьянами, возникали было частные недоразумения. Некоторые думали о свободе и забывали об обязанностях.
Но общий здравый смысл не поколебался в том убеждении, что и по естественном рассуждении, свободно пользующийся благами общества взаимно должен служить благу общества исполнением некоторых обязанностей, и по закону христианскому всякая душа должна повиноваться властям предержащим,[177] воздавать всем должное и в особенности кому должно, урок, дань, страх, честь; что законно приобретенные помещиками права не могут быть взяты от них без приличного вознаграждения или добровольной уступки; что было бы противно всякой справедливости пользоваться от помещиков землею и не нести за сие соответственной повинности».
«И они еще говорят о христианстве, — думал Алесь, — ссылаются на послание Павла. Не сказал ли тот самый Павел, что брань наша не против крови и тела, а против начальства, против духов злости поднебесной? Ободрали как липку и кричат о христианстве».
Он видел лица людей, особенно из других деревень, видел все это человеческое море, на которое смотрел с купола Пантократор. Бедные, бедные люди! Как колосья, как травы под серпом твоим, грубая сила. Ну что ж, если твоя «необходимость» не может принести им облегчения, и воли, и счастья, — тем лучше. Тогда по своей «необходимости» они станут колосьями под серпом воли, родины, восстания, битвы, колосьями, которые умрут, чтоб выросла новая нива. Это будет скоро. Недолго ждать.
Интересно, что теперь делает Кастусь? Видимо, выехал в Вильню, а оттуда в Якушевку. Собрался подавать генерал-губернатору Назимову прошение о службе. Дадут ли? Что ж, если не дадут, он возьмется прямо за дело.
— «И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них новой будущности поймут и с благодарностью примут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта».
Какое мрачное лицо у мельника Покивача. Как смотрят на попа его ястребиные глаза. Стоит Звончикова страруха из Озерища. Эта довольна, словно загорщинские своим преждевременным освобождением обманули не только соседских, но и своего пана…
— «Осени себя крестным знамением, православный русский народ…»
«А как быть католикам?»
— «…и призови с нами божие благословение на твой свободный труд, залог своего домашнего благополучия и блага общественного».
Поп окончил. Люди начали двигаться, кашлять.
— Еще «Положения», миряне, — сказал поп.
«Может, в «Положениях» что?» — спросил себя, наверно, каждый. Люди снова замерли.
Загорский знал: ничего не будет и в «Положениях», пусть не надеются.
Голос у попа был немного охрипший от усталости и волнения. Алесь почти не слушал его.
Поп читал о том, что помещики не обязаны наделять крестьян землей выше положенного.
— Если не обязаны, значит, и не будут, — сказал кто-то.
Алесь не посмотрел в ту сторону. Он чувствовал себя так, словно это его, невиновного, поймали на воровстве.
— «Снимается с помещиков обязанность по продовольствованию крестьян, ответственность за взносы податей, ответственность в казенных взысканиях».
Документ был, кроме всего, написан плохим русским языком. Словно бороной корни рвет на лесной стежке. Кто же это говорил, — Сперанский, кажется? — что законы умышленно нужно писать непонятно, чтоб народ обращался за разъяснениями к властям.
«М-м-м, как-кой стыд! Богатые люди. Ограбили, ободрали, бросили. У нищего посох отняли».
Поп говорит о панщине в Могилевской губернии.
Сорок мужских и тридцать женских рабочих дней в год. Если учесть, что прежде один человек со двора отрабатывал три дня в неделю даже у Кроера, то облегчение, выходит, незначительное.
Какие у людей глаза! По-видимому, теперь и они поняли. А вот и нормы наделов. Для их округи — шесть десятин (ничего, есть места по три десятины без четверти), а остальное можно отрезать в пользу пана. Как же так? До реформы надел был пятнадцать — двадцать десятин.
И пока не выкупишь, земля не мужичья, а юридически панская, и за нее надо нести повинность. Но ведь на выкуп срок не установлен, — значит, и повинность бессрочна.
И мало того. Если будет недоимка пану или общине, можно пустить с молотка все, вплоть до усадьбы мужика.
Под сводами церкви звучали слова о капитализации оброка, о выкупных суммах, о шести процентах выплаты в год. И не нашлось человека с вервием, который выгнал бы торгашей из храма. Человека этого давно и намертво прикрепили краской к куполу неправедного храма.
Было нестерпимо тяжело.
…Когда народ стал расходиться из церкви, Алесь поздоровался с Исленьевым.
— Ко мне?
— Нет, надо еще на чтение в Суходол, — сказал старик.
— У Раубича читали?
— Читал. Эх, Александр Георгиевич, дождались мы конца святой масленицы!
Граф был растерян, и Алесь поддержал его шуткой:
— Ничего, будет еще и пасха. Неизвестно только, кто кому красное яичко поднесет.
— Наверно, мужики нам, — грустно сказал Исленьев. — И стоит.
Граф, сгорбившись, сел в возок.
Алесь с высоты пригорка видел, как брели по серому снегу белые крестьянские фигуры. Кто-то тронул его за руку. Ага, батька Когут.
— Спасибо тебе, сынок, от загорщинских.
— За что?
— Благодаря тебе не натерпелись бывшие ваши мужики срама. Вот тебе и воля.
Ушел и Когут. Алесь начал было спускаться с пригорка к своим коням, когда услышал вдруг цокот копыт. Разбрызгивая мокрый снег, скакали от церкви Вацлав и Стась Раубич. Алесь удивился, увидев их вместе. Он не знал, что все эти годы хлопцы тайком встречались.
Но ему было приятно.
— Вы что это, — притворно напустился он на них, — головы свернуть захотели?
И осекся, увидев лица Стася и Вацлава. Было странно в такой день видеть радость на чьих-то лицах.
— Алеська, братка… — захлебнулся Вацлав.
— Что?! Разве вы помирились?
— Мы и не ссорились, — покраснев, сказал Стась. — Никогда. Правда, Вацлав?
— Что такое? — спросил Алесь.
— Раубич поссорился с Ходанскими, — выпалил брат.
Глаза у самого младшего Раубича были влажными, вот-вот расплачется от радости.
— Правда, — сказал он. — Из-за тебя.
— Как?
— Прочли манифест. Ходанские разобиделись на царя страшно. И тогда отец вдруг разгневался и сказал: «А Загорский был прав, что освободил своих, не дожидаясь результатов этого грабежа. Молодчина, хлопец! Молодчина!» Те потребовали объяснений. А отец им сказал: «Франс все время говорил мне правду о нем. Просветил, видимо, его бог. А я сильно виноват перед молодым князем».
Алесь поцеловал их свежие от езды и ветра, почти детские еще лица.
— Я очень рад, Алесь, — сказал Стась. — И Майка, и Франс. А Наталка, так та аж прыгает и в ладошки бьет.
— И я рад, — сказал Алесь. — Если можешь, скажи отцу, что я приду поговорить.
— Поскакали, — сказал Вацлав Стасю. — К вам.
И они с места взяли вскачь. Алесь смотрел и улыбался. Франс не подвел. Значит, как только окончится пост, он и Майка будут жить вместе.
На миг он подумал, что вот-вот настанет сеча, и рассмеялся. Его не могли убить в бою. Для этого он слишком переполнен жизнью. Восстание было радостью. Они победят, и тогда все люди станут счастливыми. Только бы быстрее. Только бы быстрее Майка, бунт, победа, свобода, вольная Отчизна на вольной земле.
Он с наслаждением вдохнул горьковатый мартовский ветер.
Все же наступила весна.
XVI
Спустя несколько дней после чтения манифеста в Милом умер старый Данила Когут. Никак не мог опомниться и не переставал думать о родне Марыли. Все повторял: «Два года панщины для мужиков. Еще два. А платить всю жизнь».
И вот в первый солнечный день взял Юрася и, опираясь на него (а раньше и палкой не пользовался), пошел с внуком под заветный дуб в конце усадьбы.
Шел высокий, весь белый, как снег, от волос и усов до свитки, до белых кожаных поршней.
— Помнишь? — указал на завалинку Юрась. — Ты тут Алесю песню тогда пел.
— Да… Давно было.
— Дед, — спросил Юрась, — а где тот белый жеребенок?
Глаза у старика были белые и пустые.
— Кто же его знает. Растет где-то, наверно.
— Долго что-то для коня.
— Это не простой конь.
Шел какое-то время молча, а затем добавил:
— Вырастет, вырастет жеребенок. Ты дождешься, а я — нет. Не дождусь я, внук. Не дождусь светлого дня.
Он шел двором и осматривал хату и надворные постройки, шел садом и осматривал деревья, что сам посадил.
— Жаль, земля еще мертвая. Услышать бы, как мягкой землей пахнет.
— Услышишь.
— Нет. Отходил свое.
Отломил тонюсенькую веточку вишни. Она была уже зеленая на изломе и пахла горьковатым.
— Пахнет как, Юрась. Жизнью пахнет.
Затем старик осматривал новую баню и вспоминал старую, которая сплыла в тот давний паводок, и щупал рукой сено в гумне. Хорошее было сено, зеленое, ни разу не попало под дождь.
— Скажешь, чтоб овес не транжирили. Скоро пахота. И колоды все пусть Кондрат положит на латы, чтоб не гнили.
— Хорошо, дед.
Юрась был рад, что приехал из академии и задержался, но сердце его болело за деда.
Старик шел стежкой к дубу. Подошел, погладил ладонью шершавую кору дерева. Дубу было не менее четырехсот лет. Высоко в синее небо выбросил он свои ветви.
Потом старик стал глядеть на посиневший лед Днепра, на луга и далекие леса. Много воздуха было над великой рекой. Синего, холодного, слепящего. Но уже льду недолго осталось пугать землю, и Днепр напряг под ним все свои мощные мускулы.
Ветерок шевелил белые волосы старика. Глаза смотрели вдаль.
— Кланяюсь тебе, реченька, — сказал Когут. — Беги себе да беги.
— Дед! — сказал Юрась.
— Молчи, — сказал старик, — не мешай. Чего уж тут. Гроб Днепровой водой окропите. Я услышу.
Юрасю показалось, что дед говорит что-то не то. Но он взглянул в его глаза и смутился. В глазах не было уже ничего от земного. Они знали что-то такое, чего не знал никто.
— Реченька ты моя, реченька, золотая ты моя! Беги себе да беги. Неси себе да неси.
Он обращался теперь к реке как равный к равному. Теперь перед обоими была вечность.
Кости станут землей, и вырастут деревья, и потекут из них капли дождя. Прямо туда, в реку. И он станет рекой, а река — им. И даже самый мудрый, даже бог, их не отличит.
Старик опустился на колени и поклонился реке, как те древние, что обожествляли Днепр и тоже стали землей и рекой.
А потом, словно утратив интерес ко всему на земле, дед лег на солому.
— Ну вот. Умирать буду. Не кричи. Не пугай тишину.
— Дед!
— Мне не больно, так зачем же кричать? Не бойся, это недолго, — сонно бормотал дед.
Юрась, боясь побежать за своими и оставить деда одного, присел немного в стороне. Решил подождать. А затем он отведет старика в хату.
Глаза деда смотрели в синее небо, в котором разбросал ветви дуб-богатырь. Ветви покачивались, словно сам купол неба величественно качался в них.
Кровь земли текла в жилах дуба. А кора была шершавая, как мужицкие руки. А ветвей было — не счесть. А за дубом был Днепр. А над Днепром, и над дубом, и над ним, старым Когутом, было синее небо. Хорошо будет под таким небом белому коню… Станет сильным конем жеребенок… Справедливости ездить пристало на мужицких пузатых конях.
Слабость родилась в теле. Теплая-теплая. Тянулся в небо дуб. Послышались звуки лирных струн. А может, это зазвенели, качаясь, сами ветви дуба?
Дуб вдруг вырос так, что затмил солнце. И лишь небо еще немножко просачивалось сквозь звонкие ветви.
Потом небо угасло…
* * *
Минуло два дня с того момента, когда гроб со старым Когутом опустили в могилу.
Алесь эти дни сидел дома. Никуда не хотелось идти, в душе было пусто.
Алесь вспоминал звуки лиры, и песню про белого коня, и белого-белого деда в белом садике, и багрянец залитой заходящим солнцем груши.
Словно отлетела с этой смертью юность. И никто больше не запоет про белого жеребенка.
В серый, ненастный день приехал по мокрому снегу Адам Выбицкий. Бросил вожжи на руки Змитеру, спрыгнул на снег, почти побежал по ступенькам во дворец. По-видимому, был встревожен.
Алесь как раз расшифровывал тайнописное послание от Кастуся. Под горячим утюгом буквы стали зеленоватыми. Писали, видимо, лимонной кислотой.
«Звеждовский в Вильне создает организацию по руководству группами всей Белоруссии и Литвы. Будем собирать силы на будущее. Своих пока сдерживай от нежелательной горячности. Расширяй организацию и думай об оружии. Я тоже не трачу времени попусту. Объездил часть Слонимщины, был в Зельве и Лиде, в Гродне и Соколке. Создали центр по руководству Гродненской губернией. В нем Валерий, землемер Ильдефонс Милевич, Стах Сангин и Эразм Заблоцкий да еще Фелька Рожанский, хлопец немного с кашей в голове, но решительный. Пишет стихи. И по-белорусски. Но это дело десятое. Организация есть, вот что главное. Срочно напиши, можешь ли выслать две тысячи рублей. Есть возможность дешево купить партию оружия. Украденное интендантами еще в войну и потому дешевое. Правда, двустволки, а штуцеров немного, но и это хорошо. Желаю успеха, брат».
Алесь сжег письмо в камине. В этот момент взволнованный пан Адам вошел в комнату. Загорский, словно не замечая его, клал деньги в кошелек.
— Поедешь в Могилев, — сказал он Выбицкому. — Отправишь деньги вот по этому адресу пану Калиновскому. Моего имени не называй.
Выбицкий мялся:
— Княже…
— Случилось что-нибудь?
Адам осел, словно из него выпустили воздух.
— Бунт, пане княже.
— Какой я тебе пане княже?
— Бунт, Алесь. Восстали Браниборщина, Крутое и Вязыничи, — едва шевелил губами Адам. — Дорогой подняли две деревни Ходанского. Идут в Горипятичи бить с тамошней колокольни набат. Кричат много. Отказываются от уставных грамот и выкупа, не хотят быть временнообязанными.
Выбицкий побледнел еще сильнее и, взглянув на Алеся, вдруг сказал глухо:
— Присоединимся?
— Их сколько?
— Пока пять деревень.
— А округа?
— А округа — ваши деревни. В них нет бунта и, наверно, не будет, — признался Выбицкий.
— Ну вот и присоединяйся. Ах, не вовремя! Ах, дьявол! Кто там у них ядро? — спросил Алесь.
— Корчаковы хлопцы. Все вооруженные. А за ними толпа.
— Олух твой Корчак! — рассердился Алесь. — Он нападет да в пуще скроется, а людям потом что делать? Обрадовался, начал.
— С Корчаком идут близнецы Кондрат и Андрей. Батька Когут, как услыхал про это, кинулся за ними, чтоб удержать.
— Значит, умнее.
Что-то надо делать. Как-то надо удержать людей от крови, защитить от плетей, унижения, смерти. Пять деревень против империи! Какой бред! То слишком осторожны, а то… Нет, это надо остановить. Пусть восстают потом, когда восстанут все, когда возьмутся за оружие друзья.
— В Могилев поедешь, — сказал Алесь. — Отошлешь деньги, а Исленьеву передашь вот это.
Он быстро написал несколько слов.
«Граф, — прочел Выбицкий, — Корчак с людьми идет на Горипятичи. Всеми силами попытаюсь сделать так, чтоб не пролилась кровь. Обещайте мне словом дворянина, что добьетесь у губернатора, чтоб не карали невинных сельских жителей. Они невиновны. Знаю из надежных источников. Молю вас и сам сделаю все».
Выбицкий покачал головой и положил бумажку на стол.
— Я не повезу в Могилев донос, князь. Придет войско.
— Я не посылаю доносов, пан Адам, — жестко сказал Алесь. — Отправляю это письмо именно потому, что придет войско.
— Н-не понимаю.
— Войско придет из Суходола, а не из Могилева. И с войском — Мусатов. Людей раздавят еще до того, как из губернии придет ответ. И потому это не донос. Я не хочу, чтоб лютовали над народом, и делаю попытку реабилитировать его. Корчак уйдет в лес, а люди, Выбицкий? Неужели вы думаете, что слово самого богатого хозяина в оборону мужиков ничего не значит?
— Ну?
— Ну и вот. Я не хочу, чтоб расстреливали и хлестали плетьми. Не хочу расправы. Попытаюсь чем-то помочь. А Исленьев сделает так, что расправа не будет жестокой.
— И это вас называли красным?
— Я и есть красный. Но я не хочу, чтоб красные преждевременно пролили красную кровь. Пре-жде-вре-мен-но.
Выбицкий покраснел.
— Я отвезу письмо, — сказал он. — Простите меня.
— Буду весьма обязан, — сказал Алесь. — Возможно, это спасет и мою шкуру.
Эконом прятал в карман кошелек.
— А может, не рисковать?
— Нет, — сказал Алесь. — Спешите, Выбицкий. Я поеду без оружия. И те, и другие смогут сделать со мной, что захотят.
Он поспешно собирался. Приказал Логвину оседлать Ургу. Накинул плащ. В саквы приказал положить бинты, корпию, йод.
Минут через тридцать после того, как эконом вылетел со двора, Алесь сошел по ступенькам.
— Может, надо за помощью? — спросил Халимон Кирдун.
— Не надо. Будь здоров, Кирдун.
Он тронул коня со двора, ощущая удивительную звонкую пустоту, заполнившую все тело. Так бывало всегда перед опасностью: состояние, похожее на восторг или легкий хмель.
«Ах, всадничек ты мой на белом коне! — иронизировал он над собой. — Ах, головушка ты глупая! Избавитель, видите ли…».
Но не скакать в Горипятичи он не мог.
XVII
Люди шли уже вечер и ночь. Ночью багрово-красные, освещенные заревом, днем как будто обычные, только в глазах оставались отблески огня и ночь. Началось с того, что в Браниборщину привезли уставные грамоты. Перевели в деньги оброк, разложили уставную сумму на все дворы, подсчитали, сколько пойдет на каждую следующую десятину земли. Поскольку каждая следующая стоила дешевле, хуже всего пришлось беднякам, которые не могли много купить.
Шестипроцентный годовой взнос и выкуп были такими, что не осилить.
Браниборцы подумали немного и сказали сами себе: конец, лучше панщина, лучше прежнее рабство.
Удивляла жестокость царской воли. Загорский и Раубич, паны, освободили своих более выгодно. Поначалу думали — обман, а вот тебе и нa. Получили. Алесь и пан Ярош сразу выиграли в глазах людей.
А потом кто-то пустил слух, что манифест подменили, а Раубич и Загорский знали, мол, о настоящем манифесте и не посчитали возможным идти против царской воли. Недаром князь в Милом во время чтения глаз не мог поднять от стыда. Но против остальных идти, видимо, не рискнул. Только сам решил не брать греха на душу, освободить «по-царски»!
Мужики отказались от уставных грамот. Эконом Браниборского начал угрожать.
И тут появился Корчак с людьми. Смотрел в толпу безумными черными глазами, говорил непонятное:
— Не мог царь дать такую волю. Настоящая воля за семью печатями. В ней для всех сыроядцев смерть. Царь приказал волю вилами брать. Он за свою жизнь боится. Но если пойдете панов бить, возрадуется его душа.
Марта с Покивачевой мельницы (многие знали ее по тайным моленьям) глядела огромными глазами, и в них безумие и неистовство.
— Правду говорит Корчак! Сама от странников чула! Растет белый конь! Если не поддержите его, в аду вам быть! Божьего жеребенка продадите — не видать вам счастья!
Люди слушали. А Марта кричала:
— Матерь божья из бывшей Олейной брамы плачет. Волосы у нее посивели и дыбом встали. Мертвых деточек видит. Продали их батьки.
Зрачки Марты расширились на весь раек и трепетали.
— Бог, бог сказал! Будет выдавать брат брата и батька сына на смерть; восстанут дети на батьков и поубивают их, и будут вас ненавидеть за имя мое, но кто вытерпит до конца, спасен будет.
Мужики, конечно, не верили. Дело было не в воплях Марты. Просто жить стало невыносимо, а вопли придавали положению необходимый оттенок жути и величия.
— Кровью река поплывет, если не заступитеся!
— Глядите, хлопцы, — сказал Корчак. — Не пойдете с нами — один пойду. Вам потом стыдно будет.
В это время подошли вязынические. Их привел тот самый Брона, что когда-то разрезал веревки на руках Раубича. Огромный, с английским штуцером в руках, он пришел под общинный дуб и проронил лишь несколько слов:
— Странник один говорил, паны попов подкупили. Попы настоящую царскую волю в церквах сховали. На престоле под сукном лежит.
Толпа молчала. Похоже было на то. Попы читали волю, но попов в Приднепровье, которое вера (то одна, то другая) била и трясла столько столетий, никогда не любили.
— Сховали, — сказал Брона. — И не пощупать ли нам церкви?
Решили — щупать.
Ближе всего была горипятическая молельня. Люди пошли туда и дорогой подняли еще деревню Крутое. Видя, как много мужиков идет, люд поднимался легко.
Потом присоединились крестьяне двух ходанских деревень. Эти пришли с мялами, топорами и косами.
Обрастая, как снежный ком, толпа двигалась к Горипятичам. Дорогой жгли панские надворные постройки. В багровом зареве, увеличенные им, двигались сквозь ночь люди, и страшно, остро блестели над их головами отполированные ежедневной работой вилы и коричневые бичи на ореховых цепильнах.
Уже несколько сотен ног топтали подмерзший за ночь снег. Шли плетеные кожаные поршни, войлочные сапоги, лапти. Глядя на их следы, посуровевший после убийства Таркайлы Кондрат Когут шутил:
— Ай да лаптежники! Ай, мужики, ай, головы!
Хохот катился над головами тех, кто был поближе. Ржал, как конь, Брона, окруженный подростками. У хлопцев были в руках топоры на длинных древках, и уже по одному этому можно было узнать — с Вязыничей. Только у вязынических, врожденных лесорубов, топоры были на таких топорищах.
Корчак шел впереди своих, как на праздник, пьяный от мысли, что вот, наконец, настало время. Он не знал, что весь этот замысел с самого начала осужден на провал, что большинство думает о только что полученной, пусть даже куцей, свободе, что никто, кроме его хлопцев, не накопил злости, что люди шли как на веселое гулянье и могли разойтись при первом же препятствии.
Не знал, что час этих людей еще не настал, что он придет даже не через год, а значительно позднее, но когда придет, пожар будет пылать ярко.
Не знал Корчак, что и Когуты поддерживали его не от всего сердца. Пошел Кондрат, единственный, кто знал правду о смерти Стафана и кого давил гнев. Андрей же двинул за ним, чтоб не оставить брата одного. Но он уже раза два сдерживал Кондрата. Пока что это не удавалось, но в третий раз могло иметь успех.
Да и что было Когутам? Они были уже вольными людьми и, как большинство таких, хотели лишь поглядеть: не задумали ли великие люди подменный манифест.
Должно было пройти много времени, Беларусь должна была изведать еще много кривды, грабежа, нищеты и унижения, чтобы породить грозу. И потому был прав Загорский, а не Корчак.
Но Корчак слишком долго ждал и слишком много страдал, чтоб отказаться от «похода на Горипятичи» (как это потом назвали), выходки героической, но бессмысленной и потому трагической. И он шел так, словно его ждало там главное дело жизни.
В корчме, где сидельцем был старый Ушер, разбили двери сарая и выкатили на снег две бочки со смолой. Все, кто хотел, делали себе факелы. Водки и другого имущества не тронули: зачем человеку потом отвечать перед хозяином? Да и шли ведь не грабить, шли «щупать» церковь, чтоб самим убедиться в низком обмане.
Толпа шла к бочкам и отходила с факелами. Словно черная река подползла к какому-то месту, здесь вспыхивала и дальше ползла уже огненная.
Подошли к Горипятичам. Село молчало. Ни огонька, ни звука. Лишь собаки лаяли во дворах. Белая, с двумя колокольнями церковь на пригорке дремала посреди мокрых, голых лип. А выше их возносился восьмисотлетний черный и кряжистый церковный дуб, ровесник первой церкви, заложенной на этом месте.
Люди удивлялись, почему село молчит. Они не знали, что, пока они шли, задерживаясь подолгу у каждой деревни, и не скрывали цели похода, эконом из Вязынич Федор Петрашкевич успел предупредить Суходол. Полковник расквартированного там Ярославского полка был болен, и на Горипятичи с двумя ротами вышел Аполлон Мусатов. Они реквизировали в одном из сел сани и прибыли на место значительно раньше мужиков.
И никто не знал также, что сюда форсированным маршем подходят еще две роты и будут не позже полудня.
Мужики валили улицей, огородами и садами. Всем хотелось быстрее достичь цели. Лилась сверкающая огненная река.
Возле церкви темнела солдатская цепь. Пологим частоколом розовели поднятые вверх багнеты, и в них отражались огни многочисленных факелов.
Толпа глухо загудела и остановилась. Люди боялись перешагнуть невидимую границу, отделявшую их от солдат в конце улочки.
Солдаты молчали. Даже у Мусатова бегали по спине неприятные мурашки — так много перед ним было людей и огней.
Рысьи глаза капитана обшарили толпу и наконец встретились вначале с ястребиными глазами Покивача, а потом с черными и дремучими глазами Корчака.
И тут Мусатов впервые почувствовал неуверенность и страх. Он не знал людей из этой белой массы, знал лишь лицо Корчака. И Мусатов подумал, что здесь, по-видимому, не просто мужики, а лесные братья, а поскольку это так, дело будет горячим. Он ошибался, но не мог знать, что ошибается.
— Разойдитесь, — сказал Мусатов.
Это было неожиданно. Но вперед вышел не Корчак, а Покивач.
— Мы не хотим крови, — сказал он.
— Чего же вы хотите?
— Мы хотим видеть настоящий манифест, схованный в церкви.
— Какой манифест?
— Настоящий… царский.
— Есть один манифест.
Покивач укоризненно покачал головой:
— Нашто брехать, пане? Служивый, а сам с этими обманщиками. Похвалит ли тебя батька император?… Пропусти нас в церковь, и мы уйдем отсюда.
Мусатов подумал, что это даст возможность выиграть время и взять зачинщиков.
— Идите, — сказал он.
Мужики начали совещаться. Наконец к церковным воротам подошел Покивач.
— Чей? — меряя его глазами, спросил Мусатов.
— Лесной.
— Стой здесь. Еще кто?
Второй из толпы вышла Марта.
— Ты чья?
— Божья.
Две тени, черная и белая, стояли отдельно от толпы и смотрели, кто выйдет еще. Кондрат попытался было сделать шаг вперед, но его вдруг сильно сжали с боков. Он покосился: тяжело сопя от бега, рядом с ним стояли отец и Юрась.
— Голова еловая, — сказал мрачно отец.
Кондрат рванулся было — сжали сильнее. Андрей вдруг начал толкать его назад, в толпу.
— Хватит, — сказал он. — Ты что, не видишь? Западня.
Строгие синие глаза Андрея встретились с его глазами.
— Идем отсюда, — сказал Андрей шепотом. — Подвести хочешь загорскую округу? Брось, брат. Не время. Погоди, выспимся мы еще на их шкуре.
Подкова покраснела на лбу Кондрата. Но родственники крепко прижали его к стене какого-то сарая.
Мусатов стоял немного выше моря огней. Его руки, уцепистые руки в веснушках, нервно ощупывали пояс. Он не чувствовал прежней уверенности. И именно для того, чтоб она вернулась, спросил:
— Еще кто?
— Я, — шагнул из толпы Брона.
Он отдал штуцер соседу и пошел, приминая поршнями снег.
— Кто такой? Откуда?
— А ты не знаешь? Напрасно. Довелось-таки тебе помучиться с нами под Глинищами.
У Мусатова передернулась щека. И этот лесной…
— Т-так, — протянул он и, поскольку уверенность не приходила, приказал: — Солдаты, берите их.
Троих людей схватили за руки.
— Это что же? — спросил Покивач. — А обещание?
— Лесным бандитам не обещают.
— Люди! — крикнул Брона. — Видите?!
— Ты что же это делаешь?! — закричал кто-то из толпы.
Мусатов поднял руку:
— Народ! Эти люди убедятся, что никакого манифеста в церкви нет, и там же будут ждать, пока придет расплата.
Кондрат Когут отбивался у стены. Его держали.
— Пустите! Видите, как они! Пустите!
Отец вдруг обхватил ремнем его заломленные назад руки, стянул их так, что у Кондрата начали наливаться кровью кисти.
— Тащите его, хлопцы, тащите отсюда!
За Кондратовыми ногами потянулись две снежные борозды.
— Советую вам разойтись. — Щетинистые бакенбарды капитана дрожали. — Сюда идут еще две роты. Пожалейте свою жизнь.
Толпа заколебалась. Корчак с отчаянием смотрел, как тех троих тянут к воротам. Деревня молчала, смотрела темными окнами. Наверно, в хатах люди не спали, но никто не вышел на улицу.
— Хлопцы! — крикнул Корчак. — Да что же это они, ироды?! Выгоняйте их из хат. Факел в стреху, если не выйдут!
Мужики начали стучать в окна и двери, выгоняя горипятических на улицу. Их волокли из хат. Толпа была в ярости: прятались за темными окнами, а каждому, кто стоял с факелом, было страшно, и у каждого было сиротливо на сердце. А разве те, что с факелами, злодеи? Они хотели только убедиться во лжи.
— Корчак! — кричал Мусатов. — Не издевайся над людьми!
— Отпусти взятых, зверюга! — кричал Корчак. — Вишь, милосердный волк! Вспомни Пивощи!
Возня вокруг Броны, Марты и Покивача на миг приостановилась.
— Люди! — крикнул Мусатов.
— Мы тебе не люди, а быдло, — ответил Корчак. — И вы нам не люди, а волки.
Повисло молчание.
…На загуменье отец, Андрей и Юрась с трудом удерживали Кондрата.
— Предателя из меня делаете, — сипел тот.
Улицей, пригуменьями, садами медленно, по одному, по трое, отделялись от толпы люди.
— Видишь? — сказал Юрась, и вдруг голос его сорвался. — Видишь? Вот тебе этот бунт. Так ты что — в этой игре хотел голову сложить?
Кондрат крутил головой, как загнанный конь.
— Стыд, перед братьями стыд… — Он снова начал вырываться.
Андрей схватил его за волосы и с силой, так, что Кондрат вскрикнул, повернул его голову к садам:
— Взгляни! А ну, взгляни! Вот они, братья!
От огненного озера отрывались и плыли садами огоньки. То один, то другой из них делал во тьме сверкающий полукруг — сверху вниз, и оттуда долетало шипение сгорающего факела, который сунули в мартовский снег.
У Юрася что-то клокотало в горле.
— Братка… — захлебываясь, говорил он. — Братка, ты не думай. Мы начнем не так. Когда мы начнем, земля под ними всеми закурится. Подожди того часа, братка.
— Когда начнется настоящее, первым пойду с тобой, — сказал и Андрей.
— Мы из-под них землю рванем, — все повторял Юрась. — Это уже скоро. Верь мне, я людей знаю.
Кондрат видел, как угасали в снегу факелы, как уменьшалось и уменьшалось на глазах число огней. Судорога вдруг пробежала по телу Кондрата, и он, вырываясь, закричал немо и страшно.
— Понесли, — сказал Юрась.
Андрей вскинул на плечо тело брата, и Когуты двинулись зарослями вишняка, а потом взлобком леса подальше от Горипятич. Кондрат покачивался на плечах, неподвижно-тяжелый, словно мертвый.
На пригорке, перед тем как спуститься в овраг, Юрась и Андрей остановились. Огни все еще гасли в ложбине, но шипения уже слышно не было — далеко.
— Ничего, мы им это вспомним, — сказал Андрей.
Брат не ответил ничего, но Андрею стало страшно, когда он увидел сжатые кулаки Юрася.
«Довели, — подумал он. — Волков из людей сделали. И не удивительно…»
Толпа редела. Остались только люди Корчака и вооруженные мужики из деревень Ходанского да еще горипятические, которым не было куда удирать.
Но Мусатов все равно ощущал удивительную слабость.
…Оставшиеся стояли в нерешительности. И солдаты стояли перед ними неподвижно. И на лицах солдат, которые держали Брону, Марту и Покивача, была нерешительность.
Временами в толпе взрывался крик:
— Отпустите их!
— Ироды! Супротив царской воли! Вот он вам…
Опускались багнеты, и как будто вместе с ними на толпу опускалась тишина.
Брона глядел-глядел на это, да и плюнул.
— Мужики-и…
Корчак попытался поднять своих — напрасно.
Еще не начинало светать, но на восходе уже загорелась янтарно-желтая холодная лента зари. Люди переминались с ноги на ногу, скрипел под поршнями снег.
Мужики знали: пока на их стороне ночь и факелы, их табор производит впечатление более страшное и величественное, чем было на самом деле. День, который вот-вот должен был разгореться над деревней, как бы разденет их, покажет солдатам обычных замерзших людей, очень утомленных и голодных.
…И вдруг над толпой, над солдатами взвился неистовый, дрожащий от восторга крик Марты. Она билась в руках солдат, извивалась, показывала рукой куда-то в сторону крутояра. Глаза женщины горели яростью и безумием.
— Глядите! Гля-ди-и-те!
На крутояре, на верхнем его срезе, на желтом фоне зари двигался силуэт.
— Всадник! Всадник! Всадник!
Конь как бы стлался в воздухе, приближаясь с восхода к деревне. Солдаты не видели его за стеной лип. Но всем, кто в нерешительности стоял на деревенской улице, он был хорошо виден.
И каждый, даже тот, кто не верил в сказки, с радостью подумал: вот оно, то единственное, что может снять оцепенение. И надо воспользоваться моментом, иначе день — и еще две роты, которые идут где-то дорогой, и расправа, и каторга. Только отогнать их хотя бы на миг, чтоб потом добыть настоящую волю, и знать, правда ли это, и разойтись, чтоб рассказать всем и чтоб потом восстали все, а не только две деревни.
Крик Марты разбил молчание. Женщина вырвалась из рук солдат, сделала несколько шагов и повалилась на колени в снег, протягивая руки к светлому видению.
Безумный вопль ее вскинул каждого. Это было спасание, возможно — настоящая воля.
И, наливаясь кровью, Корчак крикнул:
— Он с нами, хлопцы! Хлопцы, он явился! Вперед!
Крик опьянил всех. Взметнулись вверх пешни и вилы, косы и топорища вязынических. Поршни начали месить снег.
Всадник уже исчезал, проваливаясь в яр, но теперь мужикам не было в нем нужды.
Раскрытые рты, распахнутые на груди сорочки, белые свитки, блеск стали, огонь факелов, крик — все слилось в одно, в лаву, которая катилась на солдат.
Покивач тоже вырвался из солдатских рук, бросился к Марте, стал поднимать ее. Затем воздел руки вверх:
— Хлопцы! Бей их!
Лава приближалась к схваченным и солдатам с невероятной быстротой.
И в этот момент воздух разорвал беспорядочный, редкий залп. Покивач качнулся и, словно переломившись, упал навзничь в снег. Упал еще кто-то, еще, еще.
Но было поздно. Пешни, острые жала кос, свитки, сталь, ходаки, желтые, как мед и лен, распатланные волосы — вся эта гневная лава надвинулась, смяла, погнала солдатскую цепь.
И не хватало времени солдатам зарядить ружья, и оставалось лишь одно — спасаться, прыгать через ограду, бежать, укрываясь за церковные стены, ощущая спиной горячее дыхание толпы и хрустение кос, когда они впивались в живую плоть, бросать ружья, бежать к речушке, проваливаться на синем льду, исчезать в пуще.
…Алесь стоял на опустевшем поле боя. Он озирался. Ага… вон человеческое лицо в дверях… И еще… И еще одно…
— Идите сюда! — властно приказал он.
Причитая, приблизился старик:
— Боже! Боже! Что же это теперь будет?
— Ничего не будет! Зови людей. Какая тут самая чистая хата?
— Боишься? — грустно сказал Алесь. — Ничего. А ну, идите сюда.
Подошло еще несколько человек горипятических.
— Вот что, — сказал Алесь. — Никому ничего не будет. Только помогите мне. Подберите всех раненых — и солдат, и мужиков. Несите их в ту хату… Не хитри, дед, твоя хата.
Только теперь он понял, как глупо было скакать сюда. Он так ничего и не придумал за дорогу. Надеялся, что на месте все решится.
Решилось, к сожалению, без него. Умнее всего было б ему оставить эту деревню и неузнанным уехать обратно. Люди не задержатся здесь, уйдут. Но Загорский написал Исленьеву. Он знал, что где-то здесь Когуты, что сейчас он, Алесь, останется единственной защитой этих людей от разъяренной солдатни, потому что при нем постыдятся издеваться.
И еще — раненые стонали на снегу, и это было ужасно, а тут никто, кроме знахарок, не мог им помочь.
— Несите, несите! — подгонял Алесь.
Надо было торопиться. Распаленные погоней люди могли вернуться и — кто знает — могли попытаться сорвать свой гнев на недобитых. Печально, если убьют и тебя, но кто поможет раненым? А он все же слушал лекции и на медицинском факультете.
— Отведи коня куда-нибудь в гумно, — сказал старику Алесь. — Если останусь жив, я тебя за него отблагодарю.
…
Когда вооруженные мужики, взволнованные и раскрасневшиеся, снова затопили улицы, раненых там уже не было.
Корчак, трепеща ноздрями от возбуждения, ходил всюду и задавал лишь один вопрос: «Где Покивач?» Кто-то указал ему на хату, куда снесли раненых.
В огромной пятистенке люди лежали на лавках, на столе, прямо на полу.
Загорский с засученными рукавами и окровавленными выше запястий руками накладывал гиппократову шапку на голову одного из горипятических мужиков. Тот жалобно стонал, и ему со всех углов вторили стоны.
— Хлопцы, добейте, хлопцы, добейте меня! — почти плакал от испуга и боли молодой русый солдатик в углу.
— Молчи! — со злостью бросил ему Алесь. — Рана в руку, а ты расхныкался, вояка!
Грубость сделала свое. Солдатик перестал ныть и только всхлипывал.
— А ты терпи, терпи, — говорил Алесь горипятическому. — По крайней мере теперь знаешь, как порох пахнет.
Он почувствовал на себе чей-то взгляд, поднял голову и встретился с глазами Корчака.
— Это ты скакал? — спросил Корчак.
— Я. А что, не вовремя? — Глаза Алеся смотрели спокойно.
— Зачем?
— Хотел как-то остановить все это.
— Зачем?
Алесь улыбнулся.
— Время не то. Манифеста в церквах нет, можешь поверить мне. Поэтому я и освободил своих не так, как он.
Глаза Корчака следили за Алесем зорко и гневно.
— Со временем ты это поймешь, Корчак, — сказал Алесь.
Лютая ирония была в складке Корчаковых губ.
— И не боишься, что убьем?
Алесь не отвел глаз.
— Даже последние убийцы не убивают попа с дарами и лекаря.
— А если все же?
— Ну и опускайся ниже последнего бандюги. — И Алесь перешел к следующему раненому.
Корчак не знал, какое напряжение владеет сейчас этим молодым человеком. Корчака душил гнев. Этот, с красивыми серыми глазами, не обращал внимания на смерть, что стояла перед ним.
Корчак сделал шаг и встал перед Алесем, затенив окно.
— А ну, отойди! — повысил голос Алесь.
Корчак невольно отступил, а когда спохватился, было поздно.
— Бумажки захотелось? — жестко сказал Алесь. — Знаешь, где б ты очутился со своей бумажной волей? Гляди, — его рука указала на лежащих. — Вот… Трое убитых мужиков, шесть убитых солдат, двенадцать раненых через… бумажку… Иди, иди ищи свою бумажку, темнота.
Корчак обвел глазами тех, что стонали. Вон один легко раненный из деревни Ходанского. Морщится, поднимается на ноги. Несколько солдат с повязками. А там трое из его лесных хлопцев. Убитые у дверей.
— Где Покивач? — спросил Корчак.
— Ищи.
Корчак отошел, склоняясь над лежащими. Покивач приткнулся у стенки на боку. Желтые, ястребиные глаза смотрели бессознательно.
— Давай раньше всего этого, — сказал Алесю Корчак.
— Не нужно, — ответил Алесь.
— Как это не нужно?
— Ему больше ничего не нужно.
— Мой человек.
— Даже твоим людям, даже тебе со временем ничего не нужно будет.
И тут Корчак понял. Подскочил к Алесю:
— Ты что, две головы имеешь? Ты кто такой?!
Но тут же сдержался. Он вспомнил слова Кондрата Когута о врагах.
— А-а, — сказал он, — тот князь, что за волю?
— За волю, — просто сказал Алесь. — Только за настоящую. Не за бумажную.
Тяжело дыша, Корчак спросил:
— Ты что же это его, Покивача, не сберег, а?
— Это ты его не сберег. Ему уже никто не мог помочь. — И заговорил вдруг почти умоляюще: — Послушай, Корчак, иди ты поищи в церкви свою бумажку да исчезай отсюда. Натворил беды — хватит. Да еще я тебе советовал бы всех своих убитых и раненых с собой забрать: солдаты сейчас придут. Временнообязанные Ходанских, к счастью легко раненные, пойдут домой. А горипятических уж я сам уберегу. Ушел бы ты, а?
Корчак пошел было к двери, но остановился.
— Не верю я тебе, — сказал он. — Всей породе вашей проклятой не верю.
— Хорошо, — сказал Алесь. — Уходи.
Дверь хлопнула. Корчак, сжав челюсти, бежал к церкви, у которой мужики тяжелым бревном кончали выламывать дверь. Наконец дверь упала.
Гулко топали по плитам сапоги, мягко хлюпали поршни.
Корчак ногой открыл царские ворота.
Его рука скользнула под бархат, которым был накрыт престол. Потом он выпрямился, бледный.
— Нема, — сказал он.
— Нема… Нема… Нема… — начало передаваться по цепочке к выломленной двери.
…Первыми двинулись с места люди Ходанских. Некоторые зашли в хату, где был Алесь, взяли своих раненых, пошли. Корчак смотрел, как отделялись от толпы люди.
— Хлопцы… — сказал он, и голос его дрогнул. — Хлопцы, перепрятали они ее. Не может быть, чтоб царь…
Все молчали. Лишь кто-то тяжело вздохнул:
— Нехай так. Но теперь что уж! Если б нашли, поклали б костки, а так…
Корчак сел на крыльцо. Таяла и таяла толпа. Белоголовый человек сидел на крыльце, и волосы свисали на лицо.
Потом он поднял голову, и все удивленно увидели, что глаза Корчака застилают слезы. Они медленно, струйками, сплывали по щекам.
— Волю нашу… — Корчака что-то душило, — дорогую нашу… продали, псы… Продали… Продали.
Уменьшались белые фигуры на белом снегу, и солнце радужно дробилось в глазницах человека на крыльце.
Затем он поднялся и вздохнул:
— Что там… Будем ждать… Мы терпеливые.
Маленькая группка людей стояла перед ним, и он сказал:
— Заберите раненых. Отходим, хлопцы.
…Остальные тащились по снегу, неся на самодельных носилках раненых и убитых, а Корчак все еще стоял в дверях.
— Смелый ты, князь, — наконец сказал он. — Но ненавижу я тебя. Не за то, что ты — это ты. За других я тебя ненавижу. За Кроера. За всех братьев твоих. За все.
— Я знаю, — сказал Алесь.
— Так и останешься с солдатами да этими горипятическими мямлями?
— Так и останусь.
— Смелый, но все равно ненавижу. — Жилы набухли на лбу Корчака. — Не могу я тебя тронуть, но… Пускай бы тебя убили солдаты, князь.
Алесь побледнел.
— По-мужичьи ты балакаешь — пускай бы тебя убили, своих отпустил — пускай бы тебя убили, округа за тебя горой — пускай бы тебя убили, под солдатскими пулями остаешься — пускай бы те-бя у-би-ли.
— Видишь, — сказал Алесь. — А я хочу, чтоб ты жил.
— Для чего?
— Для настоящей воли.
— Не будет ее!
— Она будет. — У Алеся дрожали губы. — Подумай, Корчак. Мы другие, Корчак.
— Дети таких батьков… ге!
— Моих батьков не трожь.
— Свояки таких, как Кроер!
Алесь вскинул голову:
— Я выдрал тебя из его рук.
— Не верю.
— Со временем поверишь.
Дверь захлопнулась снова. Алесь покачал головой.
Около полудня в Горипятичи вошли солдаты — остатки двух рассеянных рот и две свежие роты при одной легкой пушке.
Кто-то указал Мусатову хату, где лежали раненые.
Он толкнул дверь и остановился, удивленный. Сидя на лавке, опустив сцепленные руки меж колен, на него исподлобья смотрел старый знакомый. Радость шевельнулась в капитановом сердце, но он сдержался. Он только позвал Буланцова, подручного, с которым некогда вместе ловил Войну.
— Вот, Буланцов, — сказал жандарм, — рекомендую, князь Александр Загорский. Каким образом здесь? — спросил Мусатов.
Алесь пожал плечами:
— Может, кому-нибудь помогу.
— Кому это «кому-нибудь»? Мятежникам или нам? — повысил голос Мусатов.
— Не кричите, — сказал Алесь. — Хорошие манеры не повредят и людям вашей профессии… Видите, вот солдаты…
— Они не добили их?
— Я не позволил… А там мужики.
Буланцов двинулся туда.
— Этих я заберу.
— Не советую, — сказал Алесь. — Это горипятические.
— Так что? — поводя длинным носом, спросил сыщик.
— А то, пан лазутчик. Даже пан Мусатов слышал, что их насильно, под угрозой поджога, выгнали из хат. Солдаты же стреляли в кого хочешь, только не в лесных братьев.
Он почти весело улыбнулся, Мусатов ненавидел его в этот момент. Ненавидел за жесты, слова, одежду, за эти глаза, за умение разговаривать. Он не мог не чувствовать, что рядом с ним он, Мусатов, всегда будет выглядеть как пьяный капрал.
— «Лесные» ушли утром. На рассвете, — сказал Алесь. — А это невинные люди — солдаты подтвердят. Как и то, что я не воевал.
— Видели бандитов? — спросил Буланцов.
— Как вас.
— И говорили с ними?
— Как с вами.
— Что они говорили? — спросил Мусатов.
— Что идут в пущу и что счастье мое лекарское. Иначе убили б.
— Сколько у них жертв?
— Трое убитых, с десяток раненых. — Алесь умышленно прибавил к лесным людям мужиков из деревень Ходанского.
— Сколько их было? — спросил Буланцов.
— Это что, допрос?
— А вы что же думали, уважаемый Александр Георгиевич? — почти ласково сказал Мусатов.
— В таком случае я не буду отвечать.
— Будете, будете, — преувеличенно любезно сказал жандарм.
Он повернулся к Буланцову:
— Они, по-видимому, действительно ушли в пущу еще на рассвете. Ничего. Идите возьмите из хат мужиков, кто попадет под руку.
— Не ходите, Буланцов, — сказал Алесь. — Не отдавайте таких приказов, капитан.
— Это почему же? — спросил Мусатов.
— Здесь есть свидетель.
— А этот свидетель скомпрометирован, — сказал капитан.
— Напрасно. Есть мой эконом, который привез мне весть про бунт. Он подтвердит: до того я ничего не знал. Есть мужики, которые скажут: меня не было во время бунта. Есть солдаты, которых я лечил, потому что это долг каждого, кто знает, как сделать перевязку.
— Не было его в бунте, паночек, — простонал белявый солдат у печи.
— Молчи! — сказал Мусатов и, обернувшись к Алесю, пристально глядя ему в глаза, начал говорить: — Появились вы — и у мятежной толпы изменилось настроение. Черт знает, за кого они вас приняли…
— С тем же самым успехом они могли бы принять ворону за архангела Гавриила, что слетает с небес, — иронически улыбнулся Алесь.
— Зачем вас понесло сюда?
— Я же сказал — лечить. Я не хотел крови. И вы не тронете невинных, Мусатов, только потому, что этого требует ваша карьера. Я, наконец, прискакал потому, что должен быть беспристрастный свидетель, которому поверят больше, чем хлопу, и больше, чем вам. Я — свидетель.
Мусатов оглянулся и перешел на французский язык:
— А вы… подумали… что этот свидетель мог быть убит… во время бунта… случайным залпом?… Самым случайным из случайных залпов!
— Ваше произношение оставляет желать лучшего, — сказал Алесь. — А солдаты, капитан?
Мусатов дрожал. Казалось, настал час, теперь и этого можно было припугнуть арестом или смертью. Он чувствовал, что все в нем звенит.
— Никто не знает мотивов вашего приезда сюда, — на том же самом плохом французском сказал он. — Вы своим появлением настроили людей на атаку. И я сейчас же пошлю донесение об этом вице-губернатору, потому что Беклемишев болен… Пошлю тому самому вашему Ис-ленье-ву, который кричал на меня за расправу в Пивощах.
Рысьи глаза сузились, губы дрожали.
— Напрасно будете стараться, — сказал Алесь. — Донесение уже отправлено. Я отправил его перед отъездом сюда и объяснил, почему еду. Полагаю, скоро последует ответ.
Мусатов невольно хватанул ртом воздух.
— Вот так, — невинно смотрел на него Алесь. — Каждый человек, каждый дворянин должен всеми силами стараться остановить мятеж. И я объяснил это вице-губернатору на случай… гм… на всякий случай.
Буланцов ничего не понимал из разговора, но чутьем сыщика понял: шефу нанесен страшный удар. И еще отметил про себя: шеф теперь никогда не простит этому человеку.
Алесь поднялся.
— Ну вот, — сказал он, — а теперь…
— Я надеюсь, — пролепетал Мусатов, — вы поняли, что это была шутка?…
— Я и не сомневался в этом. Разве такие вещи говорятся всерьез между цивилизованными людьми? Конечно, шутка.
Капитан сидел бледный. Глаза Алеся улыбались.
— Хватит шутить, капитан. Я думаю, вы отмените этот приказ и найдете настоящих преступников?
И впервые за весь разговор повысил голос:
— И если вы тронете еще хоть одного из них, вас повезут отсюда под рогожей в Могилев или под кошмой в острог. Поняли это вы, пан штуцер, пан пуля, пан свинец?!
Мусатов сидел, глядя в стол.
— Хорошо, — сказал он наконец, — я отменяю приказ. Буланцов, погоню за Корчаком!
* * *
Через три часа прибыл от Исленьева едва живой гонец. Он привез приказ: «Немедленно отпустить невиновных, искать Корчака с бандой, на время рассмотрения дела князя Загорского под домашний арест».
Алесь улыбнулся. Исленьев заботился, чтоб Загорскому не причинили под горячую руку вреда. И ничего, что приказ вице-губернатора немного возвысил в собственных глазах жандармского капитана, врага, от которого в будущем нельзя будет ожидать милости, если его только не убьют Корчак или Черный Война.
Пусть себе возвышается, пусть думает, что последнее слово останется за ним. Алесь знал, почему так поступил Исленьев, знает он и то, что в какой-то мере он достиг цели, не дал пролиться лишней крови и спас невинных.
Лекарь Ярославского полка Зайцев подошел поблагодарить его за перевязки, сказав, что все сделано достаточно квалифицированно. Алесь покосился на старого капитана и ответил, что ему приятна похвала образованного и опытного человека, и пригласил Зайцева бывать у себя.
Старик покраснел. Покраснел и Мусатов, только по другой причине. И не выдержал. Сопровождая Алеся к саням под любопытными и доброжелательными взглядами солдат, начал с притворным сочувствием журить его:
— Здесь черт знает что творится. Попечение нужно, а то все вокруг голодными глазами глядят. Одних иудеев сколько на страну, и все они немецкие шпионы. А тут еще свои нигилисты, поповские да мужицкие семена. Народ науськивают! Эх, пан Загорский, такое положение, а вы в эти глупости по молодости лет вмешиваетесь! — И ласково, заглядывая в глаза: — Вам что нужно? Вы в первых российских помещиках по богатству. Разве у вас не воля? Да вы во сто крат свободнее, чем в их холуйских фаланстерах.[178]
«Ничего у меня нет, — думал Алесь. — Ничего из того, что мне нужно. А нужно мне все. И прежде всего воля всем народам и моей родине. Что ты знаешь об этом, грязная свинья? И рассуждения твои только и можно назвать le delire du despotisme,[179] как сказал бы старик Исленьев. И сам ты быдло, лакейская душа».
Он сел в сани и закрыл глаза, чтоб не смотреть на караульных солдат. Со вздохом облегчения закрыл глаза и вытянул ноги. Два солдата поскакали за ним, чтоб проводить в деревню.
За санями на длинном поводу бежал Урга. Он не привык к такому, фыркал и мотал головой.
Растаявший мартовский снег, вороны, придавленная ожиданием деревня, резкие голоса солдат.
На мгновение ему стало больно. Он вспомнил слова Корчака и подумал, что за презрение предков к народу, за презрение образованных к народу как бы не пришлось платить даже тем детям, которые любят этот народ. Но тут же решил, что постарается, чтоб Корчак, если сведет их судьба, изменил о нем мнение. Он видел в этом мужике великую чистоту ненависти. Как нужны им люди, которые умеют ненавидеть! Хороший мужик! И как жаль, что нельзя всего раздать, чтоб поверили тебе! Деньги нужны для дела. Ничего, с Корчаком они еще встретятся. Он, Алесь, сделает все, чтоб тот стал ему товарищем.
У них одно дело.
Ничего. Ничего. Все еще будет хорошо, чисто, смело. И люди на земле будут людьми.
Садилось багровое солнце, и тени на снегу сделались изумрудно-зелеными, чище морского зеленого луча, увидев который, говорят, нельзя ошибиться ни в любви, ни в ненависти.
И он теперь твердо знал, ч т о он любит и ч т о ненавидит, и откуда у него такая боль, и почему он никак не может успокоиться.
…Он открыл глаза. Ехали озерищенским берегом, почти над самым обрывом. И он вспомнил, как давно-давно, одиннадцать лет назад, здесь сидели под горячим солнцем маленькие дети.
Что тут было еще? Ага, груша.
Она держалась в тот год только силой собственных корней, укрепив ими для себя полукруглый форпост. В собственных руках держала жизнь.
И за нею была земля, а перед нею течение, и следующий паводок должен был кинуть грушу в волны, и ей стоило б подготовиться к смерти.
Но она не знала этого, она цвела.
И лепестки падали в быстрое течение.
Где она теперь? Алесь долго смотрел на обрыв и наконец увидел то место. Под обрывом растаял снег, и в проталине что-то чернело.
Мертвый ствол занесенной песком груши.
Сани завернули и остановились перед крыльцом загорщинского дома. Алма, старая уже, толстая, как туго набитый мешок, замахала хвостом, побежала к саням, потом увидела чужих с оружием и залаяла на них так, что казалось, разорвется все ее тельце.
Змитер взял Ургу и ушел с ним. Уехали и солдаты. Алесь стал медленно подниматься в дом.
…Он бродил по комнатам, сам не зная, что ему нужно. И наконец пришел туда, где они с Майкой еще детьми смотрели сквозь цветные стеклышки. Все было как прежде. Вот на этой кушетке когда-то сидела Майка, когда он отвел глаза на стену и увидел ее, черную, с лиловыми волосами.
А вот и ящичек со стеклышками. Если смотреть сквозь красное стекло, какое страшное дымно-багровое пламя плывет над миром.
Такое страшное, что вот-вот заревут трубы архангелов и небо упадет на землю.
А это что?
Бог ты мой! Осколок китайской вазы, которую разбили тогда. Дед еще сказал:
«Бейте, так ей и надо». И раздал осколки. Интересно, сберегла ли их Майка? А Франс?
Сколько друзей, ровесников… Можно склеить все эти осколки, и снова будет ваза.
А вазу поставить в общем солнечном доме, в котором будут жить они все.
Ваза. Белая ваза с синими рыбами.
Он пошел по полутемным комнатам.
Черные ели. Мраком наполненный дом. За окнами гостиной холодная звезда горит между деревьями. Что это, начало конца или конец начала?
Хоть бы быстрее, хоть бы быстрее восстание! Пусть даже смерть! Потому что невозможно дальше терпеть это гнилое, душное лихолетье, ложь, рассуждения кроеров, мусатовых, корвидов, дэмбовецких — всего этого сброда.
И невозможно больше сидеть в этом доме, видеть в темных окнах конусы елей и острую, как солдатский багнет, направленный в твое сердце, звезду. Невозможно видеть рабов и господ, невозможно научиться терпению, видеть, как другие совершенствуются в лести. Невозможно видеть церковь, короны, расшитые мундиры.
Невозможно видеть на каждом перепутье, над всей страной взлет распятых рук.
Лучше бы уж ему, Алесю Загорскому, выкупить грехи всех, своей кровью добыть освобождение для всех, погибнуть за всех.
Он вдруг понял, чего ему недостает, пока нет битвы. Пусть его друзья и он сам презирают стихи. Сегодня он не может без них.
Перо бегало, оставляя строки:
Чем ты прогневала бога? И чем раздражила,
Что над тобой, не воспетой и сотнею строф,
Маятник времени рухнул, костельная тьма закружила,
Тьма пригвожденных ладоней, бессчетных неправых голгоф?
Что ты земле причинила — от фьордов до Рима,
Чтоб на ветру коченеть и в огне задыхаться, скажи,
Чтоб умирали в Сибирях твои молодые багримы,
Чтоб Достоевским твоим уходить за твои рубежи?
Кто обокрал твою память, моя дорогая,
Что на распутье веков, забывая о муках святых,
Лучших поэтов своих ты забвением смертным караешь,
Что побиваешь каменьями лучших пророков своих?
Верую: в час, когда злоба угаснет на свете,
В час, что звездою Полынью взойдет над криницей твоей,
Ты на суде — под архангелов трубы -
Марии ответишь,
Скажешь единое слово за всех на планете людей:
«Матерь сынов человечьих! Я кровь отдавала живую,
Чтобы воскресла для всех человечность на стылой золе…
Вот почему, если я на земле существую,
Можно — за это одно -
отпустить прегрешенья земле».
Он не верил в бога, а образы получились мифологические.
Да и разве в этом дело, если гибнет все лучшее, если правду говорят булгарины, а за свободу воюют муравьевы, если над землей взлет распятых рук?
Он смотрел в окно на звезду. И вдруг увидел…
…В небе стояли светлые столбы от горизонта до зенита. Они менялись местами, крайняя их грань была ярко-багровой, она разгоралась и напоминала пожар. А посередине поднимались белые полосы и столбы.
Редкое на юге и потому слабое, вставало над землей северное сияние.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Пока что это конец книги. Пока что.
И, одновременно, не конец. Начало.
Конец книги это потому, что мне страшно приступать к ее окончанию. И начало потому, что мне нельзя эту книгу не окончить.
Понимаете, все, что вы в этой книге прочитали (невзирая на все наезды, драки, осады, дуэли, даже убийство), — было идиллией, «сялянкай», как говорили предки. Теперь начинается нечто серьезное.
Начинаются муки, страдания отдельных, дорогих мне людей, и народа, массы, еще более мне дорогой, потому, что я — кровь от крови ее.
С каждым из этих людей, с каждым человеком из этой массы я сродни с самого начала дней своих.
Страдания и раны каждого из них болью отзываются во мне.
Эти люди, быть может, стали дороже мне, чем мои родные, двоюродные и иные братья, погибшие в войнах. И как мне теперь — в тысячный раз — переживать раны и смерть моих близких?!
Переживать каждый последний взгляд, вздох, слово братьев кровных. И их врагов.
Потому что враги тоже не всегда были виноваты. Когда шли вперед под пулей, нацеленной им в затылок.
Это только лгут, что у писателей не болят сердца за людей, созданных ими, проведенных через «выдуманную» ими же самими жизнь.
Эти лжецы просто никогда не писали даже посредственных книг.
Точно так же, как лгут, что писатели вообще «выдумывают» какую-то жизнь.
Жизнь «выдумать» нельзя. Ее можно только воссоздать. Такой, какой она была, со всеми радостями и со всеми потерями. Со всеми воспоминаниями прошлого. Со всем тем, что пережил ты сам и твои друзья. И со всем тем, что пережили, чем перемучались мои и ваши предки. С тем подсознанием что хранится от них в моей и вашей душе.
Потому что все мы — от них. От их радостей, от их мыслей от всего, чем они жили.
Если бы не работали, не творили, не создавали, не сражались и не боролись они, — нас бы не было.
Это верно. Так же верно как то, что без каждой созданной нами песни правнуки наши будут безмерно беднее.
Без каждой книги, не сотворенной нами, будет беднее моя и ваша родина, самое ценное и, пожалуй, единственное, что дано нам.
И все же дело книги, дело песни, дело вообще всего того, что мы создаем, бывает иной раз мучительным, трудным.
Герои книг и песен зачастую начинают не слушаться, жить своей, не зависимой от автора жизнью.
Они начинают требовать, протестовать, начинают вести себя, как живые.
И очень горько бывает порой, когда «измышленный» тобой человек вдруг по логике самого своего характера, вдруг сламывается, предает или творит еще что-либо, недостойное человека.
Очень жаль, когда твой рыцарь без страха и упрека, достойный всего, самого лучшего на земле, должен идти на эшафот или под пули.
Они все воистину мои дети и, если я чего-то стою как писатель, надеюсь — мне удалось это. Они стали нашими братьями и сестрами.
И потому не упрекайте меня за то, что задержал продолжение «Колосьев».
Мне просто жаль бросить этих людей, моих сестер, друзей, братьев, товарищей в мутный омут войны, ненависти, изгнания.
Жаль отдать их кандалам, ссылкам, виселицам. Подвергнуть последнему унижению и возвышению, которое есть — смерть.
Потому что для этих людей наступают годы ненависти. А Человек не создан для ненависти. И я скорблю по всем этим людям.
И еще немного, наверное, мне жаль самого себя. Как ту грушу над откосом Днепра, которая упала в его волны в 1963 — а в романе — в 1850 году, как всех убитых и замученных за правду на этой земле.
Жаль предписывать прекрасным женщинам, созданным для любви, — траур и ссылку.
Жаль отправлять мужчин, созданных для доблести и знаний, — на эшафот.
А вам было бы не жаль?
Так потерпите немного. Дайте собраться с силами. Потому что не сделать этого тоже нельзя.
Иначе их святые тени останутся неоплаканными и неотомщенными.
Дело даже не в том, что в память о них, в память о Калиновском и Траугутте, Бобровском и Мацкявичусе, Гриневиче и Сераковском… в память, наконец, о Майке и Алесе будет провозглашен в Лондоне, в Сент-Мартинс-холле I Интернационал.
Дело в том, что до сих пор стоит в Рогачеве старый дубовый крест на могиле Тумаша Гриневича, что многим людям, и мне, и вам — надеюсь — после прочтения еще не написанных частей «Колосьев» будет безмерно больно.
Единственное, что меня еще удерживает от того, чтобы на уже сделанном поставить точку, — так это то, что все должны узнать о множестве подвигов и свершений этих людей.
О том, как они не клонили головы перед несправедливостью и не задирали ее перед слабыми.
Они просто должны дожить свой век, как все люди, сполна, до последнего дня. Проявив при этом мужество, которое сегодня всем людям земного шара нужно, как никогда.
Будьте счастливы, если только это счастье не покупается ценою самого важного в мире: ощущения в себе Человека.
И на этом пути, тяжелом и трудном, да поможет вам ваша совесть.
Если это будет так — мы все скоро еще встретимся.
Владимир Короткевич
[1] По старому, времен унии, обычаю, который почти исчез в ХIХ веке, некоторые белорусские помещики отдавали сыновей на «дядькованье» (воспитание) в крестьянские семьи. (Здесь и далее примеч. автора.)
[2] Могильщикам (белорус.).
[3] В о л o к а — около 21 га.
[4] П о ч и н о к — хата в нетронутом лесу, начало, почин деревни (белорус.).
[5] Род борща, заправленного боровиками и луком (белорус.).
[6] Пресная, без закваски выпеченная, лепешка (белорус.).
[7] Блюдо из ржаной муки (белорус.).
[8] Униатом.
[9] С к о р б я щ и й — статуэтка, изображающая задумавшегося Христа.
[10] П о с т р и ж е н и е — древний обычай. При достижении отроческого возраста мальчику отрезали прядь волос.
[11] Река темная (пол.).
[12] Мой маленький князь Загорский! (фр.)
[13] Все идет хорошо! Все идет хорошо, мой маленький сынок! (фр.)
[14] Хорошо ли я начал? (фр.)
[15] Рыцарская точка зрения на вещи… Ры-царь! (фр.)
[16] Женщины иногда бывают легкомысленны (фр.).
[17] В черном цвете (фр.).
[18] Мне очень приятно (пол.).
[19] Особая порода белорусских и польских коней-иноходцев.
[20] Пасть (охотничий жаргон).
[21] О, этот маленький соня! Все встали, маленькие птички поют господу свою хвалу, не так ли? А он спит и не знает: кто рано встает, тому бог дает (нем.).
[22] Oчень хорошо. Иди умываться, иди поздоровайся с маменькой, иди принимать божий дар, а потом за книги, если князь не хочет остаться глупым князем, не так ли? (нем.).
[23] А мне все равно (букв.: это мне колбаса) (нем.).
[24] Поэтому Герман Херуск льву подобно р-ринулся на омер-рзи-тельного Вара, вождя р-растленных римлян. И Тевтобургский лес стал пол-лем немецкой славы (нем.).
[25] Вид пирожков или ватрушек (белорус.).
[26] Встань! Исключительно пикантно-утончённые отправления, достойные настоящего княжеского недоросля, суть не упования в кровати на самопроистекание, не так ли? (Пародийный стиль, нем.).
[27] Льву подобно… Не так ли? (нем.)
[28] Чулок (белорус.).
[29] Достопочтенная фрау… Стаканчик водки… (нем.)
[30] Добрый день, мадам (фр.).
[31] Он очень мил (фр.).
[32] Чудеса гимнастики (фр.).
[33] Он остроумен (фр.).
[34] В парадном костюме (ит.).
[35] Каждому своё (фр.).
[36] По причине появления этих старых тупиц? (фр.).
[37] Совсем не появлялась (фр.).
[38] Появиться здесь на короткое время (фр.).
[39] Пошли сегодня сынов с бреднем. Паны юшку будут есть, так, может, какая рыбина попадется (белорус.).
[40] Cудно торговцев рабами.
[41] Островок у западного берега Африки. База торговцев рабами.
[42] Свет! Высокопоставленные особы! (фр.)
[43] Наше ужасное дитя (фр.).
[44] Лохмотья, рвань (белорус.).
[45] Избранный круг (фр.).
[46] Я не люблю грубого смеха (фр.).
[47] Дела не пойдут! Дела не пойдут! (фр.)
[48] Мрак! Мрак! (фр.)
[49] Чтобы подставить себя под пули (фр.).
[50] Тише! Не надо об этом говорить (фр.).
[51] Имеется в виду Муравьёв М. Н., заклейменный впоследствии общественным мнением России как «вешатель».
[52] Солдаты (польск.).
[53] Самый чудесный бал, какой я когда-нибудь видел(фр.).
[54] Настой «кошачьих лапок», тонизирующее (белорус.).
[55] З а ж ы в а ц ь — издеваться, привередничать, своевольничать (белорус.).
[56] Руя? — букв.: волчья свадьба, здесь — в смысле: коллектив, объединенный общим желанием.
[57] Особенно крупные плоды диких груш, которые растут у заросших травой лесных стежек и дорог. В Приднепровье когда-то верили, что они выросли из помета медведей и диких кабанов и потому такие большие
[58] Постное масло (белорус.).
[59] Волк-оборотень. Благородный герой-разбойник некоторых произведений белорусского фольклора.
[60] Цівун Пацук — надсмотрщик Крыса. Так называемый «герой» белорусского средневековья
[61] З а г о н о в о й, или чиншевой, называлась безземельная шляхта, жившая на землях крупных помещиков чаще всего в качестве арендаторов и поэтому зависимая от владельца земли.
[62] То есть «шпанской мушкой».
[63] Здравствуй, начало конца моего! (лат.)
[64] Эта икона из Кутейны (под Оршей) считалась раньше образцом для тех, кто писал иконы
[65] Н-наемиики (фр.).
[66] Грязь (фр.).
[67] Генрих IV.
[68] Виват Генрих Четвертый… (фр.)
[69] Тс-с! (фр.)
[70] Тромб — смерч ураганной силы (белорус.).
[71] Когда-то стрельба по отражениям в спокойной воде была чуть ли не народным спортом в Приднепровье. Еще сто пятьдесят лет тому назад редко какой охотничий праздник обходился без нее. Потом, когда из-за восстаний начали отнимать оружие, обычай начал исчезать, но еще сто лет назад временами встречался.
[72] Феи в виде мотыльков (диалектное приднепровское).
[73] Сын мой, существует лишь одна политика: держать ночной горшок перед человеком, который стоит у власти, и вылить этот горшок ему на голову, когда он лишается этой власти (фр.).
[74] Водка, настоянная на двадцати семи полезных травах.
[75] Могильщик (белорус.).
[76] Короткая толстая плеть (белорус.).
[77] Одинец — кабан, секач, который держится в стороне от диких свиней, отбивая и уводя в лес домашних. Приднепровские крестьяне одинцов не любили, потому что свинья за лето, находясь в лесу, не нагуливает большого жира, — невыгодно.
[78] Предводитель дворянства в Белоруссии.
[79] Так называемые тузы (фр.).
[80] От белорусского «лазня» — баня.
[81] Праздник, который в середине прошлого столетия стал детским, но в средние века отмечался в память «от черной оспы» и чумы.
[82] Белорусское народное название Юпитера.
[83] Неглазурованный, матовый фарфор.
[84] Смерть Кроера в Кроеровщине принесет значительные изменения: паны перестанут пить, а крестьяне начнут есть (пол.).
[85] Порка на голой земле, а не на подстилке считалась особенно оскорбительной для шляхтича.
[86] Во время большой крестьянской войны XVII столетия восставшими — мужиками Минщины — руководил Мурашка. Согласно преданию, взятого в плен, смертельно раненного «мужицкого царя» враги усадили на раскаленный докрасна железный трон.
[87] Крынки (белорус.).
[88] «Тарас на Парнасе» — анонимная белорусская поэма середины ХІХ века.
[89] Кстати, насчет… (фр.)
[90] Однако не мешает быть поумнее (фр.).
[91] Сова, по сходству крика: «Ку-га, ку-га» — младенец (белорус.).
[92] Речь идет о взяточничестве, которое в высших кругах достигло небывалых размеров.
[93] Перевод униатов в православие, вдохновителем которого был епископ Иосиф Семашко, сам бывший униат, проводился жестоко, варварскими методами. Семашко долго еще после этого ненавидели.
[94] Святоянские муры (стены) — квартал в Вильно.
[95] В. И. Дунин-Марцинкевич (1807–1884) — белорусский писатель.
[96] Происхождения белорусского, нации польской (лат.).
[97] А т и — «здравствуй» (белорус.).
[98] Б о ж е н ь к и н л е н о к — слишком кроткий человек, тряпка (белорус.).
[99] Л а н ц у ж о к — цепочка (белорус.).
[100] В правительстве.
[101] Я здесь проездом (фр.).
[102] В 1846 году царские жандармы, на основании доноса, раскрыли заговор на Могилевщине. Группа революционеров, готовившая заговор, узнав о доносе, смогла избежать ареста.
[103] Вид пушки.
[104] Мужской головной убор из войлока (белорус.).
[105] Женский головной убор из вышитого полотна, обвивающий голову и шею женщины (белорус.).
[106] Пчелиная колода.
[107] Надо, чтобы вы освободили дом от вашего присутствия (фр.).
[108] Краткая речь (англ.).
[109] Эти господа — подлецы, и единственное чувство, которое они во мне пробуждают, — это ненависть к тому, что они делают, и презрение к моей родине (фр.).
[110] Граф М. Муравьев был губернатором могилевским в 1823–1831 годах. Он организовал подавление восстания 1831 года.
[111] Военный или повстанческий тайный совет.
[112] Средневековое общинное собрание в Белоруссии — рассматривало внутренние вопросы общины
[113] Спирт, сваренный с медом, пряностями и кореньями. Белорусский хмельной напиток.
[114] Уже все кончилось… и богослужение, и проповедь (пол.).
[115] «Бессенными» назывались базары конца апреля — начала мая. Туда шли те, у кого конь подох зимой, или те, у кого не было семян
[116] Собачья стая (белорус.).
[117] В белорусской мифологии таинственное, сказочнае существо. Что-то вроде гнома или пaка у ирландцев.
[118] Произвольный перевод на латинский язык расчлененного на части русского слова «подвода»: Sub — под, Aqua — вода
[119] Через край большой посудины, ведра (белорус.)
[120] Обнимите меня. И никогда во мне не сомневайтесь (фр.)
[121] М о д е с т К о р ф — реакционный историк. В 1849–1861 годах — директор Публичной библиотеки. В 1864–1872 годах — председатель департамента законов Государственного совета
[122] Памятники наши, сколько вас каждый год пожирает купеческий или правительственный московской топор (пол.).
[123] Разговаривать будем, как придется. Как будет удобнее. Правда? (белорус.)
[124] Гродненцев зовут грачами, потому что там много темноволосых.
[125] Древнее, еще ХVI-го столетия, белорусское школярское выражение: дружить, проводить вместе время, не очень обращать внимание на учебу, но шататься всегда вместе, не давая друг друга в обиду
[126] П у т и л и н И. Д. — надзиратель московской полиции, позже начальник сыскной полиции в Петербурге.
[127] Э д в а р д Д е м б о в с к и й (1822–1846) — польский философ, революционный демократ, один из руководителей Краковского восстания 1846 года против австрийского владычества
[128] Сословие свободных земледельцев и воинов бывшей пограничной стражи в княжестве Литовском. Освобожденные от всех повинностей, не подсудные никакому суду, кроме своего, отмеченные некоторыми привилегиями и прежде всего личной независимостью и землей, они имели лишь одну обязанность — защищать границу. В их поселках и деревнях, что цепочкой тянулись по северной части Двины и по Днепру, сохранился в наиболее чистом виде — потому что власти избегали их трогать — своеобразный патриархальный быт, сохранился в первоначальной чистоте немного архаичный белорусский язык, сохранились не испорченные церковностью и более поздним национальным гнетом общинные обычаи, проявления обычного права, песни и т.д
[129] Здесь и дальше речь идет о героях белорусского фольклора.
[130] Легендарные и исторические белорусские герои-повстанцы.
[131] Место стычек бедных и богатых.
[132] Хозяин одного из лучших ресторанов в Петербурге.
[133] Будущие деятели восстания в Польше 1863 года.
[134] «Запретила ему под страхом смерти, чтобы этого не говорить», «Скакали мы к усадьбе на конях», «На заседании городском пинском жаловался, говорил и протестовал с крестьянами уезда Пинского»
[135] Стихи здесь и далее в переводе Н. Кислика.
[136] Здание Петербургского университета было вначале построено как помещение для «двенадцати коллегий».
[137] С быстрым возвращением (пол.).
[138] «Сын Жибуайе» (фр.).
[139] Согласно легенде, ворон и муравьи о чем-то поспорили и побились об заклад на детей. Ворон проиграл и теперь высиживает детей в мороз, чтоб не платить проигрыш
[140] Мягкие башмаки или сапоги из целого куска кожи (белорус.).
[141] Мягкая высокая обувь из кожи, выделанной под замшу, подбитая мехом (белорус.).
[142] Люди, которые следят, чтобы зверь не убежал.
[143] Убийство!
[144] Престольный праздник (церковн.).
[145] Ликвидация обязательных отношений, добровольный, не ограниченный временем выкуп, финансовое содействие правительства выкупным операциям, а отсюда — вотчинная власть до заключительной, выкупной сделки. При кредитах такой метод был значительно выгоднее для земледельцев, чем обязательные отношения
[146] Н. А. Милютин — в то время товарищ министра внутренних дел.
[147] Таким видел его барон Велио, который и передал эти подробности министру Валуеву. — Валуев П.А. Дневник, т.1
[148] Двадцать миллионов бедных маленьких винтиков (фр.).
[149] Селецкий обвинялся в гипнотизме и колдовстве.
[150] Заговор (белорус.).
[151] Чесаный лен
[152] О белорусском происхождении (лат.).
[153] Тело длинное, да ноги коротки (пол.).
[154] Грезы, видение наяву (белорус.). «Мроя» описана в книге «Здоровья путь верный», изданной в 1715 году.
[155] «Готский альманах» — дипломатический ежегодник (начало издания — 1763), который следил за генеалогией высшей европейской аристократии. Кроме печатания известий о ней, он занимался генеалогическими исследованиями, поисками и геральдикой. Дебри — мещанский район под Могилевом, раньше — разбойничье урочище. Дэбрэ — книга английского пэрства.
[156] Корста — гроб из цельной колоды (белорус.).
[157] Выйти из игры (фр.).
[158] Для подготовки и зондирования почвы и для того, чтобы этот визит не был таким малоудовлетворительным, как первый (фр.).
[159] В пятницу и субботу вербной недели, шестой недели великого поста, во всю длину кремлевских стен — от Спасской до Никольской башни — и занимая половину площади, начинал гомонить рынок «Верба». Палатки, лавочки. Ювелирные изделия, звери, птицы. По краям, возле Василия Блаженного и Никольской башни, — торговцы вербой, свистульками, игрушками, воздушными шарами
[160] Старых тупиц (фр.).
[161] Осенью следующего, 1861 года из разрозненных групп и лиц в Петербурге возникла организация «Земля и воля», которая действовала в восстании рядом с белорусами, литовцами и поляками. Несмотря на малочисленность, имела большое значение, как начало демократического движения.
[162] Божья расплата (лат.).
[163] Вы недовольны? (фр.)
[164] Вы увидите результаты и сумеете их оценить (фр.).
[165] Князь, мое настроение носит отпечаток грусти, но неохотно сделанные уступки — самые худшие из всех, какие можно было бы сделать (фр.).
[166] Вражеская колонна отрезала ее во время баталии под Аустерлицем, и с того времени она так и не сумела вырваться оттуда (фр.).
[167] Вы понимаете, что мне более выгодно уйти раньше. Лучше уйти перед боем (фр.).
[168] Маленького временного правительства под защитой доброй маленькой цитадели Варшавской (фр.).
[169] На Старом Месте, у фонтана, полковник Трепов схватил по морде (пол.).
[170] Огласить; буквально — отбарабанить (пол.).
[171] Он не пользуется уважением; он остроумный; он горбатый. Этот паук носит конституцию в своем горбу (фр.).
[172] Дмитрий Милютин. Его брат, Николай Милютин, был сенатором, а позднее статс-секретарем по делам Царства Польского.
[173] «У нас слишком легко смотрят на это дело». — «Я знаю точно, что положение очень серьезное». — «Т-с-с! Не надо об этом говорить» (фр.).
[174] Руководить — это предвидеть (фр.).
[175] Что надо сделать в Польше?» — «Сменить систему, сударыня». — «Я тоже так думаю, но вот министр внутренних дел слишком пылок и говорит о строгих мерах». — «Но мы на протяжении тридцати лет были строгими, сударыня, а к чему мы пришли?» (фр.)
[176] Падают лишь в ту сторону, куда наклоняются. Если мы упадем в Польше, так только от полицейских мер, которыми заменили идеи правительства (фр.).
[177] «Послание Павла к римлянам» (XIII, I).
[178] Своеобразные коммуны, описанные в утопических произведениях Фурье
[179] Бредом деспотизма (фр.).


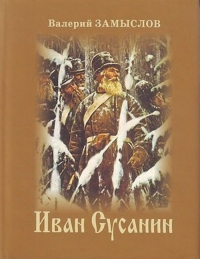

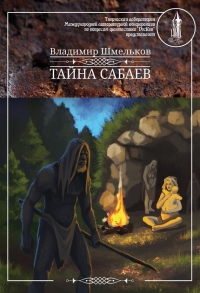
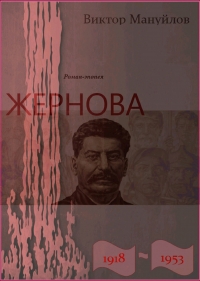



Комментарии к книге «Колосья под серпом твоим», Владимир Семёнович Короткевич
Всего 0 комментариев